Големикон бесплатное чтение
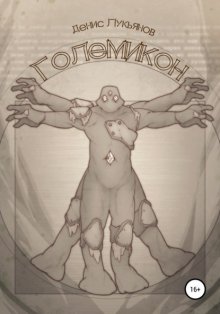
Прежде всего....
Големы не знают сна.
Не потому, что работают не покладая рук, днем и ночью, когда это необходимо, и не потому, что они – всего лишь глиняные куклы, пускай и здоровые, два метра ростом, движимые магическими потоками, пронизывающими все сущее.
Големы по природе своей неживые. Они лишены чувств, эмоций и даже легкого намека на сознание – эти… конструкты из коричневой глины просто ходят заводными солдатиками. Вечно бодрствующие, даже тогда, когда томно стоят в углу и ничего не делают, дожидаясь новых команд – големы живут работой, хотя, говорить «живут» об этих изваяниях в корне неверно. Но такой оборот можно допустить, ведь големы не спят, не дремлют ни на секунду – такое случится, только если всю магию мира вдруг отключат. Зато…
Големы умирают.
Когда их срок кончается, когда они изнашиваются – ведь ничего не вечно, – когда ломаются их мощные, похожие на могучие дубовые стволы глиняные руки, по телу идут трещины, а рубины в груди и во лбу лопаются – големы, никогда не знавшие жизни, умирают, и больше не возвращаются в строй. Они отправляются на… хочется сказать, что на кладбище, но опять же, такое суждение не совсем верно – ведь не может быть кладбища тех, кто никогда не знал жизнь. Скорее, они отправляются на склад, где в стрекочущей темноте лежат, разбитые, поломанные, нетленные и мертвые.
Но почему-то големы, никогда не знавшие сна, давно мертвые и непригодные, здесь, на этом мрачном складе-кладбище, не слыша скрежета шестерней, словно спали.
И будто бы ждали пробуждения.
***
Проснувшись, она встряхнула крыльями и сменила позу – ей совсем не хотелось пробуждаться, но что-то заставило ее открыть глаза и прервать сладкую, медовую дрему, которая для нее – и ее сородичей – была нормальным состоянием. Она посмотрел по сторонам насыщенными желто-янтарными глазами, в которых переливались мрачные, но прекрасные земные недра, и собиралась было уснуть, но…
Она проснулась – и закричала ужасным рыком.
Глава 1. Традиции и инновации
– Идите вон!
Такими были первые и единственные слова в адрес Прасфоры Попадамс до того, как прямо перед ее носом взмахнули шелковым фиолетовым шарфом и захлопнули дверь.
Девушка вздохнула, посмотрела на осыпающиеся пламенные осенние листья, летевшие прямо под ноги, перекинула большую кожаную сумку через плечо и спустилась с крыльца.
Нет, все-таки ненормальными мир полнится.
Пухленькая Прасфора, конечно, догадывалась, что новая идея не получит ходу сразу. В конце концов, так происходило практически со всеми человеческими придумками: сначала от них шарахались, как от огня, а потом, много после, понимали – да как мы вообще раньше без этого жили? И вроде бы идея, которую они с отцом придумали, должна была разойтись на ура, как горячие пирожки в зимнюю стужу – кстати, в этом контексте очень хорошая метафора, – но вот только попадались такие люди, которые об услуге тебя просили, а потом посылали, самое лучшее, куда подальше. Это если не оказывались остры на язык.
И девушка не понимала, в чем беда – ведь идея разносить еду из кабака по домам, по личным просьбам людей, к тому же еще теплую и пахнущую всеми возможными пряностями, должна большинству понравиться! Такой подход в разы упрощает жизнь.
Прасфора Попадамс жила без матери, и всегда хотела не знать, почему все случилось именно так: чтобы, как героиням иных книг, думать, что мама пропала при таинственных обстоятельствах, героически пала, защищая дочь, или же просто умерла при родах. Девушка хотела не знать, но проблема была в том, что она знала, притом весьма отчетливо – мать свинтила куда-то в поисках лучшей жизни, хлопнув дверью, плюнув на идеи отца и кабак. Отворот, поворот, разворот – и все.
Семейство Попадамсов всегда славилось тем, что было оригинально на выдумки – начиная с пра-пра-пра (и так до бесконечности) дедушек, один из которых, на заре тех времен, когда люди еще кутались в шкуры животных, почти наверняка однажды притащил в пещеру дубинку с тремя заостренными зубцами и наткнул на нее кусок мяса. Впрочем, эта история скорее из разряда легенд, и тут уже не поймешь, правда или вымысел. Вполне реален другой факт – нынешнее поколение Попадамсов от своих предков уж точно не отставало, заведуя кабаком «Ноги из глины», без которого жизнь города представить просто невозможно. Хотя – в этом нет сомнений, – в первые дни существования кабак наверняка считали до ужаса странной идеей. Слишком большой, слишком аккуратной, слишком… слишком смелой, короче говоря.
А вот теперь отец Прасфоры загорелся новой придумкой, которая всему семейству из двух человек и своры родственников разной степени дальности показалось не просто гениальной, а невероятной, будто не от мира сего. Про Попадамсов в принципе часто говорили – не от мира сего, особенно когда они реализовывали нечто, стукнувшее им в голову, упавшее туда раскаленным метеоритом. Вот и папа Прасфоры вдруг решил, что давно пора разносить горячую еду прямо по домам, когда люди не могут прийти в «Ноги из глины». Для этого-то, всего ничего, нужно просто поработать над специальными сумками и иметь пару достаточно быстрых ног.
Попадамсы никогда не двигали колесо прогресса вперед, они лишь заставляли его подпрыгивать, как мелкие камушки на идеально ровной дороге.
Прасфора поправила сумку из коричневой кожи – ту самую, для разноса еды – и посмотрела по сторонам.
Двуединый город Хмельхольм пылал оттенками огненного.
Осень устроила пожар из сочных красок, и поникшие, но еще не уснувшие окончательно витиеватые деревья склонили ветки, усыпанные золотистыми, красными, оранжевыми, алыми и бордовыми листьями – свет, еще согревающий, носился мимо, заставляя листья светиться, излучать необъяснимый уют и будто бы пылать по-настоящему. Город утоп в этом теплом, расшитым ярчайшими нитками свитере, готовясь к грядущим холодам и затяжным дождям. А пока сияло солнце, прыгая по косым крышам из насыщенно-бордовой черепицы, заползая в простенькие окна с деревянными рамами и заставляя тени прижиматься к стенам уютных пухлых бежевых домиков максимум в два этажа, с темно-коричневыми балками. На деревянных балконах и подоконниках розовыми пятнами цвели хризантемы в горшках.
Прасфора вдохнула бодрящего, пока теплого, но постепенно остывающего воздуха – и поспешила к кабаку.
Вдалеке, за городом, виднелись горные пики – острые и высоченные, припорошенные снегом, который скоро покроет и черепичные крыши. Точнее, нет, то было вовсе не за городом – это и был сам город, вторая часть двуединого Хмельхольма.
В горах жили люди.
В этих огромных небоскребах из камня, прямо внутри, работали и отдыхали люди – в породе они сделали себе окна и балконы, обустроили подземные тоннели, проложили рельсы и превратили каменные изваяния в дома, каждый день поднимаясь из глубин до пиков и обратно.
Между городами – точнее, между городом – лежали бесконечные равнины-поля, засаженные всем, чем их можно было засадить. Местные знали, что так любезно предоставленное волей судьбы свободное пространство не должно пропадать даром.
Прасфора Попадамс поймала себя на мысли, что засмотрелась на горы – они всегда завораживали ее. Девушка возобновила шаг.
Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя – общеизвестно. Если же долго смотреть на горы… то рано или поздно там обязательно окажешься – мудрость не столь доступная, зато куда более вероятная.
Иногда в ней приходится убедится на собственной шкуре.
Всего четыре ноты.
Его пальцы ударили по старинному пианино из темного дуба, видавшему виды – по залу, хотя, вернее сказать, кабинету, разлетелась незатейливая, простенькая и мрачная мелодия. Такие часто используют в театре перед началом представления, чтобы подогреть интерес, вдавить зрителей в кресло с первых секунд.
Это была его мелодия.
Записать ее на бумаге, не пользуясь нотами, можно как-то так: та-та-там-там; и все это – на низкой тональности. Эти четыре ноты свинцовой пулей ударились об одну стену, о другую, облетели весь кабинет, пока не затихли.
Мужчина встал, убрав руку – свою единственную руку – с клавиш. Вторую ему заменял золотисто-бронзовый протез. Металлические пальцы зашевелились – мужчина поправил темно-синий мундир с золотистыми эполетами, желтой лентой, алым воротничком и того же цвета манжетами.
Человек оглядел кабинет, но не так, как это делают, изучая незнакомое место – а так, как делают в уже до ужаса приевшемся пространстве, проверяя, все ли на местах, все ли в порядке, да и просто – проверяя.
Мужчина знал, что без проверки все всегда идет не так, как нужно.
Свет скользил по комнате, отражаясь от графинов и граненых стаканов, дробясь мелкой сеточкой и падая на грозные, будто великаны, шкафы и комоды. Чуть вздернутые вверх усы мужчины и борода с проседью, поддавшись некой оптической иллюзии, слегка светились.
Человек прошел к самому большому арочному окну, вырубленному прямо в горной породе, открыл его и посмотрел вниз.
За виляющими горными склонами и пиками пониже горели осенним пламенем пологие равнины, а за ними – мизерные, как казалось с такой высоты, домики, сбившиеся в кучу и словно пытающиеся согреться.
Вдалеке раскинулся двуединый город Хмельхольм, точнее – одна его часть.
Мэр Кэйзер смотрел, щелкая механическими пальцами левой руки, и думал.
Мысли его сквозило потоками идей и вещей, которые обязательно надо обдумать, но на этот бал тропических муссонов внезапно влетел холодный, пагубный и незваный борей.
Кэйзер опять подумал о дедушке.
В «Ногах из глины» было непривычно тихо, спокойно и просторно – жизнь кипела, словно магма в жерле вулкана, обычно под вечер, когда все заканчивали с делами и приходили сюда расслабится, пропустить пару кружек спиртного и – что случалось чаще – вкусно поесть, потому что кабак славился именно магистральным подходом к приготовлению блюд. Если здесь подавали поросячью ножку, то размером она скорее смахивала на слоновью, и хватало ее на пять голодных шакалов, двух людей и троечку гиен, а оставшейся костью можно было пользоваться, как дубинкой.
Догадаться, что в «Ногах из глины» готовят вкуснее вкусного, получалось даже с закрытыми глазами. Все решали запахи, которые здесь правили бал.
Прасфора, конечно же, ко всему этому привыкла и привычно лавировала в сторону кухни меж довольно узких, но длинных деревянных столов, залитых зеленовато-желтым светом магических ламп. Девушка давно предлагала сделать освещение просто желтым, без этого дурацкого зеленого оттенка, ведь свет ламп и фонарей, работавших на магическом огне, можно было перекрасить щелчком пальца – Прасфора знала, что фонари в некоторых городах специально всегда горят фиолетовым, так, для атмосферы.
Возвращаясь к запахам… если представить, что с девушкой в кабак вошел кто-то, никогда здесь не бывавший, то он бы мог и в обморок свалиться. Чистый воздух резко перекрылся бы, уступив место ароматам жареного мяса, ромовых кексов, пирогов с курицей и грибами и вечному запаху картофеля, которым «Ноги из глины» пропитались так же стойко, как хронический алкоголик – своей любимой бодягой.
«Ноги из глины» жили картофелем, он добавлялся практически в каждое блюдо. Хорошо, хоть не в десерты – но, зная Попадамсов, такое вполне могло произойти.
Если в двух словах: «Ноги из глины» разили всех наповал, даже завсегдатаев, одними лишь запахами.
А еще тут было очень тепло, что особенно хорошо чувствовалось, опять же, на контрасте с осенней прохладой. Контраст – вообще вещь очень важная, позволяет многое ощутить. И грязей, и князей, и всего там прочего…
Чем ближе Прасфора подходила к кухне, тем раскочегаренней становился воздух вокруг. Девушка даже употела – не сказать, что она была толстой, вовсе нет, но одна неоспоримая истина гласит: нельзя проработать в кабаке, оставаясь абсолютно худым. Все равно от соблазна стащить что-нибудь с кухни никуда не убежишь, он будет преследовать тебя, как гончая – лисицу.
Но полнота Прасфоры Попадамс была такой, какая некоторым людям очень к лицу – девушка под параметры «некоторых» как раз подходила. Ну, может быть, полноты было чуть больше, чем нужно. Но только капельку.
К тому же, эта чуть более нужного полнота отлично смотрелась с длинной бежево-коричневой клетчатой юбкой, белой блузкой с крупными пуговицами и темно-русыми волосами, постоянно собранными в пучок, этакую дульку.
Дойдя до двери в кухню, Прасфора постучала и замерла по стойке смирно, прилипнув к стене. Нет, там не копошилась никакая сварливая старуха или злобный повар, никто не устанавливал строжайшие правила посещения и не говорил грозным голосом не лезть поперек батьки в кухню. Просто… просто… просто… Прасфоре было всегда немного стыдно в этом признаваться, но просто…
Она всегда мечтала готовить.
И до ужаса боялась кухни.
Страх этот жил глубоко внутри, затаился и прилип к стенкам сознания, как морской паразит к корме корабля – при всем желании, Прасфора бы просто не дотянулось до него, чтобы отскрести и вышвырнуть вон. Это был один из тех подсознательных страхов, которые появляются спонтанно, в детстве, и настолько въедаются в восприятие мира, что становятся частью человека. Правда, в большинстве случаев, частью, очень усложняющей жизнь.
Когда Прасфора Попадамс еще под стол пешком даже не ходила, а ползала – в общем, была совсем малюткой, – ее на пару минут оставили на кухне «Ног из глины», где, как обычно, готовили обед: жарили мясо, рубили овощи, месили тесто… А кухня в полной боевой готовности для любого ребенка – место намного опаснее диких джунглей, потому что там хотя бы есть дружелюбные волки, медведи и пантеры, которые и выходят, и – при определенных обстоятельствах – песни попоют. На кухне же каждый квадратный сантиметр мог оказаться последним, конец наступил бы пострашнее, чем в пыточной камере: увязнуть в тесте, наткнуться на нож…
В общем, Прасфора Попадамс, воспринимая мир как один большой размытый знак вопроса, поползла. С умением сапера пробравшись по столам и опрокинув пару досок с нарезанной морковкой, малютка оказалась рядом с кастрюлей с бурлящим кипятком, стоящей ниже уровня стола – так уж расположили магические конфорки. Дрова трещали в огне, подпитываемом потоками магии, отчего пламя становилось больше, окрашивалось в голубоватый и горело дольше и куда яростней.
В кабаке привыкли готовить на широкую ногу и широкий живот, вот кастрюля и была огромной – вверх валил пар. Прасфоре его тепло показалось очень привлекательным, как… ну, с детской точки зрения, стадо мягких и пушистых овечек, поваляться вместе с которыми одно удовольствие. Вот малютка, балансируя на краю стола, сиганула вниз.
И упала прямиком в кастрюлю.
Каким чудом ее успели вытащить моментально, сразу после падения – загадка, но бульона из младенца в тот день, к общей радости, не случилось. Оказалось, что Прасфора родилась в рубашке. Малютка отделалась засевшим глубоко в голову страхом кухни, парой легких ожогов, которые прошли, и одним, оставшимся на всю жизнь – на щеке.
Сейчас же дверь в кухню отварилась. Оттуда выглянула голова. Круглое лицо с густой бородой, напоминающей дикорастущий шиповник, вытянулось, словно придя в замешательство.
– Ты уже вернулась? – спросило лицо.
– Ага, – ответила Просфора и, сняв сумку, потрясла ей. – Мне сказали идти куда подальше.
Лицо вытянулось еще сильнее, став дыней-торпедой.
– Но они же сами сделали заказ… Мы ничего не перепутали?
– Нет, в этом-то и вся странность. Пап, куда убрать еду из сумки?
Кельш Попадамс наконец-то явил себя в полный рост, закрыв дверь на кухню. Этим мужчиной можно было… скажем так, если бы Кельша по какой-то невероятной причине запихнули бы в пушку, выстрелив по ближайшей горе, в горной породе осталась бы зиять сквозная дыра, а Кельш, снеся еще пару пиков поменьше, как ни в чем не бывало потер бы голову и пошел обратно.
– Кхм, кхм… давай-ка ее мне и иди отдыхай.
Прасфора сделала, как просили.
– Пап?
– Да?
– Ты уверен, что эта доставка – хорошая идея?
В бороде-кустарнике словно бы завыл ветер.
– Конечно, я уверен! Один дурак вовсе не означает, что идею надо пресечь на корню. Мы просто дождемся других заказов, вот и все.
– Ладно. Пойду помогу в зале…
– Конечно, булочка моя, – с этими словами Кельш, держа в руках сумку, махнул на кухню, забыв закрыть за собой дверь. Прасфора, поддавшись мимолетному соблазну, одним глазком заглянула внутрь – там, куда поднимался пар от печей и кастрюль, звенел металл и урчало доходящее тесто.
Прилив смелости резко сменился привычной паникой, остолбенением и сковывающими колючками ужаса. Девушка отпрянула, захлопнув дверь. Прасфора тяжело задышала, коснулась рукой шрама-ожога и, взяв себя в руки, отойдя от двери на расстояние пушечного выстрела, пошла обратно в зал.
Главный городской алхимик Барбарио Инкубус проголодался так сильно, что с аппетитом грезил хотя бы о натюрморте, висевшем в его кабинете.
При знакомстве с Барбарио первое, что бросалось в глаза – это, конечно же, его фамилия, странная на фоне наиболее странных, чудная среди самых чудных, и так далее, и тому подобное. Даже сам алхимик до конца не знал, почему фамилию менять не стали (она была мамина): возможно, родители ожидали, что у них родится и вырастет невообразимый красавец, который одним своим видом будет соблазнять всех вокруг. Но, как говорится, что выросло, то выросло.
Если быть точнее – и это было вторым, что бросалось в глаза, – вырос Инкубус основательно, только вширь. Он напоминал колобка, не убежавшего от бабушки, а очень хорошо у нее погостившего и, к тому же, отрастившего длинную черную бороду, завязанную в косичку. Третье, что бросалось в глаза – это, собственно… сами глаза. Они у алхимика были разного цвета.
Вытерев рукой пот с лица – Барбарио потел даже в самые ужасные стужи, – алхимик выпрямился. Как же он ненавидел эти подземные пещеры и тоннели, одним своим видом кричащие: тебе, человек, тут не место. Но сейчас он был здесь, а не в уютном кабинете-лаборатории, где и поесть можно, и натюрморт не нужно представлять в голове. Хотя, что бурчать – выбора у него все равно не было.
Барбарио покосился на кладку драконьих яиц.
Большие, шипастые, с металлическим блеском, они, казалось, укоризненно глядели на алхимика. Тому даже смешно было, что он пытается спрятать взгляд от обычных яиц. Вот Инкубус и поднял глаза, чтобы отвлечься – увидел как раз, как замахивается киркой Кейзер.
С металлическим хрустом яйцо треснуло, изрыгнув содержимое прямо на мэра Хмельхольма.
Кэйзер вытер вязкий желток – или белок, поди разбери, – с запачканного и местами порванного мундира.
– Я все еще не понимаю, зачем мы делаем это вручную, – пробубнил алхимик, отходя подальше от шипастых яиц, поближе к Кэйзеру. Хотя, с этим возникали проблемы. В кладке плотность яиц была такой, что даже воздуху, казалось, становилось тесно. Хотя бы своды пещеры, подумал алхимик, ими не усеяны. Это было бы, во-первых, жутко, а во-вторых – ужасно долго, раз они собирались избавиться от абсолютно всех яиц.
Мэр щелкнул механической рукой, опустил кирку и ответил Барбарио, по привычке, почти монотонно:
– Включай голову, Барбарио. У нас нет другого варианта. Твои алхимические химикаты им ничего не сделают, – словно в подтверждение слов, мэр постучал по оболочке целого золотисто-бордового яйца. Оно отозвалось металлическим звоном.
Вокруг клокотали кирки – работали алхимик и мэр не вдвоем, – и при каждом ударе Инкубус вздрагивал. Вот и сейчас, вновь чуть не подпрыгнув на месте, он затеребил бороду.
– И сдалось нам избавляться ото всех этих яиц? Ну, оставили бы их в покое…
– Нет, – Кэйзер вернулся к работе. В желтом свете переносных магических ламп сверкнула кирка, яйцо треснуло, вновь плюнув содержимым на мэра. – Мы не можем позволить себе оставить здесь хоть что-либо – это всегда шанс… того, что планы могут пойти не так. А сейчас, Барбарио, они ни в коем случае не должны идти не так. Знаешь, говорят, к тому же, у этих тварей отличная генетическая память. Не хочу проверять. Думаю, ты тоже не горишь желанием.
У Инкубуса звучно заурчало в животе. Чтобы хоть как-то заглушить это, алхимик, не подумав, выпалил:
– Вот знаешь, твой дед… – и тут же чуть ли ни до крови прикусил язык, осознав, что ляпнул лишнего.
Кэйзер замер.
– Не надо, Барбарио… не надо… – механическая рука с такой силой сжалась на ручке кирки, что чуть не изогнула ее.
– Хорошо-хорошо, прости-прости! Работаем, работаем… – алхимик нервно потянулся к своей кирке. – Слушай, а мы так и будем работать вдвоем? Ну, я не про остальных. Ты понимаешь, о чем. Никто третий к нам не присоединится? Ну, хотя бы сейчас, как ты там сказал, на финишной прямой.
– Он болеет, – еще одно яйцо треснуло под ударом мэра.
– Ну да, конечно, болеет… – вокруг последнего слова Барбарио, с трудом поднимающий кирку, максимально непрозрачно нарисовал голосом кавычки.
Все же, алхимик замахнулся – правда слишком слабо, так что по яйцу пошла лишь легкая трещина. Инкубус, все еще до жути голодный и представляющий натюрморт перед глазами, полез в один из сотни тысяч карманов одеяния, достал пузырек и кинул в непокорное яйцо. Не рассчитал количество алхимического вещества и от взрыва отлетел в сторону, не слишком далеко, зато прямо в уже разбитые яйца. Приподнявшись на локтях, Барбарио сплюнул – яйцо осталось нетронутым, только трещина увеличилась.
И тут Кэйзер со всей дури расколол его.
– Я ведь говорил, – вздохнул мэр. – Не поможет.
– Я решил проверить наверняка, – алхимик кое-как встал. – Ты же в курсе, что твой мундир… ну, как так помягче сказать… теперь надо выкинуть, а лучше вообще сжечь?
Мэр Хмельхольма взглянул на извазюканного в вязком содержимом яиц Инкубуса. Улыбнулся вечно холодной – даже по морозному колющей – улыбкой, но ничего не ответил. Посчитал, что алхимик сам догадается. К тому же, времени у них оставалось не так много…
В глубине, под сводами той же подземной пещеры, раздался приглушенный рык.
И вот тут Кэйзер опять улыбнулся.
Потоки магии со свойственной им проворностью рассекали реальность, проносясь нитями, сплетаясь в динамическую паутину. Если бы можно было увидеть их наяву, то Хмельхольм – как и любое другое место – оказался бы испещрен фиолетово-голубыми лучами, тянущимися горячей карамелью.
Откуда взялся мир? Вопрос, который многие века будоражит умы ученых, служителей церкви, фанатиков, философов, сектантов и тех, кто просто долго не может заснуть по ночам – очевидного ответа, конечно, обычно не находится. Но в виде исключения, можно позволить себе восстановить картину практически со стопроцентной достоверностью. Все было примерно так…
Мир родился из Стабильности и Нестабильности, без лишних деталей. Две эти, ну, положим, субстанции, поныне составляют магию, время и материю в разных пропорциях: в магии где-то 70% Нестабильности, 30% – Стабильности, во времени – ровно наоборот, а в пространстве и того, и другого поровну. Ясное дело, что чем больше Нестабильности, тем проще субстанцию изменять. Материальную вазу можно разбить, приложив определенное усилие, но сама она просто так на куски не разобьется, не расплавится в воздухе. Магия же постоянно течет, меняется, ее очень легко использовать… для работы фонарей, големов, для опытов, для усиления пламени, для вращения шестеренок. Это самый упругий строительный, пусть и незримый, материал. Проблема лишь в том – к горю любителей всего эффектного, – что никаких вам огненных шаров, превращений в жаб и прочей «волшебной магии» не получается, слишком уж это дело нестабильно.
Правда, нашлись умники – без преувеличения, – которые создали специальную магическую Карамель, добавив к сладости рубиновой крошки. Ведь рубин, как известно – камень, проводящий и накапливающий магию. Лизнешь – делай с магией что угодно, хоть огненные шары кидай, хоть вино из воздуха создавай. И побочный эффект всего на всего один – вот только такой, что пользуются этой магической Карамелью только слабоумные или отважные (обычно два в одном), а Правительство запретило ее на государственном уровне. Но контрабандой мир полнится….
Так вот, потоки магии текли, пронзая воздух, крыши, дома, столы и людей. Через Прасфору, задумчиво потягивающую горячий чай за длинным пустовавшим столом, они тоже проносились.
Девушка откровенно скучала – она даже успела прибраться в комнате, помочь, чем можно было, в центральном зале, оттереть противное зеленоватое пятно от стола и подкрасить губы своей любимой, бледно-вишневой алхимической помадой.
Сегодня Прасфора до вечера планировала заниматься доставкой, но начало дня как бы непрозрачно намекнуло: ничего хорошего ждать не стоит. Так все и случилось – ни одного больше заказа, тишь да гладь.
Прасфора Попадамс терпеть не могла сидеть без дела.
Тяжело было назвать ее трудоголичкой, потому что такие люди обычно пашут ради того, чтобы пахать – как графоманы пишут лишь ради того, чтобы перед глазами бегали буковки. Нет-нет, девушка просто работала, чтобы в голове назойливыми мухами перестали зудеть комплексы…
А комплексов там было так же много, как семян в среднестатистическом арбузе.
Вот сейчас пел свою кривую серенаду комплекс, имя которому: «Я чувствую себя абсолютно бесполезной». Его-то уж точно нужно было глушить работой, это самое верное средство, как лопата против крота. А поскольку делать было нечего, хоть дело было лишь относительно к вечеру, Прасфора решила прогуляться.
Как только девушка вышла на улицу, в лицо ударил уже практически окончательно остывший воздух с потухшими, еле-заметными нотками тепла – после разгоряченного, в некоторого плане даже раскаленного, дышащего огнем кабака, казалось, что Прасфора очутилась в вечной мерзлоте.
Девушка оглядела улицу, на мгновение остановив взгляд на далеких горах – на той части Хмельмхольма, где она никогда не была, но где в свое время создали первое Алхимическое Чудо.
Задумчивость развеялась дымкой, и голову Прасфоры Попадамс заняли мысли куда более насущные: раз уж она вышла на улицу просто так, надо побыть хоть немного полезной и заглянуть в бакалейную лавку – так, на всякий случай. Туда как раз должны принести свежих овощей, картошки уж точно. А картошка – истина эта была абсолютней некуда – залог успеха «Ног из глины».
Овощам повезло, что у них не было даже подобия чувств и болевых ощущений, ведь иначе в руках отца Прасфоры они могли ощутить себя, как в лапах опытного вивисектора, которому не нужно ничего, кроме боли, страданий и стонов. Стонать, хвала всему и всякому, овощи тоже не умели.
Поэтому очередная картофелина с завидной скоростью разлеталась на круглые кусочки, тут же отправившись в большой чан.
Руки Кельша двигались как механические – наверное, ничего на всей кухне «Ног из глины» не шевелилось быстрее, разве только нашкодившие подмастерья, да и те, по правде говоря, в последнее время перевились.
Вся обширная кухня была в буквальном смысле насыщена теплом. Заходя сюда, казалось, что на тебя тут же накидывают теплый шерстяной свитер, пару шуб и пальто сверху. Добавим к этому ароматов, которые вскруживают голову и заставляют голодный желудок трястись в конвульсиях – и начинается то состояние, когда становится так хорошо, что силы резко покидают тело, и нет ни желания, ни возможности делать что-либо, только лежать, лежать и лежать.
Но Кельш такому соблазну поддаться не мог, а потому резал, строгал, варил и кипятил, периодически вытирая пот со лба.
– Ну что, как твоя доставка? – спросил вдруг подошедший человек в кожаном фартуке, рядом с которым массивный отец Прасфоры напоминал маленький детский куличик.
– Пару дней назад все было просто прекрасно, – ответил Кельш, меняя картошку на морковку. – А сегодня весь день как-то… не везет.
– Эй! – здоровяк легонько хлопнул отца Прасфоры по плечу. – Ты что, приуныл? Ты? Это что, правда мой шестиюродный брат – приунывший?
Шестиюродный дядя Прасфоры размерами превосходил всех остальных Попадамсов – на-минуточку, семью, разросшуюся и разбежавшуюся по всем семи городам как хорошенько сдобренные сахаром дрожжи, – а потому его легкий хлопок по плечу был сравним с метанием каменного диска. Притом выигрышным.
Каким-то чудом нож не выскочил из рук Кельша.
– Нет, что ты, – неуверенно ответил он. – Просто я… задумался.
Кельш Попадамс практически никогда не унывал, оставался в тонусе и вообще, работал как батарейка, которой давно пора бы уже сесть, но она все еще в строю, постоянно выплескивает спонтанную энергию. И эти выплески – идей, начинаний, веры в лучшее – питали не только самого отца Прасфоры, но и всех окружающих, а потому доставка еды из таверны казалась начинанием, которое не может просто так взять и сойти на нет. На эту задумку должны были просто накинуться, как на ароматные булочки, но пока особо не клеилось. То ли метафорические булочки не приглянулись, то ли никто вообще еще не понял, что их уже испекли.
Короче говоря, Кельш не то чтобы приуныл… скажем так, он, как магическая лампочка, продолжал светить, но с редкими перебоями.
Сейчас произошел как раз один из них.
Но, в отличие от лампочки, отец Прасфоры мог починить себя сам.
– Раз в Хмельхольме появилось первое во всех семи городах Алхимическое Чудо, еще до Философского Камня, – заговорил Кельш, продолжая резать – невероятно, но факт – снова картофель, – то я просто не верю, что такая полезная задумка останется незамеченной. Временные трудности, временные трудности!
– Ха! – воздушный поток с грохотом выскочил из легких шестиюродного (или все же семиюродного? С Попадамсами никогда нельзя быть уверенным) дяди Прасфоры. – Вот это я понимаю, вот это действительно мой шестиюродный братец!
В воздухе повисла еще одна разжиженная фраза, но она так и осталась несказанной. Ее спугнул топот ног, быстрый и ритмичный, а потом в кухню ввалился запыхавшийся молодой человек. Огибая столы и перепрыгивая через корзины, он добрался до Кельша, который перестал резать, отложил нож и удивленно посмотрел на внезапного гостя.
– У меня, у меня… – молодой человек выдавливал из себя слова, пытаясь восстановить дыхание. – Для вас… вас… письмо!
Он поднял конверт в воздух – ну, говоря откровенно, не то что бы поднял, скорее рука его вялым шлангом полуприподнялась, согнувшись в локте.
– Письмо для меня лично? – ошарашенный отец Прасфоры взял конверт.
– Письмо для…– за этим последовал глубокий выдох. – Для вас, да.
– Идите-ка отдышитесь, выпейте что-нибудь, кружка за счет заведения, – пробормотал Кельш, распечатывая письмо.
Молодой человек засиял, как медведь, удачно обчистивший улей, и со всех ног понесся из кухни к длинным столам, совсем позабыв о своей недавней одышке.
– Да, вот что бесплатная кружка выпивки делает с человеком… – рассмеялся дальний дядюшка Прасфоры. Кельш не обратил на него никакого внимания, с пристрастием изучая письмо – хирурги препарируют лягушек и то не так тщательно и трепетно, как старался рассмотреть каждую букву отец Прасфоры.
– Эй, там все хорошо?
Анабиоз Кельша продолжался еще с минуту. Потом хозяин «Ног из глины» опустил письмо, потер глаза, промокнул фартуком вспотевший лоб и сказал:
– Все просто отлично, – для уверенности, Попадамс еще раз взглянул на письмо. – Все просто, просто отлично. Только скажи мне, насколько хорошо ты помнишь всех наших родственников? И, кстати, а где Прасфора?
По дороге девушка задержалась. Совсем не собиралась останавливаться, спешила по неумолимо осенним, притухшим улочкам. Сменялись таблички с названиями: «Тминная улица», «Мускатная улица», «Табачный переулок». И тут Прасфора совершенно случайно опустила глаза вниз – остановилась, увидев зажавшегося в угол и мяукающего рыжего котенка. В больших глазах того мерцало сущее непонимание.
Попадамс улыбнулась и наклонилась к нему.
– Ну и что же мы тут делаем, а?
Котенок, ясное дело, мякнул, вроде как сообщая: «да сам не знаю».
Прасфора подняла его, схватив под передние лапы – тот сосиской повис в ее руках. Девушка поднесла его к себе, поводила носом около его мордочки, играясь. Потом по нормальному взяла на руки и стала тискать, поглаживая. Шерсть была мягкая и ухоженная, котенок, судя по всему – явно домашний.
– Ну и как же тебе угораздило тут оказаться, а?
Ответ пришел откуда не ждали – даже не от котенка. Из-за угла выбежало несколько разгоряченных подростков, яростно ища нечто глазами и пререкаясь. Котенок, подумав, видимо, что он черепаха, попытался спрятать голову в несуществующий панцирь.
Девушка сложила два и два.
– Дай мне спички! – махал руками один из детей с растрепанными волосами. – У меня точно получится!
– Да ни разу! Ты что, думаешь, что раз я не смог, то ты вот так сможешь?!
– А я его нашел! – закричал третий. – Вон он!
Вся компания взглянула на Прасфору с котенком в руках. Тот жалобно мяукнул.
– Ну все, тебе крышка, – сквозь зубы потянул второй и тут же поправился, вспомнив о Попадамс. – А вернете нашего котенка? Он, подлец, постоянно бегает.
– От спичек? – уточнила Прасфора.
– Эм… да это мы так! Поделить никак не можем. Спички две, а нас трое, ха-ха.
Последнее вышло слегка нервным.
– А, ну ладно, – пожала девушка плечами, подходя к детям.
Мальчишка ликовал. Повернулся к друзьям, выпятил грудь вперед, источая гордость, ощутимую за версту. Протянул было руки, чтобы принять непокорное животное, но вместо это получил пощечину от Попадамс – не слишком сильную, так, на полпинка, но все равно заревел.
– И вот даже не думайте, ясно вам? По глазам ведь вижу.
– Девчонка! – засмеялся тот друг, что пытался выклянчить спички. – Его избила девчонка!
Под звонкий хохот, Прасфора пошла прочь, не выпуская пригревшегося на руках котенка. Она не была бы собой, если бы, отойдя совсем немного, в голове не скрипнула предустановка, заставившая подумать – может, не стоило? С чего она взяла, что они вообще над ним собирались издеваться? Нет, ясно, с чего, но вдруг все оказалось бы не так?
Потом девушка посмотрела на котенка. Мысль вроде бы растаяла – как это всегда случалось с комплексами, не до конца. Осадок забился в щели сознания, делая предустановки еще прочнее.
Траекторию Попадамс пришлось сменить.
Бордовая черепичная крыша бросала на брусчатку густую тень, словно накидывая на дом маску таинственного незнакомца. В этой тени утопала вся бакалейная лавка «Жив-сыт-здоров», из-за танца света казавшаяся фигурой черного ловеласа. С балкончика второго этажа, вопреки всем представлением, свисали не орхидеи, а… помидоры, которых, видимо, не волновало, что пришла стойкая, неотдираемая осень – они все еще плодоносили.
– … и тогда я решила добавлять эту алхимическую настоечку еще и в горшки с помидорами. Ох, как растут! А базилик, а? Все подоконники ими уставили, и не только снаружи, но и внутри! – жена хозяина, болтавшая уже неприлично долго, показал рукой на отливы под окнами, заставленные горшками с пушистым фиолетовым базиликом.
– Во сколько, говорите, должен вернуться ваш муж? – попыталась порвать порочный круг Прасфора, начинавшая уже и замерзать в ласкающей своим холодком тени.
– О! Так я не знаю, но точно скоро, скоро. Давай я пока расскажу тебе…
Даже после минуты разговора с внезапно снизошедшим с небес божеством женщина уже бы общалась на «ты» и делилась тысяча и одним секретом домохозяйки. Удивительно, но гипотетическое божество пару советов точно зафиксировало бы.
Попадамс совсем не собиралась заходить в «Жив-сыт-здоров», были лавки куда ближе, с куда более молчаливыми хозяевами. Но девушка знала – здесь маленького котенка примут, как надо. Не ошиблась – жена хозяина растрогалась, забрала рыженького котика в дом, обещая пристроить его. Котенок на прощание лизнул Прасфору в нос.
– Ну прямо взрослый зверь, – потискала она его. Он не понял, конечно. Хотя с животными обычно и говорят просто для того, чтобы успокоить себя. Иначе смысл?
Жена хозяина вернулась, и вот тут началось.
Прасфора попыталась не обращать особого внимания на болтовню женщины – сделать так, чтобы слова стали фоновым шумом. Это почти получилось и почти помогло, но град информации сыпался такой, что пробило бы любое сознание, даже твердое, как кремень. Именно поэтому, назойливые домохозяйки – самое страшное на свете оружие.
Но внезапно Прасфора Попадамс услышала легкий грохот, словно бы на самой тихой громкости включили землетрясение. Сначала девушка не придала этому особого значения, но потом обернулась и увидела хозяина бакалейной лавки, радушно машущего рукой. За ним, с коробками в руках, шагало штук пять големов.
Големы из коричневой глины, метра два-два с хвостом каждый, были похожи на людей – то есть, базовый комплект «палка-палка-огуречек» оставался тем же, но без очертаний частей тела. Никакой шеи, головы привычной формы и, конечно, ушей. Истуканы скорее напоминали глиняные фигурки, тело вместе с головой у которых – единая раздутая вширь торпеда. В руках и ногах големов на остывающем солнце мерцали рубины, еще два таких же сияли вместо глаз, и один – в груди. Они позволяли потокам магии, подобно крови, циркулировать по телам глиняных истуканов, приводя их в движение: големы шагали, будто бы марионетки с ниточками, за которые дергал неведомо кто. То есть, конечно, дергала магия сама по себе – но для большинства она и оставалась тем самым «неведомо кем».
Хмельхольм был родиной големов, а големы – Алхимическим Чудом.
Так уж вышло, что алхимики всех семи городов однажды решили —Чудесами можно называть четыре вещи, на тот момент еще не существовавшие: Голема, Философский Камень, Искусственного Человека и Эликсир Вечной Жизни. Ну а потом, пошло-поехало – алхимия поскакала вперед семимильными прыжками атлета-чемпиона, и первым созданным Чудом стал именно Голем. Здесь, в Хмельхольме – точнее, в горной его части, – создали каменного исполина, суставы которого для прочности скрепили воском и металлическими пластинами. Через несколько лет, когда големы уже не пугали и не мозолили глаза, в жарком приморском городе Златногорске алхимик Фуст создал Философский Камень. Вещичку, правда, конфисковало Правительство, зато теперь именно это Алхимическое Чудо снабжало все семь городов золотыми монетами с выгравированной буквой «Ф», или просто, как их называли, философами. Отшлифованные камни с тех пор сыплются сквозь огромную стеклянную трубу в башне Правительства, обращаясь в золотые монеты, и мерцающей рекой стекают вниз…
Искусственный Человек и Эликсир Вечной Жизни еще маячили на грани мечт и фантазий, зато в магазинчиках прекрасно чувствовали себя Эликсиры Молодости, этакие средства для оттягивания старости, хотя бы внешне. И гомункулы – существа из красно-розовой жижи с глазами навыкат, постоянно меняющие форму, способные отыскать человека по магическому следу. Как гончие, но надежней и отвратительней. До Искусственного Человека им тоже было далеко – ни то слово.
Замахавший рукой хозяин бакалейной лавки сперва казался слегка размытым. Прасфора, ничего еще толком не разобрав, смущенно кивнула в ответ, понимая, что застряла надолго – бакалейщик не уступал в разговорчивости совей жене.
– А, Прасфора! Извини, что заставил ждать, но я вот тут… – мужчина показал рукой на грузно шагающих в лавку големов, несущих деревянные ящики с торчащими пучками зелени и клубнями картофеля.
– А что с поломанным големом? – вскользь уточнила жена.
– У вас сломался голем? – удивилась Попадамс. Это случалось так редко, что воспринималось как солнечное затмение где-то в населенных аборигенами землях.
– Он совсем вышел из строя, – вздохнул хозяин. – Пришлось отправить его… эээ… на кладбище големов…
Женщина поморщилась и махнула рукой. О кладбище големов не любили говорить, как стараются не рассказывать детям о смерти их обожаемого домашнего питомца, закопанного теперь на заднем дворе.
– И…? – протянула жена, ожидая продолжения.
– Да, да, конечно, на днях я куплю нового, – издал усталый рык загнанного в угол тигра бакалейщик. – А сейчас, давай отпустим Прасфору, мне кажется, она хотела что-то купить, и стоит тут уже чересчур долго.
Тут случилось неожиданное. Один из големов внезапно затрещал, рубин в его груди треснул. Руки истукана мгновенно опустились, глаза-рубины погасли, и ящики повалились, треснув и высыпав все содержимое. Сам голем продолжил стоять, но уже неработающий, точнее, говоря с точки зрения жителей – мертвый.
Вот жена хозяина и взизгнула.
К счастью, Прасфоры, последующая часть балета окончилась быстро. Девушка забила сумку зеленью и отказалась брать картошку, потому что ее в «Ногах из глины» и без того некуда девать, за ней лучше зайти в другой раз, тем боле не хочется покупать то, что выпало из рук уже мертвого голема. Прасфора расплатилась золотыми философами, попрощалась и собралась уходить.
– Прасфора? – окликнули ее.
Девушка развернулась. Пялясь на нее во все четыре глаза (ну, ладно, газа было два, поверх – пара кругленьких очочков) в своем бесконечно длинном вязаном красном шарфе, около бакалейной лавки стоял Альвио, просто Альвио.
Прасфора тяжело вздохнула – этот молодой человек тоже входил в ящик Пандоры ее комплексов.
– Привет, Альвио. Какими судьбами?
– Такими же, какими все попадают в бакалейную лавку… за зеленью. Хотя, у меня появилась идея лучше, – засиял Альвио. – Как насчет посидеть где-нибудь и выпить что-нибудь? Так размыто говорю, потому что на твой выбор.
Его странно передернуло, и он скороговоркой добавил:
– Только не в «Ногах из глины». Ты там и так каждый день…
Какое-то время, Прасфора Попадамс и Альвио, просто Альвио, чего греха таить, встречались – ну, поигрались-поигрались и бросили, ни о чем, в принципе, не жалея. Не сошлись, не подошли друг другу, с кем не бывает. Они все еще общались, но набегами, как племена кочевников – раз в какой-то сумасшедший отрывок времени. При этом в голове Прасфоры все равно умудрялась гнойной бабочкой порхать мысль о том, что в присутствии Альвио нужно быть максимально… привлекательной, то есть вести себя не так, как обычно, а в разы лучше – хотя на деле это всегда выходит чересчур наигранно, неоспоримый факт. Так обычно происходит, когда человек все еще вроде как нравится, и глубоко внутри фантомная возможность второго шанса орет похлеще армейского генерала, заставляя вытягиваться по струнке, держать осанку так, словно позвоночник – водосточная труба или флейта, а манерам научился прежде, чем самостоятельно дополз от люльки до стола.
Проблема была в том, что Прасфора ни о каком втором шансе даже не думала. В ней просто срабатывала эта заморочка – вот и все.
– А почему бы и нет, – она машинально выпрямила спину, хотя и так не горбилась.
– Можешь так не беспокоиться насчет осанки… – опешил Альвио.
Позвоночник снова просел.
– Прости, оно… как обычно.
– Ничего нового, – улыбнулся Альвио.
И они ушли, так и не определившись, куда – такие решение лучше всего принимать по дороге.
Хозяева бакалейной лавки обменялись парой фраз, что-то хихикнули – ох уж эти проныры, везде видящие какой-то подвох – и, убедившись, что оставшиеся големы дотащили все ящики, двое схватили валяющиеся овощи и шагнули в дом, почти захлопнув дверь.
Остановил их Кельш Попадамс.
– Постойте! – крикнул он на бегу, не обращая внимания на мертвого голема. Когда отец Прасфоры бежал, казалось, что грядет катастрофа. – Прасфора же к вам заходила, да?
– Вот именно, что заходила. Ушла только что со своим… – он сделал обязательную для этого момента паузу, куда ж без этого, – другом.
Кельш затормозил – тектонические плиты словно кувалдой вбили на место.
– А, с Альвио, что ли? Дайте угадаю, они пошли посидеть и поговорить, а куда – не решили, но только не в «Ноги из глины», потому что, – он откашлялся, пародируя Альвио, – ты и так там слишком много времени поводишь?
– Браво! Слово в слово.
– Теперь их полдня искать придется, – вздохнул Попадамс и снова побежал. – Ну почему именно сейчас, когда нам прислали такое….
Тетушка Синтрия копошилась в желтом свете крохотной мастерской, где успевала совмещать все виды деятельности: от стирки и шитья до рисования. Она прожила долгую жизнь и не без причин считала, что учиться нужно всегда, а там, может, лет через -цать, какой-нибудь из навыков обязательно пригодится. Так и делала до глубокой стрости, так что теперь заведовала в горном Хмельхольме практически всем хозяйством – контролировала кухарок, швей… и, как начальник здорового человека, набирала кучу работы себе, никогда не просила большой мастерской – в маленькой, она говорила, все под рукой – и знала чуть ли не всех жителей города, просто потому что помнила, как они пешком под стол ходили, и как за ними гонялись разъяренные родители, клянясь наказать за очередную шалость. О шалостях этих тетушка Синтрия, тетушкой никому де-факто не приходившаяся, тоже знала и молчала. Что тогда, что сейчас.
Дубовая дверь скрипнула, нарушая рабочую атмосферу, окутывающую мастерскую тетушки Синтрии душистым мыльным пузырем. Она и правда развешивала всюду ароматные травы, чтобы чувствовать себя на свежем воздухе даже здесь.
Сухонькая старушка опустила на нос небольшие очочки, отложила нитку с иголкой и обернулась.
На пороге стоял мэр Кэйзер в рваном и местами прожженном мундире, испачканном липкой гадостью. Синтрия неодобрительно зацокала.
– Ты даже в детстве так не пачкался, – заметила она. – Все же не зря заранее занес мне другой мундир. Не стой в дверях, заходи, сейчас переоденем тебя. Я его подлатала и сделала даже лучше.
Мэра, как и большинство жителей Хмельхольма, тетушка Синтрия тоже помнила с детства. Кэйзер знал это, сам помнил ее – скорее не воспоминаниями, а смесью приятных ощущений, таких душистых, как травы под потолком, – и потому каждый раз чувствовал себя рядом с ней маленьким мальчиком. Раньше это ему нравилось. Теперь – равно наоборот. После всего случившегося…
Впрочем, мэр все равно позволял ей говорить с ним как угодно, пускай и как с ребенком. Слишком уж трудно было сказать что-то против – все равно как приехать к бабушке в деревню и отказаться от вкусностей, ругая себя за это до конца лета и ловя укоризненные взгляды хитрой старушки.
Кэйзер снял мундир. Ленту и прочую атрибутику мэр благополучно снял до того, как уничтожать кладку.
– Кидай в корзину, – подсказала тетушка Синтрия так, будто мэр первый раз явился к ней. – Потом постираем, подлатаем…
Старушка слегка трясущимися руками повесила мундир, над которым работала, на вешалку. Он казался чуть бархатным – с теми же золотистыми эполетами.
– Я добавила чуть больше золота, – объяснила она, взглянув на холодное лицо мэра. Холодное не от недовольства, а просто так, как всегда. – И не хмурься ты так часто, морщины появятся. Вон, посмотри на меня – старше тебя чуть ли ни в два раза, а лицо – как у молоденькой девочки.
Это было не враньем, а просто приукрашенной правдой – и не важно, сколько краски на нее ушло.
Мэр отошел за ширму, скинул грязную рубашку, надел новую – тетушка Синтрия обо всем позаботилась. Потом натянул мундир с брюками, тоже новыми.
– Ну вот, другое дело! – улыбнулась старушка, когда он появился. – Дай-ка я тут поправлю…
Она закончила, с довольным видом встав напротив.
– Спасибо. С этим, – он механической рукой показал на корзину с грязным бельем, – можете не торопиться.
– Разберемся, – прохрипела она. – Ты занимаешься своими мэрскими делами, я – своими.
Кэйзер ничего не ответил. Уже собирался уходить, как тут старушка схватила его за руку. Мэр остановился и повернулся.
– Кэйзер, – она никогда не говорила ему «мэр» и, тем более, «господин мэр». Он и не просил. – Скажи мне, что ты задумал? Я ведь, знаешь ли, слышу слухи… а когда что-то затевает мэр города, от них тяжело избавиться и спастись.
– Как вы и сказали, я занимаюсь своими делами, вы – своими.
– Кэйзер, – остановила она его. – Я не знаю, что ты затеял… но знаю, что твоему дедушке это бы не понравилось. И он бы такого точно не делал…
Мэр сам не понял, как произошло последующее, но внутри словно извергся вулкан, залив сознание магмой и затмив пеплом. Кэйзер и так постоянно думал о дедушке, особенно в последнее время, а теперь тетушка Синтрия зачем-то сказала эти ужасные, неправильные слова, и мэр почувствовал, как вновь давит на его плечи тень деда…
Он ударил старушку по лицу механической рукой. С такой силой, что та чуть не упала – еле-еле устояла на ногах.
– Я не он. Не надо сравнивать… – проскрипел он, тяжело задышав. Только теперь понял, что натворил. Посмотрел на рассеченную щеку тетушки Синтрии, на ее ошарашенные, но понимающие глаза и, ничего не ответив, вышел вон.
Поступки сейчас – мелочи. Узелки на идеальном полотне, просто мозолящие глаз.
Старушка протерла щеку алхимическими жидкостями, остановив кровь. Она не разозлилась, не обиделась на него – просто поняла, что нечто будет.
И, зная Кэйзера – будет обязательно.
Есть такие звуки, которые могут свети с ума – допустим, капающая с потолка в тихой комнате вода, скрежетание мела по доске или трущиеся друг о друга ржавые шестеренки. Звук, стоявший внутри гор Хмельхольма, мог довести до помешательства, с этим тяжело поспорить – но в то же время он завораживал, потому что источник его был невероятен.
Все здесь было невероятно, только вот спускающийся по широкой винтовой лестнице Кэйзер этого не замечал. Привык, как люди, изо дня в день проходящие мимо сидящего на подоконнике чудища перестают замечать и его.
Пока мэр Хмельхольма, приходящий в себя, спускался в просторный холл, вокруг грузным эхом сливались удары из шахт под горами и скрежетания механических вагонеток, доставляющих жителей из недр к нижним ярусам, от горы к горе. Шестеренки, движимые магией, питавшей их и позволявшей вращаться – как и любые шестеренки – крутились, приводя эти чудеса техники в движение.
А еще здесь гремели и топали големы – куда же без них. Спустившись, Кэйзер как раз прошел мимо парочки с ящиками в руках. Мэр задумчиво пошевелил пальцами механической руки золото-бронзового отлива, чуть испачканной кровью, и словно бы сыграл на невидимом рояле свои любимые, грустные и протяжные ноты: та-та-там-там….
Мэр поднял голову – на него смотрел голем на постаменте, огромный, в два раза больше обычного, с металлическими пластинами на суставах и на груди. Даже не планируя, подумал мэр, он сам пришел сюда, именно в это проклятущее место… Голем молча пялился в никуда, давя одним своим видом. Кэйзер почувствовал, как к нему тянутся липкие щупальца эфемерных воспоминаний, уносящих далеко-далеко – он позволил им коснуться себя и…
– Кэйзер? – в реальный мир мэра вернул шаркающий и чистенький Барбарио Инкубус. – Тебе надо меньше смотреть на Анимуса, вот что я скажу, он как-то отключает тебя от реальности.
– Барбарио, – мэр потер переносицу. – У меня все под контролем.
– Не спорю, – шмыгнул носом алхимик, все еще без сил шаркающий навстречу Кэйзеру. – О, новенький мундирчик! По-моему, тут больше золота…
– Что с тобой случилось? – не замечая его слов, спросил Кэйзер. —Обычно ты ходишь куда быстрее, и вид какой-то у тебя… не слишком рабочий. Даже глаза выглядят чуднее обычного.
– У меня случились твои просьбы и заботы! Я в жизни не колол яйца киркой, а только начало. Все это забирает столько сил, а я был так голоден… Чуть натюрморт не сожрал, когда вернулся!
Никто в здравом уме не стал бы разговаривать с мэром Хмельхольма в таком тоне и такой манере, но Инкубус не видел в этом ничего такого – оставим вопрос о том, был ли он до конца в своем уме, это не так-то важно. Просто алхимик незнаемо сколько лет проработал рука об руку с Кэйзером и считал его суровый взгляд из-под седеющих бровей не более, чем постоянно включенным защитным механизмом. Барбарио знал все, что знает мэр – просто потому, что в большинстве из этого участвовал.
Точнее, знал почти все. Некоторые вещи можно было понять, только взломав сознание мэра. А голова Кэйзера представляла собой адскую машинку, где запутаны сотни проводов, и никогда не знаешь, за какой нужно дернуть.
Мэр махнул рукой. Всегда размышлял строго в рамках прямолинейной логики – как идущее напролом войско. При этом мышление Кэйзера нельзя было назвать неподвижным или закостенелым, о нет, ни в коем случае – ум его был подвижен до ужаса, но покоился в каркасах четких и нерушимых, своих логических систем.
– Давай ближе к делу, – голос Кэйзера затвердел до состояния невозврата. – Потому что моя рука…
Чуть не сказал «в крови», но вовремя замолчал.
– Ой, да, да! – закопошился наконец-то дошедший алхимик. – Кхм, да где же оно… а, вот!
Алхимик вытащил склянку с насыщенно-красной жидкостью и передал Кэйзеру – тот с громким «хлоп» откупорил ее и выпил залпом.
– Я увеличил концентрацию молотого рубина в два раза, – проговорил Инкубус. – Надеюсь….
Мэр активнее зашевели механической рукой – маленькие шестеренки заскрежетали с новой силой. Кэйзер пару раз сжал руку в кулак. Потом вытер другой рукой кровь. Знал, что Барбарио заметил, просто промолчал.
– Отлично! – вскинул руки алхимик, но они тут же опали вялыми лентами. – Главное, чтобы не было никаких побочных эффектов…
– Их не будет, – улыбнулся Кэйзер почти по-настоящему. Эта эмоция была редкой гостьей на его лице. – Я себя отлично чувствую.
Он врал, конечно – его душа болталась на скрипящих и разболтанных шарнирах. И кто же тянул тетушку Синтрию за язык…
– Эээ, ну вот и славно. Я так понимаю, мне налаживать производство?
Мэр махнул механической рукой – ему явно нравилось это делать.
– Позже. Сейчас у нас есть другое дело.
– Мне готовить еще один балахон на смену? – уточнил алхимик.
Они дошли до вагонеточных спусков, что вели в глубокие шахты – мрак внизу рвало светом желтоватых магических ламп.
– Мы спустились достаточно глубоко, избавились от кладки… Теперь нам нужно браться за работу, Барбарио.
– Ты уверен, что хочешь… ммм… браться за работу именно там? Там нас может ждать…
– То, чего не можем ждать мы? Именно на это я и рассчитываю.
– Я хотел сказать – дурные воспоминания. Ну ты ведь понимаешь, о чем я. К тому же, нам бы не помешала помощь кое-кого третьего, но он…
– Он вернется. Поверь, я просто знаю.
– Ну-ну…
Кэйзер уже не слушал – отвел взгляд от шахт, мельком глянул на изнеможденного (но все еще круглого, надо сказать) алхимика, а потом повернулся и издалека посмотрел на огромного голема на постаменте. Теперь мэр видел его в полный рост. Воспоминания снова пошли в наступление, но Кэйзер лишь закрыл глаза, нахмурился и проговорил:
– Ох, дедушка…
Альвио сидел и зажигал в руке голубой магический огонек, тут же гася и вновь разжигая – излюбленная забава-антистресс всех волшебников.
Да, юноша был волшебником, но вот только профессия эта содержала в себе столько же чарующего и прекрасного, сколько профессия рудокопа – чистого лица и белоснежных подушек. Сама по себе суть магии не давала волшебникам творить ничего грандиозного с точки зрения… ну, веселого волшебства – зато зажигать магический огонек, лучше разбираться в работе магических приборов, в устройстве потоков магии, поглощать магические аномалии и усиливать пламя спички посредством (опять) магии – это пожалуйста. Всегда можно пустить незримые потоки на опыты и изобретения, но голова Альвио была устроена так, что скорее бы придумала велосипед в десятый раз, чем реактивный двигатель.
Они с Прасфорой дошли до забегаловки, которую сами хозяева называли «чайной» – под набухшей бордовым цветом черепичной крышей здесь росло столько зелени, что дом скорее напоминал оазис посреди городского пейзажа. Притом оазис дикий и запущенный – зато все, что здесь росло, не пропадало просто так и добавлялось в чай. В отличие он многих других кабаков, таверн и харчевен, в этой «чайной» дубовые столики стояли прямиком на улице, вплоть до стальных зимних холодов.
Прасфора укуталась в любезно принесенный из «чайной» плед и сделала глоток.
– …ну так вот, – продолжил Альвио, внезапно перестав баловаться с огоньком. Юноша выудил откуда-то тетрадку в кожаном переплете и протянул собеседнице. – Я тут сделал еще пару зарисовок…
Прасфора Попадамс видела эту тетрадку чаще, чем собственное отражение в зеркале. Рефлекторно открыла последние изрисованные страницы.
Конечно же, там тонкими карандашными линиями там гарцевали драконы.
Альвио, уже окончив учебу, понял, что быть волшебником всегда, круглые сутки – это не про него, и рубильник его страсти переключился на всякого рода существ, так или иначе с волшебством связанных. Юноша ничего не имел против лошадок, кроликов, кошек и других зверушек, но изучать их ему казалось до безумия скучно, к тому же, нельзя же отбирать хлеб у зоологов-натуралистов. Вот и ринулся Альиво в сторону существ иного рода – в частности, драконов. С ними все было куда проще, потому что любой, кого не спроси, знал – да, драконы реальны, это не бабушкины сказки. И что, что они не летают? Конечно, делать им больше нечего – они дрыхнут глубоко под землей либо около драгоценных металлов, свойства и цвет которых перенимает их чешуя, либо спят на награбленном. Когда ты огромная ящерица с крыльями фантастического размаха, чем еще заниматься?
Альвио был влюблен в драконов – не настолько, конечно, чтобы пытаться их, как другую живность, завести. Любое животное погибло бы у Альвио уже на второй день от отсутствия не столько питания, это ладно, сколько внимания – юноша целиком и полностью погружался в исследования, поедая информацию, как конфеты. И даже называл себя драконологом – почему, спрашивается, не взять и не придумать род деятельности с легкой руки?
– А это что такое? – Прасфора удивленно провела по рисунку существа, напоминающего помесь орла и льва, и второго – коня с рогом.
– Это грифон и единорог, ты что, Прасфора!
– По-моему, ты изучал магических животных, – откашлялась девушка.
– А это что, по-твоему?
– Мифические животные.
А вот второй страстью – и особенностью Альвио – стала его помешанность на существах, которых, в отличие от драконов, никто не видел, но о них почему-то постоянно говорили, или находили старые записи. Большинство, как это обычно бывает, ссылалось на то, что все это – чистой воды выдумка, но юноша, разойдясь в споре как следует (или выпив лишнего, что, в сути, одно и то же) начинал гнуть свое так упорно, что от его стараний все находящиеся рядом ложки и вилки становились кривыми. Альвио говорил: у всякой вещи есть рациональное основание и, если кто-то хотя бы раз упомянул сияющую призрачно-белым лошадь с одним рогом, значит что-то сподвигло его сказать такое.
Вариант о бурной фантазии, приправленной не очень хорошим алкоголем, юноша даже не рассматривал.
– Ну, я видел этих грифонов, когда ездил в горный город, – пожал плечами Альвио, поправив длинный шарф. – Точнее, не самих грифонов, а их изображения – в основном барельефы…
– Тебе не кажется, что это просто украшения? – Прасфора вернула тетрадку.
– Ты знаешь мою позицию – не кажется! Тем более, я точно верю в ту зарисовку моего деда, или прадеда, постоянно забываю. Такое невозможно придумать! Он рассказывал, как видел грифонах на скалах горного города…
Это было отдельной историей. Действительно, в архивах Альвио хранился такой рисунок, притом не просто каля-маля, а анатомически точное изображение. Вот только было это так давно, что никто уже драконологу не верил. И не только сейчас, ведь даже отец Альвио еще во времена своей молодости говорил: все это – сказки. И не принимал аргументов, что надо бы съездить в горы и проверить, увидеть самому. Однажды, все же, приехал – и никаких гифонов, кроме изображений да барельефов, тоже не увидел.
Потому вопрос о дедовском или прадедовском изображении оставался открытым.
Драконолог перевел тему:
– Как там твои дела с вашей новой… эээ… доставкой?
Прасфора вздохнула. Ну вот, пришло время рассказывать все, как есть.
– Да как, никак, – пожала девушка плечами. – Сегодня меня послали куда подальше, ну это-то ладно. Само по себе все как-то не очень активно…
Альвио поправил кругленькие очки в золотой оправе.
– А ты вообще веришь в успех этой затеи? – заговорчески спросил он, конечно же, зная ответ заранее.
– Ну а как же! – фыркнула девушка. – Если не верить, то никогда не реализуется – тем более, любая задумка всегда потенциально обречена на успех. Главное этим успехом ее обеспечить.
Юноша улыбнулся. Конечно, ничего другого Прасфора сказать не могла – вот она, русоволосая мисс Попадамс во всей красе, идет напролом, пока не поймет, что перед ней жилой дом, и его проламывать не очень-то прилично, хотя реально.
Если Прасфора Попадамс сдастся – обязательно наступит конец света, вот уж точно.
– А как твои… – Альвио замялся и сделал глоток чая, – кухонные дела?
У девушки еле-заметно дернулся глаз.
– Все так же, – вздохнула она. – Я не могу. Даже заглянуть не могу.
– А ты пробовала резко вбегать в кухню…
– Конечно же! Сразу, как ты предложил – это казалось очень действенным. На меня все, конечно, посмотрели, как на идиотку, но это ерунда. Я и минуты внутри не продержалась.
У Прасфоры затряслась рука.
– Да что же это такое, – проворчал Альвио.
– Вот это, – девушка постучала себя по лбу. – Что-то там, внутри – и оно никуда не хочет уходить.
Прасфора верила, что через себя можно всегда перешагнуть – достаточно просто вложить столько усилий, сколько до этого даже не снилось, а потом – пуф! – и любая проблема, или задача, чудесным образом решается. Хотя, почему же чудесным – вполне себе обычным, своим собственным образом. Но справиться с панической боязнью кухни, с этим королем тараканов в голове, у Попадамс не получалось, что бы она не пробовала. Да к тому же, когда внутри ютится целый рой из комплексов, тяжело передавить их всех разом.
Можно подумать, что в числе этих переживаний была внешность Прасфоры – но это суждение весьма и весьма ошибочно. Девушка знала, что она полненькая – но считала такую полноту привлекательной.
А вот сейчас Попадамс опустила голову – просто так, – и взгляд ее упал на ноги. В голове стал клещом набухать еще один пунктик: ладно, все-таки, может это и не столь привлекательная полнота…
– Прасфора! – вдруг закричал кто-то.
Девушка резко подняла голову – так, что аж в глазах потемнело – и посмотрела на Альвио, но он сам был в недоумении. Его и без того расширенные от удивления газа стали размером с апельсин из-за очков.
Девушка повернулась в сторону. К «чайной», словно бы с каждым шагом проваливаясь под землю и оставляя воронку, на всех парах спешил Кельш Попадамс.
– Прасфора! – повторил он, наконец-то добежав, остановившись и согнувшись в три – а то и во все пять – погибели, чтобы отдышаться. При этом отец девушки судорожно тряс каким-то листком.
– Папа? Что-то случилось?
Мужчина затряс листком и снес чашку юноши – та пролилась на брюки драконологу-любителю.
– Здравствуйте, господин Кельш, – Альвио не забывал о нормах приличия даже во время таких ситуаций.
– Привет, Альвио, – махнул рукой хозяин «Ног из глины», даже не заметивший, что чашка лежит на столе, хотя ей положено там стоять.
Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, которыми можно не просто поросячьи домики, а целые поросячьи империи смести с лица земли, Кельш выкрикнул:
– Вот! – он передал письмо Прасфоре. – Твой дядя… не шестиюродный, а родной дядя… В общем, ни то приболел, ни с ним что еще случилось – ну, ты знаешь этот горный Хмельхольм… Просит приехать, привезти алхимические лекарства – там что-то редкое, у них такого нет. Я все уже купил и приготовил, заодно отвезешь ему нашей еды. Ну и вдруг это поможет нам немного расшевелить доставку? Тебе лучше идти прямо сейчас. Пока мы дойдем до «Ног из глины», пока… Я бы и сам поехал, но ты ведь знаешь, булочка моя…
– Я все понимаю, пап, не оправдывайся. Все в порядке.
– Ого, в горы! Последний раз я там был… ох, и не помню, когда, – Альвио засиял так, словно его первоклассным фосфором накачали. – Мне там рассказывали о драконах и грифонах!
– Ты хотел сказать, – поправил его Кельш, – о драконах и сказках?
Прасфора два раза перечитала письмо, до одури покрутила в его руках и на мгновение представила себе – вот она, в кожаном фартуке, режет картофель, добавляет специи, мясо, ставит все на огонь и наслаждается сладко-острым ароматом, предвкушая, как совсем скоро дядя съест это в горном Хмельхольме, еще даже не остывшее. Но картинка с грохотом, как воздушный шарик, лопнула, когда воображение дорисовало кухню – неописуемый ужас ударил в бубен сознания.
Девушка так хотела приготовить это, а не нести, но реальность оказалась куда суровее, как, впрочем, и обычно. Дядю, к слову, она совсем и не помнила – остались только обрывки из далекого детства.
Прасфора и не знала, как отреагировать на новость.
Чтобы увидеть это, нужно отмотать золотисто-сизые, неуловимые лучи времени назад, вывернуть их наизнанку и вновь затянуть тугой спиралью, чтобы оказаться в этом месте, в этом времени, и увидеть, как…
…влажный весенний ветерок летит сквозь пики, остужаясь снежными шапками самых высоких гор и прохладой тех, что пониже, визжит, свистит, с беспечным воем рассекает расщелины и весело влетает в окна Хмельхольмских гор-домов, а потом уносится на дно шахт и там затихает, гулко отзываясь безмятежным эхом.
В лучах щекочущего озорного солнца у большого круглого винтажного окна стоит седой старик, сочащийся вязким теплом – таким, какого так не хватает в промозглые осенние вечера, полным ощущений и вкусов, цветов, запахов, еле-уловимых настроений; полным горячего малинового чая, мягкой шерсти, корицы, кориандра и легкой грусти.
Старик отворачивается, потому за штанину его дергает ребенок с горящими, энергично бегающими глазками.
– Дедушка, дедушка, – спрашивает он. – Что это такое?
Ребенок тыкает рукой куда-то в противоположную от окна сторону.
Старик разворачивается, а солнце чертит на его лице театр света и теней – потом он улыбается и, теребя волосы внука, говорит:
– Это голем, внучок.
– А что такое голем, дедушка? – не скрывая восхищения, спрашивает мальчик.
Старик улыбается.
– Я не знаю, как объяснить тебе, – признается он. – Это первый голем, внучек.
– А как его зовут? – никак не успокоится мальчик.
Старик задумывается.
– У него пока нет имени, – признается он. – Но пусть его зовут… Анимус.
– Дедушка, но Анимус – это ты! – мальчик не может сдержать смеха.
– Теперь еще и он, – улыбается стрик и вновь разворачивается к окну. Взгляд его, притупленный желтым стеклом, летит через горы, а вместе с ним разматываются из тугого клубка и мерцающие потоки времени, откидывая события назад, или вперед – смотря откуда наблюдать. Все вокруг звенит хрустальным звоном, сотрясается, дрожит, пока не замирает, теряя золотисто-желтый оттенок былого, налет воспоминаний…
Кэйзер открыл глаза и снова прошептал:
– Дедушка…
А потом посмотрел на огромного голема в холле и сжал механический кулак.
Глава 2. Туда, но не обратно
Небо упало в дрему, по нему расползлись серые тучи-морщины, затянув солнце и остановив ванильно-персиковый солнечной поток, тут же затушив пожар осенних деревьев, их вечное фениксовое сияние. Свет принялся капать, как из опрокинутой банки с приторным медом – бежевые дома Хмельхольма, словно потеплее закутавшись в свои фасады, покрылись пятнами из солнечных капель и дождевой измороси.
Где-то в стороне от города все это разбавляли клубы плотного пара, седыми вихрями лениво и томно ползущие вверх.
Пейзаж, конечно, что надо – но при правильной смене угла обзора, картина открывалась взгляду полностью, и перед любым наблюдателем – прямо как сейчас – вставал весьма фундаментальный вопрос: прогресс – куда несешься ты, а? И откуда берешься?
Говорят, что технический прогресс дает пинка развитию человечества – это, вообще-то, действительно так, только вот это пинок ногой в золотом ботинке с бриллиантовым каблуком и шнурками из чистейшего серебра, а потому в такой пинок надо как следует вложиться, иначе ничего никуда не уедет, да даже с места не сдвинется.
На Хмельхольм прогресс свалился чугунной – то есть, золотой, конечно – плитой, отпечатавшись первым и единственных во всех семи городах поездом.
В этих самых семи городах пароходы, работающие, конечно, на магии, сновали с людьми и товаром туда-сюда как ужаленные муравьи. Вода, говоря архаическими образами, была живительной кровью всех семи городов, соединяла их узами торговли и логистики – кто-то, как портовый Златногорск или столица, Сердце Мира, отхапал себе море, а кто-то очень даже довольствовался речкой – например, тонкая и изящная Хрусталия.
С Хмельмхольмом же получилась накладка – река-то была, куда без нее, но добраться от одной части двуединого города до другой оказывалось той еще проблемой.
Пока не появился паровоз. Железнодорожные пути неумелым швом портного-неряхи связали горы и равнины.
И, казалось бы, ура, да здравствует прогресс и новые технологии – сейчас запустим поезда между всеми семью городами, и жизнь станет хотя бы слегка похожа на сказку. Но идея оказалась слишком уж затратна – зачем столько поездов, которые надо пнуть бриллиантовым башмаком прогресса, когда вода прекрасно со всем справляется?
Так что поезд, движимый магическими потоками, которые заставляли крутиться шестеренки и придавали жару топкам, стал визитной карточкой Хмельхольма.
А к любому поезду прилагается вокзал, как к шуту – король.
Прасфоре Попадамс никогда не нравился вокзал. Она обычно с радостью, хоть порой и с трудом, принимала все новое, но любила то легкое умиротворение, которое дарит, допустим, просыпающийся город с его небольшими домами, черепичными крышами, крадущимся солнцем и холодным осенним ветерком, навевающим выжженую радость. И даже самые людные улочки казались спокойными и, что важнее, настоящими – без всего того искусственного хаоса, который водоворотом несочетаемых элементов заставляет голову трещать от количества потенциальных проблем.
Вокзал же – даже в самые тихие и спокойные минуты – напоминал не просто муравейник, а муравейник, в котором каждая букашка объелась галлюциногенного вещества. Это место было квинтэссенцией беспокойства без причины, гудящего хаоса и рассредоточенного внимания.
А еще, возможность спонтанных встреч с тем, кого даже в гробу встретить не хотелось бы, возрастала до предела.
Поэтому Прасфора, стоявшая под навесом из красной черепицы, совсем не удивилась, встретив здесь господина Фюззеля.
Альвио, как всегда паривший где-то в облаках с драконами, грифонами и прочими тварями всех мастей, от удивления разинул рот так, что туда целый рой мух мог влететь.
– А, кого я вижу! – улыбка на лице Фюззеля была бы весьма приятной, если бы на девяносто процентов не напоминала осклабившуюся змеюку. – И как ваше ничего, Прасфора? Я смотрю, доставка растет и процветает?
Никакого другого вопроса девушка не ждала.
– Ага. Как видите, – ответила она, стараясь даже не смотреть на мужчину в высокой коричневой фетровой шляпе.
Господин Фюззель, так уж вышло, был хозяином таверны «Рваные крылья дракона», которая, будем откровенны, и в сравнение не шла с «Ногами из глины» – к тому же, ни один горожанин не понимал, почему крыло все-таки рваное, но это уже совсем другой вопрос. Конечно, у Фюззеля и его заведения были все шансы вырваться на первое место среди Хмельхольмских едален, но хозяин заведения придерживался очень специфичной позиции: я буду делать все, как делаю, потому что правильно именно так, а все ваши пожелания и ожидания – лишь ваши пожелания и ожидания, смиритесь с этим. При этом Фюззель постоянно грыз метафорические ногти и точил зуб на «Ноги из глины», готовясь при любом возможном случае вцепиться в кабак заостренной стальной хваткой. Ему хватило бы и легкого укола, и сносящего голову удара мечом, тут уж как получится. Главное любым образом вставить палки в колеса конкурентам. Желательно так, чтобы колеса эти поломались вдребезги. А потому соперничество двух заведений не знало границ – ну, так оно вырисовывалось в желтых от табака глазах самого Фюззеля. В «Ногах из глины» ни о каком соперничестве даже не думали, но Фюззель знал, что все это – коварный план тишины и бездействия, чтобы в нужный момент обвалить его самопровозглашенную империю еды. Хотя, скорее, маленькое княжество – хозяин заведения давил на открытие небольших «филиалов» «Рваных крыльев дракона», и дракон превращался в недобитую химеру.
Да и в целом, Фюззель был похож на маленького, отъевшегося на подношениях и любящего скользкую зеленую слизь Короля Гоблинов, хватающего своими заостренными отросшими ногтями все, что блестит и готового отдать жизнь, но сохранить свою единственную отдушину – золотую корону, которая на самом деле сделана из крашеного дерева.
Внешне Фюззель недалеко ушел от этой метафоры, разве что слизь изо рта не сочилась.
– О! Ну прекрасно, прекрасно! Стало быть, в горы, да? – хмыкнул мужчина. – Это уже настоящий рывок вперед, поздравляю.
Он сделал такую наигранную паузу, что даже типичный театральный злодей устыдился бы.
– Жалко только, что скоро все это будет не нужно…
Прасфора по натуре своей была очень доброй, считая, что никто не идеален, и она в этом водопаде из неидеальности и недостатков находится ближе ко дну. Доброта плескалась в ней через край, даже по отношению к тому, кому давно пора бы как следует набить лицо – но девушка знала, что справедливости в этом мире нет, а доброты так мало, что еле-еле наберется на глиняный кувшинчик, вот и решалась что-то делать малыми силами, по чуть-чуть, а там, глядишь, и мир преобразится, напитавшись этой живительной влагой, зацветет. К тому же, когда веришь в лучшее и идешь напролом даже через обсидиановые стены, по-другому и не получается – иначе слишком быстро иссохнешь, не пробьешь уже даже картонку, что там говорить о настоящем препятствии.
Парадокс в том, что неведомым образом, словно посредством алхимических извращений, слишком много сладко-янтарной искренней доброты очень часто превращается в котле души в черную, не пропускающую свет злобу, и непонятно – откуда это вдруг она взялась, что такого случилось, но хочется выплеснуть этот обжигающий чан на все несправедливое, все гадкое, чтобы оно наконец-то получило по заслугам. А потом бурлящая дегтем жижа остывает, и все успокаивается вновь.
Сейчас Прасфора ощутила, что вязкая чернота начинает захватывать сознание, и напряглась, чтобы не выпустить этого наружу – та еще задачка рядом с Фюззелем.
Ситуацию спас Альвио.
– Это почему же?
Мужчина, почесав желтые глаза, продолжил:
– До меня тут дошел слушок – ну, вы же знаете, я стараюсь собирать новости быстрее газетчиков, это очень полезно для жизни таверны, – он снова сделал эту идиотскую паузу, чтобы Прасфора с Альвио внимательно обдумали его слова и пришли к необходимому выводу. – Что наш мэр Кэйзер готовит кое-что весьма интересное, скажем так, небольшую реформацию…
Фюззель хихикнул – где-то словно крыса сдохла.
– И каким образом с этим связаны «Ноги из глины»? – Альвио не дал Прасфоре даже и слова сказать, положив руку ей на плечо.
– О-хо-хо, – поцокал мужчина. – Увидим… увидим…
– Надеюсь, на этом у вас все, – выдохнула Попадамс. – Я бы сказала, что была рада вас видеть, но тогда я совру – простите, но я очень не люблю спонтанные встречи. А за новости спасибо, что бы мы без вас делали.
Самозванный Король Гоблинов даже бровью не повел, но где-то внутри у него щелкнуло с таким треском, что услышали все. Фюззель всегда думал так громко, что за километр разобрать можно было.
– И вам всего хорошего с доставкой, довезите тепленьким!
Это он сказал вслух. Про себя, подумал, конечно же:
– Да что б ты сдохла вместе со своими «Ногами из глины». Вот веселье-то будет…
Как только Альвио с Прасфорой отошли на достаточное расстояние, драконолог спросил:
– Ты как?
– Тебе честно, или соврать?
– А ты как думаешь?
– Я была на грани. Сегодня Фюззель какой-то особенно… раздражающий.
Когда пытаешься малыми силами сохранить хрупкую гармонию мира, или хотя бы ее подобие, осколки дисгармонии бросаются в глаза с удивительной четкостью, а такие огромные ошметки – тем более.
Поезд загудел – Альвио и Прасфора ускорились.
Господин Фюззель с интересом рассматривал свои пальцы, напоминающие скорее плохо сделанные самокрутки. Он цокнул, посмотрел на поезд, потом – на торчащие вдалеке горы, и сказал:
– Вы просто не знаете, что нас ждет, и как это можно обернуть в свою пользу. Вы бы до такого даже не догадались… Тогда даже драгоценная доставка вам не поможет, ничего не поможет, и великан на ногах из глины наконец-то рухнет.
Фюззель потеребил пустую склянку из-под горючей алхимической смеси в кармане.
Мужчина снова рассмеялся – на этот раз с таким наслаждением, будто бы рядом сдохла не только пара-тройка крыс, но и десяток страдающим бронхитом нутрий.
Бронзово-золотистая махина единственного в семи городах поезда производила впечатление, сравнимое с тем, какое можно испытать при виде огромной скалы, вот только не из камня, а из хрусталя, золота и изумрудов – и не важно, что жители Хмельхольма, по идее, должны были удивляться меньше всех остальных. Они все равно, волей неведомого рефлекса, что ли, развевали рты и несколько минут стояли, наслаждаясь видом поезда.
Альвио стал исключением из общего правила, он даже легкой тени внимания не бросил на это чудо прогресса. Вот если бы там оказался дракон, или какой-нибудь неведомый зверь, то другое дело.
– Ты же не первый раз его видишь, – пнул он вбок Прасфору, поправляя длиннющий красный шарф, – и чего такой ступор, а?
Девушка помотала головой.
– Привычка, – призналась она. – Просто привычка.
Прасфора и Альвио уже стояли на перроне, занесенном рыжими осенними листьями, которые напоминали скорее коллекцию сияющего, но потерянного и небрежно просыпанного янтаря. Легонько, но все же ощутимо стегающий холодом ветер игрался с подвесными фонарями под черепичными навесами маленьких вокзальных арок. Сейчас – с потухшими плафонами, вечерами – горящими голубовато-фиолетовым сиянием.
Прасфоре захотелось натянуть толстенный мягкий свитер, который она взяла с собой. Осень в горной части двуединого Хмельхольма была куда суровее и холоднее, не особо-то сюсюкаясь с людьми.
Девушку все еще рвало между остаться здесь и рвануть туда.
Поезд издал сигнальный гудок.
– Ну что же, – поправил Альвио очки. – Удачи тебе!
– Будто я уезжаю навсегда. Отвезу дяде лекарства, отдам еду, ну, может, поболтаю – и обратно. Знаешь, я ведь его так плохо помню.
Драконолог улыбнулся той далекой и отстраненной улыбкой, которая всегда появлялась на его лице в те минуты, когда он немного терялся между реальностью и мыслями – то есть, практически всегда.
И снова – гудок.
– Ну все, я побежала! Ждите к концу дня, – девушка улыбнулась. Ямочки на щеках превратились в самые настоящие кратеры.
– Прасфора! – окликнул ее Альвио.
Попадамс остановилась.
– Я что-то забыла, да? – в голове противно-писклявым колокольчиком защебетал маленький, но назойливый комплекс неполноценности.
– Нет, просто я хотел, – драконолог достал свою тетрадь в кожаной обложке и, подойдя к Прасфоре, протянул ей, – дать это тебе на время поездки. Вдруг ты увидишь что-то, что можно будет туда зарисовать…
– Ты же был в горном Хмельхольме, и не раз. К тому же, я туда и обратно, даже если задержусь, что такого я могу успеть там увидеть?
– Ну вдруг…
– Грифона или единорога? – заговорчески прищурилась Прасфора.
– Ну вдруг… – повторил Альвио, уже вновь витая в своих бирюзово-малиновых облаках на недосягаемой высоте – там, где мечтательность так туго сплелась с реальностью, что их и ломом уже не разъединишь.
Девушка взяла тетрадь, еще раз попрощалась с драконологом и села на поезд.
Альвио, полностью уйдя в свои астралы-фракталы или куда там обычно уходят такие люди, даже не заметил, как поезд тронулся – только услышал далекий гудок и скрежет рельс, но в его голове это отразилось цокотом каких-то там мистических копыт.
Но что-то в его пушистых и воздушных ирреальных далях оттенка невозможного цвета подсказывало драконологу, что поездка Прасфоры затянется.
И так уж водится, что эти фантомные пределы мечтаний дают очень правильные подсказки, хоть и не объясняют, как, что, почему и зачем.
Мэр Кэйзер никогда не считал, что власть – это цель, ради которой нужно без топора прорубаться через дремучие леса бесконечных препятствий.
Власть была лишь инструментом, очень действенным и универсальным, этаким швейцарским ножиком, способным помочь в любом деле, начиная малым и незаметным, заканчивая грандиозным. Власть была тем инструментом, которому поддавались и глина, и дерево, и бриллианты – все ломалось под ее натиском.
А вот цели… цели наметились совсем другие.
Власть Кэйзера не сказать чтобы была уж совсем великой – далеко не как у Правительственного Триумвирата, управляющего всеми семью городами из Сердца Мира, из столицы. Конечно, один город, пусть и двуединый, не идет в сравнение с семью, но…
Но, как известно, даже ложкой можно вырыть тоннель. У мэра, говоря метафорически, была целая лопата.
Кэйзер отыграл четыре меланхоличные ноты на рояле, по клавишам которого мышью бегали отблески солнца: та-та-там-там…
У него была власть, этот чудесный инструмент, и у него созрели грандиозные цели – цели, которое Правительство посчитало бы неприемлемыми, масштабные, требующие сил, энергии и титанических мыслей.
Цели, которые и не снились его дедушке.
Кэйзер посмотрел на механическую руку и пошевелил пальцами. Они двигались туго, словно проржавевшие. Мэр нахмурился – его густые седеющие брови на мгновение стали одной полосой, – потянулся второй рукой в сторону, достал колбочку с вязкой прозрачно-красной жидкостью и, откупорив, осушил ее.
Мужчина подождал минуту и попробовал пошевелить механической рукой – пальцы двигались, как настоящие. Потом он отыграл ей те же четыре ноты: та-та-там-там…
Кэйзер улыбнулся, но этого невозможно было заметить – улыбка его отдавала каменным холодом и безразличием горных глубин.
Да, у него была власть, а еще два больших преимущества, которые его дед упустил из-под собственного носа, не смог использовать так, как стоило бы, упустил возможность…
Но вот только почему-то тень деда Анимуса, создателя первого на свете голема, затмевала Кэйзерову, давила как гроб, не давала расправить обрезанные крылья. Говоря о мэре Хмельхольма, все в первую очередь думали о его деде, а не о нем самом. Анимус стал светонепроницаемой ширмой, скрывавшей потенциал Кэйзера, да и то – не сам Анимус, а лишь далекое эхо его памяти и наследие из сотен големов, оставленное им…
Подумав о големах, Кэйзер улыбнулся.
Снова отыграл механической рукой четыре меланхоличные ноты: та-та-там-там…
…на столе же, чуть поодаль, лежали выведенные непоколебимой рукой чертежи, при подробном взгляде на которые сковало бы холодом ужаса.
Проблемы у Прасфоры начались сразу же, хорошо хоть с билетом все оказалось в порядке, и усатый дядька с лицом, сочившимся интеллектом – он скорее напоминал сыщика, чем проводника – надорвал бумажку.
После этого все пошло наперекосяк, начиная прямо с прохода. Пока девушка искала свое место среди обитых красным бархатом кресел (да уж, на единственный в семи городах поезд и правда не поскупились), она столкнулась с мертвым големом.
Второй раз за день. Сейчас – чересчур близко.
Если говорить откровенно, то все было не так загадочно. Шестеро кричащих друг на друга мужчин тащили голема через и без того узкий проход поезда, и глиняный великан давно бы уже задавил их, если бы от него не остался только торс, без рук и ног. Почему голема сразу не погрузили в последние, грузовые вагоны состава, большой вопрос, который остается – как обычно – без ответа даже для самих горе-грузчиков.
Прасфоре стало не по себе – встреча с мертвым големом никогда не сулила ничего хорошего, хотя фактически големы и не могли считаться мертвыми, ведь не были живыми, но человеческое сознание вытворяет такие финты ушами, что порой страшно становится от его пируэтов. Вот и про неисправных глиняных гигантов все привыкли говорить: мертв, и все тут. Даже не выключен, нет – если что-то выключено, обычно подразумевается, что его можно включить обратно, а в случае с поломанными големами и включать было нечего. И не то чтобы Прасфора свято верила в приметы, каждый раз плюя через плечо в нужный момент – а некоторые говорят, что для профилактики это лучше делать с определенной периодичностью.
Дело слегка в другом. Рабочие сбили девушку с ног, даже не извинившись, и пошли дальше через вагоны, крича и грузно тащась вперед, как бешеный двестицинковый носорог.
Попадамс вместе с обеими сумками – своей и для доставки – повалилась прямо на кресла, точнее – на чьи-то ноги, уже занимавшие эти кресла.
– Ну, конечно же, – подумала девушка, списав все на собственную неуклюжесть и подкинув еще один уголек в топку поводов для комплексов.
– Простите, – проговорила Прасфора, лежа лицом вниз, но слишком поздно осознала, что вышло что-то наподобие: «Пфстфшите». «Ну вот, конечно, ты еще и двух слов в такой ситуации связать не можешь, ай да ты, Прасфора, молодец» – пронеслось в голове на реактивной скорости. Топка запылала с новой силой.
Незнакомые ноги не подавали никаких знаков неудобства, видимо тоже находясь в легком шоке. Зато потом женский голос произнес:
– Ну что же они так, носятся, как ненормальные. А вы вставайте, вставайте, давайте помогу вам, – девушка поняла, что ее поднимают. Потом она вдруг зависла под углом в сорок пять градусов – незнакомка внезапно остановилась. – Нет, если, конечно, вам так удобно, то оставайтесь лежать, мне не трудно…
– Нет-нет, – у Прасфоры получилось сесть и плюхнуться в свободное кресло – по невероятному стечению обстоятельств, это оказалось именно ее место. – Спасибо за помощь и простите меня…
Девушка резко схватилось за сумку с едой и лекарствами. Та оставалась теплой, внутри ничего вроде не превратилось в бесформенную кашицу.
– Заберете вторую сумку? – внезапно спросила соседка.
– А?
– Ваша вторая сумка. Она улетела на сиденье, кхм, напротив.
Прасфора опешила – сумка с теплым свитером и парой вещей, небольшая, но пухлая, как налакавшийся сметаны со сливками кот, лежала на ногах некоего мужчины. Тот, судя по туманному взгляду и слегка съехавшему котелку, еще не пришел в себя, получив таким снарядом.
– Ой, простите, – Попадамс стащила вещи и поставила в ноги.
Соседка прикрыла глаза, вроде как собираясь задремать. Мужчина напротив все еще сидел с озадаченным видом, разглядывая Прасфору с таким интересом, будто она принесла не две сумки, а двух непонятных тварей, которые не добр час и сожрут бедного соседа – в глазах мужчины читался первобытный ужас.
Видимо успокоившись и поняв, что никакие демоны из преисподней и прочие хитрые силы тьмы здесь не задействованы, он успокоился, громко выдохнув – кипящий чайник и то спокойнее сипит.
По вагону, ругаясь и крича, снова тащили поломанного голема. Он потрескался, как упавший с полки глиняный кувшин, да к тому же оставался еще и без руки. Мужчина напротив снова забеспокоился, охнул и вжался в кресло, пока голем молча лежал на руках рассерженных рабочих.
– Вот это да, поездка только началась, а уже с тремя мертвыми големами, – подумала Прасфора, тоже по ментальной инерции вжавшись в кресло. – Остаток дня обещает быть веселым.
Последние несколько вагонов поезда всегда были грузовыми, и два из них обычно выделяли именно для големов. Их неработающие глинянные тела скидывали туда и везли в горный Хмельхольм, чтобы там оставить в темных, мрачных помещениях, на складах, которые в умах людей отзывались легким эхом обычного кладбища. О месте, где навсегда оставались неисправные големы, даже сочиняли детские страшилки, потому что такие истории обычно сами – как клопы в старом матраце – возникают вокруг любого подходящего места. Но даже самые рационально мыслящие взрослые, не имеющие ни капли воображения, побаивались этого кладбища големов.
Глиняные гиганты возвращались туда же, где были сделаны – а это придавало процессу еще больше пикантности необъяснимого страха.
Так вот, любой отбывающий поезд вез хотя бы одного-двух големов, и все бы ничего, но их никогда до этого не таскали через пассажирский салон. Какой смысл, если проще загружать прямо с железнодорожной платформы?
Раздался громкий гудок, отдающий такой странной хрипотцой, будто бы поезд решил откашляться перед тем, как отправиться в путь.
Маленькие бежевые домишки с красными черепичными крышами медленно поплыли за окошками – поезд тронулся, запыхтев. В другом пласте бытия тонкие нити магических потоков, с той стороны видимые, стали стекаться в машинное отделение, разбиваясь там и приводя махину в движение.
Поезд набирал скорость, покидая город и устремляясь в другую его часть.
Соседка и сосед спали, задремав. Прасфора решила воспользоваться случаем и достала тетрадку Альвио в кожаном переплете. Девушка отстегнула защелку и открыла на случайной странице, где – о чудо! – текста было больше, чем изображений, но несколько картинок драконолог все же на страницу влепил, не удержавшись – они прилегали к тексту вплотную.
– Драконы постоянно спят, – прочитала Прасфора. – Лежат как можно глубже под землей и спят на горах сокровищ, или просто рядом с месторождением металлов (на их месте я бы тоже так постоянно делал). Их грузные туши вздымаются от тяжелого дыхания, пока чешуя принимает цвет и свойства металла, находящегося рядом. Но молодые драконы – все равно, что сороки, и за год-два до того, как они спускаются дремать, могут натаскать всего, что блестит. Но все равно, все драконы всегда дремлют…
Дальше она увидела рисунок кладки и шипастых яиц с подписью: «Яйца их – прочнее стали, почти всегда цвета и свойств того же металла, что и дракон внутри»
Попадамс перевернула страницу. В центре был нарисовал большой глаз с круглым широким зрачком, под ним – весьма однозначная подпись «ГЛАЗ ДРАКОНА».
– Зрение драконов – вообще обалдеть какое! уникальное, – продолжила чтение девушка. – Словно они могут сохранить глазом картинку в памяти, а потому помнят практически все. Даже то, сколько монет валяется рядом, и сколько сталактитов свисает с потолка. Даже количество камушков на берегу горной реки…
На следующий странице начинался новый блок.
– Драконы не разговаривают, – прочла Прасфора, слегка удивившись. Ей всегда казалось, что они могут говорить, да и Альвио сам как-то раз рассказывал. – Если им нужно сказать что-то, они просто… не знаю, как это работает, и как правильно описать, но они просто… заставят тебя самого подумать о том, что они хотят донести. Это как… поговорить не ртом, а мозгами. И голос их… разносится оркестром из всех возможных звуков, лучше описания и не подобрать.
Поезд набирал скорость, слегка потрясываясь. Прасфора Попадамс перелистнула еще несколько страниц. Взгляд ее остановился на фразе рядом с изображением головы грифона – ну вот, подумала девушка, мы и дошли до мифологической части.
– Раньше рядом с драконами жили и неугомонные грифоны, которые так и рвались из подземных пещер наверх, вили гнезда на склонах. Воздух был их стихией! А потом… я не знаю, что с ними случилось, но они стали просто красивой сказкой, легендой, барельефами на стенах. И ведь еще мой дед, или прадед, видел их, знал о них, делал зарисовку. Никто не знает, куда они делись – даже тот, кто живет в горном Хмельхольме…
– Эх Альвио, Альвио, – улыбнулась Прасфора, захлопнув тетрадку. Потом девушка прикрыла глаза: големы, драконы, грифоны… куда важнее сейчас была доставка родному дяде.
Потому что она – здесь, рядом, а все остальное – где-то там.
И совершенно не важно, где конкретно.
В практически полной, целующей своим ужасом темноте, шел мэр Кэйзер. Тонкие струйки желтого света просачивались только на входе, но мэр уже ушел далеко от них, и отсюда казалось, что там, вдалеке, свет просто рассеивается пучками соломы, не может противостоять загрубевшему мраку, а потому рассыпается и гаснет, присоединяясь к колокольному звону тьмы.
Кэйзер мог включить свет щелчком пальцев, но не стал – никогда не делал, когда был тут один.
Вокруг призраками колыхались силуэты, сгустки темноты, словно ставшей еще плотнее, явственнее – их неразличимые невидимые контуры лишь иногда обретали четкий вид, но сейчас они мерцали будто бы в обратную сторону, изнанкой сияния, словно черным мелом провели по гуталиновому ночному небу.
Взгляд мэра, привыкший к темноте, все же очерчивал вполне конкретные, но потускневшие формы.
Кэйзер любил гулять по кладбищу големов в одиночестве.
Старый склад был умиротворяющим: темнота, казалось, даже глушила посторонние звуки, а потому мысли текли бурной, кристально чистой рекой, пока мэр шел мимо потрескавшихся големов с погасшими рубинами-глазами. Да и мрак, в котором трудно разобрать хоть что-то, всегда успокаивал Кэйзера. Здесь этот мрак так загустел, что тяжело было заглянуть даже внутрь самого себя, казалось, что эта темнота – и есть ты сам, расплескавшийся наружу, будто бы твоя огромная тень. Темнота глушила все, сводила на нет мелкие, ненужные мыслишки, шумным прибоем выносила не берег слишком легкие камни, а тяжелые, неподвластные даже ей, оставляла на месте. Вокруг не было ничего, даже самого себя, только мысли, големы и ритм шагов…
Кэйзер прошел совсем рядом с одним из поломанных големов и отчетливо увидел его потрескавшуюся голову.
Мэр улыбнулся. Все так стремительно маршировало к нужному моменту, оставалось поставить лишь несколько черных плиток домино, чтобы толкнуть одну и запустить всю цепочку – цепочку, которой не увидит его дедушка, и до которой он никогда не догадался бы.
Зато увидят все остальные.
Столько всего было сделано, испробовано впустую, и столько всего еще предстояло совершить. Но Кэйзер умел не просто учиться на ошибках, а, научившись, совершать их еще меньше, чтобы рано или поздно прийти к финишу, не допустив недочетов нигде.
Он шел. Спустя некоторое время, силуэты словно сделались другими – нечто неуловимо поменялось в них, нечто, что мрак прятал под вуалью нечетких контуров, что было видно лишь при работавших магических лампах.
Кэйзер знал, что – и гордился.
Кэйзер видел этих големов при свете дня – и восхищался.
Мэр вспомнил, что скоро должен прибыть поезд, а вместе с ним – другие неисправные големы, которых вновь отнесут сюда. Кэйзер зашагал быстрее. Всегда тяжело было понять, сколько времени он проводил здесь, а в последние дни этого самого времени становилось критически мало, оно утекало сквозь пальцы, как вода, но оставалось столь же ценным ресурсом, сколь и власть.
Кэйзер вышел на свет. По ушам тут же ударил звук крутящихся шестеренок и ломающейся горной породы, вечный спутник, неотъемлемая часть горного Хмельхольма. Такой контрастный душ был очень полезен, но сейчас мэру хотелось вернуться обратно, туда, где мысли маслом обволакивают голову, но время, время…
Внизу, еще глубже, раздался приглушенный рык.
Мэр дошел до лифта-платформы, работающей на шестеренках. Их же питали и заставляли двигаться магические потоки.
Кейзер зашел на платформу и начал опускаться вниз вместе с ней, под гору – туда, где темнота уже переставала принадлежать самой себе.
Так глубоко, что даже мысли гасли окончательно.
Прасфора наслаждалась тишиной и смотрела в окно.
Поезд несся мимо широких, теряющихся за линией горизонта полей, которые словно таяли вдалеке, становясь одной бескрайней долиной, расплескавшейся вокруг. Картинки за стеклом смазывались, но слегка, так, что можно было разглядеть пейзаж, спрятать его к себе в душу и заметить детали, потому что в деталях весь смысл – как на любом триптихе, а за окном разыгрывался целый десяптих.
Прасфора знала, что Хмельхольм – город сам по себе уникальный, и не только потому, что разбит на две части – это следствие, а не причина его уникальности. Далекие горные пики плавно перетекали в склоны, которые, с их бесчисленными горными речками, сливались воедино с широкими рванинами, этими огромными полями, которые так и просили, чтобы их чем-то, да засадили. В Хмельхольме умудрялись и добывать минералы с горной породой, и выращивать овощи, которые, если год был урожайный, вырастали до сюрреалистических размеров – иной раз рыжие тыквы получались с три, а то и четыре головы.
Попадамс не так много путешествовала, а потому знала обо всем только на словах, с картинок и просто видела издалека. Поля запросто можно было разглядеть из города, но так они казались просто маленькими пятнышками словно бы ненароком упавшей с кисточки гуаши в охрово-коричневых тонах. А теперь все это раздолье неслось перед ней, точнее, это она неслась мимо него, но законы физики имеют свойство играть с человеческим мозгом просто ради своей забавы – если начать разбираться, можно и с ума сойти.
Прасфора глядела на меняющее друг друга буйство красок: от зеленых насаждений до огромных подсолнухов, созревших пламенно-рыжих тыкв и золотистых колосьев. Хмельхольм обеспечивал все семь городов этим урожаем, и полей было так много, что даже в самые неурожайные годы никто не голодал. Но живописные полотна флоры, раскиданные за окном, не пустовали – им, может, и хотелось бы стоять тут в гордом одиночестве, но повсюду мельтешили люди. Девушка хотела разглядеть их, но они копошились так далеко, что деталей выцепить не получалось. А ведь Прасфоре стало интересно, какие они – такие же, как те, кто постоянно живет в горном и равнинном Хмельхольме, или совсем другие? А может, отличий – капелька?
Впрочем, Попадамс смотрела, иногда потирая рябящие глаза, и понимала: не столь важно, какие это люди, сколь то, что они делают – и, более того, что они делают это постоянно, нерасторопно и… насколько понимала Прасфора, абсолютно обыденно. От людей, даже на таком расстоянии, веяло спокойствием, которое девушка не совсем понимала, но отдавала себе отчет в том, что это просто не то спокойствие, к которому она привыкла. Ее спокойствие, как не парадоксально, было чуть более суетным. А на полях, даже мелькающих мимо на приличной скорости, оно казалось размеренным…
Спокойствие и обыденность, подумала Попадамс – вот в чем дело. Все эти люди-фигурки занимаются этим каждый лень, точно как она хлопочет в «Ногах из глины», и занятия эти также неоспоримы и очевидны, как то, что утром всходит солнце, из туч льет дождь, а звезды видно только на ночном небе. Вот если что-то нарушит эту обыденность, сломает выстроенный механизм – скажем, с неба упадет какой-нибудь метеорит, – вот тогда начнется хаос, пружинка размеренного спокойствия треснет, и все пойдет наперекосяк. Но оно этим людям и даром не надо. Говоря откровенно, оно не надо никаким людям, ведь никто не любит, когда привычный мир вдруг начинается брыкаться, вздрагивает и, в конце концов, вырывается из упряжки – Прасфоре тоже было бы, мягко говоря, не по себе, если бы у «Ног из глины» внезапно снесло крышу ураганом.
Тут Попадамс почему-то вспомнила слова омерзительного Фюззеля, который одним своим видом уже нарушал спокойствие – а еще намекнул, что произойдет нечто, и это нечто… раз он так радовался, думала Прасфора, нечто точно выбьет мир из колеи, и он покатится в бурные воды разбушевавшегося течения хаоса.
Девушка моргнула и вновь уставилась в окно. Она представила, как эти бесконечно длинные поля в оттенках густой гуаши, со всеми копошащимися там точечками-людьми всеми силами пытаются удержать обыденность, которую нарушили ради неуловимого фантома цели; как эти люди стараются остановить падающее небо.
Прасфора задремала, совсем не заметив пока слабого, но ощутимого запаха гари.
Барбарио поел и, довольный, работал, переливал смеси, пересыпал порошки, перемешивал все это и взбалтывал. Со стороны процесс мог показаться простым трюкачеством, но на самом-то деле был куда более осмысленным.
Алхимику никогда не нравилась фраза «в здоровом теле – здоровый дух», он предпочитал более житейскую, правильную и работающую формулировку: «в сытом теле – сытый дух». В самые голодные и критические ситуации за тарелку горячего картофельного пюре Барбарио Инкубус родину бы продал, не задумываясь. Родина родиной, а обед – по расписанию.
Переставляя очередную склянку, алхимик зацепился за ниточку мыслей о планах Кэйзера и, сам того не хотя, начал распутывать узор из остальных мыслей в голове, раздумывая о том, сколько еще предстоит сделать. Ему хотелось верить, что его задача так и останется в смешивании рубиновых жидкостей и подготовке взрывчатых порошков, но судя по утренним злоключениям с яйцами….
Сейчас Инкубус и занимался жидкостью для механической руки мэра. Это он, Кэйзер, признавался Барбарио сам себе, хорошо придумал, можно сказать, гениально – горный Хмельхольм вообще был местом рождения гениев, к числу которых Инкубус в порыве гордости и сам себя мог причислить. Если не он, кто ж еще? Кэйзер не был падок на комплименты даже главным городским алхимикам.
Да, пока его дело было за малым, но… это только пока. Вот сейчас возьмется и свалится на голову что-нибудь другое.
Барбарио поймал себя еще на одной мысли, волей-неволей выпутанной из полотна сознания: есть такие люди, которые, если им по голове стукнет какая-нибудь блестящая стразами ИДЕЯ, тут же сверкая пятками побегут воплощать ее всеми доступными способами, никому ничего не сказав и, в конце концов, справившись самостоятельно. Есть же такие, которые даже ради самой мизерной, ничтожной идейки, напрягут всех вокруг, лишь бы они помогли ему, и только тогда, еле-еле, но справится.
Кэйзер был ни тем, ни другим – он придумывал идею, брался за нее сам, но она оказывалась такой огромной, что одному справиться было просто физически невозможно, а другие подтягивались как-то сами собой, и непонятно, почему. Возможно, потому что Кэйзер был внуком Анимуса, и все воспринимали его… словно как эхо, оставленное Анимусом, человеком без сомнения гениальным и великим. Инкубус знал, что самого Кэйзера это выводит из себя. А еще, догадывался, что большинство подключаются к идеям Кэйзера далеко не из-за родства с Анимусом, а просто потому, что у Кэйзера есть власть, он мэр Хмельхольма.
Спорить с мэром все равно, что укрощать дракона голыми руками, себе дороже.
Говоря откровенно, идея у Кэйзера была одна, и появилась она давным-давно. Так и не менялась с тех пор.
Даже Барбарио не до конца понимал, чего же мэр хотел в финале своих грандиозных замыслов. Потому что, как солнечный луч, пропущенный через призму, идея распадалась на несколько маленьких лучиков, некоторые из которых оставались спрятанными под покрывалом.
Жидкость в склянке забурлила, но алхимик даже посмотреть в ее сторону не успел, потому что внезапно дверь в его кабинет-лабораторию с грохотом открылось.
– Барбарио, – закричал Кэйзер с запачканным кровью лицом, – срочно, вниз! Заткни ее!
– Так, так, стоп, что случилось, почему ты… – слова лились, прилипая друг к дружке.
– Барбарио! – повторил мэр. – Ради нестабильности, просто заткни ее!
Алхимик ринулся к выходу. Они добежали до платформы, спустились в ненавистный Инкубусу мрак подземных пещер – так глубоко, что даже собственные мысли глохли. Обычно тут было тихо, лишь механизмы и удары кузниц сверху дробью прорывались сюда, но сейчас вокруг творилось ужаснейшая суматоха. Алхимик понял это, еще пока шел по тоннелю.
Когда вошел пещеру с высоченными сводами – убедился. И пожелал, чтобы все это просто оказалось сном.
Прежде, чем Барбарио успел сообразить, что к чему, Кэйзер крикнул чуть ли ни на ухо – таким разъяренным алхимик его не видел.
– Один из этих идиотов ослабил цепи! Она вырвалась и не прекращает говорить! Барбарио, заткни ее!
Теперь Инкубус понял, о каких разговорах шла речь. Он тоже стал отчетливо слышать голос, хотя, скорее, сплетенное из сотен природных звуков его подобие, произносившее, как сказочное заклинание, только одно слово: «Убийцы».
Дракониха с золотистой, поигрывающей медовым блеском чешуей, трепыхалась, пыталась взмахнуть крыльями, а освободившимися от цепей лапами раскидывала всех, кто пытался утихомирить ее и заковать вновь. Она рычала – цепи, сдерживающие ее пасть, ослабли практически окончательно.
С трудном стараясь не обращать внимание на голос драконихи, звучащий исключительно в их головах, вспотевший Барбарио шагнул ближе, начал суматошно рыться в мантии в поисках нужной склянки, если та вообще была с собой.
Дракониха освобожденной передней лапой откинула в сторону голема – тот ударился об острые камни и раскололся, как глиняный кувшин. Рубины в остатках тела погасли.
– Барбарио, – схватил его за шиворот Кэйзер. – Заткни ее…
– Да секунду! Погоди ты секунду!
Алхимик наконец-то нащупал ампулу похожей формы и очень надеялся, что это то, что нужно – зажмурился, подбежал ближе к драконихе и в тот самый момент, когда та обратила на него свой глубокий взгляд, кинул ампулу прямо в морду. Жидкость, разбившись о чешую, зашипела и стала дымом. Рептилия приглушенно зарычала, затрясла мордой, замахала передними лапами, чуть не откинув Инкубуса.
А потом… успокоилась.
– Этого хватит совсем ненадолго, – Барбарио ладонью вытер пот со лба. – Но если кто-нибудь сбегает в мою лабораторию…
– Слышали?! – заорал мэр успокоившимся рабочим вокруг. – Делайте и принесите, что ему нужно, быстро!
Инкубус дал указания и вернулся к Кэйзеру:
– А теперь, нестабильность меня побери, еще раз, объясни, как так вышло, что дракониха, которую мы связали как можно крепче, вырвалась и смогла снова спокойно мыслить?! Аргумент о неэффективности моих дурманов я не приму.
Мэр просто повел его за собой. Они остановились у раненого молодого человека – тоже в мундире – сидевшего, прислонившись к холодным камням.
– Это она его так?
– Это я его так, – резанул Кэйзер. – У него хватило ума услышать ее голос и пожалеть, ослабив цепи. Какой пример… непреступного идиотизма.
Раненый поднял глаза на мэра, пытаясь что-то сказать – губы открывались, сил выговорить не было. Мэр Хмельхольма устало вздохнул, схватил молодого человека механической рукой и со всей силы ударил о камни – тот упал замертво.
– Я не дам каким-то идиотам портить все перед самым концом, – Кэйзер повернулся к алхимику. – А теперь представь, что все те, кто вылупился из яиц… помнил бы все то, что происходило здесь. Сохрани ли бы злобу и ненависть – представь, какая это была бы проблема. Все бы кончилось… как тогда.
– Да, как тогда… – задумался Барбарио. – Но тогда нас было трое. Он нам нужен, Кэйзер.
Мэр просто нахмурил седеющие брови. Прикрикнув на копошащихся рабочих, чтобы те быстрее закрепляли новые цепи – дракониха успокоилась, будто задремав, – Кэйзер развернулся и пошел к тоннелю, что вел в сторону платформ-лифтов.
– Ты куда? – перепугался алхимик. – Я не собирался тут оставаться один…
– Подышать воздухом, – только и ответил мэр Хмельхольма, вытирая кровь с пореза на лице.
Прасфора проснулась.
Сперва услышала жуткий храп. Соседка и сосед сотрясали воздух так, что стекла дрожали.
Она хотела разбудить их и попросить как-нибудь быть потише, но не стала – боялась, что станет виновницей их плохого настроения, головной боли и чего-нибудь еще вдогонку. И вообще, Попадамс часто казалось, что люди обижаются именно из-за нее, это исключительно ее оплошность – вдруг она сказала что-то не то. Не обязательно сейчас, может – до этого, просто не заметила, а вот человек запомнил… Поэтому Прасфора старалась лишний раз помалкивать, когда ей казалось, что сказанное вслух может обидеть. В мозг словно вмонтировали блокировочный механизм, препятствующий лишнему. Хотя, по сути дела, любой комплекс и есть такой механизм, а когда их становится ну чересчур много, не знаешь, куда деться: ни вправо, ни влево, никуда не получается, везде – высоковольтный барьер.
Мысли резко метнулись в настоящее просто потому, что у девушки заслезились глаза. Прасфора слегка опешила – она вроде и не собиралась плакать… Попадамс закашляла, в нос ударил невыносимый запах гари, вместе с ним – ниоткуда взявшееся тепло.
Вагон горел.
Огоньки из маленьких ящерок становились огромными пламенными варанами, постепенно охватывали бархат кресел. Тревогу никто не бил – неудивительно, из трех человек в этом вагоне двое спали крепчайшим сном.
– Вот тебе и мертвые големы, – закопошилась девушка, закрывая внутренней стороной локтя рот и нос.
Прасфора кое-как схватила обе сумки. Хотела растолкать соседей, но поняла, что не успеет. Пока те придут в себя, пока…
Огонь подступал совсем близко.
Чернота за окном на мгновение стала белоснежной – и погасла вновь. Грома не было.
Чувствуя себя зажатой меж двух катастроф и очень ругаясь про себя, Прасфора срочно начала принимать решение. Рациональная часть заодно с комплексами-предустановками, конечно, подсказывала единственное правильное – хватать лекарство для дяди вместе с едой и бежать. Но чувства куда глубже, вместе с иными комплексами-предустановками (они находились на любое решение), кричали что есть мочи – сначала вытащить соседей.
Прасфора зажмурилась. Приводить в чувство детей-садистов куда проще, хоть и после этого металлические механизмы в голове не затихают.
Девушка кинула сумки. Становилось жарче, дышать – тяжелее. Прасфора подхватила под руки соседку, благо та оказалось легкой, кожа да кости, и потащила ее в соседний вагон. Женщина причмокнула – все же проснулась по дороге.
– А что так… – пробубнила она. Когда язык пламени чуть не лизнул ее лицо, она вскрикнула.
Попадамс дотащила ее до тамбура между вагонами. Вытерла пот со лба. Сказала, прерывая очередной крик:
– Просто будьте здесь.
– Но… а… нестабильность, как все болит! Зачем же вы так меня тащили…
Попадамс умела говорить такое, что волосы дыбом встанут – была не из робко десятка. Но в обычной, нормальной беседе, когда не нужно выпускать шипы, боялась задеть собеседника, и по неведомой причине ей иногда казалось, что задеть может абсолютно все, что угодно. Ну, мало ли какой попадется человек.
Тут бы она бросила одно-другое словцо, но не стала.
Это же не Фюззель, в конце концов. Просто дама, слегка непонимающая происходящее.
Прасфора метнулась обратно в вагон. Изменения были на лицо – загорелись шторы.
Щурясь, видя лишь очертания вещей, она добралась до мужчины. Чуть не присвистнула от того, что тот до сих пор спит, но хотя бы начал ворочаться, уже хоть что-то.
Она схватила его под руки и потащила. Он оказался раза в два тяжелей, так что пламя теперь опережало их.
А потом у Попадамс загорелась юбка.
Резко отпустив мужчину – и отругав себя за это, – Прасфора принялась тушить огонек пальцами, будто спичку. Вроде сработало.
Момент – юбка загорелась вновь.
– Ну нет, – взвыла девушка. – Ну что же такое-то…
Плюнув на все, подхватила мужчину снова – он хотя бы начал просыпаться, – и тоже дотащила до тамбура. Пока делала это, тот снова уснул.
– Ваша юбка! – заверещала дама. – Ваша…
Девушка все же потушила ткань о холодный метал. Ну вот, подумала она, заскрежетав очередными штуками в голове, ты – это настолько ты, неуклюжая неумеха, что еще в дороге умудрилась испортить любимую юбку…
Тут Прасфора вспомнила про сумки. Метнулась в вагон – там огонь уже властвовал, ни в чем себе не отказывая. Поедал обшивку кресел, уже почти закончив со шторами, изрыгал черный дым.
Спотыкаясь и чуть не падая, девушка нащупала сумки, еле схватилп их – благо, только слегка обгоревшие, – и ринулась прочь, в тамбур.
Тут поезд начал тормозить. В машинном отделении лязгнуло так сильно, что все пассажиры из соседнего вагона, уже стянувшиеся в тамбур на помощь, невольно напряглись: кто подскочил, кто вздрогнул, ну а самые бесстрашные решили заглянуть в горящий вагон. Картинки за окном из смазанных потоков черной туши превращались в четкие изображения, но все еще чернющие – будто бы лист ватмана закрасили без единого прогала.
Поезд остановился. Открылись механические двери в тамбуре. Дунуло холодным воздухом.
Прасфора пришла в себя, не выпуская сумок наклонилась к похрапывающему мужчине и растрясла его.
– Просыпайтесь. Приехали.
Тот ответил нечто невнятное, вроде как поблагодарив.
Девушка вышла.
На улице оказалось слишком холодно – ветра, подгоняемые грядущей грозой, постарались на славу. Попадамс порадовалась, что прихватила с собой плотный свитер, хоть сумка с ним и ужасно мешалась, тащить ее было до одури неудобно. Но, подумала Прасфора, где наша не пропадала – не пропадет и тут.
Перрон, не считая бегущих со всем ног работников с водой, оказался пуст. В остальном только бельмом тикали большие механические часы с оголенным механизмом – под хоровое клацанье шестеренок, видных невооруженным глазом, двигалась стрелка. Небо озарила очередная вспышка.
Куда идти дальше, девушка не особо представляла. Равно как вообще искать дядю в горах, когда даже папа сказал, что не знает, что делать по прибытии. Выход из ситуации напрашивался элементарный – спросить дорогу и верить, что кто-нибудь здесь знает о ее дяде.
Прасфора оглядела перрон во второй раз – немногочисленные пассажиры уже разбежались. Оставался один человек, как показалось девушке – специально уединившийся и смотревший в небо. Неудобно, конечно, но вариантов нет.
– Простите, – она подошла ближе, держа сумки. – Вы случайно не знаете, как мне найти…
На этих словах он повернулся, и Прасфора обомлела, узнав мэра Кэйзера. Обомлела дважды, разглядев его глаза – словно бы напичканные холодной металлической стружкой.
– Вы застали не лучший момент, чтобы задавать мне вопросы, – сжал он механическую руку. – Но раз уж начали, спрашивайте.
Да кто она такая – вдруг пронеслось в голове, – чтобы вот так с бухты-барахты подходить к мэру двуединого Хмельхольма и задавать дурацкие вопросы про своего дядю…
Но отступать было не куда – вариантов не оставалось.
– Эм, да, простите, господин мэр, но вы не знаете, где живет мой дядя… то есть господин Попадамс. Простите, не знаю, как его зовут…
Ей показалось, что Кэйзер через силу улыбнулся. Глаза заблестели – все тем же металлическим оттенком.
– Я даже слишком хорошо его знаю, – вздохнул он. – Надеюсь, вы привезли ему лекарство. Просто идите в город, в гору, и поднимитесь на третий ярус сверху – там в конце коридора, не перепутаете, прямо в конце.
Сказать, что Прасфора удивилась, узнав, что мэр знает и про лекарство, и самого дядю – ничего не сказать.
– Спасибо.
В этот момент за спиной загудел потушенный поезд, снова двинувшись. Вагоны плавно ползли вперед, один за другим скрывались уже внутри горы, где рельсы терялись в черноте.
Прасфора обернулась – мимо ползли последние, грузовые вагоны, из которых торчали части коричневых глиняных големов. Решив больше не отвлекаться, девушка ушла к горе, в сторону больших ворот, украшенных золотыми барельефами грифонов – в голове моментально всплыл Альвио с рассказами.
Когда девушка ушла, Кэйзер пробубнил самому себе:
– Может, хотя бы теперь он наконец примет решение.
Мэр сильнее сжал механическую руку, второй схватился за голову. В сознании все еще отдавались, будто выжженные августовским огнем сухие поля, слова драконихи, которые, очевидно, она адресовала только ему – или другим просто хватило ума промолчать.
«За это так и останетесь тенью своего деда. В подметки ему не годитесь»
Даже эта проклятущая рептилия вспоминала его деда… все, всюду, всегда. Стоило лишь раз ему, дедушке, изменить мир, и теперь имя его мертвецкой хваткой прицепилось к Хмельхольму, не давая Кэйзеру прикрепить свое. Нельзя было просто так взять и стереть написанное мелом на доске истории имя деда, заменив своим.
А вот его имя будто стирали постоянно.
На вокзале грохнуло. Мэр отвлекся, поднял голову и посмотрел вдаль.
Над острыми, колючими горными пиками клубились тяжелые черные тучи, такие густые и насыщенные злобно-угольным цветом что, казалось, сейчас они с грохотом упадут на землю, затопив все смуглым дегтем. Тучи пузырились и искрились бело-фиолетовой дымкой. Небо, по ночному почерневшее до абсолютного мрака, вспыхнуло призрачно-белым – но нового раската грома не последовало, только старый отдавался легким, затухающим эхом.
Кэйзер нахмурился. На Хмельхолм шла гроза, пока еще издалека, так, что все полыхало лишь белым маревом небесных вспышек, без постоянного, металлически стонущего грома, но сильные холодные горные ветра свистели меж пиков и стремительно несли раздувшиеся тучи вперед – а горная гроза никакой другой даже в подметки не годится. Все равно, что петарду сравнивать с фейерверком.
На улице горный Хмельхольм гремел и сверкал, внутри – звенел, скрежетал, шуршал и тоже сверкал, но совсем по-другому.
Если бы Прасфора не умела вовремя прикрывать рот, у нее бы точно челюсть отвисла. Прямо внутри горы Хмельхольм производил впечатление сверкающего украшения с драгоценными камнями, но только усложненного тысячей и одним механизмом. По рельсам, уходящим либо вглубь, либо в соседние горы, елозили подобия вагонеток, только с креслами. Вдалеке скрежетали магические лифты, движимые потоками магии вверх-вниз: они уносили людей под гору и на ее верхние ярусы, а из недр словно бы сами собой извлекали породу, рубины, серебро и другую руду – грузовые функции прекрасно совмещались с пассажирскими.
Для тех, кто, видимо, предпочитал более классический способ передвижения (и, к тому же, как следует натренировал ноги), в самом центре зала, где стояла Прасфора, громоздилась уходящая к самому пику огромная серая каменная лестница. Сначала она двоилась змеиным языком, а дальше соединялась в одну и терялась на высоте… Там, где лестница раздваивалась – то есть прямо перед Прасфорой Попадамс – стоял огромный и, очевидно, уже неработающий голем. Он разместился в некоем подобии арочного грота под лестницей.
Голем этот был раза в два больше и крепче обычных, такой же по форме, но только там, где у людей должны находиться суставы, глиняное тело големо было залатано поблекшими от времени металлическими пластинами и смазано… трудно различить издалека, но, похоже, воском. Большая металлическая пластина, все с тем же воском, закрывала часть груди голема.
Внизу, на постаменте, легонько блестела металлическая табличка. Но Прасфоре не нужно было читать ее, чтобы понять, кто стоит перед ней. Девушка и так знала.
Первый голем – Анимус.
Почему-то именно так Попадамс его себе и представляла – вроде ничего необычного, но выглядит… чарующе и древне, всем своим видом источает потертую, ветхую загадку.
Созерцание – прекрасное занятие, но Прасфора умела вовремя остановиться. Вот и сейчас, не превращаясь в бородатого философа, готового не взирая ни на что просто созерцать, чтобы понять суть вещей (суть, при этом, постоянно куда-то ускальзывает), девушка вспомнила, что ей еще нужно искать дядю.
Искать его здесь – все равно, что иголку в стоге сена. Даже сложнее – иголка хотя бы лежит на месте и не дергается.
Пусть Кэйзер и дал указания, но голова так кружилась от чересчур большого количества звуков и деталей, что Прасфора уже начала теряться.
Но, обнадеживала себя девушка, вокруг полным-полно людей. Значит, нужно просто спросить, и дело с концами.
Прасфора шла в случайном направлении, оглядываясь по сторонам. Впервые попадая в горный Хмельхольм невозможно было не оглядываться, все отвлекало на себя, перетягивало внимание: от груженых рубинами вагонеток до барельефов на стенах. Опять, кстати, грифонов – хоть и не таких величественных, как снаружи.
На людей девушка тоже отвлекалась, и все они казались слишком занятыми. Попадамс только собиралась открыть рот, но тут уже умолкала – в конце-то концов, кто она такая, чтобы отвлекать людей от серьезных дел? Лучше найти кого-то, кто не занят, чтобы всем было комфортно. Да и слишком быстро жители проносились мимо, даже не замечая девушку.
Спустя минут пятнадцать в поисках кого-нибудь не занятого, Прасфора устала – видимо, все же придется отвлекать людей. Это оказалось тяжело. Попадамс думала, что другим комфортно рядом с ней, только когда ее зовут и приглашают. В остальных случаях, ее присутствие – все равно, что свалившейся на голову бидон с молоком: и больно, и не к месту. Откуда в голове появились такие мысли, выпав в застывший осадок, непонятно, но много чего рождается в голове лишь потому, что человек сам так думает – убеждает себя, что оно так и есть, даже если хочет равно наоборот.
Прасфора нашла незнакомца, казавшегося не слишком занятым.
– Попадамс? – ответил он. – Конечно, я знаю Хюгге, этого старого дурака!
Пожилой человек поймал непонимающий взгляд Прасфоры и опередил ее встречный вопрос.
– Ну, вы спросите, почему дурака? Да потому что он взял и ушел на пенсию, когда ему предложили такое… в общем, такое, чем мэр не разбрасывается. А Хюгге что-то там и не устроило: а так не возился бы с големами, вместо этого занимался бы более важными вещами. Хотя, зная его, все равно бы возился – до сих пор возится, хоть и на пенсии. И, знаете, он довольно… своеобразный человек. Особенно когда работает не с глоемами. Ну, работал.
Лицо его вновь на мгновение зависло, но тут же пришло в норму – вышел этакий мимический глюк. Пожилой человек как ни в чем не бывало вновь заулыбался, разглядывая Попадамс.
– А вообще, ай да Хюгге, ай да удалой пенсионер…
Вот этого Прасфора не любила.
– Давайте без этого, хорошо? Я вообще его племянница, – девушка словно была готова вытащить катану из невидимых ножен. – Мне просто нужно передать лекарство.
– Если пойдете по лестнице, то не перепутаете дверь, будет прямо в конце коридора. На магических платформах заплутаете.
Прасфора работала по принципу: «доверяй, но проверяй», даже после слов мэра города.
Прасфора посмотрела на огромную лестницу, потом – на магический лифт вдалеке. Повторив эту процедуру несколько раз, девушка глянула на ноги – они опять показались ей чересчур толстыми. Ну вот, она снова запустила себя – хотя и раньше стоило лучше следить за собой…
Лучше, думала Прасфора, можно было всегда – и иногда это ее убивало.
В голове звонко тюкнул, как дятел по стволу дерева, комплекс насчет внешности.
Девушка вздохнула и пошла к лестнице, прокручивая в голове новую информацию о своем дяде, имя которого хотя бы уже узнала – Хюгге Попадамс. И он словно был древней тайной, которую ей еще предстоит разгадать.
Ноги Прасфоры взвыли.
Слышала это, конечно, только она сама – боль оказалась настолько сильной, что даже приобрела уникальный голос, зазвучала в голове как стая разом опаливших себе хвосты волков. Икры гудели, а запыхавшаяся Прасфора мысленными пинками толкала себя дальше, вверх по лестнице, приговаривая: «Тебе полезно, тебе это точно будет полезно». В глубине души ей хотелось дать пощечину себе же.
Абсурду решению идти пешком добавляло еще и то, что на лестнице не было ни единой живой души – только каменные грифоны и драконы смотрели мертвым взглядом. Девушке, кстати, всегда казалось, что изображений драконов здесь будет больше – все-таки, это они спят под землей. Попадамс, конечно, знала, что в столице всех семи городов – городе с говорящим названием Сердце Мира – архитектура так же полна драконов, как болото вечером – комаров. Каменные рептилии увенчивали там каждую черепичную крышу дома, а в центре города, на фасаде огромной Башни Правительства, их было еще больше; даже водостоки умудрились сделать в форме сидящих ящеров. И все же, от горного Хмельхольма ожидались драконы, но никак не мифические грифоны.
– Интересно, – на миг подумала Прасфора, – ходил ли Альвио внутри самих гор?
Мысль испарилась так же ловко, как фокусник со стажем – девушка наконец-то поднялась. Прасфора уже совсем запуталась, сколько платформ-этажей она минула, сбилась со счету, но сейчас вверху отчетливо виднелись последние два яруса – чем выше к пику, заметила Попадамс, тем сильнее сужаются «стенки» гор.
Прасфора перешла с лестницы на гладкий каменный пол. Ноги взвыли от радости.
Этап номер один был преодолен, остался этап номер два – найти Хюгге. Он представлялся даже сложнее этапа номер три – спуститься обратно. Этажи-платформы в горе оказались настолько обширными, что на каждом можно было бы при желании выстроить деревушку, оставив место для дремучего леса, озера и пары-тройки соседних деревень (тоже с лесами и озерами).
Прасфора любила делить самые сложные задачи на этапы, словно бы нарезая картофелину на несколько частей. Так ориентироваться становилось намного проще, будто в бурном потоке событий и случайностей шагать по торчащим из воды пенькам, зная, что не оступишься. На самом деле, вся жизнь для Прасфоры Попадамс была вот этой самой рекой с пеньками, только сложности такой полосе препятствий придавали извечные комплексы и абсолютно ненужные мусорные предустановки, которые так и норовили сбить с пеньков – словно подвешенные к потолку мешки с камнем, молоты, острые мечи и летящие из стен стрелы. Их каждый раз приходилось преодолевать, но они никуда не пропадали.
Пока что дорога – во всех смыслах – была чиста. Прасфора посмотрела по сторонам, прикинула, куда идти и воспользовалась Великим и Ужасным Методом Случайности. Каждое слово в голове девушка специально выделила заглавной буквой – чтобы наверняка.
Как там ей сказали? Поймешь сразу – вот и проверим.
Коридоры внутри горы не казались извилистыми, напротив – они были прямыми, как мышление загнанного в волчью стаю кролика – главное выжить. Странность оказалась в том, что даже в таких банальных и, вроде бы, простых направлениях, очень просто заплутать. По крайней мере у Прасфоры это получалось на ура. Есть выражение «заблудиться в трех соснах», так вот в данном случае это скорее «заблудиться в трех параллельных прямых».
Девушка рассматривала коридоры и не находила больше никаких намеков на бурную деятельность: механизмы так сильно не шебуршали, порода, руда и рубины тоже нигде не появлялись, да и люди особо не сновали туда-сюда. На верхних ярусах просто жили. Иногда, краем взгляда, Попадамс заглядывала в щели приоткрытых прочных дверей, видела то самые обычные кровати, то кабинеты, залитые светом магических ламп и фонарей – сколько нужно было времени, чтобы пробить прямо в горе такое количество комнат, Прасфора даже думать не хотела. Но горный Хмельхольм был старым городом. Неудивительно, что он дарил сюрпризы, особенно тем, кто помоложе.
И почему-то, внутри горы пахло пустыней. Прасфора чувствовала, как обжигает ее сухой воздух и каким по чудному колючим он стал. Словно покалывает кожу палящее солнце, а дыхание высушили, превратили в осенний лист для гербария, лишили влаги подчистую, оставив лишь изнуряющую песочную грубость. Иногда казалось, что крохотные песчинки, как колючие плоды пустынного репейника, облепливают щеки.
Попадамс никогда не была в пустыне, но сейчас понимала – именно так там бы она себя и чувствовала. Вот только почему горный Хмельхольм навевал именно такие ощущения, понять, как бы ни старалась, не могла.
Девушка дошла до конца коридора. Дверь – как и говорили Кэйзер с незнакомцем, – буквально в конце, ни с права, ни с лева. Попадамс заглянула в щелку на этот раз достаточно широко открытой двери и увидела лицо, смутно напомнившее ей отцовское. Отсюда казалось, что сходства – как между персиком и курагой.
Прасфора распахнула дверь еще шире и вошла. В углу, около небольшого умывальника («интересно, это же под каким давлением сюда поднимается вода?», – подумала девушка) и огромного зеркала, которое при определенном освещении и портал в иной мир могло напомнить, брился, предположительно, ее дядя. Он уже намазал щеки и подбородок алхимической пеной.
Предположительный дядя потянулся за бритвой. Прасфора знала, что лучше говорить сейчас, пока не начался этот маленький ритуал. Не то чтобы бритье считалось неким сакральным процессом, наподобие древней мистерии, просто бритва была наточена ого-го как, и лучше, если никто не порежется и не будет валяться в луже крови, принося лишнюю мороку себе и окружающим.
Прасфора достаточно громко откашлялась.
– Хюгге? – уточнила она. – Хюгге Попадамс? Дядя Хюгге Попадамс?
Кричать сейчас казалось не лучшим вариантом, инфарктов никто не отменял.
Но бреющийся старичок испугался так, будто у него перед ухом петарду взорвали. Он судорожно вздрогнул, со звоном выронил бритву на пол и в панике повернулся к Прасфоре, смотря на нее так, словно его застали не с бритвой у зеркала, а голым в душе – притом, судя по виду предположительного дяди, в чужом душе, и далеко не одного.
– А, о, а, – вырвался набор букв. – Да, это я. А вы?..
Не смывая пены, теперь уже абсолютно точно ее дядя подошел к дверям.
В целом, это был обычный крепенький старичок в подобии старенького, но опрятного белого ни то пиджака, ни то мундира. И ничего бы не выделяло дядю, если бы не маленький, ну прямо мизерный факт… нос занимал где-то две трети лица старичка, а на оставшейся одной трети ютились глаза, рот, брови и бородка, которую стоит скорее назвать иссохшим полем скукожившихся кактусов, которые очень пытались выстроиться клинышком. Непонятно, как все это вообще уместилось на столь малой части лица. А сейчас, выходит, дядя либо окончательно решился избавится от бородки-кустарника, либо приводя ее в должное состояние – хотя, тщетное занятие.
Заметив, что его изучают, Хюгге улыбнулся – весь комплект на его лице сузился до еще меньших размеров.
– Ну если вы… ты… вы жали кого-то другого, – никак не могла решиться с обращением девушка. – Я Прасфора Попадамс. Ваша племянница.
– Да-да! Прасфора, я помню тебя такой маленькой, – завел он любимую шарманку всех родственников. – А что ты…?
– Отец сказал, что вы приболели, – девушка не заметила, чтобы дядя особо уж плохо выглядел. Не считая бороды, почти скрытой пеной. Прасфора специально подперчила слова интонацией так, чтобы родственник хоть ради приличия притворился больным.
Попадамс стоял в рубашке и явно не парадных штанах с видом невинного младенца.
– Что-то с ним случилось? – спросил он. Так, наверное, и выглядят ангелы да святые, спонтанно призванные на помощь – чуть наивные, в домашней одежде, с зубной щеткой в руках, взъерошенными волосами и заспанными глазами. – Я думал, Кельш приедет сам…
– Много дел в кабаке – кивнула Прасфора в сторону большого арочного окна в комнатке. Даже с порога было видно, как сгустились грозовые тучи. – Вы же, наверное, знаете, мы теперь разносим еду по домам.
– Откуда же мне знать, – улыбнулся он. – А вы ведь привезли… лекарство?
Хюгге вдруг забеспокоился. Прасфора кивнула, открыла сумку с едой, передала дяде скляночку с лекарством, потом – еду в глиняных горшочках.
– Отец просил привезти вам поесть, – сообщила девушка.
– Картошка! Это чудесно, но сначала… прости, подожди минуту.
Дядя скрылся в глубине комнаты. По утробным звукам Прасфора поняла, что он залпом выпил лекарство, дальше поставил еду на стол, а потом словно вырвал лист бумаги и что-то быстро принялся на нем писать.
– Лекарство, да, спасибо, – уже куда спокойнее проговорил он. – Просто нервы в последнее время… совсем к нестабильности расшатались.
Он улыбнулся – криво, будто улыбку на лицо вешали пьяные рабочие.
– Раз уж Кельш не смог приехать, – он помял в руках бумажку и предал Прасфоре. – Вот, передай ему, пожалуйста. Но только лично в руки – это между братьями.
Девушка очень недоверчиво взглянула на бумажку, но все же приняла ее, спрятав.
– Ну хорошо….
Хюгге тоже вроде как кивнул в ответ, но сделал это так слабо, что, казалось, у него просто слегка затряслась голова – словно она была приделана не к шее, а к пружинке, к тому же еще и растянутой долгими годами упражнений.
Дядя внезапно достал механические бронзовые часы на цепочке, с гравировкой в виде грифона и инициалами «ХП». Сверившись со временем, вновь засуетился, уронив бритву. Нагнулся, поднял ее и ушел в соседнюю комнату, продолжая говорить:
– Прости, Прасфора, мне очень надо собираться. Если ты вдруг захочешь остаться здесь на ночь, ну, или переждать собирающуюся грозу, заходи, но потом, сейчас мне правда надо бежать.
Хюгге смолк и закряхтел – с учетом того, что Прасфора собеседника не видела, в голове вспыхивали самые интересные и необычные картины происходящего. Иногда даже чересчур пикантные. Прасфора не была той девушкой, которая боится откровенности и краснеет при каждой неприличной мысли – Попадамс вообще могла взять инициативу любых отношений на себя, – но сейчас воображение так разыгралось, что даже Прасфора превратилась в багряную свеколку.
Хюгге вернулся в парадных штанах, поспешно накидывая на себя белоснежный мундир.
– Так вот, если что… – рука застряла в рукаве. Дядя задергался, как раненая птица, – прости, прости, я просто очень, очень опаздываю, хочу попасть кое-куда, где давно не был. Кстати, ни за что не ходи сюда по лестнице, у тебя потом…
– Я уже попробовала, спасибо.
– И как оно?
– Честно? Умереть хочется.
Хюгге криво улыбнулся, продолжая борьбу с белоснежным мундиром – наконец, получилось.
– Ну, все, – он поправил воротничок. – Мне правда надо бежать, а ты пока… в общем, увидимся… надеюсь.
Дядя метеором метнулся мимо Прасфоры.
– Пена, – только и успела сказать она.
– Прости? – замер Хюгге.
– Пена. Вы забыли смыть пену. И побриться, если уж на то пошло.
Про себя же, девушка подумала: «Значит, вот оно как. Что же ты скрываешь, дядя?»
Когда Хюгге Попадамс все же убежал, Прасфоре стало невыносимо скучно.
Она сама не могла объяснить, почему, но каждый раз, когда ритм жизни резко замедлялся и дела, которые еще не сделаны, кончались, Попадамс словно выкидывало из сиденья бытия, ремней безопасности на котором, конечно, не предусмотрено. Точнее, чуть иначе – либо обматывайся ремнями так, что не выпутаешься, либо обходись без них. Девушке постоянно нужно было что-то делать, даже когда все уже сделано-переделано сто раз, и не просто можно, а необходимо отдыхать. Прасфоре в такие моменты становилось не по себе, все вокруг холодело, теряло краски и смысл, надо было срочно занимать себя чем угодно.
Такой необъяснимой болезни есть простое объяснение, не раз приводимое Прасфоре отцом, когда та, вечером, без сил сваливалась на пустые гостевые скамейки «Ног из глины», даже не доходя до кровати. «Неугомонная, родилась с шилом в…», – говорил Кельш Попадамс, очень часто вдобавок шутя, что Прасфора – вообще заводной механизм, притом такого качества, что будет идти вперед, пока под ногами земля не кончится, обходясь без дополнительной прокрутки торчащего из спины ключика.
Вот и сейчас девушке срочно нужно было что-то делать. Она, конечно, эту свою привычку знала.
– Опять, – вздохнула Прасфора. – Почему это начинается опять…
Она может быть и пересилила бы себя, как делала постоянно с другими вещами, сказала бы «нет, сегодня, милочка, ты ничего не делаешь, просто ждешь здесь», но ощущение постепенно сжимающейся пустоты… даже не сжимающейся вокруг, нет, скорее расширяющейся изнутри и заполняющей все окружающее пространство не давало покоя – от него хотелось избавиться, как от грязной, обтягивающей, промокшей одежды. В такие моменты Прасфоре всегда казалось, что на нее нацепили поношенную рубашку, вдобавок ко всему смазав луком и всем тем, чему не нашли применения на кухне.
Прасфору смущали слова того незнакомца о Хюгге. Что-то в голове не склеивалось, не соединяясь, как не соединяются кусок цветной мозаики с обрывком черно-белого рисунка на листе бумаги, и хоть ты тресни. К тому же, в этот воистину хтонический узор не вписывалась улыбка дяди, его немного детская, как показалось, радость встрече и воодушевленность – Прасфора знала, просто знала, что эмоции искренни. И они были третьим куском в сюрреалистической картине Хюгге. Говоря образно: в куске мозаики, обрывке черно-белого рисунка и осколке бюста. Одного человека из таких частей не собиралось, получался разве что монстр, пошитый белыми нитками, зверь похуже грифонов и драконов. Сомнения тонкими и практически прозрачными медузами скользили лишь по поверхности озера сознания, но воду внутри все же баламутили.
Мысли схлопнулись обратно в коробочку, когда Прасфора Попадамс дошла до лифтов – каменных платформ, работающих на шестеренках, которые крутились благодаря магическим потокам.
Девушка вспомнила – когда Альвио, изучавший зверушек, вернулся из горного Хмельхольма, то рассказывал об огромном озере, где словно бы отражается весь мир, отчего кажется таким непривычным и странным. Драконолог еще говорил что-то про грифонов, но этот момент девушка пропустила мимо ушей. И тогда, когда Альвио делился всем этим, перед глазами Прасфоры бегали картинки, такие живописные, словно в черепной коробке заперли художника-карлика, заставляя рисовать маслом, гуашью и акварелью разом, чтобы настолько разные по своему характеру мазки соединялись воедино, становясь гармоничным и завораживающим полотном.
Прасфра Попадамс посмотрела в далекое окно на противоположной стороне яруса. Когда белое зарево за окном вновь вспыхнуло, будто вывернув мир наизнанку, девушка разглядела густые тучи, лениво ползущие вперед. Но все это перекрыла картинка озера…
Ноги одобрительно загудели, когда девушка встала на платформу и дернула рычаг. Магический лифт стал спускаться.
Густые тучи на улице начинают словно бы таять, крутиться в обратную сторону, а потоки лунного света меркнут, постепенно гаснут и несутся вспять – время снова с хрустом поворачивается назад, и чтобы увидеть это еще раз, надо сесть на хвост холодному воющему ветру, пронестись через потоки сияющей звёздной пыли, услышать стенания гор задом-наперед и только потом оказаться здесь, а этом времени, в тогда, а не в сейчас…
Седой старик с густой бородой сидит за столом и копается в бумагах, карандашных чертежах и схемах, глубоко задумавшись. Свет желтых магических ламп мерцает словно бы в обратную сторону, чернота теней выворачивается наизнанку, полыхая тепло-желтым.
Анимус переводит взгляд с чертежей на блестящие рубины.
Тут открывается дверь в кабинет.
– Дедушка? – спрашивает, входя в комнату, Кэйзер, уже не мальчишка, а юноша.
– Да?
– Почему все вокруг говорят о тебе? – пристроившись рядом и поставив локти на стол, спрашивает Кэйзер. – Или они говорят о твоем големе?
– Они говорят обо мне, – улыбается старик. – Потому что я придумал первого в мире голема. Мы зовем его… Алхимическим Чудом, внучок.
Анимус задумывается, собираясь с мыслями: думает, сказать внуку или нет, и все-таки решается – Кэйзер таланливый мальчик, он схватывает все налету, он понимает, как работают вещи, даже не зная их устройства; и он его внук.
– Только он не работает правильно, – вздыхает старик, проводя рукой по чертежам. – Я не знаю, как сделать так, чтобы он двигался постоянно. И чтобы другие такие тоже всегда работали.
Кэйзер задумывается. Анимус вновь смотрит на чертежи, а потом кладет одну руку себе на сердце, сосредотачиваясь на его ритме. Сердце, сердце, сердце стучит… и он живет, и всякий – живет.
– Дедушка? – спрашивает юноша, поднимая глаза на Анимуса. – А обо мне когда-нибудь будут говорить так же?
– Конечно, внучек, – старик теребит волосы Кэйзера. – Конечно…
Анимус знает, что это так, а юный Кэйзер проиграет в голове картинками будущего.
Но все вокруг резко сжимается, схлопывается и бурным горным потоком несется вспять, по пути выпрямляясь и возвращаясь к привычному ритму, где звуки звучат как им положено, цвета не вывернуты наизнанку, а свет и тень поменялись местами, ставь самими собою – все тает, пока вокруг не остается лишь темнота, освященная парой магических ламп. Так глубоко, что теряются даже мысли…
Кэйзер стоял глубоко под землей, смотря вперед – на новые цепи, еще более крепкие, сковавшие дракониху. Механической рукой мэр поправил мундир.
– Конечно, они будут говорить обо мне, – закрыв глаза, пробормотал Кэйзер. – Спустя столько лет… конечно, будут, дедушка. Не только о тебе.
Глава 3. Попадамс попала
Мир перевернулся вверх-тормашками.
По крайней мере, таким он был в отражении огромного озера – словно зеркала, лежавшего в кольце гор. Ветер колыхал воду, реплика мира плыла, теряла узнаваемые очертания, и казалось, что там, на глубине, находится изнанка привычной реальности: привычных горных пиков, которые в отражении удлинялись и тенью скользили вниз, привычных кедров на склонах, на водном зеркале казавшихся длинною до небес… Но ведь небо и стало землей, а земля – небом, а потому продолговатые стволы уходили в никуда, терялись среди искаженных отражений и наполняли озеро глубиной всего окружающего мира, только удвоенной – словно бы в озеро поместилось сразу несколько реальностей, как в сумку без дна или шляпу фокусника, где под мягкой фетровой подложкой скрывался потайной отсек, тоже бездонный. Озеро не просто поймало мир, нет – оно будто бы вобрало в себе все вещи, их отражения, тени, звуки и даже образы, уместив глубоко на дне.
Прасфоре казалось, что если бы она нырнула туда, в эту ледяную воду, и посмотрела вверх, то увидела бы совсем иной мир, подумав, что это нечто потустороннее. Так, заметила девушка, наверное, думали ее далекие предки, впервые наткнувшиеся на это озеро и решившие попытать удачу, поискав что-нибудь ценное на дне.
Небо все еще озарялось белым, а водная гладь будто бы посылала сияние обратно. Попадамс уже не мерзла – по дороге она открыла сумку и надела свитер. Теперь девушка стояла, сложив руки, чтобы было еще теплее, и наслаждалась озером – ничто больше не отвлекало.
Прасфора потеряла счет времени, но дальняя часть сознания, всегда обстоятельно следящая за абсолютно всеми вещами, подсказывала, что пока еще можно не нестись сломя голову обратно на перрон. Это радовало – из кольца гор, покрытого редкими кедрами и увядающими пурпурно-желтыми цветами, уходить не хотелось. Здесь дышалось так легко, словно весь воздух мира принадлежал тебе и одному тебе – а легкие внезапно стали столь же бездонны, сколь и озеро.
Девушка достала тетраду Альвио, пролистала и открыла как раз на зарисовке озера. Оно получилось точь-в-точь уменьшенной копией оригинала, только вот на склонах пристроились… Прасфора пригляделась, чтобы разобрать, и поняла – конечно же, грифоны, в огромных витых гнездах меж кедров, на склонах. Девушка посмотрела на реальное озеро, потом на картинку, и снова – на реальное.
Попадамс вздохнула.
Бедный Альвио просто бредил этими фантастическими животными, от которых не осталось ничего, кроме легенд, барельефов и зарисовки его деда-прадеда. Драконолог настаивал, что звери эти – не плод больного воображения, а реальные существа, которые просто пропали. Когда у Альвио спрашивали, куда, он превращался в рыбку – пытался ответить, но не мог. Не знал.
Никто не знал.
Альвио постоянно уверял Прасфору – даже если животное упомянуто только в легендах, даже если сейчас о нем никто не помнит, даже если оно кажется чересчур фантастическим, значит оно обязательно существовало в действительности, ведь ни одна сказка не появляется на пустом месте. Сознание – драконолог был уверен – на такие фокусы неспособно. Ему обязательно нужен костыль, этакая точка отсчета, образ для подражания, из которого потом может родиться все что угодно – но из пустоты не появится ничего, ведь она, как ни странно, и есть это самое ничего. Магия, говорил Альиво, это уже что-то, а не пустота – поэтому от нее работают механизмы, поэтому можно зажечь магический огонек или, нализавшись Магической Карамели, натворить других дел. Но пустота, даже в рамках воображения, по природе своей не может стать кирпичиком – если только для еще большей пустоты.
Обычно аргументы Альвио разбивались о цельнометаллический контраргумент: от грифонов не осталось ни-че-го. Древние города оставляют после себя руины, вымершие звери – скелеты, но грифоны словно бы испарились. С учетом того, что испариться может только шпана при виде разгневанных родителей – никто другой на такие фокусы больше не способен, – все доводы драконолога с хрустом трескались.
Но, надо признать, с грифонами пейзаж выглядел романтичней.
На тетрадку капнул дождь. Прасфора подняла глаза к небу, на набежавшие тучи – и тут сверху словно вылили ведро с лишней водой.
Ливень рухнул так же стремительно и неожиданно, как падает банка печенья с антресоли в три часа ночи после проделок проголодавшегося ребенка, которому поесть больше ничего не нашлось.
Гром наконец-то догнал молнию. Теперь каждая белая вспышка сопровождалась рокотом, таким сильным, что в ушах звенело.
– Ох нет, – Прасфора на бегу убирала тетрадку Альвио обратно. – Ну вот надо ж именно сейчас…. Где он был, когда горел вагон?
Дождь хлестал так, словно небо стало морем, разом упавшем вниз со всеми камнями, водорослями и рыбами – Попадамс не удивилась бы, если в следующее мгновение ей на голову свалилась бы морская звезда. Звезды на небе, спрятанные за тучами, казалось, тоже смывает.
Девушка бежала по горной тропе, поскальзываясь – дорогу слишком быстро размыло, и каждый поворот мог окончиться неуклюжим падением. Сюда Прасфора дошла за несколько минут, но на обратном пути дорога оказалась бесконечной – впереди, через дождевую ширму уже еле-еле пробивался желтый свет магических фонарей.
Гром подгонял. Молнии приобрели форму острых стрел с блестящими свинцовыми наконечниками. Гроза бушевала прямо над горным Хмельхольмом.
Прасфора выбежала на вокзал – в отличие от домашнего, перрон здесь не был прикрыт навесом, а потому дождь громогласно разбивался о камень, шипя на рельсах. Поезда не было видно, хотя маленькая часть мозга, напоминающая о забытых, но чертовски важных вещах, орала во всю глотку.
На перроне, как привязанная к будке бешеная собака, носился всего один человек, слегка покачиваясь.
– Либо сумасшедший, – подумала Прасфора, прикрывая голову сразу двумя сумками, – либо кто-то из рабочих.
Гром чуть не пробил небо насквозь.
– Эй! – крикнула девушка набегу. – Простите, но когда обратный поезд?
Мужчин, заляпанный сажей, обернулся. Встал, но все равно покачивался.
– Обратный поезд? В такую грозу?
– Ну да…
– Никакого обратного поезда не… нэ… не будет, – пожал он плечами, ни то зевнув, ни то икнув. Потом взглянул на большие вокзальные часы, но, судя по выражению лица и прищуру глаз, ничего не разобрал, – по крайней мере, до утр-э-а.
– Вы сейчас серьезно? – не могла поверить Прасфора.
– В такую погоду и шутить-то не… нэ… не хочется, – он смерил девушку изучающий взглядом.
– Но как же…
Девушка не закончила – все равно, словами делу не поможешь. Прасфора постоянно искала любые возможные решения проблем, которые не давали ей двигаться вперед, и останавливалась только когда стены-препятствия оказывались непробиваемыми. Да и то возвращалась, как только находила очередной способ двигаться дальше. Жизнь, воистину, в движении – в движении против течения постоянных проблем и загвоздок.
Попадамс знала: как на каждого зверя однажды найдется капкан, так и на каждую проблему – решение.
Девушка посмотрела на огромные ворота, ведущие внутрь горы. Золотистые барельефы-грифоны мерцали в свете фонарей даже через стену дождя.
Снова гром – будто сами горы зарычали. Прасфора с детства не боялась грозы, тем более так, как боялась кухни, но даже ей стало не по себе.
Мужчина никуда не ушел. Наоборот, подошел ближе, прищурился и сказал:
– Но… – о, это спасительное слово, вечно соединяющие обрывки безысходного и великолепного. Ну, не всегда, потому что вторая часть фразы вышла совсем уж не той, которую девушка ожидала. – Всегда можно провести время намного лучше… э…
– Ну все, – про себя вздохнула Прасфора. – Начинается.
Мужчина вытянул руки вперед, намереваясь схватить девушку, но та просто очень вовремя увернулась – разнос еды по столикам в кабаке оказался очень хорошей тренировкой, особенно, когда все гости опрокинули по кружке-другой теплого пива, и уже не очень-то отдавали отчета в своих действиях. Зато, связавшись с Прасфорой, моментально трезвели и сами на утро извинялись.
Она, к слову, постоянно ругала себя за это. Впрочем, ничего удивительного.
Вот и сейчас девушка подготовилась к встречной атаке – адреналин заглушил металлические комплексы. Кувшина, или чего-нибудь тяжелого, под рукой весьма не хватало.
– Ладно, – пронеслось в голове Попадамс. – Обойдемся и без этого.
Чего она не могла ожидать, так это второго человека, схватившего его сзади. Все это время он, похоже, терялся за пеленой дождя, в тенях – и, видимо, тоже был весьма пьян.
– А ты не-э-е дергайся, – он сжал Прасфору сильнее. – Будет легче.
Мужчина перед ней улыбнулся и снова потянул руки ясно к чему.
Вот теперь, поняла девушка, пришло время паниковать – впрочем, паниковала она всегда тоже по-особенному: резко концентрировалась, а нервничать и рефлексировать начинала потом, когда опасность осталось позади, зато с удвоенной силой.
Нет, кувшин точно не помешал бы.
И тут помог гром. Раскат – белоснежная вспышка ударили по пьяным головам кувалдой. Всего на мгновение, но его было достаточно.
Прасфора резко отклонилась назад, позволив себя потерять равновесие, будто падая в обморок. Державший ее мужчина не устоял на скользком перроне, ослабил хватку и грохнулся.
Прасфора рванула прочь, хлюпая ногами по лужам и грязи, пытаясь не выронить сумки.
Попадамс внезапно посетила очередная пьяным мастером установленная предустановка в голове: «Фигура у меня и так не ахти, а сейчас я вдобавок мокрая, грязная, и буду выглядеть еще хуже, да и вообще…»
– Вставай! Вставай и бегом! – голос и грузные мужские шаги мигом заставили девушку отрезветь. Она ускорилась. Бежала, поскальзываясь, чуть не навернулась несколько раз. Сумки, скрипя душой, пришлось бросить по дороге. Лишний балласт замедлял.
– Ну что же, – подумала Прасфора, по привычке зажмурившись. – Видимо, поездка немного затягивается. Ладно, ищем светлые моменты —когда еще получится побыть внутри горного Хмельхольма…
Она случайно нащупала записку дяди в кармане свитера. Мысли утяжелили движение, стали отвлекать…
Через стену дождя девушка бежала к воротам. Гром бил в барабаны.
Господин Фюззель ложился поздно, обычно сидел до последнего, занимая себя в основном мыслями, не важными, а просто приходящими и уходящими – ему хотелось верить, что спать не дает умственная деятельность, эта видимость хоть какой-то занятости, но то была скорее псевдоумственная деятельность ни о том, ни о сем.
Вот и сейчас Фюззель не спал.
На рабочем столе, закиданным чем попало – тоже напыщенная иллюзия занятости и бурной деятельности, – ядовито-зеленым горела магическая лампа. Свет этот вырывался из окна второго этажа и отравленными парами несся на улицу, в ночь, прочь со второго этажа таверны «Рваные крылья дракона». Господин Фюззель неудобно ерзал в кресле, как белка, случайно забравшаяся не в дупло, а в мышиную норку или, того хуже, в осиное гнездо. Хозяин заведения сверлил ночь – здесь без единой капельки дождя – слегка отрешенным взглядом. На утро, как обычно, Фюззель будет ныть, что не выспался.
Ему успели сообщить, что вагон горел, что его оперативно потушили, обошлось без жертв – и Фюззель злился. Он ставил на то, что в пламени погибнет Прасфора, это был бы идеальный вариант. На крайний случай – кто-то из пассажиров, тогда можно будет обвинить девушку либо в халатности, либо в самом поджоге. Но не вышло ничего, получилась пустая трата ресурсов и нервов, так что мысль эта улетучивалась, становясь бестелесным, прозрачным призраком.
Сейчас же он грезил о своей империи.
Так происходило каждую ночь. Фюззель садился и думал, представлял, как его «Рваные крылья дракона» разрастаются по Хмельхольму, постепенно поглощая все остальные кабаки и таверны – самое главное, конечно, «Ноги из глины». В гробу он видел это паршивое заведение, притом желательно в чужом. Хотя, все прекрасное в глазах Фюззеля становилось отвратительным и, как предполагали другие горожане, все отвратительное – прекрасным.
Страшно было подумать, каким он мнил себя – и каким видел в отражении.
В ядовитом зеленом свечении и полной тишине перед глазами уже красочным парадом мерцал победный марш его таверны, триумф «Рваных крыльев дракона» – такое кино крутилось в голове каждую ночь, но только никак не становилось реальностью. Фюззель не был дураком и не задавался вопросом, а почему же так происходит? Почему победа не летит к нему в руки, не происходит сама собой, по взмаху руки? Хозяин заведения знал, что для достижения цели нужно предпринимать действия. Как бы ему не хотелось, мысли упорно не желали оказываться материальными.
А вот действовать Фюззель не любил – он предпочитал, когда это делали остальные.
Поэтому персонал «Рваных крыльев дракона» превышал все возможные бюджеты, но и сами бюджеты – вот так парадокс! – не увеличивались ни на философ. Эта экономическая машина работала словно на грязи и палках, но все же работала – этого Фюззелю хватало. А уж как и что… пусть его хоть десятикратными ругательствами покрывают, какая разница – главное, что делают все они, а не он. Иногда, когда Фюззель представлял все те десятки филиалов своей таверны в будущей империи еды, ему становилось дурно. Ведь в таком случае (опять же, дураком Фюззель не был) грязи, палок и сладких обещаний хватать уже не будет, и придется… что-то делать. Скорее всего – раскошелиться. Для Фюззеля это было так же страшно и непостижимо, как для монахини – потерять девственность.
У Фюззеля, кстати, была фамилия, но ее тяжело найти даже в его собственных мыслях. Он старался о ней не вспоминать, просто забыть, положить на дальнюю полку сознания, запереть все двери на замок, а ключ выкинуть в холодные молочные воды бессознательного, где тот вернется в беспамятное небытие. Но настолько хорошо Фюззель в собственной голове не ориентировался, да и в документах фамилия проскакивала – а потому, иногда, ему все же приходилось выуживать ее, противную и ненавистную настолько, что лучше бы ее вообще не было.
Фюззель Испражненц – так ему приходилось записывать в документах.
Он вспомнил, поморщился, попытавшись забыть и услышал далекий раскат грома. Фюззель встал и подошел к окну вплотную. Ядовитый зеленый свет мешался. Хозяин «Рваных крыльев дракона» щелкнул пальцами – настольная лампа погасла. На улице было темно, только магические фонари, включенные на ночь и светившие приятным желто-оранжевым, очерчивали силуэты домов. Фюззель перевел взгляд на далекие горы, на другой Хмельхольм – даже отсюда хозяин таверны увидел, что там сверкают молнии.
Тогда Испражненц вновь вспомнил вечернюю встречу с Прасфорой на вокзале, вспомнил их разговор, вспомнил, пожар в вагоне… и понял, что в ближайшее время она точно не вернется.
Фюззель отскочил от окна так, словно у него в штанах завелся рой пчел. Самопровозглашенный таверновый император плюхнулся в кресло, радостно сверкая глазами и потирая руки. И тут одна мысль перебила другую, словно бы взяв клаксон побольше – Фюззель вспомнил о слухах, касаемых Кэйзера… да, конечно.
Фюззель считал, что любой слух – это просто недозрелый плод правды, а потому нужно собирать их, прислушиваться и выхаживать, ведь рано или поздно что-нибудь оттуда обязательно, да прорастет: из тыквенной семечки может появиться яблоня, но она хотя бы вырастет, это факт. Поэтому-то, понимал Испражненц, слухи так нужны газетам. А слухи о делах мэра Кэйзера – хозяин таверны верил и надеялся, что они станут правдой хотя бы в том или ином ключе – очень даже могли сыграть Фюззелю на руку. Очень даже… он даже укокошил несколько своих големов ради этого, чтобы пораньше списать их с пользования.
Снова, как показалось Фюззелю, прогремел далекий, тихий гром – будто бы камень упал в песок. Мысли вернулись к Прасфоре, к грозе, а оттуда, по изощренной логической цепочке, к «Ногам из глины».
Прасфоры некоторое время не будет. Старому (на далее – не старее самого Испражненца) Кельшу точно не до этого, он весь погружен в работу, в свои инновации, и это его дочка и ее дружок всегда вынюхивали, ставили палки в колеса, мешали…
Забавно: если спросить саму Прасфору про палки и колеса, она бы даже не поняла, о чем речь. Но если метафорическая телега Фюззеля тормозила, то обязательно по чьей-то иной вине. Ведь как он – он! – мог стать причиной чего-то нехорошего? Он же без пяти минут император, а все знают, что об императорах плохо говорить нельзя – точнее, можно то оно можно, но никто не гарантирует, что голова не окажется отсеченной от тела, а пара-другая родственников – за решеткой. Все ради профилактики, не более.
Глазки Фюззеля – такие-же ядовито зеленые, словно заплесневелый малахит – вновь радостно загорелись. Нужно было действовать, но как же не хотелось делать это самому…
Идея влетела в голову свистящей стрелой. Задергавшись, как перепившая кофе перед кукольным представлением марионетка, господин Фюззель схватил бумагу, карандаш и начал писать, только потом вспомнив, что надо включить свет.
Закончив, быстро побежал вниз – спустился по скрипучей лестнице, нащупал дверь в подвал, только потом вспомнил, что и тут можно включить свет. Преодолел еще одну лесенку, поменьше. В подвале свет включать не пришлось, он уже горел. А еще раздавались голоса, смех и рыгание.
– Ну что же, – просипел один из голосов. – За нас!
Глиняные кружки ударились друг о друга. Пили люди тоже громко, смачно, причмокивая – ни в чем себе не отказывали.
– Хватит квасить, – нахмурился Фюззель, положив руку на стол и чуть не скинув тарелку с закусками. – Раз уж я разрешаю вам ошиваться тут, то поработайте уже наконец. А не то выкину вас…
– Да не вопрос, не кипятитесь вы так, – ухмыльнулся один. – Что делать надо? Кому подрезаем крылышки на этот раз?
– Крылышки в этот раз подрезаю я, – даже улыбка Испражненца отдавала тухлым жиром. – А вы… поработайте наконец. Устраним все потенциально опасные элементы, теперь уж наверняка. Итак, завтра утром…
Фюззель улыбался, покидая погреб-подвал и возвращаясь в кабинет. При назревавшем раскладе и слухи – этакий мешочек бобов на случай, если стебель до неба не вырастет по другой причине – могут не понадобиться.
Колбы и ампулы испуганно звенели, мерцая матовой радугой сотни разных цветов – каждый момент мог стать для них последним, потому что Барбарио двигался дергано, рвано, словно суставы заржавели, но кто-то включил их на полную скорость, и они пытались беспомощно брыкаться.
Задачу усложняло то, что делал алхимик все это одной рукой – второй он ел. Забежал на кухню, забрал мяса с картофелем и отнес к себе наверх. На лице Инкубуса блаженство смешивалось с нервным тиком, ведь алхимик забыл, совсем забыл… теперь приходилось работать и есть одновременно.
Барбарио с проворностью мартышки подхватил очередную ампулу и спас ее от трагического разбиения.
Отправив в рот еще одну ложку с картофелем и на секунду достигнув просветления – такой способности позавидовал бы любой дряхлый монах, – алхимик, все еще орудуя одной рукой, отсыпал в колбочки красной, мерцающей в свете ламп рубиновой пудры. Жидкость зашипела и изменила цвет.
Конечно он, дурак – думал Барбарио, – со всеми этими кладками и драконихами совсем забыл, что нужно наделать рубиновых смесей сегодня (ложка с картофелем умело отправилась в рот), конечно, они снова нужны в неимоверном количестве (еще одна ложка отправилась в рот), конечно, он вспомнил об этом в последний момент (снова – ложка) и, конечно, еще можно успеть – впритык, но успеть…
Алхимик пошарил ложкой в горшочке – тот оказался пуст. Тяжело вздохнув, Инкубус, сладостно вспоминая недавнюю трапезу, освободил вторую руку и тоже подключил ее к делам алхимическим. Рубиновая жидкость стала разливаться быстрее, а колбы перестали звенеть панически. Теперь им ничего не угрожало – ну, по крайней мере, угроза падения сводилась почти к нулю.
Шарик сознания внезапно укатился не в ту лунку, и в голове возникла мысль о третьем – сам не понимая, почему, Барбарио был уверен, что увидит его сегодня там, где уже давно не встречал.
На кладбище големов.
Алхимик взглянул на валяющиеся на столе карманные часы. Он еще успевал – конечно же, он еще успевал…
И, конечно же – Инкубус наморщился, и гуталиново-черная борода, собранная в косичку, обратилась жесткой щеткой, – ему опять придется возиться с големами….
Прасфора забежала в гору. Хотела остановиться, но передумала, услышав приближающиеся крики преследующих ее мужчин. Они настолько идиоты, поняла Попадамс, что побежали за ней сюда, а она настолько дура, что завела себя в западню. И вот попробуй сейчас с ноющими ногами, которые и так отваливаются, убежать далеко.
Девушка решила не останавливаться. Но скорость сбавила – иначе просто упала бы.
Глаза бешено глядели по сторонам, осматривая все то же самое – каменных грифонов, тоннели, уходящие глубоко вниз, и Анимуса, первого голема под лестницей… Он словно наблюдал за своим наследием и за тем, как другие големы таскали тяжеленые груженые рубинами и породой ящики.
Мужчины ворвались в город.
– Вон она! – крикнул один.
– Тише-э-е! – шикнул второй, икнув. – Мы не на улице! Делай так, чтобы было не-э-е-понятно.
Они сбавили темп, но все равно шагали быстрее Прасфоры, гадко ухмыляясь.
Девушка искала пути к отступлению. Все казалось слишком далеким, либо вело в неизведанном направлении. И тут она увидела – точно, совершенно точно! – как за угол широкого и длинного коридора заворачивает ее дядя. Этот выход из ситуации казался самым рациональным и, чего таить, единственным возможным.
Прасфора ускорилась и завернула за угол, вполсилы побежав по в некотором роде парадному коридору – здесь не хватало только картин какого-нибудь древнего рода на стенах, красного ковролина и хрустальных люстр. Но и без этого складывалось впечатление, что идешь по весьма важному коридору с идеально гладкими стенами и кучей магических ламп, горящих медово-желтым.
Окликнуть Хюгге Попадамса девушка не успела, потому что тот скрылся за воротами, громыхнув ими.
Коридор действительно упирался в арочные ворота – не слишком громадные, но и не такие маленькие, как обычная входная дверь. На воротах – к удивлению Прасфоры – не было грифонов.
Вместо этого там красовался голем, только не обычный, а будто бы нарисованный. Из-за его спины помимо двух привычных раскинутых в стороны рук торчали еще четыре такие же – словно изображение двоилось. Но руки эти выглядели так, как если бы их не успели закончить, сделали лишь набросок карандашом и на этом остановились. Это все до ужаса напоминало чертеж.
С ногами голема дела обстояли также.
Мужчины почти нагнали девушку – оказались вначале коридора.
– Ну все, – потер руки один. – Теперь тебе идти точно некуда!
Прасфора сначала сжалась от страха. Потом вспомнила о воротах, дяде – и лишь ухмыльнулась своим преследователям.
– Ага, конечно.
Тут она разогналась, совершая финишный рывок. Остановилась лишь у ворот, потому что мужчины больше не преследовали ее. Только стояли там, в начале коридора, и нервно подергивали ногами.
– Стой, ты-ты чего… не надо!
Прасфора не ответила. Интерес лишь вырос, а Попадамс была не из тех, кто остановится перед чем-то, будоражащим воображение. Да и, говоря откровенно, просто остановится – перед чем бы то ни было.
Девушка надавила на одну створку – та даже не скрипнула, поддалась очень мягко – и вошла, прикрыв ворота.
– Дура-э-а! Стой! – только и услышала она вслед.
Внутри было темно. Первое, что весьма обоснованно приходит на ум в таких ситуациях – включить свет.
Девушка щелкнула пальцами. Загорелись желтые лампы. Прасфора огляделась – и обомлела. А потом так вовсе побелела.
Здесь лежали мертвые големы.
Поломанные, с отколотыми руками, ногами, трещинами во весь корпус, с раскрошенными рубинами в головах и телах – все они лежали здесь, никогда не жившие по-настоящему, но все-таки мертвые.
Прасфоре поплохело – все равно, что войти в склеп вместо цветочного магазинчика.
– Нестабильность меня дери, – даже не заметив, прошептала Попадамс вслух. – Из огня да в полымя…
Девушка ожидала, что сейчас ее ударит настоящий, первобытный ужас, квинтэссенция того, что люди испытывали во время рассказов о кладбище големов, но ничего такого не происходило. Вместо этого Прасфора почувствовало совершенно иное. Огромный зал, уходящий далеко-далеко, пропитался густым, неразбавленным ожиданием – словно каждым фрагментом, каждым камнем и кусочком поломанной глины это место ждало чего-то, дремля до поры, до времени. Попадамс, поддавшись этому сгустку ощущения, даже поймала себя на мысли, что сама стала ожидать. Только вот чего – непонятно.
Но пространство, на секунду словно застывшее от переизбытка эмоций, лопнуло – проткнули его иголки-голоса.
Прасфора догадалась, что лучше бы ей спрятаться и, закопошившись, нашла себе место за грудой големов, притаившись там.
Голоса и шаги становились громче…
– И ты вернулся, – расслышала девушка глубокий бас. – После того, как решил оставить все это гореть синим пламенем?
– Я столько лет проработал с големами, но это… эта идея не лезла ни в какие ворота. Да и то, что мы устроили тогда, – говорил совершенно точно Хюгге, но без задора, меланхолично.
– А теперь ты наконец-то передумал? – Прасфора никак не могла понять, кому принадлежит второй голос. Тот вдруг произнес, отвлекаясь от темы: – Они опять забыли погасить свет…
Девушка прижалась к холодной стенке еще сильнее.
– Нет, – признался Попадамс, – мне просто стало интересно. И я пришел посмотреть…
– Когда все уже почти готово? Приди ты хотя бы на день раньше, можно было бы обойтись без лишних жертв, пусть они того и заслужили. Ты всегда мыслил правильно – смотреть надо на результат, а не на процесс.
Голоса стали совсем громкими – и тогда Прасфора увидела.
Кэйзер пошевелил механическими пальцами, будто растирая нечто в руке. Холодный, как скала – собственно, как обычно, – он даже и не смотрел на Хюгге.
– А я ведь предлагал тебе вещи, от которых не отказываются. Нужно было просто принять мою идею, и все тут.
– Я принял ее, Кэйзер – и жалею до сих пор. Они мне снятся… – обычно лучезарное лицо Попадамса поблекло, словно из солнечного диска вытянули всю краску, превратив из бессовестно-желтого в понуро-серый.
– Да, это было ошибкой, и ты прекрасно знаешь, что я умею их признавать. Но любая ошибка – это опыт, а любой опыт – шаг вперед, чуть ближе к задуманному. И сейчас я стою так близко именно благодаря той ошибке.
Они промолчали, продолжая шагать – мэр внимательно всматривался в поломанных големов. Пройдя часть кладбища и вновь оказавшись вне поле видимости Прасфоры, но вполне в поле слышимости, они наконец остановились около одного голема – такого же поломанного, да вот только…
Трещины были залатаны металлическими пластинами, а на месте отломанной руки находился бронзовый механический протез, такой же, как у Кэйзера – сам по себе протез казался куда мощнее всего остального голема.
Хюгге смотрел испуганно, но восхищенно.
– Твой дедушка… – нарушил тишину Попадамс.
– Не говори мне про него, – нахмурился мэр, сжимая механическую руку. – Вы все всегда говорите про него, про великого Анимуса! Он словно бы заслоняет меня, понимаешь? Падает такой густой тенью прошлого, что все забывают – я это я, а не внук Анимуса.
Кэйзер смолк.
– Все это, – продолжил он, обведя руками зал, – я делаю из-за него, ни больше, ни меньше.
– Но зачем?
– Потому что это единственный способ показать, что я – не его отражение и чего-то тоже стою сам по себе.
– Все это прекрасно знают, – пожал плечами Хюгге.
– Но никто не хочет принимать, – мэр потер сморщенный лоб. – Словно бы не замечает специально. Знаешь, я думал, что, когда стану мэром, центр тяжести – внимания – наконец-то переключится на меня. Я думал, что эта та пружина, которая просто даст людям увидеть, что я могу не меньше деда Анимуса. Но оказалось… это лишь прибавило мне инструментария.
Кэйзер говорил странно, обрывая фразы так, словно бы резко начинал сомневаться в сказанном и решал не заканчивать мысль, чтобы она не вернулась опасным, заостренным бумерангом и не порушила башню из деревянных палочек, карточный домик, который он строил, промазывая швы прочным цементом – только тот пока еще не успел застыть, так что не стоило провоцировать события.
– Впрочем, мое предложение все еще в силе, Хюгге, – мэр вдруг посмотрел прямо в глаза Попадамса. – И сейчас оно куда ближе и реальнее, чем тогда.
Хюгге знал, что Кэйзер обязательно заговорит об этом, и не сомневался, что ответит «нет» – другого варианта быть не могло, без всяких «потому что» – просто не могло.
Но сейчас, когда вопрос все же прозвучал, Попадамс замялся:
– Посмотрим, – чуть ли не прошептал он.
– Побереги мундир, – хмыкнул Кэйзер. – Он еще пригодится.
Когда Хюгге начинал нервничать, или же если ему просто становилось некомфортно, он всегда доставал карманные часы и смотрел на время – вот и сейчас провернул ту же незамысловатую операцию.
Именно в этот момент – словно почуяв – мимо, как стадо разъяренных носорогов, пронесся Барбарио. Алхимик так разогнался, что убежал слишком далеко. Пришлось тормозить и возвращаться обратно.
– Я, я, я… – запыхавшись, пытался начать фразу Инкубус.
– Опоздал, – помог Кэйзер.
– На пару минут, – добавил Хюгге.
– Но опоздал, – мэр дал понять, что тема не обсуждается – словно стальной люк захлопнул.
– Да-да-да, но я поел такой вкусной картошки… – поймав непонимающие взгляды собеседников, алхимик встрепенулся. – В смысле, наалхимичил все жидкости, которые нужно было.
Барбарио довольно похлопал себя по поясу, к которому привязал два пузатых пузырька с красной жидкостью. Кстати, ни один другой алхимик не сказал бы «наалхимичил» – уж слишком с гордо поднятыми головами они обычно шагали, да вот только Инкубус относился к своему занятию, как к простому, но полезному дурачеству. Примерно с таким же чувством дети собирают замок из кубиков или варят кашу из песка с водой – занимаются ерундой, но, с их точки зрения, очень полезной. Барбарио же делал весьма полезные вещи, но, с его точки зрения, абсолютно ерундовые.
Алхимик переключился на Хюгге и протараторил:
– Так и знал, что ты сюда заявишься. Весь день только о тебе и говорю! – Инкубус резко переменился в лице и ткнул пальцем на подбородок Попадамса. – Стоп, погоди-ка… А что ты сделал со своей бородой?! М-да, она и обычная, ты прости и все такое, выглядела так себе, но теперь это просто… сад из одного цветка!
– Я очень быстро брился, чтобы успеть. К тому же, ко мне приезжала племянница… Нестабильность, я думал, приедет брат – потому что сейчас Прасфоре здесь лучше не расхаживать…
Алхимик почесал длинную черную бороду – та зашуршала, как гора осенних листьев – и повернулся к Кэйзеру.
– Ну что, прямо здесь?
Мэр кивнул, попытавшись разжать механическую руку. Та не поддалась.
Барбарио, заметив это, цокнул, отцепил пузырек от пояса и отдал Кэйзеру. Мэр откупорил сосуд, выпил содержимое, сморщился, как от самой противной на свете микстуры, и попытался еще раз разжать руку – та двигалась с завидной легкостью.
– Рубиновая крошка, – как учитель, объяснил алхимик Хюгге. – Считай, что этот раствор на время делает тело одним большим магическим проводником – вот как рубины в головах у големов. И потоки магии позволяют механизму работать. Но это просто… эээ… форс-мажор.
Кэйзер пошарил в кармане мундира и достал оттуда небольшой рубин, вставив в грудь голему. Остальные – на руках, ногах и вместо глаз – уже были установлены, хотя из поломанных големов их всегда вынимали – словно бы совершая эвтаназию, милосердно не давая начать шевелиться вновь.
Мэр же решил вернуть жизнь – все равно, что поднять мертвеца из могилы, не спросив на то разрешение. А он, может быть, специально прыгнул со скалы, попрощавшись с жестоким миром. А теперь вот – опять!
Барбарио подлили рубиновой жидкости в механическую руку истукана.
Кэйзер щелкнул пальцами. Голем, наработавший и еще мгновение назад мертвый, зашевелился вновь. Пальцы на механической руке сжались и разжались – глиняный гигант отпрянул от стены.
Мэр щелкнул пальцами вновь.
– Достаточно, – объявил он.
– Впечатляет, – кивнул Хюгге. – Но ради чего, Кэйзер. Ради чего…
Почуяв, что мэр снова собирается разойтись и запеть свою песню, Барбарио резко замахал руками – как страдающий от ожирения пингвин, пытавшийся взлететь – и объявил:
– О, ты еще не видел гвоздь программы! Кстати, Кэйзер, големов уже давно привезли – и даже больше, чем рассчитывали.
Мэр улыбнулся.
– Значит, теперь самое время убить дракониху.
– Ага, – занервничал алхимик.
– И чего мы ждем?
– Ну, если честно, то тебя, конечно же… Но если это был риторический вопрос – то считай, что я промолчал.
Барбарио и правда умел действовать на нервы.
Прасфора вылезла из импровизированного укрытия, только когда шаги стихли и угасли в конце коридора.
– Нестабильность… они что, собрались убивать дракона?! Просто так?! Альвио бы…
Девушка пожалела, что друга не было рядом – может, хоть он смог бы успокоить, рассказав, что дракона просто так не убить, это занятие долгое и слишком сложное. Но Прасфора просто знала, что под натиском мэра сломается любой орешек, даже драгоценный – особенно после того, как посмотрела на перроне в глаза Кэйзера.
Она давно так не злилась, как теперь. Но только – ругала Прасфора себя – смысл злиться, когда ты все равно ничего не сможешь сделать?
Теперь вопросов к дяде появилось еще больше, потому что… в общем, потому что с мэром Хмельхольма дела обстояли весьма странно. Вроде бы он не вызывал поводов для беспокойства, не проводил дни напролет упиваясь вином в окружении обнаженных дам, не вводил комендантские часы и не устраивал массовые гонения с геноцидом, но горожане все равно чувствовали его власть, которую он держит на привязи, словно бы сохраняя до определенного момента – она окружала его невидимой, но осязаемой железной аурой. Сразу становилось ясно – с мэром лучше не спорить, без всяких на то объяснений причин. Просто – не надо, не тот это человек.
В остальном же, Кэйзер существовал – люди знали, но намеренно вспоминали об этом только иногда. Не со злого умысла, так просто получалось. Когда афиши с лицом мэра не расклеены на каждом углу, а он не устраивает собрания на площади по десять раз за день, сознание, свойственным ему образом, отодвигает фигуру Кэйзера на задний план, делая белым шумом, фоновым верещанием далекой музыки, но с красным-ярлыком пометкой «важно» и «потенциально опасно». В впереди, перед глазами, маячат бытовые дела и проблемы.
К тому же, даже когда о мэре говорили, видели перед собой не Кэйзера, а внука великого Анимуса. Человек-то один и тот же, а разница – принципиальная.
О мэре Хмельхольма не думали так же, как не думают о хроническом соседе-алкоголике за стенкой, пока он ведет себя спокойно – как только начнет вышибать двери, мысли сами кинутся за борт.
Вот и Прасфора почувствовала себя неуютно рядом с мэром – словно коснулась его холодной и суровой, как далекие горные пики, ауры. О том, что улыбающийся дядя с этим связан хоть как-то, думать даже не хотелось, но наступил как раз тот самый случай, когда мысли сами стали выкидываться за борт.
Девушка нащупала в кармане записку Хюгге. Помяла ее.
– Ты еще сама ничего не знаешь, – думала Прасфора, выбираясь из-за големов. – А уже делаешь выводы. Ты ведь понимаешь, как это глупо, да?
Девушка не страшилось внутренних диалогов с самой собой, ведь знала – переживать нужно лишь тогда, когда станешь говорить то же самое вслух. Если еще перед зеркалом, то вообще пиши пропало.
Ответы ждали рядом – в конце кладбища големов.
Попадамс с опаской шла туда, где затихли голоса, и рассматривала големов – иногда они лежали кучами, иногда были аккуратно поставлены, но от каждого из них – без руки, без ноги, с огромной пробоиной или просто отколовшейся кистью – веяло захлестывающей, неподдельной грустью, будто они вовсе и не собирались умирать, ведь не жили никогда. А теперь оказались на кладбище, бесполезные и безжизненные.
Прасфора поймала себя на мысли, что думает о големах, как о людях – а эти мысли считались не то что бы неправильным, просто нерациональными. Тут не возникало вопросов этики, да даже безумных спекуляций (кто знает, вдруг каждым големом заправляет маленький карлик внутри?!) – големы просто были глиняными куклами, работавшими на магии, человекоподобными инструментами, и все тут. Но здесь, на кладбище, от этих исполинов веяло такой неописуемой грустью и тщетностью своего уже не-существования, что Прасфора задним числом жалела их, как маленькая девочка жалеет тряпичную куклу, у которой оторвалась ручка. Хотя проблема-то решается легко – нужно просто пришить новую руку, и игрушка снова окажется в строю. Но с големами так никогда не делали – невыгодно и… неописуемо жутко, все равно, что мертвецу пришивать свеженькую конечность.
Кэйзер, похоже, до этого все же додумался.
Цепкая тревога внутри Прасфоры уже подуспокоилась – но тут она дошла до другой части кладбища и замерла.
Големы здесь стояли подлатанные. Такие же, как тот, с которым недавно возился мэр – только это Прасфора видела краем глаза, а теперь перед ней раскинулась целая картина из сотни големов.
Дыры их были залатаны металлом, отломанные конечности – руки и ноги – заменены механическими, из апатично мерцающей бронзы, пробитые головы закрыты пластинами… Все это казалось одновременно жутким и завораживающим, как алкогольный коктейль со сливками – невероятнее (и страшнее) всего выглядели големы, все конечности которых заменили новыми протезами с торчащими шестеренками, пружинами, рубинами и бронзовыми прутьями.
Прасфора испытала резкое желание убраться подальше. Она словно бы поняла, что не стоило заходить за условную дверь с надписью «НЕ ВХОДИТЬ! УЖАСНЫЕ ТАЙНЫ! НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ»; потому что теперь из бездонной ямы с шипами, которая – о неожиданность! – оказалась за этой дверью, придется карабкаться без снаряжения.
Девушка ускорилась, с надеждой обнаружив, что ворота совсем рядом. Выбравшись с кладбища, Прасфора тяжело задышала и нашла глазами еще один лифт.
Впереди ждали ответы. Ей было интересно – настолько, что интерес буквально из ушей лез. Но глубоко внутри – в свинцовом цеху комплексов и жестких предустановок – складывалась привычная для Прасфоры мысль: «Кто я такая, чтобы вообще этим интересоваться? Я – это просто я, обычная… Прасфора. Ни больше, ни меньше».
Обычно Прасфора шагала через себя – как охотник, сам же усеявший всю поляну капканами, и теперь пытающийся перебраться на другой ее конец. Шаги давались тяжело, со скрежетом трущихся друг о друга валунов, но приближали, потихоньку, к цели – даже если цель эта, вроде как, не входила в компетенции Попадамс. «Я просто я», – вновь думала в таких случаях она.
Сейчас же нутро как-то само перешагнуло через себя, даже этого не заметив.
– Я ведь спасалась от преследования, – оправдалась Прасфора перед собой же. – А тут не висит табличек «вход воспрещен». Тем более, я не виновата, что поезда не будет до утра – давно бы уже уехала домой.
Прасфора шагнула на платформу лифта, нащупав тетрадь Альвио – хорошо, что она не выпала по дороге. Огромный карман безумно теплого шерстяного свитера оказался отличным хранилищем, почти что бездонным – чуть-чуть не дотягивал.
Девушка долго думала, куда дернуть рычаг – вверх или вниз, и только когда положила на него руку, заметила, что этот лифт-платформа может только спускаться.
– Ну что же, наверняка, там есть, на чем подниматься – как-то же люди оттуда выбираются.
Прасфора дернула рычаг. Невидимые магические потоки – которые, если прикрыть глаза и вообразить их на мгновение, стали бы фиолетовыми – завихрились, запуская шестеренки. Прасфора спускалась в темноту.
На поверку, темнота оказалась не такой уж темной и далеко не беззвучной – молотки, механизмы и металл гремели здесь так, что мозги подпрыгивали в черепной коробке.
Попадамс спустилась в цех.
Это, похоже, снова оказалась метафорическая яма с шипами – здесь чинили големов.
Прасфора знала, что големов создают именно здесь, в горном Хмельхольме – обжигают их глиняные тела, устанавливают рубины по схемам, оставленным Анимусом, а потом развозят по остальным семи городам. Попадамс слышала об огромных печах с бушующим внутри красным пламенем, где големы приобретают форму – рассказы будоражили воображение, но то, что девушка видела сейчас, будоражило его куда больше.
Раскаленный метал приобретал форму, детали протезов лежали на двигающихся конвейерных лентах, толкаемых работающими на магии шестеренками. В некоторых частях цеха стояли сами големы – поломанные и покореженные, – которым устанавливали, припаивали бронзовые протезы податливым металлом и мягкой глиной.
Прасфора стояла здесь совсем немного, но уже успела вспотеть.
Потом увидела те самые печи горного Хмельхольма. Точнее, всего одну печь, но ее более чем хватало.
Огромная, в несколько ярусов до потолка, она извергала такое обжигающее пламя, что, казалось, иссушала людей изнутри, выпаривала всю влагу – ощущение пустыни, сухой и колючей, здесь достигло своего апогея. Языки рыжего пламени облизывались, игрались словно кудрями в потоке сильного ветра во рту огромной печи. Любой огонь можно было усилить с помощью магии, пустив потоки, пронизывающие все сущее, в пламя. Прасфора даже представить не могла, сколько нитей магии использовали здесь. Волшебники даже спички и конфорки магией усиливали, – почему нет, раз есть такая возможность? – а тут можно даже не гадать, что голодное печное марево питается всем, чем только можно. Само по себе магическое пламя сине-фиолетового цвета никогда не обжигало, но прекрасно светило, вот и приходилось ухищряться, чтобы «огню а-ля классик» (как шутил Альвио) придавать мощи.
Когда побочно-гипнотический эффект завораживающей печи ослаб, Прасфора поняла, что она стоит, как истукан, обливаясь потом, и хлопает глазами. Все это на виду рабочих. Так что она уверенно – как могла – зашагала вперед, зная, что движение привлечет не так много лишнего внимания.
Прасфора совершенно не хотела казаться угрозой. Она вообще ничем никому не хотела казаться – ей достаточно было быть просто Прасфорой. Обычной собой, которая слишком… ну, слишком уж Прасфора, чтобы лезть в чужие дела и что-то предпринимать. Где, скажите на милость, все остальные люди, и где она? Правильно, они – каждый из них – там, наверху, а она, Прасфора Попадмс, в самом низу, под ней – только зияющая своим соблазнительным шепотом пустота.
Девушку это не расстраивало, потому что с ее точки зрения было чистой правдой. Кто она такая? Правильно, обычная Прасфора. А обычным Прасфорам положено быть самыми неважными из всех людей.
Она бы и не пошла сюда, но убийство дракона… казалось вещью немыслимой. Особенно, когда в этом как-то замешан твой родной дядя – девушка до последнего надеялась, что это не так, теребя записку в руках, но не читая. Не простила бы себе нарушенного обещания.
Тут Прасфору схватили за руку. Она рефлекторно дернулась с максимально возможной силой, только потом – обернулось.
За запястье ее крепко держал дядя.
– Прасфора?! – опешил он, и голова задергалась на невидимой пружинке. – Что ты тут делаешь?! Тебя здесь ни в коем, понимаешь, ни в коем случае не должно быть…
– А что вы здесь делаете? – задала девушка ответный вопрос. Долго не решалась, но все же продолжила: – Зачем вы собрались… собрались… убивать дракона?
Хюгге так и замер с заледеневшим лицом. Бородка – ее остатки – нервно задергалась. Он оттащил Прасфору в сторону и зашептал.
– Прасфора, я прошу тебя, прямо сейчас убирайся отсюда! Просто передай отцу записку…
– Нет, секундочку, – запротестовала девушка. – Я же имею право получить ответы на вопросы у родного дяди, который притворялся больным и теперь…
– Не притворялся. Это нервы. Ты не знаешь, Прасфора. Не знаешь, что там… – он ткнул рукой в сторону тоннелей, уходивших глубоко-глубоко. – Там живут воспоминания.
– А еще – драконы, которых вы собираетесь убить. Хотя бы скажи мне, что это не так и я не права. Прошу тебя, пусть это будет так…
Он сглотнул.
– Ты и голема видела, да?
Девушка кивнула.
– Нестабильность… Прасфора, прошу, иди отсюда, потому что если Кэйзер увидит…
Ей захотелось ударить его – иррационально, будто воллей первобытного инстинкта влепить пощечину, и пусть он ее родной дядя, неважно. Но… Но в то же время в голове четко отзвенело: кто она такая, чтобы осуждать его? Чтобы осуждать кого-либо?
Ничего не произошло. Их прервали.
– Хюгге? – перебил приближающийся бас Кэйзера. – Ты… так, а кто это?
– Кэйзер, это… ммм… моя племянница. Она вот случайна пошла за старым дураком, привезла мне лекарство, и…
– Не нервничай так, – махнул мэр металлической рукой. – Мы виделись на вокзале.
Кэйзер повернулся к Прасфоре.
– Вы ведь в курсе, что вас здесь быть не должно? Что…
Она не собиралась говорить то, что сказала – а потому все внутренние предустановки взбунтовались, напряглись, заработали на полную мощность. Но Попадамс не обратила внимания на их сигналы.
– Вы собираетесь убить дракона! Зачем нужно его убивать?!
– Значит, вы…
Прасфора знала и без помощи проклятущих комплексов, что в данной ситуации не сможет ничего сделать, изменить. Переть против мэра, все равно что ворота крепости соломинкой таранить. Но вдруг внутри не пойми откуда взялся порыв, словно вихрь горячего воздуха, толкнувший ее вперед – сделать очередной шаг через себя. Словно она снова собиралась шагнуть на кухню, зная результат заранее.
– Нет! – неожиданно крикнула она, отскочив в сторону. Оказалась за спинами мэра и дяди. – Я не дам вам его убить! Это ведь вовсе незачем делать… Я читала о драконах в тетрадке Альиво и, и…
Прасфора загородила путь в тоннель. Вот теперь точно привлекла к себе лишнее внимание.
– Вы, наверное, и про грифонов читали, – холодно сказал Кэйзер.
Хюгге нервно дернулся.
– Грифоны – сказка! Но сейчас вы собираетесь, – девушка вдруг переменилась в лице. – Стоп, то есть…
Договорить она не успела – ее перебил грохот. Нарастающий и ревущий, он будто сотряс землю – своды этой пещеры заходили ходуном, пламя в печи заколыхалось будто в панике. К разлаженному хору звуков присоединилось железо, у рабочих падали из рук инструменты.
А потом посыпались камни. Пещера начала обваливаться, выплевывая камни вперемешку с пылью и песком, которые плотными облаками валились с потолка.
Но, что ужаснее, затрещал пол. Камни будто сомкнули зубы.
Прасфора не устояла. Порода под ней вдруг стала будто жидкой, даже болотной, потом захрустела, затрещала…
Девушка поняла, что ноги ее больше не держат. Не на чем. Вместо того, чтобы удариться спиной о холодный камень, Прасфора провалилась. Девушка полетела вниз, в абстрактную черноту – сознание бледнело, и даже вырвавшийся крик оказался лишь жалким подобием дымчатого звука.
Обвал прекратился.
Кашляя из-за облаков пыли, песка и измельченных камней, Хюгге подбежал к дыре в полу – заглянул туда, увидел только черноту, хрипло вздохнул.
– Прасфора… – прошептал он. – Кельш, ну почему не приехал ты…
Кэйзер положил механическую руку ему на плечо.
– Нам бы все равно пришлось что-то с ней делать. Она узнала. Лучше уж, что это случилось само собой. Иначе…
– С каких пор ты стал таким жестоким? – Хюгге отряхнул белоснежный мундир.
– С тех пор, как вышел на финишную прямую. Сейчас даже малейший сучок может пустить все под откос.
Их разговор прервал несущийся со всех ног – скорее катившийся – Барбарио. Он кричал:
– Ну вы идите?! Дракониха сама себя не убьет, к тому же, она опять разбушевалась. Вон, до обвала! Знали бы вы, как я не хочу спускаться так глубоко… а торчу там уже дольше вас!
– Если ты не будешь бояться, – отрезал мэр, – то и страшно не будет.
– Нет, мне там по-настоящему жутко. И ты знаешь, почему – я не хочу наткнуться на те вещи, на которые ты только мечтаешь. На которые уже наткнулся. Да быстрее же, прошу вас!
Они спустились по темному тоннелю – Инкубус зажег маленький магический фонарик, легонько отпугивающий мрак. Такую густую черноту и солнце не сразу испепелит.
Дракониха, успокоившись, лежала, намертво связанная цепями. Золотая чешуя блестела, обливая последствия обвала будто закатным солнцем. Большие, насыщенные отборным янтарем глаза рептилии словно притушили, заслонив матовым, даже слегка затемненным, стеклом.
– Итак, – объявил Барбарио, закопошившись в балахоне. – Сейчас я дам ей понюхать один раствор, и она придет в себя окончательно. Полностью и бесповоротно, так что надо действовать…
Алхимик нервно откашлялся.
– Иначе есть шанс, что следующий обвал похоронит нас здесь заживо. Учитывая обледенелый потолок…
– Можешь мне не рассказывать, – остановил мэр Хмельхольма. – Начинай.
Кэйзер взял заостренный, старый меч, каким явно пользовались его предки. Оружие, видимо, было фамильными – слишком уж красивая, с декоративным хвостом дракона и парой головой грифонов, гарда. Мэр проверил меч – дотронулся до лезвия пальцем. Моментально заработал порез, набежала кровь.
Инкубус приготовил несколько склянок. Одну – чтобы привести рептилию в себя, другую – чтобы жидкость разъела металлическую чешую, позволив нанести удар. Барбарио гордился этими алхимическими формулами, но руки все равно потрясывались.
Все началось и случилось чересчур быстро.
Одна разбитая колба у носа драконихи – та глубоко задышала, глаза заблестели. Она попыталась разорвать цепи. Камни загрохотали вновь.
Вторая – и чешуя будто окислилась, покрылась непонятно чем, похожим на ползучую ржавчину. Чешуйки стали отваливаться.
Кэйзер действовал быстро. Схватил меч обеими руками, подошел к брыкающейся драконихе, посмотрел прямо в глаза.
И тогда услышал – она вновь заговорила с ним.
«Ты – никогда не ты. Лишь тень деда…»
Мэр вышел из себя, потеряв стальную выдержку – все, хватит. Со всей силы он воткнул меч в плоть драконихи, прямо в сердце (конечно, они с Барбарио все рассчитали). Прокрутил и вытащил, тяжело задышав. Бросил оружие на землю.
Приподнятая морда драконихи рухнула, тело обмякло, глаза – побелели, словно обратившись тающим снегом.
– Как неэстетично, – пробурчал Барбарио, пряча склянки.
– Готовь остальное, – Кэйзер сделал глоток рубиновой настойки и зашевелил механической рукой, схватившись за голову. – Мы начинаем.
Подумав, добавил шепотом:
– Дедушка…
А Хюгге Попадамс, молча наблюдавший за всем происходящим, мысленно же думая о неотвратимой судьбе Прасфоры, утонул в мрачных, холодных, как ключевая вода, и вязких, как торфяное болото, воспоминания.
Он и не надеялся убежать от них, оказавшись так глубоко – они жили здесь, далекие, но, казалось, чрезвычайно свежие.
А совсем в другом месте, в жаркой бархатной ночи, разливающейся оттенками синего бархата, на зеркальном морском берегу, где шелковый песок ковром щекочет ноги, а чайки пикируют пятнами белой туши… В торгово-портовом городе Златногорске, на родине Философского Камня, где понятия честной сделки не существовало, «обдурить покупателя» значило «реализовать предпринимательскую способность», а контрабанда была словом таким же частом в обиходе, как «привет», «пока» и «спасибо», в трюм очередного корабля плюхнулись ящики с нарисованным ухмыляющимся лицом на досках.
Один портовый грузовой кран, работавший, как и все механизмы, на магических потоках, судорожно дернулся.
Грузчики вытирали пот со лба. Они закончили проносить на борт контрабанду – которая, опять же, в Златногорске таковой не считалось – и решили перевести дух. Они ухмылялись – снова так много этой Магической Карамели, которую когда-то придумал здесь, в Златногорске, карамельный магнат Ля’Сахр. Правительственный Триумвират запретил ее из-за побочных эффектов, которые могли превратить человека в горстку праха, но десятки ящиков все равно грузили в трюм корабля, карамель пользовалась популярностью во всех семи городах. Только она делала магию интересной – позволяли вытворять все, что угодно, становиться компактным демиургом и пускать в воздух огненные шары. Ради этого рисковали, почти всегда – с печальными последствиями.
Вот и сейчас очередной корабль отплывал из порта, рассекая голубую ночную мглу. А грузчики, свесив ноги с причала, курили. Но тут один из них, возившийся с бумагами, рассмеялся так громко, что разбудил и распугал всех ближайших чаек.
Маленький коренастый грузчик чуть не проглотил свою самокрутку.
– Тебе что, луна напекла? – откашлялся он. – Ночь на дворе, а орешь, как… как стая чаек!
Он искал самые простые и понятные любому дураку сравнения – то, чего вокруг было в достатке, не подводило.
Чайки поблизости, видимо, согласились и тоже заорали.
– Бумаги, – еле-выдавил через смех грузчик. – Посмотрите в бумаги!
Буквально умирая от хохота, он вытянул стопку бумаг. Тот, кто чуть не подавился самокруткой, с хмурым видом взял листы, разложив на причале – остальные грузчики, человек пять, собрались вокруг.
Сами по себе документы были ни капли не смешными и до одури скучными: опять заказ на карамель, правда невероятно огромный. Но, когда глаза мужчин дошли до самого конца сплошного текста, они увидели там фамилию заказчика – она оказалось одновременно отвратительной и уморительной.
«Испражненц»
Перечитав ее несколько раз, мужчины улыбнулись.
А потом ночь закашляла хриплым смехом грузчиков. Чайки, догадавшись, что проиграли эту битву голосов на истошных частотах, сдались и махнули далеко в море, рассекая воздух белой бритвой.
Глава 4. Лучше гор только… грифоны
Немая темнота тлела, сознание рвалось наружу с многократной силой, надавливаясь на тонкую пленку, грань между «быть» и «не быть» – но рвалось, прикладывая все возможные силы, сжимаясь в потоке фантомных спазмов, потому что знало: не сдаваться, не сдаваться…
Прасфора очнулась – вокруг была только боль.
Точнее, оставался шанс, что было там что-то еще, просто невидимое, а потому боль, по праву молодого монарха, занимала даже сетчатку глаз – она мерцала убийственно-красным, постепенно теряя цвет и мутнея.
Сознание вернуло контроль над телом, подсказав девушке: болит не все вокруг, и даже не тело целиком – только бедро, рука и ребро, всего-то. Старый шрам на щеке тоже щипал. При твоих размерах, тут же добавило сознание, считай, словно на перину упала. Вот это уже заверещали комплексы, вечные ранние пташки. Прасфора еще не успела вспомнить, что произошло – а они уже тут как тут.
Гудящая сотней назойливых комаров голова успокаивалась, Попадамс ощупывала пространство – поскольку с ней самой, по ощущениям, все было в порядке, хотя бы без крови и торчащих в разные стороны конечностей, Прасфора решила понять, где оказалось. Руки нащупывали только холодные острые камни.
Вернулись другие чувства. Тут правда оказалось безумно холодно, даже свитер не помогал, словно бы кто-то открыл форточку и не захлопывал несколько столетий, пока дикие ветра хрипло, но задорно свистели.
Видно все еще ничего не было – и тогда, когда мозг, по всей вероятности, включился на полную катушку, Прасфоре стало по-настоящему страшно. Почти так же страшно, как на кухне.
Она не презирала темноту, особенно такую густую и концентрированную – отец часто смеялся, что в детстве Прасфора спокойно относилась к мрачным погребам и комнатам, но когда подросла… девушка словно переосмыслила темноту, смогла разглядеть ее получше и понять – как мыслитель, после годов созерцаний в позе лотоса наконец-то разглядевший прозрение. Прасфора вовсе не боялась монстров, живущих во мраке, или любых других тварей – хотя, здесь как посмотреть…
Став взрослой, Попадамс разглядела в темноте себя – каждого человека, если быть откровенном.
В том-то и проблема, давно решила Прасфора – в каждом из нас живут тени: большие, маленькие, может вообще только их побледневшие огрызки, неважно. Оказываясь в полной темноте, кажется, что вокруг наша собственная тьма, тайком от нас выбравшаяся наружу; потому и страшно, ведь думала, что это нечто из вене, обманывала себя, уверяя, что оно чужое – а оно, это темное сосредоточение, вылезло прямиком из тебя, кипя мраком, поглощая изнутри…
Зло внутри нас, не из вне – и сейчас оно было повсюду.
Вариантов развития событий, несмотря на все споры метафизиков, было два: оставаться сидеть не месте, отдав в себя в чумазые руки судьбы, или идти в темноту – направление неважно, главное просто идти.
Прасфора всегда выбирала второй вариант – так появлялся хоть маленький шанс самой влиять на события, а не отдавать эти возможности кому-нибудь… или, в данной ситуации, чему-нибудь другому.
Шагнуть в темноту куда лучше, чем утонуть в ней от бездействия.
Девушка приподнялась, нащупывая руками холодные подземные камни, похожие на притупившиеся бритвы – опираясь на них, Попадамс более-менее вернула равновесие. Тело ныло, но функционировало.
Прасфора проверила, при ней ли тетрадка Альиво. Та, благо, не выпала из глубокого кармана. Там же оказалась и записка дяди. Воспоминания снова мотнулись назад, дрожь пробежала по телу: дядя, убийство дракона…
Что же ты скрываешь, дядя? И от каких воспоминаний прячешься?
Ей снова стало страшно, как человеку с панической боязнью высоты, которого друзья все же притащили прыгать с парашютом. Но других вариантов не оставалось— нужно идти, в конце концов, это ведь горный Хмельхольм, и быть не может такого, чтобы даже самые глубокие тоннели не вели наверх.
Так просто обязано быть.
Прасфора зажмурилась – как делала всегда, когда перешагивала через себя, через внутренние сомнения, страхи и замки́-установки, блокирующие поведение – и пошла, стараясь не отпускать холодных камней.
– И почему так всегда, – думала она, пока мысли возвращали себе сияющую ясность. – Всегда нужно перебарывать себя. Почему нельзя, чтобы все было проще?
Проще было – у других; но не у Прасфоры, которая тащилась вперед, гремя тяжелыми цепями сомнений и комплексов, навешанными на себя самостоятельно.
Заря играла разбавленным молоком, умывала город оттенками настолько тонкого и неуловимого света, что он казался по снежному белесым, а в каплях воды на мокрых мостовых и вовсе превращался словно в дымку, затуманивал лужи, превращая их в покрытые пеленой зеркала, искажающие отражения багряных черепиц Хмельхольма. Сам город – как и жители – только просыпался, входил в фазу между сном и бодрствованием, когда свет может быть фантастическим и ни на что не похожим – свет, собственно, таковым и был, чего уж ему мелочиться.
Альвио сидел с заспанными, покрасневшими глазами, и смотрел в окно – он может и восхитился бы такими видами, но рассудок его плавал в рассоле недосыпа, а глаза резало от белоснежности, но отводить взгляд не хотелось. Так хотя бы был шанс не уснуть.
Всю ночь он проработал – не то чтобы дела были столь срочными, просто драконолог не мог уснуть. Почему-то он волновался, и никак не мог понять, из-за чего конкретно.
Нет, конечно, он понимал – из-за Прасфоры. Но почему конкретно внутри возникла щекочущая тревога, не дающая спокойно сидеть на месте – непонятно. Альвио видел далекую грозу над горами и понимал, что поезда отложили до утра, но это не конец света, ничего страшного – гром и молнии можно переждать в городе, в горной его части, а на утро просто вернуться обратно, только вот тревога… тревога появилась еще поздним вечером, когда он пришел с вокзала и заварил травяного чая.
Потом, ни с того ни с сего, ему стало не по себе – драконолог думал, что это все разговор с Фюззелем, но тревога укоренилась глубже… хотя и разговор на это тоже повлиял.
Когда Альиво нервничал, он пил очень много жидкости, так что за ночь пришлось убить чайников пять. Травы так успокоили нервы, что они дергались уже из последних сил, словно ударяя кнутами самих себя – их успокоили, но они успокаиваться не собирались.
Так вот, драконолог знал, что на утреннем поезде Прасфора вернется. Следов горной грозы уже не осталось. Но…
Вот именно – просто «но», одно большое «НО», сидевшее сейчас на стуле вместо Альвио, не давало покоя.
– Утро, – успокаивал себя драконолог краем сознания, уже почти заснувшим, – только началось. В такую рань поезда не ходят, надо подождать…
«НО» от этого не уменьшилось.
Альвио зевнул и оглядел комнату – коричневые шкафы, заставленные толстыми книгами, тетрадями и алхимической ерундой, казались чересчур нечеткими и размытыми. Единственное, что драконолог увидел отчетливо – красного-розового гомункула в баночке. Альвио даже поправил очки – гомункул чересчур нервно дергался. Хотя, слово «дергался» применительно к запертому в банке гомункулу на ум приходит последним.
Гомункулов создавали из алхимической жидкости – густой, как кисель – с примесью рубиновой крошки и разливали по банкам. Рубин позволял магическим потокам задерживаться в теле этих тварей, и они оказывались вполне себе живыми даже в банках. А когда сосуды откупоривали и выливали жидкость, гомункулы приобретали форму, напоминая ходячее желе в форме маленького чертенка, с глазами навыкат. Потоки магии, пронизывающие реальность, проносились сквозь них – существа жили, носились и, самое главное, выслеживали. Гомункулы во многом были куда полезнее гончих, ведь могли найти кого угодно не по запаху, а по магическому следу, который тот оставлял – а еще, избавиться от них оказывалось величайшей проблемой. «Желе» постоянно меняло форму, перетекало, а потому тела тварей были непостоянны, незначительно менялись прямо на ходу. При этом всякий знал, что гомункул – это не Искусственный Человек, которого только предстоит создать, не еще одно из Алхимических Чудес.
Гомункулы были противными, мерзкими, но в определенных ситуациях – безумно эффективными. Как и големы – живые, но совсем в непривычном понимании жизни.
Альвио вздохнул и, прорываясь через накрывающий с головой сон, прикрыл глаза – он вспоминал, как видеть магию.
Волшебники могли видеть тонкие нити-потоки магии, голубые и фиолетовые, пронизывающие реальность плотной паутиной. Но Альвио настолько перехотел быть волшебником, что все уже давно позабыл – и старался не вспоминать. Гомункула он купил давно, забавы ради, уже не обращал на него особого внимания, но сейчас, в состоянии на грани сна и реальности, драконолог насторожился.
Нитки магии долго не хотели возникать – Альвио даже натужился. А потом они вспыхнули ярким фейерверком искр, осветив черноту перед глазами фантасмагорией переливов. Нити нервно дергались, словно что-то взбудоражило их – а потому дергался и гомункул.
Альвио открыл глаза и вытер вспотевший лоб – раньше ему это давалось куда проще. Мастерство, конечно, не пропьешь, но забудешь – на раз два. Особенно если будешь специально делать все, чтобы забыть.
В углу мерцала магическая аномалии, этакое волшебное приведение из магии. Оно и ему подобные появлялись, как комары, клопы, мыши и тараканы – внезапно, случайно и не к месту, но никто хотя бы не орал и не кидался посудой, чтобы прихлопнуть их. Люди привыкали к ним, но все равно, аномалии действовали на нервы – а волшебники знали, что действуют они еще и на ткань реальности. Эти сущности появлялись, когда количество Нестабильности в определенном месте случайно превышало Стабильность, и из отношения 50/50 перекашивалось в другую сторону. Так пространство становилось магией, излишней и ненужной, она вырождалась в виде аномалии. Такие словно бы выхлопы реальности происходили периодически, были частью хода вещей, но иногда они происходили из-за всплесков магии, которые вызывали люди.
Люди, вообще, источники многих проблем – просто очень часто списывают все на естественные причины.
Аномалии не любили, и легко от них избавлялись. Волшебники запросто использовали эту лишнюю магию, чтобы зажечь магическое же пламя, а простые горожане звали либо волшебника, либо специальную службу с прибором определенного рода, который назвали Аномалососом. Он, в бронзовом корпусе, с рубинами и трубками, втягивал аномалии и рассеивал излишки магии в небольшом магическом пламени внутри своего корпуса – голь на выдумки хитра.
Драконолог подошел к аномалии и зажег магический огонек – тоже с трудом, но этот трюк он хотя бы не забыл. Когда аномалия пропала, а синее пламя в руке потухло, Альвио ощутил ноющую боль в руке. Да, вот что значит отсутствие практики.
Он вновь перевел сонный взгляд на баночку с гомункулом – видимо, вся причина крылась в назревающей, как прыщик на лбу, аномалии, вот магические потоки и раззадорились.
Альвио поправил кругленькие очки. Жидкость-кисель – гомункул – все еще дергалась, намекая на совсем иные причины для беспокойства.
А под окнами, незамеченные, топтались три фигуры.
Прасфоре показалось, что в тоннеле, запутанном и нескончаемом, посветлело, будто бы от далекой магической лампы падал усталый свет. Разочарование ударило по голове так же быстро, как и надежда – это был никакой не свет, просто глаза девушки привыкли к мраку, подсвечивали его и придавали новых оттенок.
Она шла уже… впрочем, сама не понимала, сколько. Время под землей словно загустело и схлопнулось. Но по всем законам логики, тоннель должен был давно кончиться – только этого не происходило. Один перетекал в другой, тот – в еще один, и эта бесконечная, кривая подземная кишка вела в никуда.
Спасал здравый смысл – если тоннели есть, значит кто-то их выкопал, и куда-то они ведут. Правда, пока никакого намека на «кого-то» не нашлось, и никакого «куда-то» тоже не наблюдалось.
Поэтому Попадамс стали посещать странные мысли: может, в простой формуле стоит заменить «кто-то» на «что-то»? Это, конечно, маловероятно, но кто (или что?) его знает…
В темноте Прасфору стали одолевать те эмоции, о которых она раньше не знала. Точнее, ладно, знала, конечно, и отдавала себе в этом отчет, но просто не хотела принимать, отодвигая на самые пыльные полки в голове – как нелюбимые игрушки, о которых не хочешь вспоминать, но знаешь, куда их убрал, и если нужно будет, всегда сможешь продать на барахолке. Страхи, эмоции, сомнения и тонкие иголочки-коготки злости, до этого знавшей свое место, а теперь разгулявшиеся, ползли все ближе и ближе к голове Прасфоры.
Девушка никогда не давала им волю, не поваляла занять вакантное место в сознании, держала себя в узде, ограничивала – как и во многих других вещах – просто ради того, чтобы блокировка, поставленная ей же, не слетела. Сломайся предохранитель, и оружие выстрелит в самый неожиданный момент. А Прасфора не могла себе такого позволить – ни на секунду.
Проблема в том, что для Попадамс практически все было смертельно опасным выстрелом – даже то, что и мухи-то ранить не могло.
Едкая шутка, сказанная вскользь, без злого умысла, в любом контексте казалась Прасфоре осколочным взрывом – хотя для большинства собеседников оставалась либо легким уколом, либо приятным напоминанием, что шутить разрешается.
Поговорить было не с кем. Девушка шла, купаясь в бушующем океане собственных мыслей, большая часть которых звучала примерно так: «почему же я такая неуклюжая», «да как меня угораздило», «я такая некрасивая и никак не возьму себя в руки», «наверное, я слишком резка была с дядей и с теми детьми в городе», «почему я никак не доберусь до мечты? Слишком плохо стараюсь, видимо», «ни один человек в здравом уме не боится кухни, а я, дура, боюсь» и прочая, и прочая…
Но Прасфора шла – другие бы уже давно сели и разочаровались в себе. И буквально, и фигурально.
В темноте что-то бликнуло. Попадамс остановилась и пригляделась – вскоре девушка поняла, что ничего на самом деле не бликало. Впереди просто лежало нечто белоснежное на фоне мрака, так что мозг воспринял это за вспышку.
Прасфора пошла к этому непонятному объедку изображения, как мотылек на лампочку. На мгновение девушке пришлось отпустить каменные своды. Из-за непроглядной темноты Прасфоре показалось, что она не стоит, а парит, и там, точнее, везде, абсолютно везде – глубокая пропасть, сжимающаяся со всех сторон.
От греха подальше, Попадамс встала на четвереньки. Ощущение земли и равновесия вернулись. Прасфора кое-как доползла до бельма в темноте – будто бы какого алхимического отбеливателя – и коснулась его.
Оно было холодным и гладким. Глаза девушки наконец-то включили режим ночного видения – и тогда она им просто не поверила, решив проверить наощупь еще раз. Да, конечно, гладкое, белое, холодное – вот выпирающая макушка, вот пустые глазницы, а вот… клюв.
Девушка чуть не достала тетрадку Альвио, правда вовремя вспомнила, что все равно ничего сейчас там не увидит. Но сомнений больше не осталось. Как бы фантастически это не звучало…
Перед Прасфорой лежал череп грифона.
На Альвио смотрели так, будто бы он только что одной рукой остановил поезд на полном ходу. Взгляды искрились удивлением, предосторожностью и непониманием. Хотя, вернее будет сказать, что на Альвио смотрели как на пещерного человека, резко, словно от звона колокола над самым ухом, пробудившегося ото сна.
И драконолог действительно мог навести на разные мысли. Сранья, когда дыхание утра уже успело согреть по-осеннему морозный и острый воздух, щекочущий и обжигающий ноздри, Альвио шел по городу с красными, слипающимся глазами. Скорее, он даже тащился – шатался из стороны в сторону, но общую траекторию сохранял. Потрепанные волосы вылезали из-под чудаковатой шапки, ни то остроконечной, ни то – прямо как у стереотипного художника (многие в шутку звали ее тупоконечной). Очки съехали набок, а шарф, завязанный как попало, стал таким самостоятельным, что готов был задушить хозяина – этакая красная шерстяная змея вокруг шеи.
Альиво на голову свалилось уже несколько багряных листов, но драконолог даже не хотел тратить лишних сил, чтобы их смахивать. Черепичные крыши ползли мимо с привычной скоростью, но в голове Альвио они казались немного не такими, как обычно. Чутка… эээ… раздвоенными.
– Во дела, – подумал драконолог. Обычно ноги шли по городу на автомате, но сейчас приходилось задумываться, куда повернуть, чтобы прийти к «Ногам из глины». – Так, понятно все. Сначала – крепкий чай, потом – все остальное.
Альвио догадывался, что это обещание перед самим собой он точно не выполнит.
Он повернул, выходя на другую улицу. Кто-то шмыгнул за ним. Драконолог ничего не заметил – шел, видя исключительно цель.
Ему захотелось проверить, как идут дела в «Ногах из глины» (он знал, что хорошо), а заодно узнать, вернулась ли Прасфора (он знал, что еще нет), ну и до кучи рассказать Кельшу о беспокойных мыслях (он знал, что тот мыслит так же). Альвио понадобилась все это знать. Просто потому, что обратное означало бы «не делать ничего».
А не делать ничего – значит, винить себя за возможные последствия.
Драконолог решил срезать дворами, привычно тихими для этого времени суток. Даже дома, казалось, дремали. Альвио расслабился еще больше, даже не заметив чужих шагов – списал их на свои.
Обернулся драконолог только когда его постучали по плечу – и тут же отлетел к стене, получив кулаком в глаз. Очки слетели с носа на брусчатку, но хоть не разбились. Драконолог, даже не успевший ничего сообразить, получил еще один удар. Сзади его схватили под руки, а чьи-то еще руки – их что, выходит, трое? – стянули шарф и кинули в сторону.
– Ну привет, – улыбнулся тот, что ударил первым – с щетиной недельной давности, которая никак не становилась бородой. – Отличное утречко, да?
– Какой нестабильности вы…
Он ударил еще раз – на этот раз в живот.
– А вот сейчас говорю я. Знаешь, очень нехорошо переходить дорогу большим людям – у них большой не только карман, но и память. Понимаешь?
Альвио молчал.
– Ну вот и славно. Мы тебя тут слегка изобьем, а ты не дергайся, ладно? Жить будешь, не дрейфь.
Щетинистый кивнул. Тот, кто держал драконолога, схватил его еще крепче. Удар, второй, третий – Альиво закашлялся и повалился на землю, нащупывая очки.
– Ну вот и замечательно, – буркнул щетинистый. – Счастливо оставаться.
– Не-не, стойте, – вдруг сказал третий, тот, что стянул шарф. – Сейчас мы этой птичке слегка подпалим перышки…
– Не понял?
Третий ухмыльнулся и достал из внутреннего кармана потертого пиджачка красноватую карамель на палочке. Она недобро моргала кровавым в лучах утреннего света.
– Так, стоп, – поднял руку щетинистый. – Этого нас не просили делать. И ты… Ты что, стащил карамель?!
– Одолжил, – поправил тот. – Да я легонько…
– Слушай, – подключился до этого молчавший – низенький и крепкий, тот, что держал Альиво под руки. – Ты что, газеты не читаешь? Эта хреновина…
И он все равно лизнул карамель несколько раз. Потом поцокал
– Клубничная, – объявил он.
Закрыл глаза, напрягся – на лбу аж венки проступили – и тут в руке его возник сгусток красного пламени, огненный шар. Мужчина открыл глаза и заулыбался.
Альвио смутно различал, что происходит, но карамель в руках увидел. Подумал только: «Дурак», но глаз закрывать не стал.
Мужчина с огненным шариком в руке уже было размахнулся, но тут вдруг схватился за голову, потом скрючился, а потом… легкая вспышка, и тело его вдруг стало нестабильным, словно запузырилось, зашаталось, как оригами на ветру. Обратилось кучкой пепла – карамельный леденец на палочке упал на брусчатку, расколовшись.
– Говорил же про побочные эффекты… – прошипел низенький.
– Идем отсюда, – позвал его щетинистый. Потом повернулся к Альиво, отвесил поклон: – Теперь точно счастливо оставаться!
Для уверенности сначала щетинистый, потом низенький пнули его ногами.
Драконолог не помнил, сколько пролежал – боль отзывалась во всем теле пульсирующей магмой. Кое-как Альиво встал, поднял очки, шарф, криво накинул его на шею, сплюнул кровь, вытер ее же под носом и поплелся дальше
Наконец-то добрался до «Ног из глины». Дорога, которая обычно занимала пару минут, сейчас показалась многолетним путешествием по пустыне. Но знакомая черепичная крышка с характерной вывеской окропила ледяной водой бодрости.
Альвио даже ускорился.
В туманном состоянии полусна-полубреда мозг способен творить удивительные вещи: например, убыстрять музыку в ушах, хотя на самом деле музыканты двигают смычками с той же скоростью. В такие моменты сознание особо чутко – оно словно старается выхватить самые яркие детали из общего мрака размытого мира. Волей-неволей приходится замечать то, на что в обычном состоянии никто бы и внимания не обратил.
Вот и Альвио, только-только ускорившись, опять замедлился – у стены, вытянувшись на мысках, стоял господин Фюззель. Он схватился за отлив и заглядывал в окно так, словно бы нашел идеальную форму для маскировки – вроде и в сторонке, а вроде – у всех на виду. Но часть кабака, выбранная хозяином «Рваных крыльев дракона», оказалось такой затененной, что никто даже не подумал бы обратить на него внимания. А то и вовсе не заметил бы.
Мозг драконолога и заметил, и обратил внимание – притом чрезвычайно пристальное.
Альвио, шатаясь, подошел к Фюззелю, который и не думал отрываться от окна – смотрел с таким интересом и отвратительным наслаждением, будто бы там переодевалась молоденькая девушка.
Драконолог откашлялся. С учетом недосыпа и свежих побоев, получилось пугающе.
– А! – вскрикнул Фюззель и потерял равновесие, чуть не упав на спину. Испражненц устоял, но шатался, как дом на фундаменте из чистейшей грязи. – Что вы тут… Нестабильность, что с вами случилось?!
Помятое лицо Альвио с наметившимся фингалом и струйкой загустевшей крови из носа говорило само за себя.
– Ничего, – в таких ситуациях драконолог не любил церемониться. – Что вы тут делаете?
Фюззель внимательно рассмотрел Альиво.
– Эээ, у вас нос слега помят, и там листья на голове…
– Не переводите тему, – вздохнул драконолог, отряхивая голову. Пара багровых листков правда осыпалось на землю. – Думаю, по мне вполне видно, что я не выспался. Не хочу тратить время…
Он хотел сказать «на вас», но сдержался.
– …на такую ерунду.
Испражненц улыбнулся во все двадцать восемь пожелтевших и четыре золотых, давно не сияющих зуба – будто слизней жевал каждый завтрак.
– О, я просто прогуливаюсь! Утренние прогулки, свежий воздух, здоровье и все прочее, ну вы, Альвио, точно знаете…
– Подглядывания в окна – часть прогулки?
– Я просто засмотрелся.
– Засмотрелись в окно заведения, которое терпеть не можете?
Фюззель замялся.
– В отвращении рождается истина, – выдал он, особо не подумав. Собственно, как и обычно.
– Вообще-то, в споре.
– Ерунда, – махнул рукой Фюззель. – И вообще, конкуренты могут друг друга ненавидеть, но эта ненависть обязательно подкреплена уважением.
– То есть в окно вы пялились из уважения?
– Да что это такое! – надулся Испражненц. Сгорбленный, низенький и полненький, сейчас, уменьшившись в два раза, он стал еще больше похож на креветку. – Вообще, я пришел переговорить с Кельшем…
– И для этого решили покараулить его через окно? – Альиво старался говорить четко, но понимал, что не всегда получается так, как хотелось бы. Нет, чай нужен был в срочном порядке.
– Хотя, – драконолог наконец поправил очки, – я тоже пришел навестить господина Кельша. Пойдемте? Чего время зря терять.
Вышел абсолютный шах и мат. Но на игральной доске Фюззель был королем (императором), смазавшим себя маслом специально, чтобы при любом удобном случае без труда укатиться прочь, подальше от страстей пешек и ферзей.
– Давайте, – согласился Испражненц, на максимальной мощности думая, что ему такого наплести Кельшу.
Они вышли на свет, поднялись на крыльцо и вошли в «Ноги из глины» – лицо тут же обдало ароматным теплом. Очки драконолога запотели.
– А, Альвио! – Кельш, конечно же, оказался прямо здесь. —Решил заглянуть так рано? Мы как раз заварили прекрасный чай с мятой… Нестабильность, что с тобой такое?!
– Все потом. – потряс головой драконолог. – И нет, только не мята. Не сейчас. Лучше….
– Найдем, – не дал договорить отец Прасфоры. – Есть чудесный набор приправ. Он не для чая, но это он очень зря – с чаем он прекрасен! Да заходи скорее, я тебя хоть подлатаю… А кто это там с тобой? Не могу разглядеть.
Только идиот по интонации Кельша не догадался бы, что все он понимает.
– Ах, Кельш! – вновь обнажил Фюззель пожелтевшие зубы. – Хотел обсудить с тобой пару вопросов и… посоветоваться.
Испражненц сглотнул от отвращения к самому себе – унижаться до такого…
Кельш, все это время возившийся с глиняными тарелками, отвлекся от дел, выпрямившись. Скала и сдувшийся воздушный шарик – вот так эти двое выглядели в сравнении.
Шарик сдулся еще больше.
– Я с удовольствием с тобой поговорю, – от запала иронии в голосе даже воздух нагрелся. – Как дела у «Рваного крыла дракона»?
– «Рваных крыльев». Мы расширяемся. Открываем новые таверны…
– Что ж, дракон расправил крылья, – пошутил Альвио.
– Молодой человек, – Фюззель начинал выходить из себя. – Это уже совсем не ваша епархия…
– О нет, – поправил его драконолог. – Драконы – как раз моя епархия.
Он закашлялся и отошел в сторону. Хотелось сплюнуть кровь, но куда уж теперь, надо было делать на улице.
А вот теперь самопровозглашенному шахматному императору всех едален Хмельольма деваться было некуда.
– Я… пожалуй… зайду чуть позже, а то как-то не подумал, совсем рано пришел. До встречи!
Не дав ничего ответить, Испражненц выбежал на улицу.
– Он же будет наматывать круги да? – не оборачиваясь, спросил Альвио. Потом снял заляпанный шарф.
– Он стоял у того окна полчаса, – рассмеялся отец Прасфоры. – И думал, что я его не замечал.
– Мне кажется, ему было без разницы.
Альвио легонько приоткрыл дверь, выглянув в щелку. Надувшийся и сгорбленный Фюззель и вправду наворачивал круги вокруг «Ног из глины».
– Что он опять удумал? – драконолог закрыл дверь.
– Он всегда что-нибудь удумывает, – Кельш поставил на стол чашку обжигающего чая. – Он сам одно больше… удумство.
Альвио сел и сделал глоток – мозг словно бы напором пряной воды прочистили.
– Итак, рассказывай, что с тобой произошло? – отец Прасфоры уселся напротив.
– Да ерунда, какие-то идиоты. Средь бела дня, и с карамелью – было трое, стало двое.
– Понятно.
– Да конечно понятно, – Альвио отпил еще. – Даже гадать не нужно, откуда они взялись. Это же все Фюззель – ну некому больше.
Драконолог замолчал. Потом вспомнил:
– Там, на вокзале… он сказал странную и непонятную вещь про мэра и его планы. И был так при этом доволен.
– Я бы посоветовал не обращать внимания, – драконологу всегда казалось, что Кельшу можно сидеть только на холодных горных валунах, все другое было просто жалко по сравнению с этим почти что великаном. – Но только Фюззель очень внимателен к слухам, и проявляет интерес лишь к тем, которые рано или поздно станут правдой. В этом он разборчив.
– А в остальном?
– Ни на йоту.
Они рассмеялись, но Кельш резко оборвал веселье, переключившись на серьезный тон – словно бы сменил трель соловья на скрежет рока.
– Ты пришел из-за Прасфоры?
– Да, – кивнул Альвио. – Просто мне… не по себе. Не знаю, почему
– Была гроза, – невзначай заметил Кельш.
– Да, знаю.
– Поезда так рано не ходят.
– Тоже знаю.
– Тогда почему ты беспокоишься? – взгляд отца Прасфоры способен был вскрыть любой сейф. Драконолог хотел ответить, но Кельш остановил его. – Не отвечай. Мне тоже не по себе… и я тоже не знаю, почему.
– К тому же эти выходки Фюззеля. А еще с магией… какая-то ерунда, – добавил Альвио.
– Разве ты не забросил ее?
– Да, то есть… – драконолог закрутил чашку в руках, слегка обжигаясь. – Да, но нет. Я хочу, но… не могу. Так много сил потратил на это в свое время, так много пообещал.
– Кому?
– Самому себе, в том-то и проблема. Себя подводить страшнее всего – удар ножом даже не в спину, и не в сердце, а в саму суть «себя».
– Слишком философски для такого раннего утра, – улыбнулся отец Прасфоры.
Альвио хотел улыбнуться в ответ, но не стал. Тем более, улыбаться оказалось больно.
– Потоки магии, они… очень возбуждены. Их что-то беспокоит – значит, кто-то что-то делает с ними. Никакой конкретики, но мой гомункул дрожит как не в себе.
– Что-то произойдет?
– Не знаю, – признался драконолог. – Но мне еще больше не по себе. Фюззель, Прасфора, мэр, магия…
Они помолчали.
– Ладно, пойдем наверх, подлатаю тебя. Но с фингалом, он точно будет, ничего сделать не смогу.
Кельш встал.
– Ты ведь знаешь, Альвио, —драконолог почувствовал себя мышкой рядом с валуном, который вот-вот упадет на нее и раздавит, – она справится. Она обязательно справится со всем.
– Да, – драконолог заглянул в свою чашку, будто ища на дне ответы, или, на крайний случай, сокровища.
– Только кухни все еще боится, – снова рассмеялся хозяин «Ног из глины». – А в остальном Прасфора у меня – большая молодец. Обязательно справится со всем. Обязательно…
Он повторил эту фразу, как заклинатель – мантру.
Прасфора очень пыталась справиться.
Для начала – с самой собой, с ужасом, черной лавиной ринувшемся изнутри. Потом – с осознанием того, что увидела перед собой. Дальше – с тем, что разглядела вокруг.
Пустые глазницы грифоньего черепа с трещиной во весь клюв смотрели свозь душу, пронизывали похлеще даже самого острого жала – взывали к той пустоте, остатки которой бултыхались внутри каждого, как осадок от первобытных протоэмоций.
Попадамс сглотнула и догадалась – если не смотреть на череп в упор, должно стать полегче. Девушка отвернулась, но глаза уже более или менее привыкли к темноте, и все стало только хуже.
Потому что девушка увидела десятки таких же черепов впереди. Словно бы кто-то обчистил мастерскую скульптора, притащив кучу слепков одной работы. Но в том-то и дело, что черепки были явно разные, отличающиеся в деталях, а значит – точно настоящие.
И тут Прасфора поняла: так вот куда делись грифоны.
И даже Альвио прямо сейчас не расскажешь – он бы пищал от восторга, внося хоть один светлый оттенок в палитру черно-бурого ужаса.
Именно этого – как понимала Прасфора – ей сейчас и не хватало. Нужно было поговорить с кем-нибудь, потому что молчание в темноте в принципе походило на сконцентрированное безумие, капли которого достаточно, чтобы слететь с катушек.
Надо было продолжать идти вперед. И все бы ничего, если бы не эти черепа – Попадамс вглядывалась и понимала, что дальше их только больше.
Девушка с трудом приподнялась, на всякий случай зажмурившись, и нащупала холодные камни. Прасфора пошла – подкосили ноги.
– Ну начинается, – подумала она. – И так каждый раз – с чем-нибудь, когда-нибудь, но каждый раз. Надо было просто привезти лекарство…
Попадамс с трудом пошла дальше, хоть ее словно и отталкивало потоком штормового ветра.
Черепа грифонов косо смотрели вслед морозной пустотой глазниц, как бы намекая, что о них не стоит забывать.
В Хмельхольме жило достаточно воронов, мрачными тенями скользящих по небу так незаметно, что даже приезжие их в упор не видели – а уж местные, привыкшие ко всему вокруг, тем более. Вороны словно стали частью общего пейзажа так же, как багряные черепичные крыши – если засматриваться на каждую из них, недалеко и рехнуться.
Птицы на людей тоже внимания не обращали: летали по своим делам, раз от раза наглели, но держались выверенно, словно бы нацепив черные фраки из перьев и приготовившись к беседе в джентельменском клубе, куда недостойным (людям, иначе говоря) вход воспрещен. Поэтому обычно вороны безмятежно парили от крыши к крыше, от дерева к дереву.
Но сейчас всякий, пролетавший над главным зданием «Рваных крыльев дракона», пикировал на посадку чуть раньше, обжигая крылья. Слишком уж воздушные потоки нагрелись, даже раскалились – и поди пойми, буквально, или так казалось лишь вороном.
Но ярость Фюззеля Испражненца действительно могла море обратить в облачко пара.
– Какие же вы идиоты! – орал он в подвале. – Какие же неисправимые идиоты!
Двое мужчин все сидели за столом с кружками в руках – уже невесело.
– Он должен был сегодня утром не появляться там! А вы… даже не смогли его нормально избить!
– Слушайте, ну он таким хюпеньким казался…
– А вы казались мне людьми, на которых можно положиться! И эти выходки с карамелью…
Он замолчал и нервно дернулся – не хотел даже думать о побочных эффектах.
– Мало того, что вы стащили ее, не спросив разрешения в моих, подчеркиваю, моих «Рваных крыльях дракона», так еще и не смогли нормально использовать. Если бы вы ненароком прикончили его, то…
– Ну-ну, это не мы, это он, – встрял щетинистый, тут же сделав глоток, видимо, в честь почившего товарища.
– Ага, славно! Просто славно! Ладно, теперь хоть денег на вас тратить меньше…
Испражненц смахнул кружки со стола – содержимое вылилось на пол, запенившись. Фюззель хлопнул дверью и вернулся к себе, на второй этаж, зеленея от ярости. За окном неумолимо каркали вороны.
Кабинет, накануне еще пустой, был заставлен ящиками с магической карамелью – с их досок смотрело карикатурное лицо Карамельного Магната в красных очочках. Чересчур длинный, гипертрофированный язык изображения Фюззелю уже начинал надоедать.
Коробок навалили так много, что даже воздуху становилось тесно. Окно у Испражненца открыть тоже не получалось – опять же, из-за коробок.
Он отдал за эту… хрень, как теперь казалось, кучу философов, и не должен был даже заморачиваться с «Ногами из глины» – просто прийти, лизнуть и устроить трам-тарарам. Утренняя разведка и нападение – оба неудачные – и все, что последовало за ними— непредвиденный фарс.
Когда ящики прибыли, радости Испражненца не было предела. Он даже открыл один из них, проверил товар и покрутил карамель на палочке в руках. Фюззель хотел лизнуть и проверить, но вовремя передумал.
Его… горе-работники сами все протестировали. Ну что же, хоть какой-то плюс – он к этой хрени теперь даже не притронется.
И вот тут Фюззель передумал, решив действовать дедовскими, проверенными методами. А для этого и понадобилась дурацкая разведка. Собой, императором будущей империи едален, он жертвовать не мог, еще чего. Работниками – мог, конечно, чего оно стоило, но… экономил. Иначе пришлось бы нанимать новых, а это всегда время, силы, деньги и уговоры.
Теперь его ждали на вечерний разговор в «Ноги из глины», хотя Фюззель и понимал, что Кельш над ним откровенно издевается. Но Испражненц умел оборачивать любую ситуацию в свою пользу; превращать в самую поганую, отвратительную, мерзкую и грязную ситуацию, но исключительно в подконтрольную себе. Он становился хозяином положения, делая черное – белым, горькое – сладким, простое – сложным.
И Фюззель совершенно точно знал, как обернет предстоящий разговор.
Но сначала надо было разобраться с коробками.
Все еще разъяренный Испражненц нащупал в бардаке стола спичечный коробок, спрятав в карман, протиснулся между завалами, выскользнул в коридор, спустился на первый этаж. Клиентов, благо, пока не было. Один его рабочий – из тех, кто выполнял обычные поручения, – возился со столами.
– Эй, ты! – крикнул хозяин «Рваных крыльев дракона». Он никогда не запоминал имен сотрудников – к чему лишний раз голову засорять бесполезной информацией? Но они приноровились, и по интонации понимали, какой «эй, ты!» к какому «эй, ты!» относится.
Молодой человек отвлекся от протирания стола и повернулся.
– Быстро поднимайся наверх и спусти проклятые коробки из Златногорска в подвал. Чтобы не мозолили глаза…
Молодой человек, словно пытаясь безмолвно объяснить ситуацию, опустил взгляд на руки – тонкие и словно бы готовые с треском сломаться от любой спонтанной нагрузки больше кружки и одежды; надень на юношу шляпу – он точно развалился бы от дополнительной тяжести.
– Но сэр, у нас же для этого есть големы…
– Были големы, – поправил Фюззель, заговорив громче и понизив тембр: – Они отправились к мэру. И не вздумай пререкаться, да?! Делай что говорят, без возражений!
Молодой человек вздохнул. И вот так всегда – делай, что говорят, но абсолютно не то, что должен.
Фюззель нахмурился, сверля глазами столы и уходящего работника.
– Да, – подумал он. – Как же важны для нас големы, бездушные каменные истуканы – а мы ведь даже думаем, будто они умирают по-настоящему, делаем вид…
Испражненц шмыгнул носом – лицо его в этот момент напомнило расплющенную крысиную морду.
– Да, как же важны для нас големы. И как они могут оказаться важны для меня…
В голове мелькнула старая сплетня, все больше начинавшая казаться правдой. Кладбище големов в голове обрастало новыми, запретными, манящими красками.
Фюззель опустил руку в карман, посильнее сжав спичечный коробок.
Черепов становилось только больше.
Прасфоре уже начинало казаться, что это одна большая и максимально неудачная шутка, потому что шанс того, что грифоны разом пришли в тоннель и умерли прямо здесь близок к нулю. Подземный ход напоминал склеп, но ни один грифон не стал бы извращаться так, как человек, и собирать черепки сотен предков в одном месте – еще чего, тратить время, силы и ресурсы.
Потом под ногами стали попадаться и другие кости, скорее даже косточки, но их было чересчур мало. Сплошные головы.
Попадамс докатилась до такого состояния, когда уже непонятно, спишь, бодрствуешь, или танцуешь чечетку вместе с галлюцинациями – происходящее до того не укладывалось в голове, что сознание упорно хотело вытеснить его за границу существующего.
Прасфора, обычно не склонная к пессимизму, но склонная к адекватным и более-менее рациональным рассуждениям, уже начала думать, что не выберется, и через несколько десятков лет тут появится еще один черепок, но без клюва.
– Мда, – подумала девушка. Мысль эта растворилась в потоке сознательно-бессознательного, как в щелочи. – Надо же привносить разнообразие в эти темные места…
Но девушка все равно шла – уже скорее полуползла – дальше. Сама не могла понять, зачем и почему – просто на автомате. Когда привык ни в чем не останавливаться на полпути, все тело пропитывается этим маринадом и работает автономно, зная, что потом получит от мозга нагоняй. А нагоняев не любит никто.
И тут Прасфора заметила струйки света вдалеке – они словно бы со всех ног бежали от темноты наружу.
Черепа, говоря начистоту, никуда не смотрели и смотреть не могли, но казалось, что их отсутствующие глаза глядели на свет, ожидая чуда.
Попадамс же поняла, что чудо, в принципе, и так случилось – попыталась ускориться и пошла дальше, спотыкаясь о черепа.
Она остановилась, чтобы вытереть пот со лба и отдышаться, и только через минуту осознала, что в данный момент ей положено удивиться – она вся вспотела, хотя еще недавно до невозможного мерзла. Подземные пещеры, мягко говоря, не самые теплые места – даже вязаного свитера не хватает. Но сейчас Прасфора была готова снять его – сил, правда, не было. Воздух здесь, ближе к свету, прогрелся, и даже пахнул теплом. Такое бывает, когда стоишь и глубоко дышишь у разгоряченного костра, пепельно-серый дым которого уже успел смешаться с воздухом, стать неделимым целым и раскрыться букетом самого незабываемого аромата, навевающего воспоминания о морозных осенних и теплых летних ночах разом, несущего поток легкой ностальгии и потерянного счастья, от которого покалывает нос.
Прасфора даже закрыла глаза, вспомнила о «Ногах из глины», потом о кухне – вздрогнула – и пошла дальше. Вообще, мыли о кухнях всегда вызывали внутри девушки очень неправильную смесь счастья и ужаса. Воистину, по всем фронтам взрывная эмоция.
Становилось все жарче и жарче, но, маленький бонус, в то же время все светлее и светлее. Правда черепа не кончились. Хотя, вроде как, тоже поредели.
Тут Попадамс споткнулась и чуть не полетела вниз – тоннель начал уходить под скос. Держаться за камни пришлось еще крепче.
Тоннель кончился. Свет, что удивительно, не оказался ярким и слепящим – остался таким же слабым, но его стало значительно больше. Жара достигла своего предела. Прасфора вышла в подземную пещеру с высокими сводами, и откуда-то далеко сверху – ни то от Хмельхольма, ни то от чудаковатых минералов – неслись те самые лучики, которые здесь, падая на безжизненный камень с огромной высоты, напоминали тоненькие тростинки соломы, некоторые из которых стараниями злого маленького карлика обратились золотыми.
Все это, правда, дошло до девушки потом. Взгляд приковался совершенно к другому объекту, который выделялся на общем фоне, как яркая блестящая наклейка на лохмотьях отшельника.
Посреди пещеры лежал дракон.
Огромный, отливающий медью и серебром, свойства которых приняла его чешуя, он пыхтел в полудреме, и от дыхания его пещера нагревалась. Сложенные заостренные крылья парусами лежали на земле, а острые и крупные чешуйки делали рептилию слишком четкой, все вокруг казалось чересчур размытым по сравнению с этим драконом. Свет – та его малость, что проникала сюда – заставлял почти что зеркальный лабиринт из чешуи отливать оркестром цветов и слепить, словно драгоценный камень. Так оно, в некотором роде, и было.
Получался театр оптически-световых иллюзий – свет проникал сюда, отражался от дракона, потом отскакивал в сторону рудовых прожилок меди и серебра, и только потом летел по тоннелю, постепенно теряясь во мраке и гаснув, как фитилек свечи на сильном ветру.
Прасфора просто стояла и смотрела, даже, как ей показалось, не дыша. Стояла, держась за камень, обливалась потом и не могла отвести взгляд – никакого страха, чистейшее восхищение.
Только самый необразованный не знал, что не стоит пугаться драконов. Они не нападут на ваш город, не украдут красавиц-девушек, еще чего, больно уж они сдались, не станут королями и не захватят полную сокровищ гору. Рептилии эти умеют соображать, а если плюются огнем – то лишь в крайнем случае, да и то магическим. Ящеры почти не летают, зачем мучать себя лишний раз – лежат вот так, в пещерах, среди металлов или накопленных драгоценностей, спят на горах золота, которые – как вороны – натаскали мелким воровством, этаким шкодничеством от нечего делать. Конечно, если суметь достать дракона, или угрожать ему, сдачи он даст, можно не сомневаться, со всей силы и удовольствием – даже такие апатичные существа способны разок нехило так врезать, а учитывая размеры этих крылатых ящериц… Это все равно, что слишком долго издеваться над добрым мудрецом, дарящим конфеты всем детям просто так. Рано или поздно он тоже не выдержит и даст в челюсть, или просто найдет парочку-тройку ядовитых конфет, чтобы жизнь медом не казалась.
Короче говоря – точка кипения есть у каждого. И лучше не проверять, где она начинается – как только ее находишь, она моментально наступает.
Драконов не боялись, но и не обожали. К ним относились с той же апатией и безучастностью, с которой они сами относились к остальному миру. Баш на баш, око за око, ну и все в этом роде.
Прасфора даже и не знала, что делать дальше – пока ей хотелось просто смотреть на живого дракона. Живого, вдруг подумала она, в отличие от той драконихи, которую она не спасла.
Внутри нехорошо екнуло. Прасфора попыталась отвлечься на иные мысли, уже чувствуя жужжание металлических накрученных, как сверло, комплексов.
Девушка подумала о тетрадки Альиво. Пожалела, что по другой нет карандаша – зарисовала бы, как получилось. Такое драконолог видел навряд ли…
Дракон захрапел. Своды задрожали вместе с Прасфорой.
Девушка решила сделать пару шагов вперед, убеждая себя: это для того, чтобы поискать глазами тоннель наверх. Хотя сама прекрасна понимала – маневр совершается лишь чтобы поближе взглянуть на дракона.
И тут ящер открыл медово-желтый глаз, в которой помещался целый мир, если не больше. Обсидиановый зрачок смотрел точно на Прасфору.
Прежде, чем Попадамс успела рот открыть, в голове зазвучал голос – точнее, словно бы перезвон монет, помноженный сладким сиропом душистой календулы, он заполнял не только уши, ощущался всеми органами сразу, казался терпким запахом, насыщенным баритоном и приторно сладким, но обжигающим вкусом одновременно.
– Ты не принадлежишь этому месту, – сказал дракон, при этом не произнося ни звука. Альвио ведь писал, что они ящеры эти могут говорить, но абсолютно по-своему. – Ты… потерялась.
Прасфора хотела что-то сказать, но произносить слова в такой ситуации девушке показалось совсем неприемлемым. Она просто кивнула. Пусть лучше говорит, вторгаясь своим несуществующим и одновременно слишком материальным голосом, проникающим во все чувства, дракон.
– Ей было так больно, – вновь зазвенело в голове, пробирая до самых кончиков пальцев. – Все слышали ей боль, ощущали ее боль…
Попадмс слегка потеряла нить беседы, но высказать дракону ничего не могла – каким-то это казалось неэтичным, все равно что поправлять филолога, случайно не туда поставившего ударение.
– Ты молчишь, потому что не знаешь, что сказать, не считаешь свои слова достойными, – продолжал дракон. – Твоя голова полна… всего ненужного, не принадлежащего ей, как не принадлежат этим пещерам черепа. А он… он думает, что может быть больше, чем есть, танцует на останках стонавшей от боли…
Тут Прасфора не выдержала. Самого того не понимая, ляпнула робко, как маленький ребенок, неожиданно получивший слишком уж дорогой подарок.
– Я не смогла ей помочь. Никак… и не смогла бы.
Дракон дернул лапой – трепыхнулось крыло.
– Зрячий в своих желаниях, но слепой в их последствия, – тут Прасфоре прямо захотелось достать тетрадь Альвио и записать, чтобы тот потом визжал от счастья, увидев такую запутанную драконью цитату. – Ваяющий жизнь из смерти…
Дракон будто не заметил жалобной реплики девушки. Слушать рептилию, конечно, было очень интересно, но ни капли не понятно – как читать словарь архаизмов прошлого века, притом поломанный, без пояснений.
Девушка вздохнула, собралась с силами и наконец-то сказала:
– Вообще-то, мне бы просто найти выход обратно в город…
Собственный голос показался ей бледной, тлеющей тенью.
Дракон моргнул, задышав тяжелее. Огромная туша повернулась чуть в сторону, а лапа – хоть и весьма непонятно – указала на другой тоннель.
– Он приведет тебя к нему. Там ты все найдешь.
Прасфора снова просто кивнула и зашагала, прихрамывая и потирая шрам на щеке.
– Прочитай записку, когда окажешься наверху, – кинул вслед дракон. В голове снова случился взрыв ощущений. – Ей было так больно…
Видимо, посчитав, что продолжения беседы не требуется, бронзово-серебряный дракон закрыл глаза, дыхание его постепенно выровнялось, и он вновь задремал – почти мгновенно.
Девушке опять стало не по себе. И зачем он снова вспомнил про ту дракониху…
Прасфора хотела обвинить во всем дурацкий обвал, но не могла, потому проблема упиралась в нее саму – кого она обманывает, ничего бы она не смогла изменить, и ничему помешать – тоже. Не в ее власти – то были силы другого порядка. А она была… просто Прасфорой.
Попадамс еще немного посмотрела на дракона и, тяжело вздохнув, зашагала в темноту очередного тоннеля.
Чем дальше она шла, тем прохладней становилось.
Хмельхольм замер в вечернем предвкушении, когда гуашь голубой ночи подмешивалась в по-осеннему бледное и холодное солнце, умиротворяющее и убаюкивающее.
Альвио так и не возвращался домой.
Все бродил по улицам с припухшим лицом и замотанными бинтами ребрами, думая, поглядывая в сторону вокзала, чем ближе к вечеру, тем реже. Вот теперь уже осознание неправильности происходящего, назойливое «что-то пошло не так» окончательно затвердело.
Драконолог уже сто раз подумывал рвануть в горный город, но до последнего держал себя в руках. Накрученная проблема, как ей свойственно, обычно решается по щелчку пальца, когда ты уже сорвался с места – оказывается, что никакой проблемы и не было.
Альвио ждал, и ожидание сводило его с ума.
Драконолог решил, что самый грамотный вариант – опять вернуться к Кельшу в «Ноги из глины», а дальше уже решать, что делать. Окинув взглядами дуги бордовых черепичных крыш и невольно замерев на горных пиках, Альвио развернулся.
Как только он пошел обратно к «Ногам из глины», беспокойство его удвоилось, будто к медному гонгу добавили огромный барабан.
Фюззель явился в назначенный час и мерзко улыбнулся, увидев растерянное лицо Кельша. Тот явно не ожидал, что Испражненцу хватит смелости на разговор.
– Ну что же, господин… – начал отец Прасфоры, выдавливая из себя гостеприимство, как подсохшие остатки пасты из тюбика.
– Давай на ты, все равно все друг друга давным-давно знаем, – ретировался Фюззель, не желая слышать своей фамилии даже в самом дурном сне.
– Ну хорошо, – тут улыбнулся уже Кельш. – Присаживайся, будь как дома. Выпить?
– Пожалуй, что да.
Кельш был готов налить яда, но все же ограничился пивом – спустился вниз и поднял две кружки, с облегчением увидев, что пока его гость ничего не успел натворить. Но это пока – с Фюззелем нужно не просто держать ухо востро, а еще прикладывать к нему слуховой аппарат, чтобы слышать даже малюсенький шорох.
Они встретились наверху, в комнате-кабинете Кельша. Помещение для гостей, как всегда по вечерам, кипело жизнью и, во-первых, там просто невозможно было нормально поговорить, а во-вторых – в компании Испражненца атмосфера раскалилась бы до недоброжелательного предела.
В-третьих, кстати, не выдержал бы сам Фюззель. Кельш видел, как того грызла зависть, когда они просто проходили мимо.
Пожелание чувствовать себя как дома гость воспринял слишком близко к сердцу – раскинулся на крепком стуле, как на домашнем кресле, пил причмокивая, ну хоть ноги на стол не положил, и на там спасибо.
– Итак? – решил напомнить отец Прасфоры о том, что они собирались говорить, а не сидеть молча.
– А? – не понял Фюззель.
– Ну, госпо… ты хотел прийти за советами. Мы так и договорились. Так что, я слушаю вопросы.
Кельш старался максимально сушить фразы, превращая слова из виноградин в изюм – так, чтобы речь противно хрустела, как сухие листья. Такое средство должно было рано или поздно выкурить Фюззеля, хотя тут наверняка не знал никто. Как с тараканами – вот и думай, возьмет их очередной яд в десятый раз, или они уже давно привыкли.
– О-а-о, я думал, что ты сам приготовишь что-то и расскажешь мне, – находился со словами Испражненц, забыв об обговоренной утром цели визита.
– Намного проще будет сделать это в формате «вопрос-ответ». Ну, я тебя слушаю.
В открытое окно влетел холодный осенний ветерок, принеся морозную бодрящую свежесть, от которой защекотало в носу. Фюззель чихнул.
– Да, да, конечно, – шмыгнул он носом. – Мне просто нужно, чтобы моя… империя блестела лоском идеального качества, поэтому я хотел спросить…
На самом деле, плевать Испражненц хотел, что там как будет блестеть – это станет не его заботой, а головной болью сотрудников. Но с вопросом все же нашелся:
– …как мне повысить продуктивность и не потерять лица?
Кельш вздохнул. Вопрос показался идиотским и слишком мудреным одновременно. Фюззель мучал хозяина «Ног из глины» до посинения – скорее почернения – всего неба над головой, до самого позднего вечера, когда все работники уже разбежались по домам, а от клиентов остались один-два калеки, доедавшие картошку и допивавшие пиво, скорее даже вылизывающие последние капли – уплачено, значит, не должно пропасть.
Разговор – совершенно пустой и бесполезный – к радости слегка засыпающего Кельша, кончился. Они с Фюззелем спустились в нижний зал. За дверями кухни уже ничего не шумело, не гремело и не горело – сплошное умиротворение.
Испражненц нервно бегал глазками.
– Эммм, прости, – вдруг резко, как свалившийся с неба рояль, сказал он. – Можно я… отойду? Не дойду до дома.
Кельш тяжело вздохнул. Его мысли уже переключились на все еще не вернувшуюся Прасфору. Говорить ничего не хотелось – казалось, что слова он кидает в мусорную корзину, и даже туда Испаржненц не соизволит заглянуть.
Хозяин «Ног из глины» кивнул.
Фюззель нырнул в сторону уборных – излучай он свет, засиял бы от радости, что наконец-то займется тем, ради чего пришел сюда. По пути он чуть свернул, нырнув в незапертую кухонную дверь. Хотел щелкнуть пальцами, включив магические лампы, но побоялся – лучше лишний раз не выдавать себя.
Испражненцу было противно само нахождение здесь, на этой словно заснувшей к вечеру кухне, проклятой им же гнилой земле: все эти новенькие ножи, чистые котлы и кастрюли, не крошащиеся печи и горы аккуратно сложенных мешков с картофелем и зерном…
– Зато у меня, – фыркнул Фюззель про себя, – живут мыши. Все не так одиноко…
Хозяин «Рваных крыльев дракона», пытаясь не споткнуться, добрался до самого дальнего угла кухни, к сухим мешкам с зерном. По дороге Испражненц с трудом, но все же разглядел и схватил бутыль с маслом.
Фюззель достал из кармана коробок, открыл его и, вдохнув, чиркнул спичкой.
Оставалось усилить ее магией – этого Испражненц терпеть не мог, его раздражало то легкое покалывание, которое вызывали проходящие сквозь человека магические потоки. Да и практики давно не было…
Фюззель уже настроился струхнуть, но заставил себя – так это поганое место загорится наверняка. Усиленное магией пламя и жрет в два раза усиленней.
Испражненц зажмурился. Если на мгновение переключится на другой уровень бытия, поменять линзу в телескопе обзора на специальную, то можно увидеть, как сине-фиолетовые потоки-нити магии пронзают Фюззеля, проходят по его руке прямо к спичке и соединяются с пламенем, а то становится больше.
Фюззеля передернуло. Он наклонился к мешкам и поджог их. Потом очень педантично разбрызгал масло – оно зашипело, полетело в стороны, разнося искры, множа голодный огонь.
Испражненц улыбнулся, выпятив подбородок и обнажив желтые зубы. Улыбка его напоминала гнилую заварку месячной давности.
Довольный хозяин «Рваных крыльев дракона» вернулся к Кельшу, оправляя пожелтевшую – когда-то белоснежную – рубашку.
– Ну все, мне нужно бежать! Спасибо за советы, очень… ценно! – спеша, как швейная машинка на чересчур большой скорости, Фюззель вышел прочь из кабака.
Кельшу это показалось странным, но он так устал, что ему, говоря честно, было все равно – главное, что этот проклятый… даже и непонятно, как его назвать, наконец-то убрался.
Отец Прасфоры зевнул.
– Нет, точно, – подумал он, идя к лестнице, – убрать все, и спать, только спать…
Тут хлопнула дверь. В «Ноги из глины» вбежал Альвио, шарф которого размотался так, что тащился за хозяином по полу.
– Альвио? – удивился Кельш. – В такой поздний час? Ну, ты, конечно, проходи…
– Вы собирались спать? – удивился Альиво. Глаза его походили на два раскрасневшихся треснувших блюдца: одно обычное, второе – декоративное, приукрашенное фингалом.
– Да, и тебе бы это тоже не помешало. Очень не помешало.
– Но Прасфора так и не вернулась…
Кельша как холодной водой облили, да еще и со льдом.
– Прасфора! – хозяин кабака ударил себя по голове. – Я обо всем позабыл с этим Фюзеелем!
Тут уже опешил драконолог.
– У вас был Фюззель?
– Да, мы же договорились, ну, еще когда ты был тут утром. Насчет советов. Не думал, что он придет – но он так утомителен, не поверишь.
– Надеюсь, вы не оставляли его одного?
– Пару раз в кабинете, – и, не давая драконологу возмутиться, отец Прасфоры добавил: – Ничего страшного не произошло. Он просто невыносимо… ужасен.
– В этом весь великий и ужасный Фюззель Испражненц, – согласился Альиво, поправив круглые очочки в золотистой оправе.
– Ты только не стой, присаживайся. Прасфора, Прасфора… сейчас мы что-нибудь решим.
Драконолог никак не отреагировал на эти слова – просто прищурился, наморщив лоб.
– Альвио? Все хорошо?
– Если честно, нет, – Альвио принюхался. – По-моему, что-то горит.
Кельш наморщился.
– Но кухня уже давно не работает, печи и магические конфорки погашены, и…
– Нет, – перебил драконолог, заходя за спину Кельша. – Я имею в виду, горит что-то, что не должно этого делать.
– В смысле?..
– Кухня, – уже увидел Альиво. – Кухня!
Отец Прасфоры развернулся. За незапертой дверью было чересчур светло, хоть лампы давно погасили – из щелей валил чернеющий, словно вкушающий и впитывающий ненависть, дым.
Драконолог оказался проворней. Прежде, чем Кельш успел что-то предпринять, Альиво кинулся к кухне, распахнул горящую дверь и, на ходу разматывая шарф, метнулся внутрь.
– Альвио! – бросился следом хозяин кабака. – Альиво, не смей!
Кельш замер в дверях. Остановить он драконолоага не успел – только подобрал подпаленный шарф, чтобы пламя не стало с аппетитом обгладывать и его.
Альвио беспомощно барахтался в дыму и практически в пламени. Он словно бежал через заросли колючей ежевики, которые хлестали не шипами, а жаром. Глаза слезились, обзор сузился до тонкой, размытой полоски. Очки потели, пришлось их снять – тогда все вообще превратилось в океан ряби и размытости.
Драконолог щурился, кашлял и старался ни на минуту не останавливаться, выискивая очаг пожара. Он заметил полыхающие пуще остального мешки с зерном и, спотыкаясь, ударяясь о столы и ящики, побежал туда, к сердцу пламени.
– Вода, – с трудом подумал он, будто бы дым накрывал своим бархатом даже мозг. – Нужна вода.
Пытаясь хоть капельку сориентироваться в пожаре, Альвио принялся рыскать по столам наощупь. Он нашел кастрюлю, сунул руку, почувствовал нечто маслянистое, с плавающей внутри… да, скорее всего, именно картошкой.
– Суп, – догадался драконолог.
Суп тут же пустили в ход, вылив на пламя. То призатухло, но не погасло окончательно – успело размножиться, как многоголовая ящерица; будто бы кто-то поделился с огненной саламандрой секретом бессмертия.
Дым так изрезал глаза, что накатившиеся слезы превратили взгляд в запачканное стекло. Сунув очки во внутренний карман, Альвио нащупал… нащупал… да, конечно, чайник! Снова сунул руку – внутри оказалась еще теплая, даже слегка обжигающая вода. Драконолог плеснул ее в огонь – намокшие мешки покоричневели.
Пламя затухло еще самую малость, но его языки уже вольным, хулиганским стилем начинали разбегаться по кухне, а больше воды Альвио рядом не видел…
И тут подоспел Кельш с четырьмя – непонятно, как он все удержал – кружками пива в руке. Ценнейший напиток – для завсегдатаев так вообще, бриллиантовый – вылился на пламя.
Уже совсем ничего не видящий за замученными глазами Альвио барахтался в дыму, не в силах ничего найти. Пламя утихало, но не до конца – оставались маленькие огоньки тут и там, безудержно проворные.
Дым становился гуще. Огонь пополз уже и в главный, и в гостевой зал, из пламенных лепестков становясь рыжими змеями. Альвио с Кельшем носились в поисках воды молча. Драконолог только интенсивно дергал ногой, чтобы потушить загоревшуюся подошву. Кельш послюнявил пальцы и коснулся опаленной брови, теперь словно измазанной углем.
Кельш Попадамс, вбегая в горящий зал – огонь подбирался к лестнице – все-таки сжал кулаки и процедил:
– Испражненц…
– Прасфора, – на автомате отозвался наконец-то полностью открывший глаза Альвио, выплескивая кувшин. – Прасфора.
Прасфора устала подниматься по тоннелю, но радовало одно – чем выше, тем меньше гифоньих черепов попадалось под ногами. Когда девушка услышала голоса – спасительные человеческие голоса – черепа канули в небытие, как страшный сон. Точнее, так лишь казалось – на самом-то деле они просто отошли на второй план за ненадобностью и неважностью.
Попадамс перестала хвататься за камни. Теперь она наконец-то ясно видела, куда шагает – свет, не слишком щедро, но все же освещал тоннель. За человеческими голосами, глухими и отдаленными, как из банки, последовал скрежет механизмов, куда более отчетливый.
– Ну наконец-то, – подумала девушка, на мгновение останавливаясь отдышаться. Она посмотрела на свои руки, и только сейчас, в слабом свете, увидела, что обе ладони – в мелких порезах и черной пыли. Что случилось с длинной юбкой, без того уже испорченной, страшно было подумать.
И уж тем более Прасфоре не хотелось думать, как выглядит ее лицо
– Ну и ладно, – проскользнула мысль. – Ты и так была не особо симпатичной, так что многое не изменится. Кашу маслом не испортишь, тебя – еще капелькой… не-красоты. Надо просто умыться…
Девушка пошла дальше.
Тут ей почему-то вспомнились всеобволакивающее слова дракона – хотя и словами это трудно было назвать, скорее образы, запихнутые прямо в голову, нет, да и не в голову вовсе, а во все ее, Прасфорино, существо – какой-то абсолютно сногсшибательный подход к речи. И, конечно, обязательно – ну просто обязательно – говорила рептилия не то чтобы загадками, а обрывками фраз. Тяжело винить дракона, пробудившегося от постоянной дремы. Прасфора, подними ее кто часа в два ночи, тоже сказала бы мало связных вещей.
– Ну вот и все, – вздохнула девушка, когда тоннель расширился, своды стали выше, а чуть вдалеке отчетливо мигало магическое освещение Хмельхольма.
Но внимание Попадамс, совершенно интуитивно, переметнулось вправо – там расположился спуск в глубокою пещеру с высоченными сводами, и оттуда скрежет механизмов с голосами раздавался громче всего. Странно, ведь Прасфора рассчитывала, что так шумит сам город, а не очередная непонятная и странная подземная лагуна.
На всякий случай, девушка решила проверить – а вдруг она что перепутала? Такой расклад ей казался самым вероятным, притом не только в этой ситуации, а всегда – конечно, везде, где можно, виновата именно ты: не досмотрела, не то сказала, сглупила и прочее. Потому что… ну, потому что это именно ты – в том-то вся и проблема.
Первое, что Прасфора подметила в пещере, когда подобралась к условной «арке» из камней – это потолок, оказавшийся напротив девушки. Кристальный и словно бы обледеневший, замерзший под напором осклабившегося вечного холода подземелий – он искрился, преломлялся, ловил и искажал отражения. Здесь, наверху, теплее стало лишь на неощутимую каплю.
Попадамс посмотрела вниз и тут же пожалела. Подступила тошнота, а совсем недавно убранные сознанием на второй план черепа грифонов с их пустыми, томными глазницами, вновь всплыли, ударившись о сознание с противным металлическим звоном.
Внизу – глубже – лежал огромный белоснежный скелет дракона, словно жемчужина всех пещер и тоннелей. Вокруг возвели строительные леса, там суетились люди и, одним словом, около мертвого дракона бурлила жизнь. Девушке показалось, что некоторые части грандиозного скелета с мощными, бревенчатыми костями – коричневые, да к тому же по чудному блестящие.
Это была она – Прасфора знала наверняка. Дракониха, которую не вышло спасти, не просто убитая, а изуродованная… Изнутри на волю поползла злоба – та самая темнота, вязкая и холодная; злоба прежде всего на саму себя, на то, что ничего невозможно поделать с собой даже в отношении дурацкой кухни…
Но долго Прасфора рассматривать скелет не собиралась. Тем более, услышала отголоски слов, она была уверена, Кэйзера.
– …ты многое упустил после грифонов, – донеслось снизу, будто бы проигнорировав посторонние шумы.
Дядя, дядя… и он ведь тоже там! Трудно было даже вообразить, что кто-то из их огромной семьи может быть замешан в таком ужасе.
Прасфора тяжело задышала и двинулась прочь. Она вернулась в идущий наверх тоннель, стараясь не думать вообще ни о чем, успокоиться и просто насладиться тем, что сейчас она снова окажется в горном городе, а не в этих странных подземных пещерах с их мраком, драконами, грифонами и костями, костями, костями…
Наконец, тоннель вывел в небольшой, ярко освещенный холл. Пол сперва казался причудливой мозаикой, пестрым ковролином, и лишь при внимательном рассмотрении становилось ясно: он завален очистками, огрызками, объедками, раскрошенными кусками глины… Удивительно, как волей оптического обмана они запросто превращаются в мнимые самородки. Дверей, или хотя бы арок-проходов, не наблюдалось – только чуть выше, в стене, виднелась дырка, отсюда похожая на одну из тех, что Попадамс видела до обвала и падения.
Девушка вздохнула – ну, была не была. Цепляясь за каменные выступы, она закарабкалась к этой дыре и, о чудо, даже ни разу не сорвалась – хорошо, что пришлось лезть не так высоко. Дыра оказалась закрыта деревянной дверцей.
Прасфора, получше уперевшись ногами в каменные выступы, толкнула дверцу, приготовившись к разочарованию, но та с легкостью поддалась, и девушка, сделав финальный рывок, ввалилась в зал. Но не каменный, где пахло холодом и горной породой, а какой-то другой, с приставучим ароматом еды в воздухе – память дернула Попадамс в «Ноги из глины».
Прасфора приподнялась, радуясь, что выбралась. Желудок, не кормленный и раздраженный ароматами, дал о себе знать. Девушка огляделась, пытаясь понять, где же оказалось: печи, магические конфорки, мешки, горшки, кастрюли…
И тут ее осенило – она выбралась на кухню.
Внутри щелкнуло. Попадамс зажмурилась, вжимаясь в стену.
– Ну почему обязательно кухня…
Прасфору затрясло.
Альвио нащупал на полке бархатную коробочку.
Никогда не думал, что притронется к ней – но события последних дней вынудили его. Ему казалось, что эта крайняя мера будет необходима, так что очень скоро, после проверки содержимого, коробочка оказалось в кармане.
Он уже видел, что хранящаяся там вещь может сотворить. Но ради Прасфоры…
Ради Прасфоры можно было рискнуть. Нужно было рискнуть.
Драконолог еле закрыл пухлый чемоданчик, засуетился, запутался в подпаленном шарфе и поспешил на вокзал. Мимо проносились безразличные люди, безразличные дома, и безразличная ко всем и вся осень – ну и правильно, чего им беспокоиться, у них-то Прасфора никуда не пропадала.
Сообщение между двумя частями Хмельхольма давно восстановили, поезд ходил в штатном режиме, но Прасфора так и не явилась – хотя на дворе уже замешивала свои нуарные краски ночь, похищая яркие цвета пестрой осени. Моросило. Противные мелкие капли дождя падали прямо на голову, а про зонт драконолог совсем забыл —и не влезал в чемодан, и некогда уже было брать его с собой…
Запыхавшийся Альиво шмыгнул в поезд, протер запотевшие очки, уселся, положил чемоданчик на верхнюю полку и только теперь успокоился. И то, лишь внешне. Внутри продолжала рвать и метать буря такой силы, которую ни одна злая волшебница запада в жизни не призвала бы, силенок не хватило – то, что кипело внутри драконолога, сворачивало горы уверенности и с корнями вырывало деревья спокойствия.
Еще раз проверил бархатную коробочку, слишком изящную для своего нынешнего содержимого, в таких часто хранят украшения. Все было на месте, в кармане.
Альвио посмотрел в окно – мелкие капли дождя миниатюрными, лишенными сострадания гонгами били о стекло.
Эта мелодия, вкупе с ожиданием, сводила с ума.
Фюззель Испражненц закипал второй раз за день, вне себя от ярости – абсолютный личный рекорд. Точнее, не совсем так: сначала все было тихо-мирно-спокойно и даже радостно. Покинувший «Ноги из глины» Испражненц, радостно свистя, отошел на безопасное расстояние и приготовился наблюдать, как черный дым застилает небо, а ненавистный кабак погибает, безмолвно крича рыжим пламенем. И дым действительно начал подниматься, разросся, а здание, того и гляди, должно было обратиться углями. Огонь стал виден даже в окнах. Но потом набежали люди – глупые, глупые люди, – с кувшинами, ведрами, затушили пожар, дым сошел на нет. Враг оказался сильно поврежден, но не повержен.
Испраженц же хотел смерти «Ног из глины».
Сначала, гоня дурные мысли и пытаясь успокоить себя, Фюззель думал, что нужно просто еще немного подождать, вдруг шальная искра разожжет пожар еще раз, и «Ноги из глины» как следуют разгорятся. Он ведь зажигал проклятущее магическое пламя, его просто так не затушить… Но когда в воображении все уже должно было объять обжигающим пламенем ненависти во второй раз, ломая надежды набежавшей толпы, на деле не происходило ничего, и почерневший кабак непоколебимо стоял на месте.
Вот тогда-то хозяин «Рваных крыльев дракона» так разругался, что прохожие начали обходить его стороной до самого дома, ведь Фюззель продолжал шептать под нос проклятья. План – уже третий план! – опять провалился, и опять, конечно, не по его вине: в порыве гнева Испражненц валил все на треклятых сотрудников, всех подряд, а не только прозябающих в погребе-подвале. Этих неумех, руки которых растут откуда угодно, но только не из плеч… но потом Фюззель успокоился. Все же, тут виноваты не они, нет, но и ни в коем случае не он! Наверняка это Альиво, испортивший планы еще с утра, а теперь…
Нужно было действовать. Фюззелю надоели эти бесполезные попытки, но на радикальные меры он боялся решится, ставки – чересчур высоки, решения – чересчур ответственны, но теперь, теперь…
Теперь делать оставалось нечего – тем более, двумя големами он уже пожертвовал, пора им и принести пользу.
Прежде всего он спустился в подвал. Метеором влетел туда, заорал:
– Идиоты! Пакуйте вещи, мы едем в горы. Я – ближайшим поездом, вы – следующим. Для подстраховки… Похоже, там задержалась проклятая Прасфора – отыщите ее, может быть, я очень сильно подумаю, получите бонус к вашим жалким философам. А я… займусь куда более важным делом. Сначала сломать морально, потом – добить окончательно. Надеюсь, до вас, идиотов, смысл этих слов дойдет. Заодно и проверим, действительно ли два дебила – это сила. Когда вас было трое, мощь вы не особо напоминали.
Собравшись, Испражненц, прикрывая голову плащом от моросящего дождя, добежал до вокзала, ворча на погоду, сел на поезд, плюхнулся в кресло и, сморщившись, посмотрел в окно: сначала на будто бы картонные домики, а потом – на далекие горы.
Да, теперь остается только один вариант – ехать прямо к Кэйзеру и умолять, заодно – было бы просто прекрасно! – сломить Кельша, найдя Прасфору. А после… стать частью нечто большего, отдаться нестабильному течению слухов, идущему рябью по реальности. Но зато…
Если слух все же станет реальностью, Фюззель Испражненц обязательно победит.
Далеко в горах, где свет становился тенью, а время снова текло обжигающей холодной рекой не туда, разворачивая картины былого, мир вновь стал нечетким, эфемерным, будто раскололся на миллиарды песчинок. И вот уже мир – только зримо – омолаживается, и кабинет Анимуса разворачивается, расхлопываясь из своей, карманной реальности.
Седобородый старик сидит над чертежами, опустив заспанный взгляд на беспорядочные листки. Каменный истукан смотрит на него тусклыми рубиновыми глазами – не живой, пока еще не живой.
Анимус держит руку на груди и думает. Мысли прыгают в ритм ударов сердца.
И тогда создатель первого Алхимического Чуда придумывает. Свет резко перестраивается, приобретая привычные черты…
Кэйзер открыл глаза и тяжело задышал. На этот раз он решил ничего не говорить. Сморщился, на мгновение приняв игру теней на стене – включая его собственную – за силуэт дедушки.
Нет. Такого не будет. Такого точно не будет.
Глава 5. Властью, данной мне
Власть – не простое слово, выше она закона
Все перед нею ниц готовы пасть
Сила свергать основы, и создавать их снова
Вмиг сокрушит любого только власть
Рок-опера «Орфей»
Тедди Тминн всю жизнь – уже целых двенадцать лет! – работал помощником своей тетки-кухарки и мечтал стать… ну, кем-то типа ученика чародея. Перспективы, конечно, были, но до ничтожества мизерные – в горном Хмельхольме волшебников как-то не водилось, да и любой ребенок знал, что магия – штука слишком скучная, и лучше мечтать стать кем-то другим, а не то потом придется выслушивать нудные разговоры о мироустройстве и бла-бла-бла. Если ребенок действительно горел такой идеей, друзья смотрели на него как на капельку сумасшедшего – все равно, что в десять лет мечтать стать филологом-домоседом, а не путешественником в шляпе и с кнутом.
Тедди – то бишь, конечно, Теодор – своим желанием действительно горел. Но выбор его потенциальных учителей был небогат, сводился вообще к одному единственному варианту – к Барбарио Инкубусу. За неимением другого выхода, слова «алхимик» и «волшебник» складывались в голове в одну картинку. В любой другой ситуации Тедди Тминну пришлось бы попасть в экстраординарную ситуацию, где новый учитель обратил бы внимание на его выдающийся, но не раскрытый потенциал, а потом тайно брал бы на встречи… скажем, подпольного ордена манускрипта, или скрижали, или серебряного дракона. В общем чего угодно тайного, но мудрого. Потом бы Тедди обязательно влез в заварушку, нашел бы себе злейшего врага, а дальше события понеслись бы по накатанной, да еще и промазанной маслом для лучшего скольжения, дорожке.
Так Тедди всегда думал, когда был помладше. А поскольку вся его работа заключалась в бесконечной заточке ножей, чистке котлов и кастрюль, растопке печей, мытье картофеля и прочей бытовой кухонной ерунде в бесконечных потоках пота, он уже и не надеялся, что шанс проявить себя появится – но все равно затачивал ножи, чистил котлы и кастрюли, растапливал печи, мыл картофель и занимался прочей бытовой кухонной ерундой, все еще – в поту.
Когда Тминн подрос – то есть достиг тех самых феноменальных двенадцати лет, – то догадался, что на деле все куда проще. Барбарио был тем человеком, одним из немногих в мире, путь к сердцу которого в буквальном смысле лежит через (весьма обширный) желудок, а потому на кухню алхимик и сам наведывался почаще. Поняв, так сказать, эту фишку, Тедди стал работать почти без отдыха, затачивать ножи до блеска, чистить котлы и кастрюли до дыр, растапливать печи до неимоверных температур, мыть картофель до стерильного состояния и заниматься прочей бытовой ерундой с такой самоотдачей, что стал просто ходячим потогенератором.
И вот, собственно, Тедди-Теодор Тминн занимался тем, чем обычно и, как обычно, с безумной кропотливостью. А потом случилось нечто, абсолютно нарушившее планы – в планы его абсолютно не входило встречать и успокаивать взявшуюся из неоткуда, визжавшую и неконтролирующую себя девушку.
Юноша просто собирался выкинуть очередные отходы в специальный отсек за деревянной дверцей, как тут ему навстречу вылетела дрожащая и визжащая чумазая Прасфора в свитере – она неслась, словно ослепшая лошадь с подожженным хвостом: стремительно и совершенно не понимая, куда конкретно.
– Что? – только и вырвалось у Тедди. Горшок с очистками картофеля, видимо, тоже шокированный, выпал из рук. Попадамс на мгновение замерла, испугано смотря на молодого человека. – Кто вы и что здесь делаете?!
– Нет, нет, нет, нет, только не кухня, только не кухня… – заповторяла Прасфора, явно пытаясь сказать больше и понятней, но у нее просто не получалось.
Тедди-Теодор Тминн даже не успел сообразить, а девушка рванула дальше, уже успев снести пару кастрюль. И это она только буквально пару шагов сделала.
Юноша, наученный суровой кухонной жизнью – еще бы, когда кухарки и повара так и норовят влепить подзатыльник за просто так, лишь бы влепить, – среагировал быстро и, оставив очистки на произвол судьбы, ринулся за Прасфорой, пока та не разнесла кухню окончательно.
Тедди выдохнул, вспомнив, что сейчас все остальные разбежались на перерыв – иначе бы поднялся такой шум-гам, что страшно подумать.
Юноша потерял незваную гостью из виду, но тут же сориентировался. Достаточно было идти по следу из свалившейся со столов посуды и снесенных мешков с овощами, как по нитке распутывающегося клубка, да еще и святящегося в добавок ко всему, чтобы не заплутать в темноте.
Прасфора, панически метающаяся туда-сюда с безумными, полными ужаса и широко раскрытыми глазами, вновь показалась в поле зрения Тедди – но не одна.
Внутри у юноши кольнуло – его ожидания не оправдались. Одна кухарка все же осталась и теперь стояла молча, с открытым ртом, глядя, как Прасфора чуть не задела кастрюлю с бурлящей жидкостью.
– Ничего необычно! – бросил Тедди, сам не понимая, зачем, и пронесся дальше, вслед за Попадамс. Кухарка только крякнула в ответ, словно бы у нее свело связки.
Тминн как-то прочитал в одной из немногочисленных книг, которые ему удалось найти, что охотники часто поступают очень хитро: слишком шустрого зверя они загоняют туда, где ему больше некуда будет бежать. Прасфора не то что бы неслась чересчур резво, просто ее траекторию невозможно было угадать, вот Тедди-Теодор и не поспевал, да и преградить путь не получилось бы – худого юношу, над которым даже иссохшее дерево в пустыне сжалилось бы, незваная гостя могла снести на раз-два.
Поэтому Тедди, набрав скорость, догнал Прасфору и решил подсекать ее, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию – девушка постепенно принялась сворачивать в сторону сердца кухни, но без побочных эффектов новая стратегия не обошлась: на пол стало валиться еще больше утвари, существование которой девушка будто не замечала.
Наконец, впереди показалась прочная деревянная дверь. Тедди подсек Попадамс еще раз и еще, а потом, осознав, что делать больше нечего, со всей скорости врезался в нее – все равно, что бросить яйцо в скалу. Прасфора чуть пошатнулась в сторону и, увидев заветный выход, тут же ринулась к двери, толкнув ее с такой силой, что та чуть не слетела с петель. Схватившийся за ноющее плечо, юноша замедлился и выбежал – скорее даже слегка заковылял – следом.
Как только Прасфора оказалась вне кухни, ее словно подменили. От панической атаки осталось только тяжелое дыхание и блестящий потный лоб.
– Нет, кухня, – прорычала она, закрыв лицо ладонями, словно смывая с себя приступ. – Почему именно кухня…
Проморгавшись, Прасфора наконец обратила внимание на Тедди-Теодора – тот молча стоял рядом, закрыл дверь на кухню и потирал плечо. Во взгляде его плескались тяжело-стальная укоризненность и детская, розовато-мыльная растерянность.
– Вот только не это, – зажмурилась Попадамс. – Вот только, нестабильность побери, не это.
Она подняла руку, как бы приветствуя юношу, и спросила:
– Я ведь очень сильно все разнесла, да?
– Ага, – сухо признался Тедди-Теодор
– Почему именно кухня, – буркнула девушка. – Послушай, прости пожалуйста, это мои… эээ, проблемы, что-то типа болезни. Но мне очень нужно найти Хюгге Попадамса, а то я, скажем так, заплутала.
Услышав о Хюгге, юноша посветлел, но тут о себе дал знать желудок Прасфоры, яростно потребовавший срочного перекуса, а желательно – такой трапезы, чтобы любой правитель и гастроном-придира обзавидовался бы.
– Может быть, сначала стоит поесть? – предложил Тедди Тминн, особо близко все еще не приближаясь – так, на всякий случай.
– С учетом того, что я устроила погром и явилась из неоткуда…
– Но вы ищете Хюгге, – перебил Тедди-Теодор. Прасфора аж вздрогнула оттого, что к ней обратились на «вы» – только сейчас девушка осознала примерный возраст своего собеседника. – Значит, все должно быть хорошо.
Он замолчал, набираясь смелости:
– Простите… у меня очень неудобный вопрос…
– Неудобней того, что я натворила, быть ничего не может.
– Как вы оказались на кухне? У нас всего один вход.
– О, ошибаете… ошибаешься, – Попадамс даже улыбнулась. – Это очень долгая и не очень приятная история. Там темно и…
Девушка замолчала, вспомнив щекочущий сознание мрак, бесконечно-белые черепа, пронзающие терпкой пустотой глазниц, обволакивающие слова дракона и огромный скелет…
– Скажи мне, – Прасфора перешла на полушепот. – Что ты знаешь о грифонах?
Пианино казалось Хюгге таким тяжелым, словно сотканным из небосвода, таким массивным, что мощные плечи атлантов не выдержали бы, треснули. Положив руку на черный корпус – клавиши Попадамс трогать даже не собирался, – Хюгге почувствовал, как его пробирает диким холодом, а все тело тяжелеет, и он вот-вот упадет, провалится в никуда – металлическое, гулкое и морозное.
На лице Кэйзера в скользящем танго переливались тени и свет, придавая скулам мэра невероятную глубину, такую, будто лицо само по себе становилось бездной, края которой не видно – различаешь лишь темноту, почти физическую и нашептывающую о том, что за ней спрятано нечто большее, как минимум еще большая тьма, и даже свет не осмеливается заглянуть туда, на самое дно.
Хюгге старался особо не думать о драконихе. Годы назад они – страшно подумать, что он тоже участвовал в этом! – совершили страшное, а ведь теперь все может стать еще хуже, но мэра это не останавливает, и он… он опять предлагает приложить к этому руку.
И все бы ничего, но внутри Хюгге Попадамса проснулось то, чего он никак от себя не ожидал: желание сказать «да», поддаться порыву и повторить то, что обещал себе никогда не повторять, пускай и в любой другой форме. Это желание вернуться к работе гложило его, отгрызало половину души, а вторую половину обгладывала совесть, никак не ожидавшая таких мыслей и желаний.
Краем уха Попадамс слышал фантомную мелодию, словно саму по себе летавшую с клавиш. Только четыре протяжные ноты в мрачной тональности: та-та-там-там…
– Без тебя все идет куда медленней, – признался Кэйзер, не сводя взгляд с залитым восходящим, по-детски желтым солнцем горных пиков. – Мы бы уже давно решили половину проблем…
– Кэйзер, – Хюгге смотрел прямо на пианино, не поворачивая головы к мэру. – Зачем тебе все это? Неужели…
– Затем, – понизил голос мэр Хмельхольма, – что только тогда все перестанут сравнивать меня и его, перестанут автоматически привязывать его имя к моему, его заслуги к моим – я не мой дед, Хюгге, я не Анимус, я лучше его. И есть только один способ доказать это так, чтобы все наконец поняли после стольких лет.
Попадамс вздохнул – про себя – и вспомнил времена, которые спазмом сдавливали его мозг, но при этом отдавали такой приторной ностальгией и намеками на парадоксальное счастье, что Хюгге подергивало, как намагниченного. А ведь и тогда Кэйзер говорил то же самое, просто вектор, по которому мэр шел к единственной желанной цели, был слегка иной – другие, но такие же ужасные средства, те же последствия.
Хюгге Попадамс хотел вспомнить об этом, даже рот открыл, но замолчал. Окутанный изломанными тенями силуэт мэра отталкивал мысли с такой силой, что те шарахались прочь.
– Я вновь хочу сделать тебя своим адмиралом, Хюгге, напомню еще раз, – Кэйзер, пошевелив механическими пальцами, наконец повернулся к собеседнику лицом. Блеснули золотистые эполеты на темно-синем мундире. – Подумай над этим предложением. Поверь, есть люди, которые… в грядущей ситуации убили бы за такой титул.
Седая бровь Попадамса кривыми пируэтом взмыла вверх – вот это уже ему совершенно точно начинало не нравиться. К тому же, бедная его племянница…
– Но мы делаем то же, что и тогда! Кэйзер, ты ведь понимаешь, что это ужасно.
– Но тогда тебе нравилось.
– Тогда я этого не осознавал! Да и никто из нас не осознавал – ты ведь сам прекрасно знаешь, что только видя последствия, понимаешь, что натворил. Будто поднимаешься надо всем, взлетаешь, и наконец-то можешь разглядеть те мелкие, белоснежные кости…
Попадамса передернуло. Его вялая, полу-иссохшая бородка пошла рябью.
Кэйзер, наоборот, лишь улыбнулся.
– Взлетаешь… отлично сказано, Хюгге. По-моему, это уже похоже на согласие.
– Нет! – руки Попадамса дернулись, собравшись подняться, но передумали. – Мне нужно подумать. Определенно точно нужно подумать.
– Подумай, – мэр махнул механический рукой и сел на стул около пианино. – Кстати, твоя племянница… мне рассказали, что она нашлась. У нас на кухне.
Хюгге ушам не поверил – думал, что Прасфора погибла. Руки задрожали сильнее. Нестабильность, что же он теперь ей скажет…
Кэйзер прочитал вопрос в его глазах и ответил:
– В глубине подземные ходы сплетаются, ведя и вниз, и вверх. Считай, что ей повезло. Но… ты ведь знаешь, что это значит?
Мэр сыграл пару нот.
– Тебе придется избавиться от нее. Она знает – она видела. И не упрекай меня в жестокости – ты прекрасно понимаешь, чем чреваты даже самые небольшие ошибки, когда все готово.
– Кэйзер, ты просишь меня… убить собственную племянницу? – Хюгге обмяк, хотел сесть, но вместо этого просто оперся о стену.
– Пусть это будут семейные разборки. Думай, Хюгге – потому что если этого не сделаешь ты, это сделаю я. Случись все чуть раньше, хотя бы до того, как мы пленили дракониху… я бы закрыл глаза. Теперь не могу.
Мэр положил механическую руку на пианино и отыграл четыре злополучные, четыре исключительно свои ноты: та-та-там-там…
Хюгге опять дернулся. В последнее время он напоминал слабо раскачанный маятник, ударяющийся о стены коробки и не находящий места для дальнейшего разгона, хотя движения задумал грандиозные – де-факто получалась просто безумная чахоточная судорога.
И почему никогда нельзя обойтись без выбора?
Попадамсу хотелось, чтобы решение просто нашлось само собой, потому что старика рвало изнутри, разделяло на две пропорциональные части: может, черную и белую, может – светящуюся и поблекшую, а может и вовсе на две идентичные, кто же разберет, посмотреть невозможно. Но части эти боролись, бросались друг на друга, ведь каждая из них негодовала от присутствия другой, а Хюгге – просто наблюдающий за этой схваткой и пока ничего не могущий сделать – удивлялся тому, что одной из этих частей вообще нашлось место в его душе. Но факт оставался фактом, желание вцепилось в пережитый ужас, и этот клубок хитросплетений катился по тропам сознания старого Хюгге, оставляя там неизлечимые, белые – а может и черные, а может и светящиеся, а может и поблекшие – следы, подтеки краски сознания.
А тут еще эти новости про Прасфору… нет, он не мог, правда не мог такое сделать – наверное, не простил бы себя, хотя, как знать. Приходится жертвовать – как тогда, много лет назад. Но пожертвовать племянницей… все равно, что вернуться в лохматую древность, когда на алтарях приносили человеческие жертвы.
Но, с другой стороны, есть шанс все решить без лишних проблем… есть ведь?
– Я подумаю, – шепнул Попадамс. – Я правда подумаю.
Когда тот ушел, шатаясь и врезаясь в углы, Кэйзер отыграл еще несколько нот и, подождав, направился к магическим платформам, гася за собой свет – темнота начинала обволакивать сознание, успокаивать мысли.
Мэр шагнул на платформу, дернул рычаг – задребезжали шестеренки. Мысли текли кисельной рекой, выплескивающейся за свои молочные берега…
И тут кто-то будто бросил в нее камень.
Кэйзер сам не понял, как услышал удар ботинка о платформу, чье-то присутствие прямо за спиной. Мэр резко повернулся – звук сменился ударом металла о металл.
За спиной стоял один из рабочих – тех, что копошились внизу, на невообразимой глубине, – с ножом в руке. Нож только что ударился о металлическую руку Кэйзера, и не повернись тот вовремя – вошел бы куда надо.
Рабочий ошарашенно таращился на мэра, не в состоянии резко придумать плана «б». Только сказал:
– Так нельзя. Она говорила…
Закончить не смог, ведь Кэйзер схватил его металлической рукой за горло сжав сильно, но так, чтобы рабочий еще дышал. Нож выпал из рук и со звоном ударился о камень спускающейся платформы.
– Нет, – проговорил мэр. – Я не позволю, не сейчас. Никому не позволю – знаю ведь, что ты не один, так?
В ответе Кэйзер не нуждался – видел в потерянных лазах рабочего.
Мэр сжал механическую руку с полной силой. Отпустил рабочего, замертво свалившегося на платформу, уже опустившуюся на нижний ярус горы.
Кэйзер направился совсем не туда, куда собирался изначально – планы резко изменились.
Прасфора еще никогда так не радовалась свету магических ламп, пускай слишком ярких и дурманяще-желтых, будто создающих настолько сладостный уют, что тошнить хочется – чересчур уж приторно.
Тедди отвел девушку в большие обеденные залы, куда, при желании, могли влезть все горожане, даже из равнинного Хмельхольма – по крайней мере такое ощущение складывалось благодаря удачному расположению длинных скамей и правильной игре света. Сейчас в обеденном зале не было никого, и эта пустота, видимо, еще сильнее расширяло пространство – тишина висела такая, как ни странно, звонкая, что удары ложкой о глиняную тарелку с картофельным супом казались звоном огромного гонга. Прасфору это слегка смущало, и каждый раз, когда ложка ударялась о тарелку, девушка замирала.
Суп был… вполне себе ничего, только в «Ногах из глины» его обычно подавали в буханке круглого ржаного хлеба, а не в тарелке. Не то чтобы в Прасфоре проснулся внутренний снобизм, который даже со стенок ее сознания с трудом можно было наскрести на маленький пузырек – просто девушка всегда, уже автоматически, оценивала блюда. Когда мечтаешь готовить на кухне, но не можешь там находиться чисто физически, приходиться выкручиваться и проламывать иные пути, тренироваться на… вкусе.
Первое время, когда они только пришли в зал, Тедди-Теодор молчал, как выкопанный из могилы мертвец – в принципе, его непонимающие глаза и напоминали неживые, словно отсутствующие.
Ела Прасфора с аппетитом, но с большой неохотой – просто стеснялось, что все так громко, и что она наверняка ест слишком быстро, и выхлебывает суп с ужасным звуком, и вообще, пора остановиться, со стороны она выглядит хуже обычного… металлический рой опять жужжал в голове.
Девушка отложила ложку – еще и по той причине, что, в конце-то концов, хватит жрать, ты и так скоро будешь шире зеркала – ну, может и не шире, но ты точно не самый красивый человек во всех семи городах. Вот это – факт, так что будь любезна, знай меру.
– Так что ты знаешь о грифонах? – вновь спросила она.
Тедди, словно выпивший то, что в его возрасте обычно не пьют, медленно поднял голову, собираясь с мыслями. Прасфора очень даже могла его понять – она бы тоже не особо рассказывала обо всем направо и налево незнакомой – и не самой красивой! – девушке, которая непонятно как ворвалась на кухню и разгромила все, а убирать потом это далеко не ей.
Попадамс вздохнула и полезла за тетрадкой Альвио, бухнув ее на стол – звук, усиленный пустотой, взорвался в пространстве.
– Это тетрадка моего хорошего друга, – она щелкнула ремешком и начала листать – в глазах Тедди блеснул интерес. Как просто, подумала Прасфора, оказалось расшевелить ребенка, – если тебе интересно в деталях, то не совсем друг… точнее, сейчас – точно друг…
Юноше, видимо, было без разницы – какие отношения, когда перед глазами такие интересные, таинственные, сменяющие друг друга черным калейдоскопом, быстрыми штрихами туши, картинки.
– Он… ну, ему бы точно не понравилось, если бы я сказала, что он волшебник, так что скажу, как он любит – он драконолог.
Тедди отвлекся от тетрадки и уставился на Попадамс.
– Ваш друг – волшебник?! – руки мальчика закрутились, как на незатянутых шарнирах.
– Какой детский восторг, – подумала Прасфора, но вслух сказала: – Ну, фактически – да, но он не любит это слово…
– Но я всегда… всегда мечтал стать учеником волшебника!
– Поверь, это не так весело и ужасно скучно – ну, по крайней мере Альвио разочаровался, – ляпнула Прасфора, не подумав. Фитилек интереса собеседника мгновенна потух, и Попадамс отругала себя, такую никудышную, за излишнюю резкость.
– Опять не думаешь своей бесполезной головой, – буркнула Попадамс про себя. Вслух решила исправить ситуацию: – Так наверняка происходит не у каждого. Но…
– А причем тут грифоны? – перебил Тедди-Теодор.
– Ну, сейчас Альвио куда больше интересуют магические существа – в особенности, драконы, но и грифоны тоже. Хотя, я бы назвала их фантастическими – до недавнего времени.
– Вы видели грифона? – вот теперь юноша действительно удивился.
– Ну, как тебе сказать… – Прасфора замялась, а потом плюнула на все – она же должна была хоть кому-то про это рассказать. – Ах, ладно – я приехала сюда просто привезти дяде алхимическое лекарство и вкусную еду, но….
Она остановилась, увидев, как при упоминании алхимии у Тедди снова вспыхнули фитильки эмоций, и отвлеклась:
– Так алхимия или магия?
Молодой человек на удивление быстро понял ее вопрос.
– По сути своей, для меня одно и тоже – все так безумно интересно.
– Эм, ну даааа, интересно… но резонная мысль, – пожала плечами Прасфора, помешивая густой суп. – В общем, я должна была уехать еще вчерашним вечером, но случилась гроза и…
Девушка принялась рассказывать, совсем позабыв о супе – воспоминания, свежие, как горячий хлеб из печки, не давали отвлечься ни на что другое и обжигали, картинки в голове не успели притупиться, воспоминания даже навеивали вкус, запахи и гнетущий страх темноты, расползающейся изнутри тебя наружу, или наоборот – снаружи внутрь. Прасфора так и не поняла.
У Тедди должны были расширяться глаза от удивления, ведь по началу так и было, но, когда Прасфора дошла до драконов и белоснежных черепов, Тминн словно бы потерял интерес.
– …и так я пробралась к вам на кухню, – закончила Попадамс, зажмурившись от самого слова «кухня». – Еще раз извини, я правда… пытаюсь с этим бороться. И мне очень надо это побороть. Но что-то как-то никак. Будь на моем месте кто-нибудь другой, наверняка справился бы уже, а так – это ведь просто я…
Она замолчала на мгновение.
– Прости, что-то я отвлеклась. Теперь ты можешь рассказать мне про грифонов? – Прасфора не различила удивления, которое, по-хорошему, должно было покрыть лицо Тедди-Теодора как плесень сырую штукатурку, и насторожилось. – Так, тебя это не удивляет, да? То есть это нормально?
– Ну… – молодой человек замялся, рассматривая тетрадный лист с карандашным наброском грифона, гордо сидящим на скале. – Я еще не родился, но мне много рассказывали об этом. В общем… не подумайте ничего такого, но… это мы убили грифонов.
Прасфора уронила бы ложку на пол, если бы уже давно не забыла о супе – теперь недоеденная тарелка ушла на десятый план.
– В смысле… вы убили грифонов? Вообще всех грифонов?!
Тедди неуверенно кивнул.
– Ох, – Попадамс оттянула ворот свитера. – Ох… но… зачем?!
Она сама не замечала, как начинает подвизгивать осипшим петухом.
– Я не знаю, меня же тогда не было, – отмахнулся Тедди. – Но мне говорили, что для… какого-то большого проекта.
Услышав эти слова, мозг Прасфоры, как ищейка, среагировал моментально и нашел изображение огромного белоснежного скелета в пещере с ледяным потолком, вытащив на поверхность сознания.
– Всех грифонов… ради большого проекта?! Всех?!
Тедди снова просто кивнул.
– Это же был проект мэра, да?
Снова неуверенный, но все же кивок.
– О нет… ну почему, почему… Нестабильность, бедные животные! Но… зачем тогда только черепа? Я не видела ничего, кроме черепов. Так ведь не бывает. Не бывает ведь, да?
Тедди-Теодор, видимо, совсем разучившийся говорить, пожал плечами, дав понять – не знаю, уже сотый раз говорю, я был слишком маленьким.
Прасфора нащупала дядину записку в кармане, но, несмотря на соблазн и слова дракона, все не решилась развернуть. Но та манила, как потерянный артефакт из старых сказок, зовущий владельца по имени, развращающий и соблазняющий – и девушка не выдержала.
Развернула бумажку.
Прочитала: «Прости меня, Кельш»
И все – ни слова больше.
Внутри кольнуло. Холод грифоньих глазниц завыл в ушах.
Прасфора резко встала из-за стола, чуть не опрокинув тарелку, и схватила тетрадку под мышку, захлопнув ее.
– Мне срочно нужно поговорить с Хюгге.
– Эээ… а вы уверены?
– Это единственное, в чем я сейчас точно уверенна. Ты поможешь мне добраться? И я правда попробую поговорить с Альвио… насчет ученичества.
Тедди был так взволнован, что пропустил фразу мимо ушей, спросив уже на ходу:
– А зачем вы собрались говорить с Хюгге? Может можно как-то…
– Для начала для того, чтобы мне всю жизнь не снились кошмары, – перед глазами всплыли пустые и холодные глазницы. – А там – посмотрим.
– Нет, стойте, я все сейчас…
Мужчина захрипел и свалился замертво. Кэйзер разжал металлическую руку, убрав от шеи теперь уже трупа. И вот так всегда – чем ближе к цели, тем больше проблем. Они словно чувствуют, когда сваливаться на голову…
Еще с самого начала, когда кто-то ослабил цепи, все было ясно – конечно, найдется еще не один такой умник. Конечно, кто-то не поймет, тем более – после внезапно заговорившей драконихи. Мэр чуял заговор, чуть не стал его жертвой и теперь, найдя, избавлялся, как от опухоли.
Кэйзер стянул с мертвеца мундир и положил рядом. Не хотел, чтобы эти люди носили мундиры…
Он приказал собрать их всех в одном зале – успел выяснить, кто ослабил цепи тогда и даже из-за кого дракониха так сильно забрыкалась второй раз, устроив обвал. Пока она молчала – все было в порядке. Никто не шел против его власти, не кидался на эти рельсы. А потом…
Остальные – мужчин пять-шесть – вжались в длинные скамьи. Мэр Хмельхольма не планировал вот так брать и душить всех, но тот, что лежал без мундира, решил проявить особую инициативу и почил раньше остальных вот-так варварски.
– Господин мэр, – подал голос один из сидящих. – Это все та проклятущая рептилия… Мы бы никогда не подумали.
Кэйзер вскинул механическую руку – наступило молчание. Мэр повернулся, и все присутствующие буквально ощутили его взгляд – вовсе не гневный, и не испепеляющий, а настолько безучастный к чужим проблемам, что до самой глубины промораживал душу.
С заговорщиков и так уже десять потов сошло. Разговоры с мэром всегда давались тяжело, потому что… да даже и объяснить не получалось: от Кэйзера исходило нечто, какая-то энергия, аура, не дающая сопротивляться, и природу ее навряд ли смогли бы объяснить даже маги, но сидящие здесь догадывались, в чем дело – это была власть. Ощущение, что обязан сделать все, что этот человек скажет – потому что так положено, потому что власть обращает в кучки пепла даже горы.
И потому что перед ними – не абы кто, а внук Анимуса.
Все усугублялось уверенностью, что эта встреча станет последней в их жизни. Такие ощущения, собственно, появились не без причины.
– Ничего не говорите. Вы все знаете, на что подписались – отступились в самый ответственный момент. Пейте.
Он указал на глиняные графины с пивом на вытянутом столе. Около каждого мужчины – по наполненной кружке.
– Но господин мэр… – предпринял кто-то еще попытку.
– Надо.
Заговорщики переглянулись. Могли, конечно, встать, накинуться на мэра – пятеро против одного, но… знали, что одной его механической руки хватит, чтобы прикончить их всех. Тем более, за дверями наверняка стоит пара человек, которые, в отличие от них, не оступились. Так что лучше уйти красиво.
Они выпили. Пару минут – валялись уже мертвыми. Некоторые алхимические изыски Барбарио… оказывались весьма полезными в экстремальных ситуациях.
Кэйзер подошел в нетронутой кружке – той, что предназначалось задушенному. Вылил содержимое на пол.
– Нестабильность, и почему мне приходится всем этим заниматься, – схватился он за голову. Выходя, сказал караулившим вход: – Приберитесь там, и не вздумайте прикасаться к пиву. А потом снимите со всех мундиры.
Кэйзер размерено зашагал в главный зал горного Хмельхольма. Он знал-то, почему против его слов сложно что либо возразить: он знал настоящую силу власти, умел пользоваться ей, не растачивая – она, вопреки предрассудкам многих, вполне себе иссекаемый ресурс, и чем больше на нее наседаешь, напоминаешь другим, что она у тебя есть – тем меньше ее остается. Она утекает тонкой строкой, вместо того чтобы разбиваться волной и заострять прибрежные камни.
Кэйзер вышел в главный зал, очутившись под натиском гигантских арочных сводов и колонн – горный Хмельхольм всегда давил и нагнетал, казалось, что сам становишься свинцовым, а ноги немеют – но мэр научился не чувствовать этого давления, просто потому что… сам точно так же научился давить на людей.
Кэйзер сел на пьедестал около неработающего первого в семи городах голема Анимуса. По изогнутой лестнице суетно носились туда-сюда люди, но мэр обращал внимание лишь на их мундиры, которые так упорно заставлял носить – нужно было выдержать марку во всем, иначе они опять не поймут и не признают…
Кэйзер обвел взглядом арочные своды с барельефами-грифонами и еле-заметно ухмыльнулся – если смотреть на зал глазами Кэйзера, то он будет казаться размытым, словно ускользающим куда-то в другое время, в прошлое, испещренное слабым солнечным светом, а воздух постепенно наполнится смехом бородатого старика.
Кэйзер сжал механическую руку. Нет, у него есть власть – власть сделать так, чтобы его принимали за него, а не за… дедушку.
Мэр потряс головой, чтобы избавиться от нахлынувших мысли и воспоминаний, этого гипнотического и вязкого варева, мешавшего сосредоточиться – как-нибудь потом, но не сейчас.
На лестнице раздались шаги городского алхимика. Кэйзер давно научился узнавать их, потому что грузные и тяжелые шаги круглого Инкубуса, казалось, пробивали пол и оставляли в нем дыры, которые заделать невозможно. Все равно, что гора встала бы и пошла.
– Барбарио, – позвал Кэйзер, когда тот спустился и пронесся мимо. Алхимик вздрогнул и схватился за живот.
– Кэйзер! Зачем же ты так меня пугаешь, – Инкубуса поглядел на голема Анимуса, потом на мэра. Повторив процедуру несколько раз, он наконец сказал: – Опять?
– Я просто ждал тебя.
– Ну да, конечно, именно этим ты и занимаешься именно в этом конкретном месте, – фыркнул алхимик. – Чем больше ты будешь об этом думать, чем больше загонишь себя туда, где уже нет никакого выхода. Хотя не мне тебя учить, я тут вообще птица подневольная.
– Вот именно, – Кэйзер встал. – Тем более, эти мысли помогают мне двигаться вперед. Как магическое топливо.
– Да ты и без этого прекрасно справляешься, – когда Барбарио ерничал, у него разноцветные зрачки словно крутились. – Кстати, говоря о топливе… Все готово! Ну, оно могло быть и лучше – ну ты же меня торопишь…
– Я не могу, – голос мэра по чудному заскрипел, – они все равно словно видят его на моем месте, будто бы я – просто новая маска моего деда.
Они шли в сторону кладбища големов.
– Слушай, ну ты конечно любишь надумать проблем, – откашлялся алхимик, гремя колбочками. – Если честно, им, по-моему, без разницы. Люди просто видят… м… мэра, вот и все. Это такая, если хочешь по-умному, универсальная сущность с множеством личин. Достаточно хорошая метафора?
– Для них эта личина всегда одна, Барбарио.
– Ладно-ладно, как скажешь!
Барбарио Инкубус, конечно, понимал, что Кэйзер не то чтобы ошибается – горожане до сих пор болели создателем первого голема, а потому о Кэйзере всегда говорили как о внуке Анимуса, а не как о Кэйзере. Он словно бы терялся, заменялся бесплотным призраком, сквозь которого видны толщи прошлого, где яркой звездой в небесах над жаркой пустыней горит Анимус, великолепный изобретатель и гордость Хмельхольма.
– Иногда мне кажется, – говорил Кэйзер в те моменты, когда мыслям становилось тесно в голове, и они фаршем из мясорубки лезли наружу, – что меня просто не существует, потому что никто не хочет, чтобы это был я – они хотят видеть на моем месте Анимуса, и успешно это делают. А я… растворяюсь, словно выпадаю в осадок и затмеваюсь дедушкой….
Все это гложило Кэйзера долгие годы, и вся его жизнь, по крайней мере пока, стремилась лишь к одному – доказать, что не нужно сравнивать его с дедом, он не хуже него, он тоже чего-то стоит, и стоит многого. Кэйзеру не просто хотелось, а необходимо было перестать быть тенью, обрести плоть и кровь и засиять своим светом, а не отблесками того, что оставил дедушка.
А средства – Инкубуса иногда даже дрожь от этого пробирала – мэр Хмельхольма всегда выбирал самые сложные, радикальные, но, чего греха таить, действенные.
Скрипнули огромные ворота с рисунком-наброском истукана.
Алхимик шел мимо рядов бесконечных големов и постукивал по рубинам у них во лбах, словно бы в поисках тайника. Кэйзер стоял в стороне, бегая глазами по механическим рукам и ногам, заплаткам на головах и телах. Рядом обливался потом молодой механик.
– Ага, ага, отлично, прекрасно… – бубнил себе под нос Барбарио. – Так, тут не очень, но работать будет, так, здесь…
– Вы точно все проверили? – нахмурился мэр, обращаясь к механику.
– Да, не осталось ни одного поломанного голема в том смысле, в котором… мы обычно это говорили. Правда, единственный нюанс, – механик вздохнул, готовясь к самому неприятному. – У нас небольшой… перебор по количеству. Откуда-то взялись еще два голема – и такое ощущение, что их специально вывели из строя и для вида раскололи.
– Тем лучше, – только и ответил Кэйзер.
Механик вздрогнул – он все еще не отвык считать големов чем-то, лишь отдаленно напоминающим живых существ, самих людей. Это кладбище все еще оставалось для механика кладбищем в прямом смысле этого слова, а потому, казалось, что работать приходится с трупами, которые просто хотят остаться в покое, но вместо этого получают вторую жизнь… Механик хотел вернуться в те времена, когда он работал с определенно механическими вещами; возвратиться в тот момент, когда Кэйзер внезапно не приказал собирать големов по новой.
Видимо, думал механик, мэр не воспринимал глиняных истуканов живыми существами… и это поражало.
Будь механик чуть постарше – знал бы, что не только големов мэр Кэйзер воспринимал неживыми.
– Ну все просто замечательно, – выдохнул Инкубус, закончив «простукивание». – Кроме того, что я чуть с ума не сошел этим заниматься ну и, само собой, кроме того, что мы собираемся сделать. Я напоминаю, что магический фон сейчас так тряхнет…
– Ты говорил, – отмахнулся мэр, сгибая и разгибая механические пальцы. – Сейчас.
– Ну, – пожал плечами алхимик – точнее, просто дернул верхней частью тела-шара, будто на мгновение втягивая голову прямиком в тело. Подошел к Кэйзеру. – Сейчас так сейчас.
Барбарио Инкубус зажмурился и щелкнул пальцами – ничего особенного не произошло, разве что… големы вдруг зашевелились, задергались, словно в судорогах: все до единого, лежавшие здесь, давно позабывшие, что такое жизнь – хотя, говоря откровенно, никогда и не знавшие. По кладбищу пронеслась волна сладкого воскрешения и неслышимого стона, будто мольба забыться вновь, вновь стать одним целым с пустотой.
Големы вставали, выпрямлялись, скрежетали новыми механическими конечностями и вновь замирали, как вековечные стражи.
Механическая рука Кэйзера онемела и повисла – мэр подхватил ее второй рукой, не сводя глаз с просыпающихся, обновленных големов. Никакого триумфа внутри, закручивающего эмоции в тугую бурю, в самодовольный шторм – только облегчение.
Тем более, что главный триумф был еще впереди и ждал глубоко под землей.
Мэр не слышал Барбарио, что-то ворчавшего насчет механической руки, не замечал шокированного механика – никак не реагируя на происходящее, Кэйзер сказал только одно слово, оно сорвалось с губ легким призраком былого и грядущего:
– Дедушка…
Заснеженные горные пики в лучах рассеянного солнца, далекие и изогнутые, словно точки гуаши, кедры на склонах, прикрытые холодящей воздушной пеленой изображения – все они внезапно накренились, взорвались деталями, ударили в голову и поплыли воском догорающей свечи, становясь своим жалким подобием, смесью непонимания и протяжного, неслышимого, но ощутимого звука.
Альвио схватился за голову – пейзаж перед глазами слишком быстро стал невыносимо болезненным. Драконолог только недавно сошел с поезда и только успел осмотреться, вспомнить о прошлых поездках в горный Хмельхольм, насладиться видами, как тут его накрыло этим тяжелым раздраем, непонятно откуда пришедшим.
Альвио знал – если что-либо происходит так резко и спонтанно, без видимой причины, а потом гонгом бьет по голове, это точно магия. Вот только этого сейчас не хватало – он приехал сюда искать Прасфору, а не разбираться с прочими проблемами, пусть они как-то сами себя решают, вселенная зализывает раны ну и все такое – он не подписывался вытягивать из передряг всех и все подряд. Но…
Драконолог прикрыл глаза и сосредоточился.
– Как же тяжело, нестабильность побери, без практики… – подумал он, натужившись. Темноту с прыгающими желтыми пятнами сменили фиолетово-синие потоки магии, ее паутина, сейчас неистово дрожащая, дергающаяся так сильно, что Альвио не выдержал и, тяжело задышав, резко открыл глаза.
– А вот это, – подумал он, – нехорошо. Совсем нехорошо.
Драконолог еще раз взглянул на далекие пейзажи, которые – он понимал, что только в голове, но все же – тряслись будто бы волнами от камертона. Альиво нащупал бархатную коробочку в кармане и очень понадеялся, что она ему не пригодится. Потом зашагал ко входу в горный город, к этим невероятной высоты воротам, с восхищением поглядывая на вырисовывающиеся золотые барельефы грифонов.
Прасфора уже который раз поражалась, видя, что все мужчины вокруг носят сплошные мундиры – наглый червячок непонимания закрался в ее душу сразу, как она сошла с поезда, но тогда девушке просто было не до размышлений, все слишком быстро закрутилось в ураган сменяющих друг друга событий, проносящихся мимо как картины за окном поезда. Сейчас же, пока Тедди вел ее по залам и коридорам, восхищающим и словно бы принижающим человека одновременно: широкими сводами, огромными магическими люстрами, колоннами, арочными потолками и редкими, но большими витражными окнами – Попадамс, сама того не замечая, снова стала обращать внимание на эту повторяющуюся деталь.
– Нашла о чем думать, – проворчала она. – У тебя тут черепа грифонов, и сейчас тебе придется допрашивать об этом дядю… который скрывает что-то от тебя. Ну что ж это за невезение такое, а.
В Прасфоре проснулось неожиданное желание… восстановить справедливость, хотя какой там, ее уже не вернешь, чаши весов не выровняешь, грифонов и дракониху не воскресишь – да и вообще, где она, великая и ужасная вселенская справедливость, и где Прасфора – обычная, ничем непримечательная и, откровенна говоря, далеко не идеальная. Просто песчинка в глазах… дракона.
Да, конечно же, дракона – желательно живого, а не мертвого.
Девушка устала от вопросов, загадок – просто хотела выяснить правду, приняв ее такой, какой она окажется. Ничего хорошего Попадамс не ждала.
Прасфора вообще пыталась убедить себя, что ей показались строительные лесы вокруг скелета – так ведь всегда проще, ну показалось и показалось, значит можно об этом не думать, не обращать внимания. Но раскаленные, словно только из кузни, и всеохватывающие слова живого дракона все еще крутились в голове облаками пыли, заставляя мозг чихать соображениями.
Грифоны, дракониха, дядя… ах, да, еще и големы, ну и мундиры – что-то слишком уж, думала Прасфора, много всего разом. Вот тебе и приехала отвезти дяде лекарства.
Мыли потерялись, когда она остановилась отдышаться – Тедди-Теодор почему-то повел ее лестницей.
– Давай передохнем минутку, – притормозила его Прасфора.
– Но мы делаем так уже шестой раз, – тот явно был недоволен.
– Ну уж извини, я не такая шустрая.
– Нам нужно всего лишь на один этаж выше.
– Да? Я думала, так будет на первом этаже… – она глубоко вздохнула. – Ладно, идем, надо брать себя в руки.
Еще пара десятков ступеней, и они наконец сошли с лестницы. Теперь – к великому счастью Прасфоры – не поднимались вверх, а просто шли прямо, минуя волшебные лампы с изогнутыми плафонами, хотя даже стекло в горном Хмельхольме казалось не хрупким, а каменно-крепким.
Попадамс еще пару этажей назад сняла свитер и несла его в руках, потому что после холода пещер и тоннелей под горой сам город казался эпицентром костра, а подъем по лестнице разогревал еще больше.
– А скажите мне, – вдруг спросил Тедди, до этого не особо разговорчивый. – Вы точно хотите поговорить с Хюгге?
– Тебе честно или соврать? Если честно – сама до конца не знаю, если соврать – точно хочу.
– Ну, просто я бы на эту тему говорить не стал…
Прасфора хотела добавить что-то типа «Ну, ты еще маленький, и он не твой дядя», но потом решила держать язык за зубами, потому что маленькие дети никогда не считают себя маленькими и очень обижаются, когда им об этом прискорбном факте напоминают.
Прасфора узнавала двери, мимо которых сама проходила еще до злополучного падения. Сердечко в этот раз колотилось пуще прежнего.
Тедди-Теодор шел словно на автопилоте, даже не отвлекаясь на ненужные двери – наконец, он остановился, и Прасфора увидела ту самую дверь. Ничем, честно говоря, не выделяющуюся от всех остальных – просто ту самую.
– Ну вот, – огласил Тедди, – мы пришли.
Девушка хотела постучаться, но мальчик опередил ее. Стук – и тишина. Ни шарканья шагов, ни скрипа кровати, ни ворчания, ни возгласов «иду-иду!».
– Конечно же, – вздохнула Прасфора. – Никого нет дома, когда это так нужно.
– Может, оно и к лучшему, – не унимался Тедди. – Все же…
– И не меня ли вы ищете? – заскрипел старческий голос у них за спинами. Прасфора обернулась. Тедди предпочел смотреть туда же, куда до этого – на дверь.
Голос Хюгге звучал бодро, а вот сам он выглядел изнемождено и задумчиво, будто бы на самом деле давно погрузился в себя, привязав к сознанию балласт, а то, что он теперь говорил, было лишь доносящимся из глубины эхом.
Дядя подшил ближе, улыбнулся – но чересчур механически, словно сейчас было не до этого.
–Прасфора! Я думал, ты… в общем, думал, что все кончилось плачевно, – он заметил Тедди, застывшего солдатиком. – А, вот и наш юный кулинар-волшебник! Ну, как ваши успехи?
– Как обычно, сэр, – промямлил мальчик, не поворачиваясь. – Тут с вами хотят поговорить о…
– Как видите, я в порядке. Но вы не особо удивлены, – перебила Прасфора. – И я действительно хотела поговорить…
– Да, ты права, ты права… Слухи – штука феноменальная. Мне уже рассказали, буквально недавно. Так рад что с тобой все в порядке! Может, пройдем внутрь? – не дал договорить Хюгге. Слегка сбитая с толку Прасфора кивнула.
Обойдя Тедди, который все еще стойко стоял на одном месте, дядя открыл дверь и впустил гостей в небольшую комнатку: шкаф, кровать, стул за дубовым столиком, пара магических ламп и витражное окно, в цветных осколках стекла которого горные пики преломлялись в причудливый и гипнотический абсолютно новый мир за гранью привычного сознания.
Прасфора вошла следом, потянув за собой мальчика. Тот нехотя сдвинулся с места, но так и остановился в дверях, опустив в голову и глядя строго в пол.
– Так и о чем ты хотела поговорить? – Хюгге нервно отбивал пальцами дробь по дубовому столику.
Попадамс собралась с мыслями. Не думала, что скажет такое, но терпеть больше не могла:
– Дядя, что ты скрываешь? Расскажи мне. Прочти, я прочитала записку. И хочу поговорить о грифонах. О том, куда они пропали.
Хюгге Попадамс побледнел и осел на стуле, откинувшись на спинку и схватившись одной рукой за край стола, чтобы не упасть. Тедди вжал голову в плечи еще сильнее, превратившись в страуса, забывшего, как зарывать мордочку в песок.
– И почему же… о грифонах? – фраза определенно должна была стать длиннее, но Хюгге решил ужать ее до самых важных деталей.
– Там, под землей, я шла по тоннелям, и… – в голову полезла сгущающаяся темнота, ни то снаружи, ни то изнутри. Прасфора вздрогнула. Наваждение отступило. – И там были… белоснежные черепа грифонов. Повсюду.
Зажмурившись, добавила, чтобы наверняка:
– Я видела их.
Хюгге тяжело задышал, чуть не упав со стула. Ему приходилось вспоминать второй раз за день – вспоминать то, что хотелось закопать поглубже в деготь памяти.
– Я… это было давно и так глупо, но понимаю я это только сейчас… Прасфора, прости, Прасфора…
– У вас есть причина извиняться?..
Дядя тяжело вздохнул.
– Хорошо. Ты хочешь знать, куда ушли грифоны? Я… попытаюсь рассказать, но это очень… тяжело.
– Вы ведь убили их, да? – решила не дожидаться финала Прасфора. – Их всех.
Голова Тедди-Теодора словно вообще исчезла где-то под ключицей.
– Мы убили, – будто бы сам себе признался Хюгге. – Просто слушай. Просто…
Он снова вздохнул, набираясь сил, и продолжил:
– Мы не могли поступить иначе. Когда Кэйзер, мэр Кэйзер, рассказал нам о своем новом плане, о задумке, мы были так восхищены блестящей идеей, что были готовы на все – и то, что для… первых этапов ему нужно было изучить анатомию грифона, его кости и мышцы, нас не смутило. Грифонов уже тогда вымирали, их осталась пара сотен особей, если не меньше. Мы поймали всего одного, убили, и тот… пал во жертву науке. Зато не напрасно – Кэйзер нашел, что искал, доработал чертежи, и сказал, что вот оно – новое изобретение, которое… впрочем, как обычно – избавит его от тени деда Анимуса.
Хюгге сглотнул и посмотрел в окно.
– Он всегда беспокоился только обо этом, со всеми идеями и возможностями в голове, только об одном. Но, неважно. Мы решили воплощать чертежи в жизнь, понадобились другие грифоны, потому что они стали… одним из материалов для строительства. Мы начали ловить их, сажать в клетки и убивать, но что-то не клеилось – каждая новая машина Кэйзера отказывалась работать, но он не собирался сдаваться. А мы… мы верили в успех, а ведь грифоны – рядом, до них рукой подать. И мы продолжали.
Прасфора слушала молча – на глазах даже слезы наворачивались. И за это дядя просто извинялся в записке?! В голове прыгал и бренчал второй вопрос, который она не решалась задавать, но все же спросила:
– А что это были за чертежи?..
– Летательные аппараты, – махнул рукой Хюгге. Тут даже голова Тедди, казалось, высунулась чуть вверх от интереса. – Миниатюрные и быстрые, как грифоны. Кэйзеру нужны были их скелеты, каркасы корпусов, а нам нужен был успех, мы горели этой идеей так сильно, что дым от этого жара застилал наши глаза. А потом… мы даже сами не поняли, как, но грифонов просто не осталось.
– Но почему тогда черепа…
Хюгге передернуло.
– Головы… нам не были нужны. Мы просто отсекали их и скидывали вниз.
Прасфору затошнило – в голове снова возникли пустые, но внимательно следящие глазницы. Дяде, похоже, тоже от этих мыслей было не особо хорошо – он побледнел пуще прежнего, задышал тяжелее.
– Теперь ты считаешь меня безжалостным убийцей несчастных животных, – старик нервно хихикул, теребя бородку-кустарник. – Но как же я хочу вернуть все обратно. Я просто хочу, чтобы мое имя исчезло из этих событий. Но при этом…
Он побоялся договаривать, что был так счастлив, убивая грифонов – не из-за самих убийств, и из-за того, что должно было последовать за ними.
И что последует совсем скоро.
Прасфора хотела просто уйти молча – чтобы переварить информацию, которая закипала в голове, чтобы не беспокоить больше Хюгге, которому и так было не по себе: ну вот, опять из-за твоего любопытства, подумала Попадамс, родному дяде стало плохо. Что же ты такая…
Тут Хюгге схватил ее за руку.
– Тедди, выйди за дверь, будь любезен. Мы бы хотели поговорить… о взрослых делах.
Прасфора заметила, как у Тедди-Теодора покраснели щеки, но он, ничего не говоря, послушался и отрыл дверь.
– Я поговорю с Альиво, – кинула ему вслед девушка. – Обещаю.
– Прасфора, послушай, – продолжил дядя. – Пожалуйста, уезжай обратно немедленно! Потому что иначе… иначе он убьет тебя. Иначе… мне придется убить тебя, Прасфора.
Девушка отпрыгнула в сторону, не находясь со словами.
– Он никогда не останавливается, – продолжал дядя. – Не остановится, пока не докажет всем, что чего-то стоит.
– Но он же и так мэр! Внук Анимуса…
Хюгге ничего не сказал – просто посмотрел на девушку чуть ли не заплаканными глазами.
– Единственный способ доказать для него это так, чтобы все поняли, чтобы все подтвердили гениальность его изобретений раз и на всегда, это…
Дядя смотрел в окно, словно принципиально не желая сталкиваться с чужим взглядом – горные пики воспримут информацию куда спокойнее.
– Единственный способ для него – это война.
Прасфора опешила, а потом неожиданно для самой себя вскрикнула. Тут же забылись предыдущие слова о настоящей опасности, о том, что надо срочно уезжать.
– Война?! Но в семи городах никогда не было войны! Никому и незачем было воевать…
– Но она будет, – вздохнул Хюгге. – После провала с грифонами он добился своего: новые чертежи, новые идеи. Это война не ради ресурсов и власти – это война ради войны. Война благодаря власти и ради… признания. Пожалуйста, Прасфора, уезжай сейчас же. Извинись от меня перед Кельшем… Кэйзер слишком близко подошел к финалу, и он не успокоится, пока не устранит все помехи. Пока ничто не сможет помешать его идее.
Девушка не знала, что на нее нашло – мир покрыло туманом. Ее дядя убивал грифонов, Хмельхольм ждет война, а она может погибнуть, и не просто так, нет, а от руки собственного дяди…
– Прости, прости… – не выпускал ее руки Хюгге.
Прасфора вырвалась сама. Выбежала вон, чуть не снеся с ног Тедди-Теодора. Мальчик мгновенно среагировал и крикнул ей вслед:
– Стойте! Куда вы?!
Попадамс не думала, что найдет в себе силы бежать, но они появились сами. Ей просто необходимо было оказаться подальше от комнаты дяди, оставив слова и ужасные образы там, вдалеке, ведь тогда они не дотянуться до нее своими режущими конечности и не окутают сознание цепкой хваткой.
А Хюгге Попадамс продолжал сидеть, смотря в окно – даже не закрыл дверь. Внутри вновь схлестнулись две такие разные половины его самого, они стали бороться, прокручивая картины прошлого: взмахи крыльев стонущих грифонов, разочарования, осознание и жгущие потоки боли… Но подмешивали к этому и мозаику настоящего: недавние слова Кэйзера и его предложение, почему-то казавшееся таким же сладким, как вересковый мед, собранный в благоухающих весенним благоденствием горах.
Хюгге нужно было решиться.
Да вот только хотелось просто провалиться сквозь землю.
Испражненц не думал, что будет бояться, и в принципе как-то даже не собирался нервничать – в конце-то концов, он приехал сюда за триумфом, чего лишний раз нервы трепать.
Но у него дрожали поджилки.
Фюззель стоял, как неудачно возникшая посреди людной улицы статуя, и бегающими глазками облизывал ворота – золотистые барельефы грифонов с хитрым прищуром искрились на солнце. Утро выдалось чересчур холодное, даже морозное, но лоб почему-то у Испражненца вспотел – страх словно включился автоматически, без ведома самого Фюззеля, и теперь давал о себе знать лишь такими легкими намеками, готовясь выпрыгнуть монстром из табакерки в самый неудачный момент.
Самозванный Император-Таверн-и-Харчевен сглотнул, выдохнул облако пара, с презрением посмотрел на него и, взяв ноги в руки – он будто бы буквально сделал это, ни то потянулся вверх на мысках, ни то полуприсел, – пошел к воротам.
– А что если, – промелькнуло в голове, пока мир вокруг замедлялся, как в те самые моменты ожидания, вечно и неестественно долгие, – Кэйзер отправит меня… куда подальше? В конце концов, он – мэр, он внук Анимуса, а я…
Испражненц отогнал дурную мысль, как наваждение.
– А я это я, – если бы мысли в голове можно было выделять цветным маркером, Фюззель так бы и сделал. – Уж мне-то он не сможет отказать, и тогда…
Он не успел додумать. И не потому, что неожиданно быстро добрался до ворот, которые мгновение назад казались такими далекими – просто они заскрежетали, и на улицу вышли Барбарио и Кэйзер.
Точнее, только Кэйзер – второго непонятного человека для Фюззеля просто не существовало. Испражненц обомлел, но быстро собрался, втянул живот и с важным видом остановился, замерев на месте – двое шли как раз в его сторону. Фюззель стал ждать, пока его заметят и обратятся к нему. Конечно, они должны сделать это первыми, ведь нельзя же просто так пройти мимо такого человека…
И они прошли мимо.
Тогда Испражненц, приуныв, но не потеряв надежды, крикнул:
– Мэр Кэйзер!
Сам мэр, явно не привыкший к таким громким знакам внимания, остановился и обернулся, хмуро оглядев бегущего к нему Испражненца – такого человека очень просто было не заметить, точнее, заметить, но сделать вид, будто ты его не видел, и просто пройти мимо. Из Фюззеля сочилась хитрость, она коварно мерцала матовым пламенем в пожелтевших глазках, но вот только Испражненц не дотягивал до благородного, гордого лиса – шарму не хватало. Если это и был рыжий плут, то, для начала, вовсе не рыжий, ну а в целом – ободранный, неудачливый, пожелтевший и полысевший, явно делящий избушку с зайцем, от которого долгие годы пытался избавиться, да только тот оказывался проворней.
Фюззель не нашел ничего лучше для разговора, как улыбнуться во весь рот, обнажив желтые кривые зубы. Когда решается судьба – остается только улыбаться.
Барбарио, явно не желавший такой компании, многозначительно откашлялся.
– Кэйзер, пойдем отсюда. Если ты не забыл, мы вроде как торопимся – ты сам постоянно торопишь…
Мэр поднял руку – алхимик смолк. С чем, а с жестами Инкубус не спорил – они всегда несли иной посыл, чем слова, куда более четкий и точечный. В такие моменты, знал алхимик, Кэйзер думал. А прерывать его мысли – все равно, что пытаться удержать от столкновения две тектонические плиты голыми руками.
– Да, – сказал наконец мэр. – Я слушаю…
Испражненц как идиот пялился на механическую руку – хотя, многие поспорили бы, что кусочек с «как» можно запросто выкинуть, и ничего не поменяется.
– Меня зовут Фюззель, сэр, Фюззель Испр… – он ощутил на губах гниющий вкус своей фамилии и смолк. – Фюззель. Я наслышан о вас…
– Постарайтесь быть максимально кратким, – оборвал его Кэйзер. – Обо мне нельзя быть не наслышанным – я мэр этого города.
– Да, да, конечно, и не просто мэр, внук самого Анимуса…
Фюззель заметил, как механическая рука Кэйзера сжимается в кулак, и заставил себя замолчать.
– То есть, я имел в виду, конечно, да… – язык начал заплетаться. Фюззель зажмурился – нужно было говорить напрямую. – Мне нужна эта война, сэр. Я хочу быть ее частью.
Барбарио присвистнул.
– Огогошеньки! И откуда мы знаем про войну? Вроде бы это было большим-большим секретом.
– Слухи, – опередил Испражненца мэр. – От них никуда не деться. Но мне приятно, что у кого-то появилась мысль начать об этом говорить – значит, мы все делаем правильно.
– Да, всегда считал, что к слухам очень важно прислушиваться, – закивал Фюззель. – И поэтому…
– Какой ваш интерес? – опять перебил Кэйзер.
– Мой… интерес… – Испражненц внезапно посерьезничал, глаза наполнились еще более нездоровой желтизной, чем обычно, и лицо его, словно покрывшись мрамором, наконец-то отдаленно, но напомнило лик гордого и непоколебимого императора. – Уничтожить их всех, раздавить и размазать, чтобы моя империя…
– Стоп, – вдруг выпалил Инкубус, наморщив лоб. – Фюззель… еще с такой странной фамилией, да? Это вы – хозяин «Рваных крыльев дракона»?
Иногда очень полезно иметь под рукой гастрономического гурмана.
– Да! – вдруг просиял Испражненц – маска императора мгновенно опала с лица. – Вы бывали у нас?..
– Бывал, – недовольно нахмурился алхимик. – И оставлю свое мнение при себе, кхм. Вот «Ноги из глины» …
– Не говорите мне об этом проклятом месте! – выкрикнул Испражненц неожиданно громко, так, что звук долетел до далеких гор и забродил там металлическим эхом. – Не говорите…
Когда нахлынувшая злоба ушла так же внезапно, как появилась, Фюззель одумался и задрожал. Нет, он только что сам все испортил…
Кэйзер ухмыльнулся.
– Вы станете одним из моих вице-адмиралов, – Кэйзер обвел самозванного императора холодным взглядом. – Только переоденьтесь в нормальный мундир.
– Что вы сказали? – обомлел Фюззель.
– Оденьтесь в мундир, – повторил мэр. – Найдите Хюгге Попадамса, он все покажет и поможет. А потом… потом я покажу вам войну. Покажу точку ее отсчета.
Без лишних слов Кэйзер развернулся и пошел дальше, Барбарио – следом, а ошеломленный Испражненц так и стоял на месте, пытаясь осознать, что все сработало: назло Кельшу, назло Альвио, назло Прасфоре…
И только тогда его торкнуло – стоп, мэр только что сказал «Попадамс»? Какой-то другой Попадамс? И откуда их столько, думал Фюззель, прямо как саранчи, развелось? Но, видимо, придется терпеть и молчать. Потому что…
Война стала настоящим подарком судьбы.
Особенно, понял вдруг Испражненц, если его остолопы справятся.
Инкубус шепнул Кэйзеру:
– Ты что, спятил?! Я понимаю, что это все вкус грядущего триумфа, но этот Фюззель же… бесполезный идиот! И ты делаешь его вице-адмиралом, Кэйзер…
– Это были его големы, Барбарио.
– Что?
– Он отправил своих големов в утиль, чтобы их специально отвезли на кладбище. Мне докладывали о том, что вчера их прибыло больше подсчитанного… Волшебная вещь, слухи, не думаешь?
– Но это не отменяет того факта, что он бесполезный идиот…
– Не отменяет. Но он слишком сильно хочет войны, чтобы оказаться бесполезным, – мэр посмотрел на бледное солнце, прищурившись. Седина в бороде словно замерцала алмазной пыльцой. – К тому же, ярость – прекрасное топливо. Пусть лучше она питает огонь войны.
– Дело твое, – пожал плечами алхимик, глубоко вдохнув щекочущего своим холодком осеннего воздуха с запахом намокшей листвы. – Но знаешь, что бы сказал твой дед? Прости конечно, просто вспомнилось.
Кэйзер не ответил – просто кивнул в знак одобрения. Даже руки не сжал и словно – а может, Барбарио показалось, – улыбнулся.
Алхимик слегка понизил голос и продекламировал:
– Идиоты способны только на идиотизм, – Инкубус подумал и добавил уже авторскую ремарку: – По-моему, фраза на века.
– Как и его тень, – шепнул мэр. – Иногда кажется, что тоже – на века.
Падало небо – небо того мира, который был для Прасфоры надежным подспорьем и всей той землей обетованной, где можно уверенно стоять на ногах, не боясь провалиться в холодные пучины непонимания. Но теперь все вокруг осыпалось, и ладно с ней, с землей, внезапно ставшей зыбким песком – само небо рушилось, огромными плитами осыпалось вниз и разбивалось в отголосках хрусталя, такого хрупкого и недолговечного. Мир разваливался со всех сторон, словно колонны, держащие его, вдруг ослабли, и теперь с грохотом заваливались, поднимая клочья белоснежной удушающей пыли.
Сначала Прасфора бежала, сама не понимая, куда – лишь бы не оставаться на месте, лишь бы вернуться домой поскорее. Как оказалось, бежала она вниз по лестнице – потом, обессилев, нашла темный угол, села, облокотившись о каменную стену, кинув свитер рядом. На девушку накатила неизбежность, противная, как слишком накрахмаленная блузка – Попадамс такие терпеть не могла. Прасфора долго держалась, останавливала саму себя, но все же заплакала.
Ненавидела плакать – слезы тормозили, не давая шагать вперед, а она только и знала, что идти напролом, идти вопреки, плюя на себя, на желания о ощущения: ты должна шагать, ты просто обязана, иначе ты будешь просто ничем – и так не можешь справится с собой, с внешностью, с этой идиотской кухней, а как ты хочешь прийти к мечте по-другому, когда сама по себе – кривой ствол дерева, с зарубками и сучками во всем.
Сначала это убийство драконихи, абсолютная темнота, потом – черепа грифонов, кухня, дядя, а теперь еще и война. Все то, чего Прасфора не понимала, не могла вообразить и боялась, обрело вдруг порочную форму. И ведь ничего не сделать, ведь она, Попадамс, просто песчинка в этих часах, почему-то монотонно черных и бездонных. Крупинка, которая не может обратить события вспять, рушит обещания – прежде всего перед собой, обещания идти, не сдаваться и не плакать. А ведь нарушить обещание самому себе – самое страшное, что только может произойти. Но сил шагать больше не остается, хочется упасть и слиться с общим потоком этого зыбкого, текущего сквозь пальцы гадкой слизью песка, не думать, что правильно, а что – нет.
Прафсора вжалась в стенку еще сильней.
– Как хорошо, – подумала она сквозь слезы. – Что здесь никого нет. Как хорошо, что…
Раздались спешащие шаги – через несколько минут девушка, сидящая с закрытыми глазами, просто ощутила, что рядом стоит кто-то – и ей было абсолютно неважно, кто.
– Нет, – проговорила Прасфора сквозь слезы. – Не надо. Не надо ничего говорить… Просто…
Она всхлипнула.
Теодор-Тедди Тминн сел рядом – Попадамс не видела, но слышала и ощущала, как тот облокачивается о стену.
– Но ведь не случилось ничего страшного, – пробормотал он. Прасфора услышала в этом такую концентрацию детской наивности, что даже своим ушам не поверила.
– Случилась война, – нашла силы выдавить Прасфора. – Точнее, только случится. Случились мертвые грифоны – вообще все грифоны. И… мертвые драконы.
Она услышала, как Тедди перестал шебуршать и замер.
– Драконы? – голос его тут же изменился, словно мальчик внезапно набрал в рот воды. – Но драконы не опасны…
– А грифоны были опасны? – всхлипнула девушка. – Их убивают не потому, что они опасны. А потому что они необходимы – и делают это так же легко, как берут с полки новую книгу. Будто они какая-то… вещь.
Будто они, подумала девушка следом, тоже стали големами.
– Зачем убивать драконов? Они ведь… восхитительны, – от последнего слова Тедди-Теодора у Прасфоры перед глазами заискрилось – на темноте меж прыгающих бело-желтых пятен появился радужный водоворот.
– Они просто для чего-то нужны.
– Тогда… нужно с этим что-то делать!
Прасфора попыталась хихикнуть – но получился жалкий, булькающий звук.
– Что?
– Ничего, взрослые называют это «обостренным чувством справедливости». Что мы можем сделать? Ровным счетом… ничего.
– Но вы…
– Я это просто я, ни больше, ни меньше, – Прасфора отмахнулось бы, но рук не хотелось поднимать – они намертво обхватили колени. – Где я, и где все остальное.
Вот тут замолчал уже Тедди. Прасфора подумала, что он уже давно ушел, а потом услышала тихое всхлипывание. Девушка все же решилась подглядеть – приоткрыла один глаз и увидела, как мальчик тихонько плачет.
– Ну ты-то куда…
– Я не хочу, чтобы все драконы вымерли. Я не хочу, чтобы всех их переубивали…
– Я тоже, – вздохнула она и снова закрыла глаза. – И Альвио, я уверена, тоже.
При мысли о драконологе, темнота перед глазами сменилась картинками родных крыш из багряной черепицы и с внеземной воздушностью осыпающихся листьев – еще сильнее захотелось домой. Он, Альиво, наверное, сидит сейчас в кабинете, зарисовывает что-то, беспокоится за нее и за свою тетрадь, наверное, тоже – и глупо ругать его за это, он так сходит с ума по своим фантастическим зверям. И папа, наверное, тоже переживает, не находит места и не справляется с гостями – она должна была вернуться вчера вечером…
Попадамс попыталась встать, но сил не хватило даже на то, чтобы подняться. Прасфора подумала о дяде – о том, как этот добрейший человек убивал грифонов, о том, что видела в его глазах изумрудами зеленеющее сомнение в поступках, прошедших и грядущих. От последних сказанных им слов про просьбы Кэйзера о ее выводе из игры, Прасфору трясло. В голове ничего не укладывалось, словно в круглое горлышко кувшина с упорством просовывали квадратную коробку, зная, что это невозможно, но не бросая попыток.
– Ладно, – наконец открыла глаза Прасфора – от света магических ламп защипало, – нужно вставать и идти.
– Куда? – Тедди шмыгнул носом.
– Домой. У меня остался только один вариант.
Прасфора приподнялась с большим трудом, ноги словно перестали чувствовать землю, казалось, что вставать вообще некуда – выпрямишься и со свистом полетишь вниз. Тедди же пружиной вскочил с места.
– Я помогу…
– Нет, спасибо, – отмахнулась девушка. – Не надо, иди… на кухню.
Последние слова она произнесла с таким трепетом, будто собиралась воззвать к космологической сущности этой простенькой формулой-заклинанием.
– Но вы шатаетесь…
– Да? – удивилась Попадамс, наклонившись в сторону. – Ничего, сейчас разойдусь. Делай свое дело а я… я правда поговорю с Альвио. Если успею.
Ей снова захотелось заплакать, но на этот раз, сама не понимая как, она сдержалась. Где-то там, внутри нее, слезы посредством мистической трансмутации превратились в темную ярость, осевшую на дне.
И Прасфора зашагала дальше. Взгляд, ставший размытым, затянутый туманов, отказывался воспринимать детали: все барельефы и колонны, магические лампы и люстры, ступени лестницы и огромные угловатые каменные своды смазывались, растекаясь, как тающее масло. Единственное, что девушка четко отличала в этой мути – копошащиеся люди, возникающие очень четкими, строгими и будто бы серыми на фоне белого – настолько уж контрастными – точками. Мундиры мелькали перед глазами, поднимались и спускались по лестнице, некоторые даже здоровались – но Попадамс уже не обращала внимания на эту одежду, недавно казавшуюся ей столь странной.
Голову поделили между собой две глобальные мысли: дом и война. И не особо, надо сказать, уживались.
А потом она узнала – даже сквозь размытый вихрями мир узнала мэра Кэйзера, поднимающегося навстречу.
Ей стоило убежать – нет, критически нужно, необходимо было бежать. Но вместо этого весь скопившейся в душе осадок будто поднялся наверх, засорил здравомыслие и вспыхнул горючей смесью, подобно той, какой алхимики развлекают детей. Внутри щелкнул некий металлический механизм, заглушив все остальные мысли, и Прасфора чуть ли не рванула перед, к мэру, который, ясно дело, заметил ее, но с места не двигался.
– Вы… вы… – она не могла подобрать слов. Подошла совсем близко. – Зачем убивать грифонов, драконов, зачем эта война? Я, я, я…
А вот что «я» – придумать не выходило. Ну не «я не дам вам этого сделать» же, в самом деле. Тогда – что?
– Вы просто не знаете, что это такое, – холодно и будто на автомате ответил мэр. – Что значит иметь в голове эти лишние, металлическим рокотом отзывающиеся мысли…
Кэйзер не догадывался, что она прекрасно знала. А Прасфора не успела сообразить, о чем он.
– Думаю, дядя уже рассказал вам обо всем. И, наверное, попросил уезжать из гор. Но вот вы встретили меня…
Вот это девушка прекрасно осознала и тут же похолодела. Дура, думала она, дура, чем же ты думала…
– И я говорю вам то же самое. Идите, уезжайте, я не трону вас. Даю фору – вы все равно не сможете ничего сделать, правильно думаете, читаю по глазам. А я и так слишком замарал руки – не ради этого все затевалось. Далеко не ради этого…
Он хмыкнул, будто попытавшись рассмеяться, и пошел дальше, вверх по лестнице.
Девушка, оцепеневшая, некоторое время простояла в одиночестве. Потом поняла, что ей просто очень сильно повезло – и поспешила прислушаться к совету, который ей давали уже дважды.
Она впервые в жизни почувствовала – почти буквально – как смерть дышит в спину.
Добравшись до первого этажа, Прасфора взглянула на огромного безмолвного Анимуса. Тот мертво стоял на пьедестале – девушке показалось, что он выглядит мрачнее обычного, словно грустит о чем-то.
Ей снова захотелось плакать – ведь не может город, где впервые придумали голема, начать войну. Не может запомниться этим.
Мундиров стало больше, они будто наточенными лезвиями кинжалов вгрызались в картину мира, оставляя зарубки. Прасфора посмотрела на величественного первого в семи городах голема, захотела снова упасть, но удержалась и, как всегда, зашагала дальше. Оставалось просто дойти до вокзала, и все бы кончилось…
Точнее, кончилось бы вообще все.
Смысл терялся, таял, как тонкая эфемерная паутинка. А фигурки людей – хотя бы догадывающихся о грядущей войне, как была уверена Прасфора – заставляли его исчезнуть еще быстрее.
– Кхм, – раздался кашель. Он девушке сразу не понравился, но она не сразу поняла, чем конкретно.
Сообразила лишь тогда, когда зрение прояснилось, и Прасфора обернулось.
Оказалось уже поздно.
– Какие люди, – ухмыльнулся Фюззель ртом-бездной. – Даже и не думал встретить здесь! Хотя, кого я обманываю – только на это и рассчитывал. Ох, Кельш, Кельш, ну ты у меня…
Прасфора среагировала на удивление быстро, будто вновь оказавшись в «Ногах из глины» во время наплыва пьяных посетителей. Ударила Испражненца локтем в живот, но не нанесла никакого вреда – в пузе Фюззеля, как в болоте, все тонуло.
Он больно схватил ее, прошептав на ухо:
– Искал одного Попадамса, нашел другого… и так даже лучше.
– О нестабильность, – про себя взвыла Попадамс. – Дядя заодно и с Фюззелем? Нет, это…
Она вдруг вспомнила, что может заорать – это хоть слегка решит проблему. Испражненц, видимо, догадался о ее намерениях.
– Только попробуй, и я прикончу тебя на месте. Думаю, исходя из грядущих событий… меня простят.
– Да уж, – подумала девушка, вспоминая слова дяди и встречу с мэром. – Все, видимо, будут только рады.
Фюззель потащил ее за собой, держа так крепко, что и не вырываться. Тем более, сил никаких не осталось. Испражненц затащил ее в сторону кухни, в одну из кладовых – панический страх стал подступать к горлу мерзким комком. Девушка ощутила, как медленно теряет над собой контроль – будто бы задыхается, погружаясь все глубже и глубже. Кухня оказалась слишком рядом – да и кладовая, куда затолкал Фюззель, с ее мешками крупы и картофеля, сушеными травами, сваленной в кучу чистой утварью очень уж походила на роковое кухонное помещение.
Испражненц захлопнул дверь, толкнув Прасфору в сторону мешков. Та еле-еле удержалась на ногах.
И тут хозяин «Рваных крыльев дракона» пошел ва-банк.
– Ты многое пропустила, Прасфора, – хихикнул он. – Пока ты прохлаждалась здесь… я успел спалить проклятые «Ноги из глины» к нестабильности!
Девушке показалось, что она ослышалось. Хотела верить, что ослышалась.
– Что?! – выкрикнула она, на мгновение вытеснив страх. – Ах ты…
– О, обзываться можно сколько угодно, но горело все так красиво! – Испражненц хлопнул в ладоши. Подумал, наврать ли ей про смерть отца, но, увидев состояние Прасфоры – смесь паники и гнева, лицо, налитое красно-белой, словно клубника со сливками, краской, – передумал. Понял, что пора действовать, что уж там резину тянуть.
Он резко схватил девушку за волосы. Швырнул в сторону – пока что она устояла.
– Я очень постараюсь сделать все быстро, если смогу удержаться от удовольствия, – он опять схватил ее за волосы и задрал ей голову. – Но, боюсь, не смогу. В такой-то тэт-а-тэт обстановке…
Взгляд Прасфоры заплыл – снова от осколков падающего неба, ставших слезами, от обиды, что даже собственный дядя не поможет. Найди он ее сейчас – тоже убил бы. Слишком резко, задумалась Попадамс, она стала лишней, хотя оставалась просто собой. Ничего ведь не могла поделать, никому помешать.
Фюззель потянул за волосы сильнее – дулька развязалась, – и девушка закричала.
А потом резко наступила свобода, и закричал – как простывшая выдра – уже Испражненц. Самопровозглашенный император таверн повалился на мешки, ругаясь и неуклюже ворочаясь, пытаясь подняться.
На слишком контрастном фоне заплывшего дымкой мира разрасталось красное пятно. Девушка сперва не обратила никакого внимания, но потом резко вернулось к этой маленькой детали – схватившись за нее, такую непривычно яркую, как за нить клубка, Попадамс постепенно распутала мир до привычного восприятия. Четкость приобрел каждый предмет, резко ударив по глазам, зато вернув все вокруг к привычным настройкам. Красное пятно оказалось кисточкой шарфа – ну, подумала Прасфора, шарф и шарф, что уж с ним там.
А потом до нее дошло. Она подняла глаза – длиннющий шарф, казалось, не кончался.
– Альвио! – крикнула она, чуть не кинувшись на него.
– Тихо, тихо, спокойно… – прошептал он. – Все нормально. Все нормально…
Прасфора вгляделась в его лицо.
– Альвио! Что с твоим глазом?..
– Я даже не буду просить тебя угадать, чьи это выходки.
– И твой шарф… обгорел?! – она вспомнила слова Фюззеля.– Альиво, Альиво, «Ноги из глины» что, правда…
Тут Испражненц поднялся, чуть ли не зарычав. Драконолог легонько толкнул Попадамс в сторону.
Фюззель уставился вперед налитыми будто бы слизью глазами.
– А я ведь не просил тех идиотов убивать тебя, знаешь ли, – сквозь зубы прошипел он. – Просил избить так, чтобы не смог дойти до проклятого кабака, но они и с этим не справились. Так что, пожалуй… прикончу тебя лично, уж заодно.
В слабоумие и отвагу Альиво играть не собирался – они с Испражненцем находились в абсолютно разных весовых категориях, притом Фюззель явно гордился своей, находящейся где-то на уровне «его даже в бочку не запихнешь».
Драконолог нащупал в кармане бархатную коробочку.
– А я так надеялся, – вздохнул он, – что до этого не дойдет.
Альиво еще в кармане открыл коробочку, вытащил оттуда нечто маленькое и кинул в рот. Только Прасфора заметила, как это нечто мелькнуло кроваво-красным.
– Нет! – крикнула девушка, сама не понимая, как пришла в себя. – Не смей!
Но дело было сделано – Альиво захрустел магической карамелью. Фюззель, сперва ничего не понимающий, просто ухмылялся. Когда же до него дошло, и в руках драконолога вдруг вспыхнула сине-фиолетовая икра, самопровозглашенный император таверн попятился, уперевшись в стенку.
– Ты же себя прикончишь, – промямлил Испражненц с ровно противоположной уверенностью – что сейчас прикончат его.
Альвио промолчал. Только прищурился, нащупав магические нити, и… будто обжегся.
В лицо Фюззеля прилетела пара глиняных горшков, валяющихся в кладовой как попало. Хозяин «Рваных крыльев дракона» то ли хлюпнув, то ли свистнув, то ли хрюкнув, отрубился.
Драконолог открыл глаза и тут же сплюнул остатки карамели, закашлявшись.
– Ну что же, – пробубнил он, кашляя. – Превращусь в пыль – собери меня веничком, ладно?
– Альиво… – прошептала Прасфора. – Альиво, я…
Колючая паника перед кухней вновь сковала ее – не так сильно, как обычно, просто на сознание наложился пульсирующий замок. Девушка уже не могла ничего говорить, апеллировала только несвязными звуками.
Драконолог, не нуждающийся в дальнейших объяснениях, просто схватил Прасфору за руку и вытащил прочь из кладовой.
Та глубоко задышала, когда они отошли на почтительно расстояние.
– Альиво, – повторила она. – Ты мог… ты же мог убить себя! Ты…
Она начинала злиться – сама не понимала, почему.
– Ну, пока я еще здесь, – улыбнулся он. – И нам надо срочно убираться отсюда. Все расскажу потом… и что бы не сказал тебе Фюззель, не слушай его.
Он замолчал и вдруг вскрикнул.
– Прасфора! У тебя щеки исцарапанные и глаза краснющие… это он?
– Нет, Альиво, это… – она замялась. – Расскажу потом. Сейчас…
– Что случилось? – перебил драконолог.
– Случилось, – всхлипнула она, сглотнув. – Альвио, они убили грифонов. Они убили их всех.
С этими словами она протянула тетрадь, которая чуть не грохнулась на пол – драконолог успел ее подхватить.
– Погоди, что? – на втором слове голос его окутал все предоставленное пространство.
– Ты искал, куда ушли грифоны. И я нашла их черепа, так много черепов в темноте… они убили их всех, всех до одного.
Альвио молча шевелил губами – то ли не знал, что сказать, то ли слова сами по себе прибывали в шоке, никак не решаясь зазвучать.
– Но… что… ты хочешь сказать, что мы сами уничтожили целый вид?! Но откуда… – тут он словно дал себе ментальную пощечину, продолжив: – Так, нет, нет, это сейчас не важно. Разберемся потом, я съезжу в горы еще раз и все выясню. Сейчас мы приведем тебя в порядок и вернемся домой…
Прасфора будто не услышала его – подняла карие глаза, мерцавшие бронзовым блеском, и оттянула ворот свитера:
– Домой… мы просто не можем, Альвио. Нас ждет война.
Драконолог мотнул головой.
– Что? Война? Так, Прасфора, все потом, сейчас… – очнувшийся Фюззель уже застонал. – Бежим отсюда! На поезд…
Девушка двинулась было с места, но тут замерла как вкопанная. Вспомнила о Тедди, который мог случайно наткнуться на этого идиота Испражненца, довериться ему и…
– Нет, – вдруг остановилась Прасфора. – Сначала мы пойдем на кухню.
Сложно позавидовать Хюгге Попадамсу, который места себе не находил – и ладно, если бы то было просто образное выражение, тут все просто, но это происходило с ним буквально. Он походил по комнате, посидел, посмотрел в окно, прилег на спину, уткнулся лицом в подушку, вышел, прошелся по лестнице, вернулся и повторил все снова. Нигде он не задерживался больше, чем на пару минут, что-то словно жалило изнутри, заставляя безмолвно ойкать, вставать и переходить на новое место, но и там ядовитые укусы сознания – а, может, даже совести – настигали его.
Внутри все еще бушевало непонимание, особенно после разговора с Прасфорой – Хюгге давно не приходилось с таким трудом делать выбор, он так отвык от борьбы с самим собой, что уже и позабыл, каково это. Теперь же, когда необходимость решения вернулась, Попадамсу иногда хотелось оказаться где-то не здесь и, желательно, не сейчас— лишь бы все решилось само собой, без его участия.
Он дошел до кладбища големов. Прикинул, что произошло бы, если бы они сделали кладбище грифонов – смог бы он просто так прийти туда? Старика передернуло.
Ошибки молодости, которые он всегда считал таковыми, уже не казались и ошибками вовсе – так, оступками, седлаными по глупости. Но теперь, уж столько лет прошло, и он точно, совершенно точно – так убеждал себя Попадамс – вырос, больше не наделает глупостей, даже если вернется к делам былых лет.
Големы не успокаивали – уже не казались столь безмолвными. Скрежетали механическими конечностями, живые вновь, живые против воли, хотя, впрочем, никогда не жившие по-настоящему – ни тогда, ни сейчас. Рубины в головах, телах и конечностях слабо светились в приглушенной иллюминации кладбища.
Тогда Попадамс, как блуждающий призрак старого замка, ожидающий ни то мести, ни то возвращения наследного принца, отправился на кухню.
Тепло печей и кипящих бульонов тут же расслабило его, разогрело кровь. Хюгге ходил между столов, мешков с овощами и крупой, и никто его не замечал – все занимались делом, им было вот уж точно не до блуждающего старика.
Да, заняты делом, конечно… а вот какое, его, Попадамса, дело? Тогда он точно знал ответ на этот вопрос.
Хюгге увидел, как одна их кухарок открывает небольшой люк у стены и выкидывает в него обрезки из ведра. В голове тут же соткалась картинка, будто бы коллаж, где часть изображения оставили, а часть на скорую руку заменили другими фрагментами – как они точно так же бросают окровавленные головы грифонов вниз, а бело-золотистые перья оседают у их ног…
Хюгге отвернулся, чтобы избавиться от наваждения. Ему на глаза попался мужчина с такими ручищами, что мог, наверное, весь горный Хмельхолм одним мизинцем сдвинуть с места. Мужчина огромным наточенным ножом – даже как-то неестественно сверкающим – отсекал голову рыбе.
Попадамс отшатнулся – ему показалось, что в сторону отлетает голова грифона, а руки – его собственные. Тяжело задышав, старик выбежал вон из кухни. Ему все чудилось, что он чувствуют бархатные, окровавленные перья, облепившие все тело. Будто они оказались даже во рту.
Хюгге откашлялся, облокотившись о стену. Причудливый коллаж в голове сменился привычным миром. Ужас отступил, и на смену ему тут же, лавиной, горным потоком хлынуло такое чувство счастья, истинного наслаждения, воздушной эйфории, словно бы пузырящееся теплое вино с приправами лилось из кубков прямо в его душу, да и сама его душа стала таким кубком – пьянящим, прекрасным и звенящим радостью, возносящим похвалы и тосты…
Попадамсу стало хорошо. Он снова, пусть и мнимо, был занят делом, любимым делом, а все остальное – ерунда, сущие мелочи. Ведь сейчас жизнь его, хоть и без тех ужасов – снова перья перед глазами – такая пустая и холодная. Ни то что это кипящее вино.
Он не знал, что делать, что отвечать Кэйзеру, как быть с племянницей и смотреть в глаза брату: грузы на чашах весов не нарушали баланса, и это убивало. Тогда старик решил склонить их равновесие самостоятельно. Одна чашечка пошатнулось.
Хюгге Попадамс решился.
Сознание Альвио слегка поплыло, как сыр, оставленный у огня – около кухни горного Хмельхольма царило такое непривычное тепло, что мозг не успел перестроиться и сиюминутно делал это прямо на ходу.
Они стояли у дубовых кухонных дверей, конечно, не заходя внутрь – но даже сюда через тонкие щели долетали ароматы тимьяна и картошки, тыквы и базилика, а вместе с ними летел теплый кухонный свет, совершенно особенный, оранжевый – видимо, кухарки успели поменять цвет магических ламп за эти несколько часов.
Прасфора смотрела на дубовую дверь так, словно это были врата в преисподнюю, не иначе.
– Знаешь, тут есть один мальчик, – сказала девушка по дороге. – Его зовут Тедди. В общем, он хочет учиться магии – и я обещала поговорить с тобой на этот счет.
– Ты же знаешь, что я не особо с магией дружу – сам так захотел, – драконолог поправил очки. – Тем более, я не хочу, чтобы он тоже разочаровывался. Магия, если без этой идиотской карамели – вещь скучная и не такая эффектная, как хотелось бы.
Альвио сплюнул, все еще избавляясь от приторно-клубничного вкуса.
– Он умный парень, и он меня очень выручил. Хотя бы поговорите с ним потом. А пока, надо сказать ему про Фюззеля. Чтобы он знал, как себя вести. Я очень не хочу ему неприятностей – ему-то они точно не нужны. И если я к ним привыкла, то он… нестабильность, где же Тедди?
Тут дверь на кухню открылась – Прасфора отскочила в сторону так, словно перед ней возник очередной череп.
Тедди-Теодор, вышедший с мешком, тоже отскочил по инерции, выронив мешок. Мальчик снова обрадовался, что кухарки слишком возились со своими делами – иначе перепугались бы пуще их с Прасфорой.
– Тедди! – вздохнула девушка, поправляя растрепанные Фюззелем волосы и все еще недоверчиво поглядывая на дубовую дверь. – С тобой все хорошо, какая радость…
– А с вами? – на всякий случай уточнил он и перевел недоверчивый взгляд на Альиво. Может, без фингала и обгоревшего шарфа драконолог вызывал бы меньше подозрений.
– Эээ… прости, —протянул Альвио, – а ты же – тот самый Тедди?
Мальчик остановился, внимательно осмотрел незнакомца и кивнул:
– Да, Теодор Тминн, – представился он.
– А, да, конечно, Теодор, – драконолог улыбнулся. – А меня зовут Альвио.
Глаза Тедди-Теодора вспыхнули так, как не горела ни одна печь во всем Хмельхольме.
– Я должен был узнать вас по шарфу! Вы ведь волшебник…
Альвио рассмеялся.
– Да, по шарфу, конечно, все всегда говорят про этот шарф, – отсмеявшись, он продолжил: – Я учился на волшебника, но мне больше нравится говорить драконолог. Я изучаю магических животных, ну, например…
– Грифонов? – помрачнел Тедди.
– Мда, грифонов… – полушепотом ответил Альиво. – Но, дело не в этом, я хотел тебе сказать кое-что о магии – это дело очень скучное и неблагодарное, а карамель даже не вздумай лизать! Ты наверняка читал, какие у нее побочные эффекты…
Перед глазами развернулся спектакль «научи ребенка не делать то, что сам сделал несколько минут назад».
– Скучно, но так интересно, – признался мальчик.
– Давайте оставим это на потом, – приврала задушевную беседу Прасфора. Она присела на корточки – с трудом, ноги еще ныли, – так, чтобы смотреть в глаза Тедди Тминну. Сухо сказала:
– Тедди, прошу тебя, послушай внимательно. В город приехал один человек – его зовут Фюззель Испражненц…
Мальчик хихикнул.
– Да, но сам он далеко не смешной. Прошу, не связывайся с ним, даже не разговаривай, просто обходи. Ты узнаешь его – большой живот, с виду мерзкий, будто корону на голове носит. Тедди, просто запомни, – следующая фраза ей далась с трудом. – Он хуже тех, кто убил грифонов. Хуже мэра и… моего дяди Хюгге.
Тедди похлопал круглыми от интереса – дети! – глазами. Молча кивнул.
Девушка выдохнула, выпрямилась и отошла чуть в сторону – за ее спиной снова заговорили Тедди и Альиво. Прасфора невольно улыбнулась – хоть у них все хорошо. Потом уставилась на дубовую дверь в кухню, и свинцовое небо осколками вновь упало на плечи.
Но на краткий миг Прасфоре показалось, что сейчас она сможет зайти. Сделать этот шаг через свой рубикон.
Она знала наверняка, что сделает его – снова, – шагнет против себя, против своих предустановок – снова – и упадет, разочаровавшись во всем – снова. Потом придется опять встать и идти, в сотый раз, все это повторялось как мелодия заклинившей музыкальной шкатулки – заурядно, но с ювелирной точностью. И вот она шагнет через себя, и вот – вновь ничего не получится, и вот – очередной шаг…
Белка в колесе и то ужаснулась бы такому развитию событий.
Попадамс вздохнула. Должно же хоть что-то хорошее произойти за эти несколько дней. Если она не способна ни на что другое, пусть хоть будет способна на это.
Девушка двинулась с места, зажмурилась, дернула за ручку, со скрипом открыла дверь и шагнула за порог – дверь захлопнулось.
Драконолог отвлекся.
– Тедди?
– Да, господин волшебник? – он причудливым образом воскликнул и спросил одновременно.
– Ради всего на свете, прошу, не называй меня так.
– Хорошо, волшебник Альвио!
– Ладно… ты не видел, куда делась Прасфора?
Ответа не потребовалось. На кухне раздался ужасный грохот. Внимательный слушатель успел бы различить грохот падающих кастрюль, бьющихся глиняных горшков и, похоже, ворошащихся мешков.
Драконолог сперва побледнел.
– Стой здесь, – попросил он мальчика. Сам же бросился к кухне.
Уже подбегая к двери, Альиво улыбнулся – да уж, действительно, она никогда не останавливается.
Тедди не сказал бы, что ему дискомфортно было ждать возвращения Прасфоры и Альиво с кухни, или что он переживал за уже дважды перепуганных кухарок. Его в тот момент вообще ничего не беспокоило – тяжело думать о чем-либо, кроме своего ближайшего будущего, когда висишь вниз головой.
Тедди-Теодор Тминн и висел – далеко не по своей воле.
И пары минут не прошло с тех пор, как двое его новых знакомых скрылись за кухонной дверью, и тут появились еще двое потенциальных знакомых – явно не волшебника и явно не таких приятных. Они оправдали ожидания. Без лишних слов, не церемонясь, подошли к Тедди и моментально схватили его за шкирку – единственный момент в жизни мальчика, когда он пожалел о маленьком росте.
Один из этих двоих – тот, что был повыше, с мерзкой щетиной, схватил Тедди-Теодора за ногу и поднял над полом, так, чтобы он свисал вниз головой. Второй – маленький, полноватый и плечистый, – уставился в лицо мальчика глаза в глаза. Сначала внимательно изучил его, потом, покрутив голову Тминна вправо, влево, спросил:
– Ну и где она?
– А? – сначала Тедди вправду не догадался, о чем разговор. Потом, почти моментально, понял, но виду не подал. Опять же, очень тяжело следить за мимикой, вися вниз головой – сейчас это и на руку.
– Не тяни кота за… – низенький нашел в себя хоть каплю приличия, так что откашлялся. – Мы видели, как ты болтал с этой девкой, как ее там. И здесь, и до этого – и по лестнице вы вместе шли. Нас, знаешь ли, не проведешь…
– …только если мы сами не согласимся на это за пару кружек теплого пива! – добавил щетинистый.
– За четыре кружки теплого пива, – поправил низенький. – Ну? Говорить то будем?
– Может, так будет лучше, – щетинистый потряс Тминна. – Растрясем мозги…
– Мальчуган, – чуть ли не дыша Тедди в глаза, прошипел низенький. – Мы ведь все равно узнаем. Тем или иным способом.
Это Теодору не понравилось, но он все равно молчал.
Тут Тминн услышал скрип двери – увидел, как оттуда выходят, с этого ракурса, просто чьи-то ноги. Про себя мальчик порадовался, что висит вниз головой и даже при всем желании эмоции его невозможно будет прочесть, как открытую книгу, если только специально ради этого не научиться читать вверх-тормашками. И что-то подсказывало Тедди, что два идиота вообще не умеют читать – что вверх-ногами, что вниз, что вкривь, что вкось, что наискосок.
Альиво же, выведя из кухни Прасфору, более-менее пришедшую в себя, узнал тех двоих издалека. Приложив палец к губам, прошептал девушке:
– Прасфора… это Фюззелевские. Идем отсюда.
– С ума сошел?! А как же Тедди, они ведь от него не отстанут!
– От нас ни они, ни Фюззель тоже не отстанут…
– Ага, щас, – резко оборвала Прасфора.
Этот шаг сделать было совсем не трудно – наоборот, казалось самим собой разумеющимся. Да, она все еще оставалось просто собой, обычной Прасфорой Попадамс. И раз не смогла помочь драконихе и грифонам, не в силах оказалась остановить грядущую войну, то хоть тут просто обязана была сделать что-то.
Иначе небо мира рухнет окончательно.
Двое даже не заметили, как девушка подошла – были так увлечены изучением Тедди. Прасфора, встав сзади, громко откашлялась. Низенький повернулся первым.
Девушка влепила ему такую пощечину, какую в жизни не давала даже самым наглым и похабным на свете клиентам. В такие моменты железные предустановки – на миг – с щелчком отключались. Щелчок этот, видимо, и был звуком от пощечины.
Низенький пошатнулся. Этого оказалось достаточно, чтобы щетинистый выронил мальчика – теперь ненужного – и кинулся на Прасфору.
– Тедди, а ну беги! – крикнула она и приготовилась дать еще одну пощечину, сама не понимая, на что надеется.
Тут подоспел Альиво, вновь проигрывающий в весовой категории, да вот только…
Подоспел он с горшочком, от которого валил пар – успел метнуться на кухню, поняв, что тихо уйти не получится.
Драконолог выплеснул кипящий бульон на щетинистого. Тот заорал, споткнулся о низенького. Двое повалились, шевелясь, как связанные хвостами крысы. Альиво схватил Прасфору за руку и крикнул:
– Бежим!
Они понеслись со всех ног, хотя, судя по звукам, двое еще даже не поднялись. Но теперь тянуть точно было нельзя. Проносясь под огромными сводами горного Хмельхольма, девушка кинула взгляд на Анимуса, на барельефы грифонов – внутри защемило. Под потолком словно сизой тучей образовался, задымился образ грядущей войны, ее пепельного дыхания.
Те редкие жители, которых они с драконологм встречали – хотя, скорее, чуть не сбивали, – отшатывались в стороны.
И вот городские ворота оказались позади. Холодный осенний воздух, вдвойне морозней в горах, ударил лицо, а утреннее солнце, ставшее несколько непривычным, будто вдобавок ударило в глаза полупрозрачными лучами.
Прасфоре показалось, что она увидела двух идиотов, пристававших к ней ночью во время грозы. Те, похоже, ее тоже узнали – и стыдливо спрятали взгляд. Ну хоть здесь не все потеряно…
Со стороны ворот раздался истошный вопль щетинистого:
– Быстрее! Он с нас шкуру сдерет!
– Хуже, – среагировал низенький. – Лишит прекрасных философов!
Альвио и Попадамс ускорились. И все же, подумала Прасфора, выходит, она послушалась дядю.
Поезд стоял около перрона, блестя корпусом.
Испражненц скорчил такую рожу, будто его заставили одновременно есть лимоны и запивать их лимонным соком в таком количестве, что не помещалось в рот – хотя он всего лишь примерил мундир и теперь крутился около зеркала. Ну, крутился – это красиво сказано, скорее нервно дергался в конвульсиях умирающего животного.
Мундир был неудобным – сковывал движения, будто загоняя в рамки геометрической фигуры, хотя тело Испражненца было далеко не геометрическим, оно находилось скорее даже в некоем четвертом измерении, запихнуть которое в нормальную одежду практически невозможно. К тому же, бледно-серый мундир покалывал, у Фюззеля чесались шея и живот, а ворот рубашки ему хотелось содрать.
Что-то такое же, наверное, ощущает пес, когда его одевают в модный костюмчик.
Фюззель рассмотрел в зеркале свое лицо – помятое, как металлический чайничек, упавший со второго этажа прямо на брусчатку. Около носа виднелась уже пожелтевшая гематома. Хозяин «Рваных крыльев дракона» кипел от ярости, проклинал Альиво, карамель и ее создателя Ля’Сахра. До последнего надеялся, что драконолог стал пеплом – только знал, что это не так.
Но, ничего, все они еще попляшут.
Ярость внезапно переместила свой змеиный, обращающий хрупким камнем взор, на отвратительный мундир.
Испражненц потянулся, чтобы поправить подолы – рукав нехорошо хрустнул, и Фюззель решил остановиться. Как же все это было отвратительно… хотя, если посмотреть с другой стороны, как же все это было прекрасно.
Он приехал в горный Хмельхольм, ему удалось поговорить с Кэйзером, и тот согласился. К тому же, теперь наверняка стало ясно, что грядет война, можно было не мучать себя догадками и предположениями, фантомными образами, которые в любой момент могли рассыпаться и принести только пепел разочарования. Нет, теперь Фюззель знал наверняка и улыбался во все желтые зубы, когда понимал, что он – часть этой неотвратимой машины, пусть и не столь большой, зато, когда все случится, он достигнет… невероятных высот, а «Ноги из глины» обратятся прахом.
Фюззель еще раз внимательно поглядел на себя в зеркало и похлопал во выпирающему животу. В принципе, если подумать, он выглядит не так уж плохо – по крайней мере, парадно, а именно так и подобает будущему императору. Испражненц словно разрастался, как на дрожжах, достигая размеров гор, становясь гигантом.
Но чем больше шкаф, тем громче падает – а чем больше мнит о себе маленький шкафчик, тем ему больнее падать на землю. С падением разбиваются его надежды, и тот грохот, который он ждал, оборачивается ничем – шуму от него никакого.
Чем больше Фюззель крутился у зеркала и смотрел на свое отражение, тем больше понимал, что оттуда на него смотрит уже не просто хозяин «Рваных крыльев дракона», а император нескольких харчевен. Тот, кто сделал так, чтобы дракон расправил свои крылья, и тенью этой накрыл Хмельхольм…
По душе тек сладкий сироп, напоминающий о том, что можно будет сократить жалованье персоналу, нанять кого попроще, избавится от этих двух никчемных идиотов и вообще, откровенно говоря, не морочить себе голову всей этой ерундой. Ведь именно это императоры и делают, так ведь? Не морочат голову, а наслаждаются.
Засмотревшись на мундир, Испражненц совсем позабыл о времени – и, когда взглянул на часы, подскочил и выбежал в коридор, в сторону магических платформ-лифтов – еще чего, не хватало ему спускаться пешком.
Его ждали. Эта мысль слегка не укладывалась в голове, но его, Фюззеля, ждал сам мэр!
Его ждали, ожидая действий – а он ждал, вожделея о последствиях.
Холодные ветра, сегодня особенно разошедшиеся, свистели в кольце гор. Звук получался чересчур странный и даже чудаковатый: потоки воздуха, радостно отскакивая от горы к горе, от камня к камню, бранились эхом, своеобразным хором в дополнение к привычному свисту. Солнце, обессилив, стало совсем бледным, решив сделать это утро приглушенно-желтым, будто бы не раскрывшимся до конца бутоном.
Альвио вздохнул. Через окно покачивающегося поезда он смотрел в сторону огромного озера среди кедров, на тропинку, ведущую к нему.
Драконолог жалел, конечно, что они не смогли сходить к этому озеру – к самому прекрасному, как ему казалось, месту во всех семи городах, с которым в сравнение не пойдут ни густые туманы Сердца Мира, ни сияющие здания Хрусталии, ни белоснежные, горячие пески Златногорска.
– Говорят, что у этого озера ледяное дно, – сказал вдруг драконолог, не переводя взгляд на Прасфору. – Такое толстое, что вода остается на месте. А под слоем льда – пещеры и тоннели… А на склонах сидели грифоны. Да, грифоны…
Они успели оторваться от тех двоих – очень удачно забежали прямо в поезд, и тот скоро тронулся, а копошившиеся преследователи остались ругаться что есть мочи на перроне.
Сначала, приходя в себя, ехали молча – тем более вагон был практически пустым.
Укутавшись в свитер, Попадамс все же собралась с мыслями и рассказал все, что произошло и все, что узнала. Альвио слушал молча, только шурша страницами тетради, в которую даже не смотрел. В ответ драконолог рассказал о пожаре – девушке стало капельку, но легче.
– Они убили этих грифонов, поверить не могу, – протянул Альиво, дослушав Прасфору. – И сейчас зачем-то… дракониху. И, вероятно, все яйца… Ох нестабильность!
Он теперь просто мял в руках тетрадку – слега потрепанную постоянной беготней Попадамс, но цельную.
Они снова молчали. Только когда горы оказались вдалеке, Прасфора, прислонившаяся щекой к холодному, щекочущему стеклу, даже не спросила, просто сказала:
– Почему именно война, Альвио? Почему ему нужна именно война?
Драконолог пожал плечами.
– Не знаю. Но сложно придумать лучший способ заявить о себе…
– Он же мэр, ему не нужно заявлять о себе.
– Я не знаю, Прасфора, правда. Сам не в восторге.
– И ведь… мы ничего не можем поделать.
Девушка помолчала, подумав:
– Как и с грифонами. Как и со всем остальным. Мы никогда ничего не можем поделать, нет, ладно, не мы – я никогда ничего не могу поделать, потому что, потому что…
Дальше слова рассыпались – снова хотелось упасть, потому что сил идти дальше, ударяясь головой о лед, не оставалось. Еще так все по-дурацки вышло с этой очередной попыткой побороть страх кухни…
– Мы можем рассказать об этом, – предложил драконолог. – Точнее, мы должны сделать это. Вернемся домой и просто расскажем…
– И это, по-твоему, хотя бы что-то изменит или поменяет?
Альвио внезапно улыбнулся – улыбка его словно согрела окружающее пространство.
– Если это сделаешь ты, обязательно.
– Я не могу, Альвио, я не могу, – драконолог даже не успел спросить «почему?». Попадамс продолжила: – Потому что… это всего лишь я, вот и все. Где я, и где они. Что я могу поменять во всем этом? И смысл за это браться? Еле-еле получилось Тедди помочь, а это была вовсе самая малость. Я иду вперед, Альвио, натыкаюсь на стены, ударяюсь головой и шагаю дальше, но ничего, ничего из этого не получается. Может, пора прекратить, просто понять свое место и смириться тем, что я – это только я, такая вот Прасфора Попадамс…
– Будешь жалеть, даже если не попробуешь.
Прасфора хотела ответить, но сбилась с мысли: она постоянно пробовала, каждый раз, пытаясь стать лучше во что бы то не стало, не останавливаться. Пыталась с этой треклятой кухней, чтобы не дать мечте, такой далекой и недосягаемой, утонуть за горизонтом искрящихся надежд, погрузившись в пучины невозможного, откуда ее уже не выудить. И каждый раз ничего не получалось – кухня вызывал не поддающийся контролю страх, но Прасфора брала себя в руки и пробовала снова, откладывая разочарование куда подальше, чтобы не мозолило глаза. Только вот оно постепенно выпадало в осадок, откладываясь в глубинах души, накапливалось там и, забытое, продолжало давить, но уже не так заметно.
Если уж ее личные проблемы с кухней не были подвластны ей, такой никчемной Прасфоре, то что уж и говорить о войне, за которой стояла железная, с привкусом ржавчины, власть мэра.
Кости были белоснежными, словно начищенными до матового блеска, и в общей темноте – если бы потушили свет – они излучали призрачное сияние, отдающие загробным холодком от одного своего вида. Мощные и толстые, они безмолвно и безучастно покоились под сводами подземной пещеры, пока вокруг кипела жизнь.
Кэйзер сидел рядом, поглаживая рукой бронзовую пластину и согреваясь ее холодом . Вокруг носились люди, кричали инженеры и рабочие, а он просто смотрел на все это, выхватывал детали, чтобы перед глазами раскрывалась картина во всей ее полноте.
Перед ним лежали два больших бумажных листа, испещренные карандашами схемами и пометками. Если смотреть вблизи, то тяжело разобрать что-либо, кроме цифр и причудливых разметок, но стоило отойти и взглянуть издалека – тогда-то все складывалось в ужасающую и восхищающую, даже фантастическую картинку.
Эти чертежи были для мэра Хмельхольма смыслом жизни последние несколько лет, и сейчас, прямо на его глазах, из бронзовых пластин, белоснежных костей и упорной работы рождалась мечта.
Пыхтели приборы, на строительных лесах люди кричали и жужжали, блестел металл, звенели шестеренки – если на минуту прикрыть глаза и разглядеть магические потоки, то легко увидеть, как от такой нагрузки они чуть ли не рвутся.
Огромный скелет драконихи обретал новую жизнь.
Отвлекшись от чертежей, мэр обошел кости, посмотрел на костяные лапы, а потом дошел до вытянутого черепа и вгляделся в пустые глазницы —Кэйзер видел в них будущее, как оракулы древности в своих хрустальных шарах.
– Ну что же, – раздался сзади голос Барбарио. – Можешь радоваться! Еще раз проверили потолок пещеры, он действительно обледенелый настолько, что даже от того обвала не пострадал. Но ты уверен, что оно сработает вот так вот?
– Оно обязано сработать, Барбарио. По крайней мере, я сделаю так, чтобы оно точно сработало.
– Как знаешь, – пожал алхимик плечами, причмокнув. – Големы в абсолютнейшей норме, я проверил, работают, как новенькие.
Инкубус хихикнул. Словно в подтверждение его слов, в углах загремели ящиками големы – обычные, без механических частей.
– Не понимаю, – надул губы Барбарио – борода слегка выперла вперед, – почему мы не используем големов с кладбища для этих целей? Они же намного… практичнее. Ну, механические части и все такое.
– Ты же знаешь лучше остальных, что они нужны для другого, – нахмурился Кэйзер. – Но потом… это не будет проблемой.
– Кстати, я тут видел Хюгге, – вспомнил алхимик. – Он какой-то сам не свой. Что ты с ним сделал?
– Он просто выбирает.
– Ох уж эти выборы, да, не то слово, – хихикнул Барбарио – единственный человек в этой пещере, которому мэр прощал отсутствие мундира. Кэйзер достал из кармана пузырек с красной жидкостью, глотнул и пошевелил механической рукой, словно разминая.
– Господин мэр, – молодой инженер подбежал к Кэйзеру. – Мы на финишной прямой. Нам нужно, чтобы вы сверили все с чертежами…
– Одна попытка, – как бы невзначай напомнил Инкубус. – У нас будет всего одна попытка.
– И я сделаю все, чтобы в этот раз она оказалась удачной.
Барбарио передернуло.
– Бррр, перья, ох, зачем я вспомнил…
Кэйзер пошел следом за инженером, но тут его окликнул алхимик:
– Кэйзер! Господин Испраж… – он хихикнул, – точнее, господин Фюззель пришел! Как ты, собственно, и просил.
Испражненц спускался по каменному полу пещеры как неваляшка, в новом мундире раскачиваясь туда-сюда, еле сохраняя равновесие. Рядом топтались понурые щетинистый и низенький с ожогом на лице, активно споря. По лицу хозяина «Рваных крыльев дракона» моментально становилось ясно, что он такой компанией не очень-то доволен.
Кэйзер недобро – ворошащим душу холодом – посмотрел на всех троих.
– Господин Фюззель, – мэр подал инженеру знак подождать и пошел навстречу самозванному императору. – На вас отлично смотрится этот мундир. Я подумал, раз уж вы теперь один из наших адмиралов, то вы должны увидеть то, над чем мы так долго работаем. Да вот только… кто это с вами?
Щетинистый и низенький переглянулись – оба помятые после недавней передряги.
– А, да не обращайте внимания, – махнул рукой один.
– Да, мы просто так. Постоим тут фоном.
Фюззель собирался зыркнуть на них, но не успел. Кэйзер шагнул вперед, схватил щетинистого механической рукой за горло и сдавил до хруста – тот моментально обмяк.
Когда тело упало на землю, мэр глянул на низенького.
– П-погодите, – брякнул тот. – Я же ничего…
Снова хруст – второе тело свалилось рядом.
Испражненц так и стоял с открытым ртом.
– Господин Фюззель, – цокнул мэр. – Вы заставляете меня превращаться в зверя. Я, по-моему, не просил приводить никого постороннего.
– Но они не….
– Вот именно. Они не должны здесь находиться – могут помешать, сами того не зная. Итак, теперь к тому, что коснется непосредственно вас.
Барбарио, молча наблюдавший за сценой рядом со слегка ошарашенным инженером, махнул рабочим рукой – мол, приберитесь тут, да поживее.
– Я думал, – неуверенно отозвался Фюззель, наглость которого словно притухла, – что непосредственно меня коснется война.
Про себя он добавил еще и крах «Ног из глины», но решил об этом помалкивать – меньше знают, крепче спят. Хотя иногда, когда Испражненц ловил холодный взгляд Кэйзера, ему казалось, что тот не просто видит его насквозь, а выворачивает наизнанку.
Один плюс – теперь этим двум идиотам, не сумевших схватить девчонку и какого-то мальчугана, платить не придется. Все приятней.
– Война не случается сама собой. Просто отойдите назад и внимательно посмотрите.
Фюззель послушался – отошел, чуть не споткнувшись о тела, а потом увидел скелет драконихи, который и на себя-то уже был не похож. В глазах Испражненца вспыхнуло чарующее великолепие.
– Это…
– Каждый раз, как в первый раз, – язвительно хихикнул алхимик, явно недовольный компанией Фюззеля.
Кэйзер на мгновение прикрыл глаза.
И тогда свет вновь обернулся своим потусторонним двойником, белым и завывающим, и все вокруг свернулось, схлопнулось, а время под громкое тиканье незримых часов понеслось назад, сворачиваясь и разжимаясь. В миг все вокруг вновь залило светом, но другим – посеревшим и изломанным зигзагами, словно замедляющим и искажающим движения и изображения, как треснувшее кривое зеркало, в котором каждая фигура делится на сто своих фантомных двойников.
Белобородый седой старик стоит у огромного глиняного истукана, смотря на него разочарованными глазами. В руке он сжимает помятые чертежи. В огромный зал, освещенный магическими люстрами – тогда очень модными – входит юноша.
– Они восхищаются тобой, дедушка, – улыбается молодой Кэйзер. – Даже в других городах.
– Как обычно, слишком рано, – вздыхает старик. – Я до сих пор не знаю, как вдохнуть в него жизнь. А без этого…
– Но разве он должен быть живым? – удивляется юноша.
Анимус смотрит на него бесконечно глубокими глазами, где океанами плещется доброта, смешанная с грустью.
– Вовсе нет. Но все будут думать о нем, как о живом. О всех них, Кэйзер, – старик посмотрел на руку внуку. – Твоя рука…
Юноша махнул свободной рукой.
– Пустяки, просто сломал. Я что-нибудь придумаю, – улыбается он. – Я же твой внук.
Старик смеется весенней трелью бубенцов – смех, который тяжело выкинуть из головы при всем желании.
– Обязательно придумаешь, и много чего, – он задумывается. – А уж если станешь мэром… знаешь, власть – прекрасный инструмент для чего угодно, но никогда не цель.
– У меня она будет?
– Я уверен.
– А почему ты никогда не хотел стать мэром, дедушка?
– Мне этого не нужно, – он снова улыбается. – У меня есть идеи, и их хватает. По крайней мере, они у меня всегда были, но сейчас… Не знаю, что и поделать.
Они вдовеем смотрят на первого в семи городах голема, стоящего мертвецом без намека на подобие жизни. Молчание нарушает Анимус:
– У меня есть одна идея, Кэйзер, как сделать его живым. Как сделать так, чтобы Чудо заработало. Тогда все их восхищения перестанут быть пустыми возгласами.
Старик вновь смеется, но в этот раз в его весенний голос кто-то словно пускает зимний сквозняк, печальное завывание вьюги.
– И как же? Что это за мысль?
Неожиданно, Анимус обнимает Кэйзера.
– Ты узнаешь, когда я решусь, – шепчет старик. – Но пообещай мне, что не будешь плакать.
– Я взрослый, дедушка. Не буду, – минуту помолчав, юноша добавляет: – А почему я должен?
Вместо того, чтобы ответить, Анимус крепче сжимает объятья.
И вот свет снова замирает, вспыхивает чернотой изнанки и медленно ползет обратно, словно разливаясь водами реки памяти, которые так часто хотят стать потоками забвения – а потом вода обращается белоснежным песком, который стирает тонкие, сотканные из шелка воспоминаний картинки, и возвращает к реальности, где железная хватка настоящего смыкает свои стальные челюсти.
Кэйзер открыл глаза. Посмотрел на механическую руку – про себя ухмыльнулся, как же все-таки забавно совпало. Сломанная рука тогда, в молодости, и механическая теперь, но совсем по другой причине.
Сзади инженер пытался очень деликатно намекнуть, что пора идти.
– Господин мэр… – протянул он, словно приманивая сокола голой рукой, которую тот запросто мог цапнуть.
Кэйзер сжал и разжал механическую руку, развернулся и прошептал:
– Дедушка…
Посмотрел на своды пещеры, промолчал и добавил:
– Властью, данной мне, – он сжал механическую руку в кулак. – Сегодня Хмельхольм увидит войну.
Глава 6. Хмельхольм почти не виден
Я пытаюсь спасти, удержать небо
Ломая хрупкие плечи,
Подставляя хрупкие плечи…
Рок-опера «Икар»
У Кэйзера было два ворона.
Две огромные, черные, словно впитывающие в себя свет птицы с блестящими глазами – не хищными, не жестокими, а по-своему сосредоточенными. Птицы сидели в клетках, как декоративные животные, и лишь иногда взмывали под потолки горного Хмельхольма, еще реже – в небо.
Каждый полет становился для них отдельной радостью, событием, доводящим до экстаза – и сейчас один из них, выпущенный мэром, рассекал воздух, врезаясь в потоки наступающего густого тумана, и нес вести – к лапке был примотан свернутый трубочкой лист бумаги.
Почтовая служба всех семи городов слыла самой обычной, так сказать, сугубо человеческой – коробки с письмами и посылками грузились на корабли и медленно расползались меж городами по морю и рекам. И не то что бы никто никогда не обращал внимания на птичьи способности – конечно, все пробовали, но как-то не заладилось. Чайки торгового Златногорска оказались слишком наглыми, голуби Хрусталии пребывали словно в иной реальности, вообще не ориентируясь в пространстве, а вот вороны столицы, Сердца Мира и Хмельхольма при должной тренировке с задачей справлялись. Поэтому их и стали использовать для доставки срочных посланий, но вороны Кэйзера своими размерами внушали ужас, еще раз подчеркивая срочность и важность оправлений – и вот сейчас, тот ворон, что снижался над покрытыми вечным туманом черепичными крышам столицы семи городов, Сердца Мира, нес важные новости.
Скорее даже намеки на эти новости.
Из-за тумана показались скалящие зубы каменные драконы, покоящиеся на каждой крыше Сердца Мира – безумное решение не менее безумного архитектора, очевидно желавшего, чтобы заплутавшие ночью жители по утру приходили домой икающими от ужаса. Но ворону было не до этого – он привык и, к тому же, спешил.
Птица вновь поднялась вверх, и блестящий глаз ее заметил Башню Правительства в центре города – огромное готическое здание из песчаника с большим окном-розеткой и водостоками в форме статуй драконов, безмолвными смотрителями этой Башни. Их несуществующий взгляд запоминал и сохранял все, что происходило в городе.
Ворон долетел до одного из трех открытых балконов на верхних этажах и влетел внутрь. Будь он человеком, то отвлекся бы на шум падающих монет – в центре Башни Правительства находилась огромная стеклянная труба от пола до потолка. Вверху покоился Философский Камень, мимо которого осыпались отшлифованные под форму монет камни, простая горная порода – вниз она осыпалась и падала, уже превратившись в золотые монеты-философы с выгравированной буквой «Ф».
Но ворону было без разницы. Минуя нужные коридоры, он поднялся еще выше и залетел в кабинет с большим витражным окном. Дневной свет умывал помещение.
Ворон сел около пожилого лысого мужчины в черном костюме и с короткой, но пышной седой бородой. Мужчина читал газеты – он всегда читал прессу из всех семи городов, чтобы быть в курсе событий.
Супримус, триумвир, первый член Правительственного Триумвирата, отвлекся и поднял глаза.
Ворон сидел и ждал. Супримус отвязал свернутую бумажку от лапки – конечно, он знал, кто всегда присылает этих огромных птиц. Как только послание оказалось в руках триумвира, ворон каркнул, вспорхнул и улетел извилистыми коридорами.
Супримус заведомо не ждал ничего хорошего, но его лицо… никогда не выражало ничего, словно бы было чистым листом, который каждому предстояло трактовать по-своему – и только в редких случаях триумвир позволял своим мыслям и эмоциям отразится на лице.
Как, например, сейчас – в глазах мелькнула злость и нотка страха. Развернув записку, член Правительства сперва достал что-то непонятное, хранившееся внутри: ни то кусок мела, ни то маленькую заостренную косточку. Потом Супримус пробежался по тексту, выругался и, резко встав, направился в коридоры Башни, совсем позабыв о газетах.
Это было куда важнее ситуации в любом городе.
Он миновал несколько лестничных пролетов – всегда любил ходить пешком, а не пользоваться магическими платформами-подъемниками – и зашел в другой зал, где, с важным видом расхаживая взад-вперед в золотом балахоне, второй член Правительства, Хранитель Философского Камня Златочрев потягивал настойку.
– А, Супримус, – отвлекся он. – Я как раз хотел зайти к тебе, но вспомнил, что ты читаешь свои газеты, и это надолго…
Златочрев почесал густую черную бороду до груди – из нее посыпалась золотая пыльца, побочный эффект от настоек из растений, цветущих на склонах богатых породой гор.
– У нас проблемы, – холодно объявил Супримус.
– У тебя проблемами считаются любые мелочи…
В обычной ситуации Супримус – кстати, еще и лучший в мире алхимик (титулы, как известно, не берутся из воздуха), – сказал бы что-то типа: «Да, потому что из мелочей обычно и рождаются самые большие проблемы. Или ты забыл о том восстании ради ничего?». Но сейчас он просто вытянул вперед руку с запиской и странным белым предметом – Златочрев прищурился.
– Мне принес это ворон.
Смотритель Философского Камня замер.
– Вот нестабильность… – потом потряс головой. – Нет, от мэра Кэйзера всегда, конечно, одни проблемы, но ты, может, опять преувеличиваешь.
Белобородый член Правительства молча подошел к столу и положил записку. Златочрев, выпятив круглый живот – он принципиально никогда его даже не втягивал – наклонился, прищурился и начал читать. А потом так и замер, словно заклинивший.
– Он объявляет войну, – поделился кратким содержанием Супримус.
– Но… это же… какая-то бессмыслица! – слегка придя в себя, Златочрев стал крутить в руках белое нечто. – Он что, совсем сбрендил?
– Он всегда… что-то затевал. И вы с Кроносом знали мое мнение на этот счет.
– Одно дело затевать, – возразил Хранитель Философского Камня. – Другое дело – собственно делать. И ведь это внук гениального Анимуса…
На Хмельхольм всегда приходилось обращать огромное внимание, читать новости местной газеты с пристрастием, видя даже то, что пыталось спрятаться от глаз между строк – и все бы ничего, город как город, такой как и другие шесть, со своими красотами, пороками, тайнами, людьми и интригами, но вот только Кэйзер… Мэр всегда пытался найти точки, события и поводы, оттолкнувшись от которых можно было смело не просто показать всем остальным кулак, а громогласно ударить этим самым кулаком по шести остальным головам. Супримус видел и знал, конечно же, что это не просто забава, но и выгоды в этом никакой быть не может. Триумвир понимал, что Кэйзеру нужен повод, конфликт.
Только тайной за такой непрошибаемой дверью, что представить сложно, оставался вопрос – зачем все, ради чего?
Мэр Хмельхольма никогда не переходил к действиям, но не трусил – это было не в его стиле, о чем Супримус тоже, безусловно, знал, – просто не мог нащупать подходящий момент, или же не был готов, что-то у него не получалось. Седой Триумвир пытался понять, что же конкретно не удавалось Кэйзеру, но суть вопроса ускользала, словно намазанная мылом, как только член Правительства наконец-то касался нужного потока мыслей. А потому на редких, но важных встречах с мэрами всех семи городов, внимательнее всего Супримус наблюдал за Кэйзером, но разгадать того было все равно, что постигнуть все секреты магии – невозможно. По крайней мере, сейчас.
После историй с грифонами Триумвир все чаще возвращался к мыслям о Кэйзере, который ради чего-то – может, и сам того не осознавая, – истребил целый вид.
Теперь все сошлось. Война – такое безрассудство. И, главное, какими средствами?
Они никогда не воевали. Незачем, города – не страны, все жили друг засечет друга, были артериями одного организма, конкуренции хватало в рамках товарооборота. Мир, которым, фигурально выражаясь, рулил Супримус, был миром денег и финансовых отношений – а чего еще ждать, когда философами называют золотые монеты? Вся мудрость крутилась вокруг Философского Камня, так своевременного созданного Фустом, бесконечно ворчливым алхимиком прибрежного города Златногорска. Воевать было просто не из-за чего и не зачем – себе дороже. Сплошь убытки, а убытки не любил никто.
– Супримус, – дрожащий голос Златочрева вернул Триумвира к реальности. – Я, кажется, знаю, что это…
Смотритель Философского Камня крутил в руках белое нечто, приложенное к письму.
– Что же?
– Это очень плохо…
– Ты можешь просто сказать, что это такое?
– Я не… уверен, – сглотнул Хранитель Философского Камня. – Но это… нет, я не хочу говорить так. Нам срочно нужно к казначею. Срочно.
Златочрев создавал впечатление сумбурного, рассеянного и ленивого человека, но когда как каменная плита на голову сваливалась серьезная проблема, он менялся – из мягкого податливого метала превращался в острый, заточенный и преследующий лишь одну цель клинок.
Супримус кивнул.
Спускались на нижний этаж они на магической платформе, потому что Златочрев теперь не мог лестниц, они стояли на первом месте в его персональном списке вселенского зла.
– Война… – пробубнил Хранитель Философского Камня. – И что он может натворить? Чем ему воевать?
– Не представляю, – нахмурился Супримус.
– Он далеко не дурак, чтобы присылать вот такие послания и вот такие вещи просто так, – Златочрев потряс белым нечто.
– Он гений, Златочрев, как и его дед. Но только мыслит… не туда.
– Значит дурак.
– Нет, просто причина… тут все дело в причине.
Хотел бы Супримус ответить подробней – да вот только не мог при всем желании.
Платформа остановилось, и два Триумвира вышли в нижний зал. Здесь кончалась огромная стеклянная труба в центре Башни, и здесь, на ее дне, собирались сотни и сотни золотых монет, еще на вершине бывших отшлифованными камнями, простой горной породой. Из огромной кучи они постепенно опадали вниз и там, двигаясь на конвейерных лентах, работающих благодаря магии, исчезали в подвальных помещениях.
Около этой трубы, за столом, заваленным бумагами, сидел казначей.
Казначей, к слову, был драконом.
Небольшой и будто бы кругленький, с атрофированными крыльями и маленькими – но зато способными держать карандаш – передними лапками. Среди своих сородичей он считался бы скорее недоразвитым, но, видимо, природа направила всю энергию его личной эволюции в мозг, а потому казначей не лежал в пещере на горе сокровищ, или среди горных пород, а сидел здесь, за столом, с очочками спущенными… и не скажешь, что на нос, а на морду. Сидел, изучая и исписывая бумаги, и посматривал на падающие монеты – его фотографический взгляд, как у всех других крылатых рептилий, сохранял картинку с мелочами до деталей. Было бы просто странно, если бы существа, так любившие свои драгоценности, не запоминали их количество – с точностью до монетки.
Дракон с золотистой чешуей заметил шагающих Триумвиров.
– А, господин Супримус, господин Златочрев! – он отложил карандаш и на мгновение взглянул на падающие монеты. Глаз его словно вспыхнул. – Три тысячи пятьсот двадцать шесть философов на данный момент…
– Сейчас не об этом, – затараторил Златочрев, кладя на стол белое нечто. – Ты можешь сказать, что это?
– Что-то случилось? – голос дракона не обволакивал, а был самым обычным, почти человеческим – разве что слегка сотрясающим воздух.
– Просто скажи мне, что это. Я очень надеюсь, что ошибаюсь.
Дракон-казначей вздохнул и взял нечто маленькими лапками. Покрутил в руках, понюхал, разглядел внимательно… и уронил на стол.
– О нет, – прошептал Хранитель Философского Камня
– Что это? – нахмурился Супримус. – Скажите мне, оба, что это?
– Господин Супримус, – еле выдавил казначей. – Это кость дракона…
Златочрев зажмурился. Сейчас им бы точно не помешала компания третьего члена Правителсьтва, главы жандармов Кроноса, который вечно где-то пропадал.
Вопросы, и без того осами жалившие седобородого члена Правительства в черном пиджаке, ударили жалом обезумевшего скорпиона, сочившегося полуночным ядом.
– Ну конечно, – просипел Супримус. – Я должен был догадаться, вся эта история с грифонами… У него есть, чем воевать, Златочрев. Очень даже есть… ну конечно.
Прасфора думала, что будет смотреть на алые черепичные крыши маленьких домишек с детским восхищением и сахарной радостью, ведь тогда, под землей, ей так не хватало родных контрастов, сочности цветов, а сложно представить что-то более родное, чем эти уютные домишки, совсем не подозревающие, как холодно и безысходно там, в мрачных тоннелях.
Но теперь, на вокзале, девушка смотрела на дома равнинного Хмельхольма не то чтобы с грустью, и даже не с сожалением, а с жалостью, которая отражалась в глазах маленьким, серым, потухшим и потерявшим световосприятие шариком. Ведь какой смысл во всем этом, если скоро всех их ждет война.
И какой смысл во всем этом, если она ничего не сможет сделать.
Так что теперь, опустив руки, Прасфора Попадамс стояла на перроне, застыв, как статуя с бегающими глазами, этакий древний хранитель города, вечно наблюдающий за его нерасторопным движением, но также вечно безмолвный.
Драконолог легонько тронул девушку за плечо.
– Пойдем, – шепнул он.
Прасфора совершенно не хотела двигаться с места – зачем вообще куда-то идти, для чего совершать действия, ведущие к одному итогу, к точке, от которой хотелось бежать прочь, но она тянула к себе все и вся, из любых направлений.
– Ладно, – подумала Попадамс. – Соберись. Нужно просто идти вперед. Всегда идти вперед…
И она сделала шаг – и буквально, и через себя, – опять продолжив движение без сил, без желания, с расшибленной сто раз о метафорические стены головой, ведь останавливаться было нельзя, иначе…
Собственно, что иначе? Точнее, нет – что теперь иначе?
Небо блестело от солнечных потоков как глянцевое, покрытое масляной пленкой – холодное и безмолвное, но осенне-приятное, всяко лучше вечных и суровых затягивающих туч. Погода раскочегарилась, улыбалась тонкими сероватыми облаками, совсем незаметными, если не обращать на них внимание – день цвел в пестром сиянии осени, а бордово-желтые листья словно бы становились ярче, подпитываясь погожим деньком.
А Прасфоре все равно казалось, что небо затянули меланхоличные серые тучи, погружающие Хмельхольм в безысходность. Не хватало только противного, моросящего дождя, отбивающего свой нервный такт по лужам, и истерических раскатов грома. Погода, как думалось Попадамс, должна была вести себя именно так в свете грядущих событий. Но погода никогда не была в курсе – у нее хватало сотни других проблем и дел.
Пока они с Альиво шли мимо домиков, мысли на мгновение утянуло обратно в горы, на кухню, идиотскую кухню, и тучи – несуществующие – стали еще бледнее.
Конечно, она опять разгромила все, ничего не получилось; это снова был удар головой об лед, но ей пришлось встать и идти дальше, хотя хотелось рухнуть просто там, в горном городе. Столько попыток, и все ничего – и если раньше Прасфора без проблем заставляла вставать себя, такую никчемную и бесполезную, шагать дальше, то сейчас наступил катарсис, точка, когда хочется – смертельно нужно – дать себе слабину, растаять и исчезнуть, перестать пытаться.
Прасфора так и собиралась сделать, но все равно нашла в себе силы двигаться дальше. Только желание все на свете преодолеть, всех победить – саму себя со всеми железными установками комплексов прежде всего – тлело, как фитилек древней свечи, практически распавшийся в пепел.
Оставалось просто рухнуть в кровать и забыться хотя бы на пару минут – Прасфора никогда не позволяла себе такого, эти стальные тиски в голове оставались неподвижны, но сейчас давали слабину. Ослабь их – и будешь жалеть, что позволила себе, останься в их хватке – будешь ругать, что не дала волю желанию.
Кельш ждал на пороге «Ног из глины» – прежде всего, они с Прасфорой обнялись (у нее опять подступили слезы), потом втроем вошли внутрь и расселись по обгоревшим столам. Кельш сперва налил дочке горячего молока, подождал, пока она в тишине сделает несколько глотков, и только потом спросил – знал, что вопросы с порога, тем более после очевидных приключений (явно на одно место), никто не любит.
Девушка огляделась – кабак выглядел… мало сказать, ужасно. Почти везде почернел, перила на лестнице обуглились, где-то треснули балки, которые уже успели подпереть новыми. На время, наспех, чтобы не прекращать работу. Как девушка поняла, гостей все еще принимали, а они все еще шли – даже в место, напоминающую глотку вулканического монстра.
– Что случилось? Где ты пропадала? – Кельш спросил не укоризненно, как у ребенка, ушедшего погулять во двор, а вернувшегося без мяча, без денег и к тому же слегка пьяного, а мягко – прямо не словами, а сливочным маслом.
– Пап… нас ждет война.
– О чем ты? Какие войны?
Кельш посмотрел на Альвио – тот кивнул и слегка закатил глаза: мол, лучше поговорить об этом потом, там все куда хлеще.
Прасфора собралась и рассказала, что случилось. Отец слушал с одновременно суровым и безмерно теплым лицом. Когда девушка закончила, он даже не присвистнул, хотя хотел – это показалось ему слишком неуместным.
– И да, – вдруг вспомнила она, залезая в карман свитера. – Дядя Хюгге…
Тут девушка чуть не всхлипнула – просто достала измятую бумажку и протянула отцу. Тот прочитал несколько раз, будто не верив словам, видя на их месте злое, кривое заклинание.
– Так братец… с ними заодно?
– Он и убивал грифонов тогда.
– Да, и грифоны оказались правдой… но Хюгге…
– Он сказал, – не понимая зачем уточнила Прасфора, – что ему бы пришлось убить меня, если я бы не уехала. Но предупредил меня, и… мне кажется, он принял решение.
– Он никогда не умел их принимать, – нахмурился Кельш. – Постоянно метался туда-сюда. Но грифоны, драконихп, война…
– И я ничего не смогу с этим сделать, – прошептала Прасфора.
– Мы ничего не можем сделать.
– Нет, я не могу ничего сделать. Просто, потому что это я – такая, такая, такая… – она не нашла в себе силы закончить и просто выпила еще молока, уже подотсывшего. Кельш повернулся к Альиво.
– Я не видел Испражненца с тех самых пор. Как сквозь землю провалился…
– О, зато мы успели на него насмотреться – там, в горах.
Они решили не говорить Кельшу и произошедшем перед их отъездом.
– Побег сразу после поражения? И ясно, для чего…
Тут в голове у Попадамс всплыли намеки, шепотки и недоговорки Фюззеля. Догадалась бы раньше, да не до этого было – теперь-то поняла, что за слухи тот имел в виду.
– Так он все это время знал о войне. Слышал, таскал слухи…
У нее затрещала голова.
– Я… – забыв о недопитом молоке, Прасфора обхватила голову руками. – Простите, слишком много всего. Поднимусь к себе… а потом спущусь помочь.
– Даже не думай. Тебе нужно отдохнуть, умыться и поесть. Желательно именно в таком порядке.
– Нет, нет… – протянула уже вставшая девушка. – Я правда помогу. Только несколько минут…
Она отказалась от помощи Альиво и еле-еле, сама до конца не понимая, как, дошла до своей комнаты, тоже обгоревшее – думала, что тут почувствует себя лучше в домашнем, родном уюте, но ничего не поменялось, стало ни хуже, ни лучше, просто так же погано. Узор мира трещал, как разбитое стекло, и паутина осколков разрасталась.
Прасфора прилегла на кровать. В голове крутилось много чего, оно ударялось о свинцовые комплексы и предустановки, громко звенело, но ярче всех, словно оравшая в тромбон, звучала мысль: «Я ничего не могу с этим сделать. Кто-то – может. Я – не могу. Потому что… потому что…»
Закончить Прасфора не успела – сознание провалилось во мрак. Теплый и манящий, без черепов в холодной пустоте, но даже тут, на грани сна и яви, с эхом от взмахов далеких, давно уже ставших лишь костями, крыльев.
Альвио даже и не радовался.
То есть, все прошло хорошо, они воздали должное Фюззелю и компании, Прасфора нашлась, оказалась живой, здоровой, хоть и слегка исцарапанной – эмоциям положено было захлестывать с ног до головы, но они своей святой обязанности не выполняли, просто-напросто отказывались. Драконолог не искал особой причины такого парадокса, лишь поддавался воле ощущений, которые словно укутали в серое покрывало, и при всем желании скинуть его не получилось бы – оно оказалось очень к месту.
Конечно, все эти разговоры про войну, Кэйзера и грифонов… да, грифонов… а в голове Альиво смысловой ряд стоило с них скорее начинать, ведь как так можно было: просто взять и вырезать их всех ради какой-то, да пусть даже самой важной и нужной цели. Понять драконолог не мог, вот и домой шел, как в тумане – не радуясь и не ревя от подступающей к горлу печали и тленности бытия. Мир словно бы сгорел, оставив от себя бархатный серый пепел, а он, Альиво, этого даже не заметил – принял как данность.
Альвио не помнил, как открыл дверь – будто сквозь стену прошел, – как снял шарф и плащ-пальто – тоже. Хотел было просто сесть за стол, потому что мозг отказывался делать что-либо, кроме варения в собственном соку из мыслей, но тут драконолог заметил, как по полу носится – пытается – нечто очень яркое на фоне потускневшего мира.
В Альвио словно пару литров кофеина ввели, он тут же взбодрился, посмотрел на полку шкафа – увидел, что склянки там не стоит, – посмотрел вниз, заметил осколки, а потом наконец-то кинулся к дергающемуся нечто.
Гомункул оказался не таким проворным, как хотел бы – никак не мог обрести хотя бы некое подобие формы, менялся, распадался в кисельную жижу, которой, собственно, и был. Лишь на мгновенье обретал очертание кривого силуэта и снова разваливался – даже для него это было чересчур нестабильно.
Драконолог загнал существо в угол, прихватив свободную склянку, и заманил внутрь пробирки, покрепче закупорив пробчатой крышкой. Альвио отряхнулся, выдохнул, поднял скляночку, покрутил в свете дневного солнца и нахмурился.
Существо дергалось пуще прежнего – сильнее, чем до того, как Альиво уехал. Видимо, поэтому и свалилось с полки.
– Нехорошо все это, – подумал драконолог. – Ой как нехорошо…
Отставив гомункула на стол, чтобы больше уж точно не падал, и положив туда же тетрадку с зарисовками, Альвио присел и опять задумался, слегка засыпая. Он точно знал, что проблемы с магическими потоками происходят из-за того, о чем рассказывала Прасфора – возвращенные големы, грифоны и война… Драконолог боялся даже представить, что будет, когда нити расшатаются – а если сейчас была только прелюдия ко остальному действу, то, как пить дать, во время основного акта с магией случится такое, что волосы дыбом будут вставать.
И далеко не всегда от удивления.
Альвио посмотрел в окно. Далекие горные пики скрылись за плотными облаками.
Слишком много всего стояло на кону, слишком много всего было задействовано в этой формуле, этаком заклинании, написанном воздушными чернилами на душе Альвио: грифоны, дракониха, магия, нормальная жизнь и, конечно, Прасфора. Прасфора, которой было совсем уж не по себе.
Нужно действительно что-то делать.
И драконолог не просто верил, а знал, что Прасфора обязательно сможет сделать – сделать вообще все что угодно. С ней так было всегда: и не нужно представлять, что не видишь стены препятствий, забывать о них. Главное – осознавать, что идешь прямиком к стене, и верить, что прошибешь ее. Хоть Попадамс и говорила ему, что она – просто она, и ничего в этой ситуации не сделает, в этом-то как раз и была вся соль: Прасфора именно что она сама, а никто иной. И она – никто иной – точно справится. Ей нужно справится хотя бы назло всем, кто не верит.
Тут Альиво поймал себя на мысли, что Попадамс уже сама почти не верит в себя – и даже легкий запас, этакая жировая прослойка уверенности, иссякла, исчерпала себя.
Нужно как-то останавливать войну.
Дремота уже бесцеремонно вторгалась в сознания, сталкивая красочные образы. Следующие мысли формулировались в голове с трудом – но одну драконолог выхватил и не упустил. Одним им точно не справиться. Так это не работает – все равно что тычком пальца повалить человека наземь.
На глаза Альвио – порядком слипающиеся – попался старый выпуск городской газеты с вечно веселящим названием «Хмельные вести», уже запылившийся и никакой информационной ценности не представляющий
Но искрам идей и положено зажигаться спонтанно, от самых неожиданных спичек. Искра вспыхнула, стала полупрозрачной мыслью, осенившей Альиво – он сам не понял, успел ее ухватить или нет, потому что на мгновение провалился в сон.
Очнулся, подумав, что прошел целый час. Оказалось, как и обычно, всего минута – тогда призрачная мысль вернулась в голову.
– А почему бы инет, – пробубнил драконолог, беря в руки пыльную сложенную газету. – А почему бы и нет…
Фюззель готов был рвать и метать, но помалкивал, хлебая теплое пиво, сидел за длинным дубовым столом в, как он понял, общем обеденном зале, где кругом сновали люди: какие-то другие люди помимо него.
Испражненц сделал еще глоток теплого пива – нестабильность подери, они всегда тут пьют эту теплую гадость! – и сморщился так, что даже заслезились глаза. Яркий пример того, что можно продолжать колоться, но преспокойно есть кактус – Фюззель вообще всем своим существом, которое благодаря обширной фигуре увеличивалось вдвое, воплощал принцип «дают – бери, бьют – беги».
Пока бить не собирались, и он сидел тихо-мирно. Но внутри бушевал адский циклон. Причиной такой душевной непогоды стало вот что:
В очередной раз, пересиливая себя и морщась, как кувшин с прокисшим молоком (даже комочки на лице появились), Фюззель наткнулся на инженера. Тот начал воодушевленно объяснять Испражненцу что-то – сначала самозванный император не обращал внимания, но потом осознал сказанное, и…
– Я повторяю в десятый раз, – рвал и метал Фюззель – Это я не надену. Что это вообще такое?!
Бедный инженер понять не мог, что вызвало такую реакцию господина в мундире, который сидел на нем, как жилет на тыкве – узко, нелепо и не к месту. Его, инженера, всего лишь попросили провести небольшой инструктаж – а теперь приходиться вытирать слюну, больше похожую на зловонную слизь, с лица.
Инженер вытер капли со лба.
– Мы еще не придумали этому название, но господин Кэйзер сказал, что этим обязательно должны уметь пользоваться все те, кто будут… там. Это все ради безопасности.
Испражненц покрутил в руках так разозлившее его приспособление – большой кусок ткани, нитками привязанный к поясу, из которого торчала еще куча непонятных лесок и веревок.
– И это, – он потряс непонятной вещью, – вы называет безопасностью?! И вообще, какой такой там? Можно объяснить нормально, по-человечески?!
Фюззель не привык, что ему перечат – точнее, скорее даже привык пресекать любое недовольство на корню, потому что, в конце концов, он тут начальник, и деньги идиотам-сотрудникам платит тоже он. И хотя весь мир – пока – не крутится вокруг Фюззеля, хотя бы окружающие пусть будут любезны стать задорной, красивенькой и покорной марионеткой, двигающейся так, как ему надо: ни шагу вправо, ни шагу влево. А этот инженер явно ничего не понимал в жизни – в той жизни, которую вел Испражненц, по крайней мере.
– Я еще раз повторяю, даже не подумаю…
– Господин Фюззель, – раздался голос, и лицо хозяина «Рваных крыльев дракона» тут же поледенело, – это правда очень важно для вашей же безопасности.
Кэйзер подошел к обомлевшему Испражненцу и взял у него из рук приспособление.
– Я думаю, вы меня прекрасно понимаете – в плане должна быть продумана каждая мелочь, как каждая шестеренка на чертеже. Иначе как нам победить?
Услышав «нам», внутри Фюззеля зазвонили радостные колокола самовлюбленности – подумать только, сам мэр хочет, чтобы у них – именно у них! – все вышло.
Кэйзер же отдал приспособление обратно в руки все еще шокированному Испражненцу и отправил инженера заниматься другими делами.
– Я…. Разберусь, конечно, разберусь, – нашел силы выдавить Фюззель.
– Славно, – Кэйзер позволил себе ухмыльнуться – эмоций это его лицу не прибавило. – Вы же догадываетесь, что путь был долгий.
– Да, да, конечно, – перебил Испражненц и тут же прикусил язык. – Как и ваш дедушка, вы…
Мэр Хмельхольма резко сжал механическую руку в кулак. Фюззель сглотнул.
– Простите…
– Не надо, – махнул другой рукой Кэйзер. – Все это и сделано для того, как раз чтобы так престали и говорить, и думать. Когда все кончится —на вас и проверим. Еще чуть-чуть…
Мэр понимал, что говорит сейчас не совсем с человеком: в его воображении, будь оно свойственно к яркому мышлению метафорами, образовалась бы ходячая куча плотно утрамбованного компоста, которая воняла, но не физически, нет, это еще ладно – а всем своим существом, источало такое… правильнее, наверное, сказать, напряжение, что у находящихся рядом начинало покалывать сердце и сводить желудок.
Под испуганным взглядом Испражненца мэр еще несколько раз сжал и разжал механическую руку.
– Вы знаете, – вдруг заговорил Кэйзер, нахмурив седеющие брови, – ради чего мы перебили всех грифонов?
– Эээ… – перемялся Фюззель с ноги на ногу, – я слышал слухи, сплетни, предполагал, но…
Кэйзер хмыкнул – нет, все-таки прав был Барбарио, но польза может прийти даже от самого прогнившего насквозь яблока: как минимум, чтобы отравить кого-то, если понадобиться, или приманить на запах гнили.
Для мэра Испражненц таким яблоком, в принципе, и был. Кэйзер не любил ходить по головам в том смысле, в котором об этом говорят – он уважал разных людей, сильных и по-своему слабых, работящих и слегка ленивых. В каждом было то, чего он, возможно, не находил в себе, а это – повод относиться к ним почти на равных, если не лучше. Но вот Фюззель… в Фюззеле мэр Хмельхольма элементарно не видел человека. Никакого совсем.
– Нет, господин Испражненц, – он наконец-то разжал механическую руку, достал из кармана темно-синего мундира пузырек с рубиновой жидкостью, откупорил, выпил и убрал обратно, – это все ради неба.
– Простите, – не понял самопровозглашенный император таверн. – Вы сказали неба?
И вот теперь Фюззель злился, морщась от теплого пива.
Почему вообще он, хозяин сети таверн, уже так скоро – он знал, чувствовал! – обещавшей превратиться в настоящую империю еды, должен есть в общем зале: он, стоящий бок о бок с мэром Кейзром в его грандиозном плане…
Только вот Фюззель совсем не был посвящен в планы – и вообще не понимал, что вокруг происходит.
Посвящать его, похоже, никто не собирался.
Только какие-то постоянные намеки, будто бы даже уколы в его сторону – и ведь от самого Кэйзера в том числе! Фюззель делал, что просили, но не понимал, что конкретно делает и ради чего – какая грандиозная цель у всего происходящего? Война войной, но ведь ведет же она хоть к чему-то. И скелет этой драконихи… нестабильность, да что они творят с ним?!
У Фюззеля руки чесались понять, что. Ведь то был уже и не скелет вовсе, а, а, а… слово Испражненц подобрать не мог, поэтому в мыслях останавливался на формулировке «нечто большее».
Вот он и вышел из себя: мэр Кэйзер ничего не объяснил, дал намек и холодно улыбнулся – так просто не могло быть, не должно было быть, ведь Фюззель сам, своими силами встроился в эту цепочку, его звено вклинилось в вереницу остальных, но не ощущало себя частью целого. А должно было.
Ведь иначе, как ему грезить о раздавленных Попадамсах?
Фюззель потряс кружкой – нагретое пиво забултыхалось внутри. Испражненц посмотрел на свое отражение, а пенной жидкости раздутое до невозможности, и чуть было не плюнул прямо в напиток – не от отвращения к себе, ни в коем случае, пусть хоть в десять раз его расширяет; а от ненависти к напитку, который позволил себе такую дерзость в отношении к его лику.
В этом плане, Кэйзер, конечно, тоже был хорош. Правда плевать ему в лицо Испражненцу почему-то даже не хотелось – инстинкт самосохранения подсказывал.
– Ну что, – вдруг захрипел подсевший мужчина – абсолютный, полный незнакомец (и, как прикинул Фюззель, такой же абсолютный и полный идиот). – Еще кружечку?
Острым взглядом, будто палкой в грязь, незнакомец ткнул в почти пустую кружку Испражненца. Нет, все-таки Фюззель действительно умел брать, когда дают, на всю катушку.
– Идиот, – подумал Испражненц, еле сдерживаясь, чтобы не сказать вслух. Был бы это его сотрудник – ни капельки бы не останавливал себя. – Ты даже не представляешь, чем я знает, с чем соприкасаюсь…
Да вот только Фюззель сам не знал, чем был занят.
Именно эта досадная оплошность и привела его к кружке отвратительного теплого пива, за эти ужасные дубовые столы, а теперь и к этому омерзительному незнакомцу. Испражненц молча встал, не обращая внимания на недоумевающего подсевшего, и зашагал вон из зала. Даже отказался ради этого от бесплатной кружки. Вот они – великие моральные перемены в человеке. На лицо. Да уж, точно катарсис – Фюззель понял, что пора требовать от Кэйзера ответов.
Ну, требовать настолько, на сколько получится – жизнь, особенно сейчас, хозяину «Рваных крыльев дракона» нужна была позарез. А требовать нечто от мэра – все равно, что просить джина о четвертом желании. И все же…
Без этого сейчас не получится. Ведь дракон должен расправить свои рваные крылья.
Проснулась Прасфора весело и задорно – ударилась о спинку кровати и долго не могла понять, где находится голова, будто бы вестибулярный аппарат до сих пор не проснулся. Видимо, так оно и было, потому что встала девушка с трудом: как обычно, не понимая, какой сейчас год, день, час, да хотя бы время суток. Солнце било в окно приглушенно и осторожно. Прасфора, все еще находясь в состоянии перехода из одной реальности в другую, вдруг вспомнила – сама не поняла, почему именно это, – что забыла переодеться.
Двигаясь как муха, надышавшаяся ядовитых паров, Попадамс порылась в шкафу – хорошо, хотя бы до него пламя не добралось, точнее просто полизало и перекинулась на более аппетитную трапезу. Девушка переоделась, сменила блузку на чистую, бросила на кровать другой – карамельно-кремовый – свитер и вышла из комнаты.
На лестнице Прасфора чуть пару раз не навернулась, зато такие почти что падения помогли лучше ледяной воды, тут же напомнив организму, где реальный мир и, самое главное, твердая земля. Внизу шумели посетители и уже суетился Кельш, вытирая тарелки, вынося что-то из-за обгорелых кухонных дверей.
Прежде, чем выйти в центральный зал, Прасфора заглянула за лестницу, в ванную комнату с небольшим бронзовым умывальником. Пустила струю холодной воды, скрипнув краном – та бодренько зажурчала, даже как-то чересчур бодренько для только что проснувшейся Попадамс. Мыться полностью хотелось, но не было ни сил, ни времени.
Девушка умылась практически обжигающе-ледяной водой – стало куда легче. Мир постепенно перестал излучать гулкий шум, вернувшись в привычное состояние – теперь уж точно абсолютно реальное.
Зачем-то Прасфора посмотрела в зеркало – никогда не любила смотреться в них, старалась всегда, когда можно, даже просто проходя мимо, отвести взгляд – не на что там смотреть, только расстроишься, увидев себя. Так что сейчас в голове заскрежетал один из жутких механических комплексов.
Из зеркала на Прасофору смотрела Прасфора – не такая, как хотелось бы. Как, собственно, и обычно. В этот раз к тому же с обреченным, скукожившимся, бледным лицом и красными заплаканными глазами.
Попадамс резко отвернулась.
Пока Прасфора шла в гостевой обеденный зал, мысли набирали обороты, с машинным воем напоминая девушке о минувших событиях, которые на время сна – абсолютно черного, настолько, что от черноты этой бегали мурашки и холодело в горле, сводило связки – поблекли и отошли на второй план. Теперь все снова вставало на свои места – и, оказавшись среди веселящихся посетителей «Ног из глины», Прасфоре опять захотелось сесть и не вставать.
– Они ведь даже не знают, – проскользнуло в голове нечто склизкое. – А я ничего и не могу сделать…
Эта мысль не давала никакого покоя, от нее даже мертвецы встали бы из могил с просьбой решить проблему, чтобы вновь забыться сладким сном. Что-то нужно обязательно сделать, но Прасфора была железобетонно уверена, что она – даже не пешка, а так, соринка, клочок пыли и, в конце концов, просто Прасфора Попадамс, в любом случае ничего не сможет сделать.
Будь все проклято, будь она сама проклята.
– Прасфора, – отвлек ее Кельш, идущий с очередным глиняным кувшином и таким огромным блюдом, что девушка даже потерла глаза. – Ты получше?
– Тебе честно или соврать? – она бы улыбнулась – не очень-то вышло.
– Если все плохо, то соврать.
– Тогда все просто отлично, – она потянулась за кувшином. – Давай я помогу…
– Нет, не надо, иди лучше еще отдохни, ты…
– Мне так будет легче. Правда. Хотя бы перестанут думать о…
Кельш молча посмотрел на дочку, потом все же разрешил ей взять кувшин.
– Там наверняка нужно много посуды вытереть. Я сделаю.
– Булочка моя…
– Так правда будет легче – займу себя делом.
Кельш вздохнул – мол, что с тобой поделаешь, ты как всегда.
Прасфора поставила кувшин на стол, все же выдавила из себя улыбку веселым клиентам, и ушла вытирать посуду, которую традиционно, помыв на кухне, приносили сюда – чтобы Попадамс могла спокойно заниматься делом.
Думать о войне, Кэйзере и грифонах она конечно же не перестала.
Свинцовые тиски в голове наложили табу на поиск решения – ну а какой смысл, ведь у тебя, именно тебя, ничего не выйдет. Но юркие мыслишки, активно виляющие хвостами, проскальзывающие везде и всюду, продолжали заполнять голову представлением грядущего.
Кельш вынес из кухни очередные тарелки с картошкой. Прасфора, посчитав это отличным способом отвлечься, перехватила папу, хотя тот умело выделывал грандиозные пируэты, чтобы дочка не заметила его, но в конце концов сдался.
– На тот стол, – обреченно протянул он, указывая рукой. – И правда, я лучше бы сам. Уже три кружки пива…
Он кивнул головой в сторону столика. Прасфора поджала уголки губ.
– Не в первый раз, – потом добавила: – Меня не было всего день, а ты думаешь, будто я вернулась после годового отсутствия и все забыла.
– Ну, как-то так оно и ощущалось.
Прасфора задумалась.
– Пожалуй, да. Именно так.
Пока девушка шла до столика, настроение совершило странный скачок – видимо, все из-за кориандра, шафрана и шалфея, бивших в нос от картошки с такой силой, что невозможно было оставаться в предыдущем состоянии. Получилось этакое наваждение наоборот – такое, от которого даже избавляться не хочется. Но, как любой ненадежный призрак чего бы то ни было, вскоре оно растаяло в ничто.
Мужчины правда находились уже слегка в другой реальности, говоря проще – были пьяные и уже близкие к тому, чтобы уткнуться носом в стельку. Но Прасфора не вчера родилась, а потому повидала уже столько таких людей и в «Ногах из глины», и за ее пределами, да даже в горах, что работала на автомате. К тому же, не просто так она была Прасфорой Попадамс – с ней даже никто не думал что-либо учудить, потому что или знал (часто на горьком опыте), или чувствовал, что безнаказанным не останется. И кара за ним последует в лице самой девушки.
Прасфора, конечно, считала, что на такую, как она, просто не обратят внимания. Но все равно готова была пустить в ход руки и не только.
Сейчас все прошло тихо-мирно – тарелка оказалось на столе, на пьяном языке девушке проорали, видимо, определенное подобие благодарности. Прасфора развернулась и собралась вернуться к другим делам.
И тут кто-то щипнул ее за ляжку.
Девушка не покраснела, не испугалась, не взвизгнула, не попятилась и даже удивилась только слегка. За спиной раздалось пьяное гоготание – видели бы смеющиеся застывшую, как скалу, Попадамс, тут же смолкли бы. Лицо девушки стало восковым, и она – для полного эффекта не хватало лишь скрипу, – повернулась.
Внутри забурлило нечто непонятное, словно бы темнота, лелеявшая ее в темных тоннелях, впиталась в тело, проникла в душу и окропила сердце, а теперь лезла наружу – везде и всегда лишь ее собственная темнота, даже та бархатная, под землей, шерстяной вуалью окутывающая черепа… Прасфора испытала то же, что тогда, на вокзале, когда встретила Фюззеля перед поездкой в Хмельхольм, а после и в самих горах – ощущение рвущегося наружу и непонятно откуда взявшегося раскаленного комка ярости ко всему, даже к самой себе.
Рука потяжелела – Прасфора ударила о дубовый стол с такой силой, что даже тарелки задрожали, хорошо хоть не треснули. Вторая рука влепила пощечину одному из гогочущих наугад – какая разница, пьяный рассудок – все равно коллективный.
В принципе, так с обнаглевшими гостями девушка поступала всегда, но обычно это происходило осознанно и не с такой одурью, а сейчас голову будто отключили, руки действовали на автомате.
Ошалевшие мужчины мгновенно замолкли, разом лишившись голоса. Гости рядом – все, кроме завсегдатаев, – вжались в скамьи, жалея, что не могут спрятать головы в панцирь. А лучше – спрятать всех себя куда-нибудь подальше.
Прасфора постепенно приходила в себя. Над гостями, как раз в себя пока особо не приходящими, навис Кельш…
– Вы трое сейчас…
– Я думаю, им было достаточно, – пробубнила Попадамс и молча пошла.
Кельш нахмурил брови – оптическая иллюзия, но так он будто стал еще больше – и показал здоровенный кулак незадачливым пьяницам. Те, вроде как, кивнули. Хотя бы попытались.
– Булочка моя, – прошептал Кельш, догнав дочку, – ты в порядке.
– Штатная ситуация, – махнула рукой та, хватаясь за голову. – Просто я…
– Что такое?
– Не знаю, – призналась девушка. – Что-то внутри, такое… такое раскаленное.
Кельш хотел обнять Прасфору, но наклониться к ней не успел – с дикими грохотом, будто привязав к себе сотни жестяных банок, в «Ноги из глины» влетел Альвио, путаясь в собственном обгоревшем шарфе.
Всегда чуткий к деталям, драконолог подметил выбитую из колеи привычную атмосферу кабака и резко замедлился.
– Что-то случилось? – прежде всего спросил он, хотя планировал начать совершенно с другого.
– Пьяные идиоты, – нахмурился Кельш.
– О, ну тогда им не повезло, – Альвио поправил очки и переключился на девушку. – Прасфора, я знаю, что можно сделать…
– Ты о чем? – искренне не поняла та.
– Ну, насчет… кхм… войны, – последнее слово он на всякий случай прошептал.
– Ничего не надо делать, – помрачнела Попадамс. – Я ничего не смогу сделать. Все бесполезно, и я тоже беспо…
Вместо того, чтобы говорить, драконолог чуть ли не в лицо Прасфоре ткнул газетой.
– Я нашел выход! Это должно сработать. И ты знаешь, потоки маги…
Попадамс разглядывала выпуск «Хмельных вестей».
– Но тут пишут об открытии какого-то очередного Фюззельского кабака.
– Не в содержании дело. А в самой газете.
Девушка подняла на Альвио непонимающие глаза.
– Похоже я понял, – забасил вдруг Кельш. – Но если вы двое решили во что-то вляпаться…
– Нам необходимо вляпаться, – перебил драконолог. – Вернее будет сказать, вмешаться. Вы же сами знаете, что нас всех это касается в первую очередь.
– Альвио, я птица не того полета…
– Это дела Кэйзера, не тот уровень, – синхронно проговорил отец Прасфоры и тут же прикусил язык.
Драконолог хотел ответить что-то на подобии: «это дела Прасфоры», но не стал, прочитав во взгляде Кельша примерно то же самое.
– Грифоны, големы, а теперь драконы и… непосредственно мы.
– Я понимаю, – кивнул хозяин «Ног из глины», выразив в этой фразе все, что только можно было.
– А вот я ничего не понимаю, – Прасфора опять чуть ли не плакала, опять еле сдерживала слезы – плакать было нельзя, не разрешали самопридуманные механизмы в голове. – Что ты собрался делать, Альиво?
Облака нависали над горными пиками тугими ватными комками, посерев и впитав в себя витающее в воздухе напряжение – стали не то чтобы свинцовыми, как обычно говорят, но холодно-металлическими, режущими глаз на фоне нежно-голубого, тающего неба. Как бы не пытались макушки заснеженных гор проткнуть их, ничего не получалось – густой похолодевший, с оттенками металлического блеска, облачный массив наваливал сверху, делая земные тени гуще, длиннее и голодней.
Барбарио недовольно смотрел в небеса и присвистывал. Конечно, ему приятно было побыть на воздухе, наконец-то не в той подземной пещере, но погода совсем, абсолютно не клеилась с планами Кэйзера. Это щекотало нервишки. Алхимик знал – если надо, мэр и погоду в бараний рог свернет, и что она ему сделает…
– Да, – пробубнил Инкубус, постукивая ладонью по круглому животу. – Погодка, конечно, далеко не на радость… Как бы все не пошло коту под хвост.
– Скорее уж дракону под хвост, – подхватил стоящий рядом Хюгге, раскуривавший папиросу. Дым меланхоличным потоком тянулся ввысь.
– Забавно, – хрюкнул алхимик. – Но вот только Кэйзеру будет не до смеха, поверь мне. Хотя, кому я об этом рассказываю…
– Нет, все нормально. Чистое солнечное небо было бы лучше, но и так – пойдет. Просто нам придется приложить немного больше усилий, вот и все.
– Когда вы занимались грифонами, – возразил алхимик, – такая погода была недопустима…
Хюгге Попадамса передернуло – он еле удержал папиросу в руках.
– Тогда все было иначе. Сейчас – совсем другой масштаб, и другие правила. Все будет нормально. Мы справимся – я справлюсь.
– Ну уж не сомневаюсь, – хихикнул Барбарио, почесав густую черную косу-бороду. – Ты вроде несколько лет не курил.
Попадамс выдохнул еще струю дыма, ничего не отвечая – просто дал понять, что теперь закурил снова.
– Понятно, – вздохнул алхимик и словно уставился на облака. – Знаешь, я не думал, что ты вновь согласишься. По-моему, после той истории с грифонами… да и еще твоя племянница…
Хюгге опустил руку с сигаретой. Инкубус сам собой замолчал, приняв жест за сигнал остановиться, и просто слушал. В принципе, почти угадал – несмотря на всю свою округлость и неуклюжесть, Барбарио такие вещи чувствовал.
– Я сам не думал, – ответил Попадамс, почему-то закрыв глаза. – Но я не могу жить без этого, понимаешь? Несмотря на ту цену, которую приходится платить. Тогда – грифоны, теперь – дракониха. За эти годы мои ночные кошмары сменились пустотой внутри – я уверен, что ты понимаешь, что это такое. Она грызла и требовала, а я перекрикивал ее, затыкал себе уши. Но Кэйзер предложил и…
Слова кончились, потому что в голове на секунду возникли бьющиеся в конвульсиях бело-золотистые крылья грифона.
– Вот уж да, – голос алхимика, заполнивший пустоту, прозвучал стонущим и раскатистым воем ветра, – от предложений Кэйзера тяжело отказаться. Предлагал бы он еще другие вещи…
Барбарио вздохнул и поймал себя на мысли, что как-то часто в последнее время обреченно вздыхает, беспредел какой. Но куда денешься, когда вокруг происходят вещи, которые, будь твоя воля, ты бы ластиком стер из черновика реальности, хотя при этом совершенно очевидно, что они по-настоящему нужны Кэйзеру, без этого он просто сломается и развалится. Хотя, нестабильность подери, лучше бы он нашел иные вещи, чтобы собирать себя воедино. Какие угодно иные – пускай даже глупые, никому не нужные безделушки, изобретения, не несущие пользы, да даже деревянные лошадки-качалки. И почему он не делает как его дед?..
Как его дед, точно. Инкубус чертыхнулся, совершенно случайно – вслух.
– Именно поэтому, Барбарио, – протянул Хюгге, туша папиросу. – Именно поэтому. И я не мог бы жить без его нынешних выходок – по крайней мере, не жил бы своей жизнью.
Они помолчали – вместо них говорил свистящий колокольным звоном ветер.
– Это только его война, – вновь прикрыв глаза, сказал Попадамс.
– Это исключительно его война, – поправил алхимик. – И без нее он не сможет жить.
Пока природа плакала бардовыми листьями и завывала холодным ветром, госпожа Батильда сидела, обхватив кружку горячего чая обеими руками, и думала.
Она вообще любила думать – считала, что это тот процесс, который отнимает меньше всего сил, но приносит больше всего плодов: заявление весьма и весьма сомнительное, но только не для госпожи Батильды, в плодах успехов которой многие, конечно, сомневались. Но не она сама – ни это ли главное?
Мысли, правда, никак не лезли в голову – а потому госпожа Батильда даже натужилась, сморщила лоб, будто бы сигнализируя витающим где-то рядом грандиозным мыслям, что их уже давно зажались и пора бы принять приглашение. Взглядом госпожа Батильда сверлила листок исписанной бумаги, на который мысли – если только соизволят наполнить ее голову! – и должны будут вылиться.
Госпожа Батильда, собственно, готовила новый выпуск газеты «Хмельные вести», была ее главным редактором и чуть ли не единственным сотрудником. Проблема всегда состояла в том, что писать в Хмельхольме – кроме очередной статистики поломанных големов, урожая картофеля и редких, но даже чересчур метких указов мэра Кэйзера, было особо нечего. Вот госпожа Батильда и пыталась усердно, будто ловцом снов, приманить мысли – чтобы хотя бы из их массива родилось уж что-нибудь. Даже самая незначительная мелочь подошла бы, а уж от того потока, который главный редактор всем сердцем ждала, сложно было не получить хоть искру для пожара пары ярких строк.
Но факты – вещь упрямая. Не получалось.
– И все-таки, нестабильность пойми, что, – Батильда еще туже замотала горло шелковым фиолетовым шарфом. – Какое-то все… не такое. И почему это не повод для новости!
Главная редактор постоянно мерзла, но сегодня ее организм разошелся как-то по-особому и, главное, не пойми отчего: окна закрыты, погода – хоть и такая же не пойми какая – относительно нормальная, и чай перед носом далеко не остывший. Ее, конечно, пару раз называли хладнокровной, но вот дурой она точно не была и понимала, что эта характеристика не объясняет постоянное желание одеться потеплее. А потому все соответствующие мысли гнала в мусорную корзину, уже и без того битком набитую ненужностями.
Грандиозных мыслей-титанов так и не приходило.
Зато один «дзинь» магического дверного звонка взорвал сознание разноцветным и шипящими искрами гнева.
– Я тут вообще-то думаю, – буркнула госпожа Батильда себе под нос, но ноги в шерстяные домашние тапки все же сунула, пошла открывать. Она никого не ждала, но, в конце концов, журналисты никогда никого не ждут, а к ним постоянно зачем-то приходят – точно также, как никто не ждет их, а они постоянно приходят, притом обычно с криками и требованиями срочно уделить минутку.
Госпожа Батильда, кстати, обычно не кричала, но очень убедительно требовала.
Поток холодного – хотя, если быть честным, не слишком – воздуха рванул в дом, и главная редактор скукожилась. На пороге, улыбаясь во весь рот – словно натянув эту улыбку на подтяжках к ледяному айсбергу – стоял Альвио. Огромный красный шарф питоном овивал шею. Чуть позади стояла Прасфора – какая-то совсем бледнючая.
– Доброго дня, – поправил драконолог очки.
– И совсем не доброго, – возмутилась Батильда. Ей всегда нравилось выпячивать свой характер. Есть чем похвастаться – хвастайся.
– Да, тут вы, наверно, правы, – неожиданно для себя, Альвио и Батильды разом, протянула Попадамс.
– Прасфора, не подлизывайтесь… это на вас совсем не похоже!
– О, что вы! Подлизываться к вам, да ну что, – фыркнула девушка. – Мне уже хватило день назад. А так, да – на меня я правда не похожа. Точнее…
Попадамс уже сама запуталась в словах и просто ударила себя ладонью по лбу.
– Ну если вы уж явились к порогу моего дома…
Альвио понял, что эту демагогию надо пресечь на корню, а потому вклинился в беседу осиновым колом:
– У нас для вас есть новость. Для газеты.
– И что с того? – нахмурилась госпожа Батильда пуще прежнего, чтобы поскорее призвать собственные мысли – нельзя же было поддаваться на чужие уловки и показывать свои слабости.
– Полоумными мир полнится, – прошептала Прасфора. Услышал только Альвио – прыснул смехом, а потом посерьезничал.
– Это очень важные новости, – драконолог загадочно прищурился. – Можно сказать, масштаба всех семи городов.
Ну все – выбора у главного редактора «Хмельных вестей» не оставалось, такие титанические мысли ей бы никогда не пришли в голову самостоятельно: а тут, вот, пожалуйста, принесли на блюдечке с голубой каемочкой, да еще и присыпали специями для остроты ощущений.
– Ну хорошо, – сдалась госпожа Батильда. – Но прежде, у меня один вопрос к вашей подруге.
Этим словом хозяйка словно убить хотела.
– О, сколько угодно, – Прасфора готова была издеваться вечно – воспоминания были свежи.
– Почему она не разносит еду, когда ее просят, а?
Попадамс чуть не сорвалась с места – эта проклятая… хотелось бы сказать старуха, но язык не поворачивался. Нет, это проклятая тетка захлопнула дверь перед ее носом, послав куда подальше, хотя сама заказал еду – а теперь еще возмущается, винит во всем «Ноги из глины» и никому не нужные придумки Кельша. Этого, конечно, и стоили ожидать – Прасфора была готова к тому поведению чисто гипотетически, но, как оно бывает, столкнувшись с ним вживую, среагировала совсем иначе.
И ведь эта дура даже не знает, что будет война.
Война… и опять мысли вернулись в предыдущее русло, потекли черной рекой мертвой воды – словно Прасфору окунули в формалин с колотым льдом.
– Давайте мы ответим потом, – вновь перетянул одеяло разговора Альиво.
– Нет уж, будьте любезные сейчас…
Ну что ж, ничего не оставалось. Нужно было таранить.
– Скоро будет война, – только и сказал драконолог. Потом, для эффекта, добавил: – Ее устроит мэр Кэйзер.
Госпожа Батильда словно зависла – только один глаз на лице подергивался, остальное тело перешло в состояния анабиоза. Когда губы зашевелились, из них вырвалось что-то несвязное, а потом слова все же склеились в относительно внятную фразу:
– Внук Анимуса?.. Что за ерунду вы мне…
– Вот поэтому, – Альиво уже без приглашения шагнул за порог. Прасфора, задрав голову, так и осталась стоять на улице, – мы и хотим рассказать вам все в подробностях. Знаете, как это называется?
– Самодурство?
– Сенсация, – сглотнут драконолог.
Он понимал, что это было не просто цинично, а зашкаливающее цинично, но другого варианта у них не оставалось – так можно хотя бы попробовать предотвратить ситуацию, поставить хлипкую преграду из веток на пути огромного валуна, несущегося на бешеных скоростях. И если он не остановится – а он почти наверняка этого не сделает, – то хоть немного, но замедлится, или слегка сойдет с курса. В сложившихся реалиях такого вполне будет достаточно.
– Сенсация, – госпожа Батильда посмаковала это слово, распробовав на вкус. Сенсаций в «Хмельных вестей» не появлялось отродясь. – Но я не могу вот просто так взять и поверить вам на слово.
– А мы и не предлагаем.
– Действительно, – добавила Прасфора, все еще не заходящая внутрь. – Мы – не вы.
Госпоже Батильде уже, видимо, было совсем не важно, что кто говорит – в голове созревало, мысли, до этого никак не несущиеся в ее умело расставленные сети, сейчас слетелись словно бы на кровавый кусок мяса.
– Хорошо, я дам вам шанс, – надулась она, всем видом показывая недовольство своим собственным решением. – И как вы предлагаете писать о таком?
– А мы и не предлагаем писать.
– А? – не поняла хозяйка. – И закройте вы уже дверь, дует! А я и так замерзла. А если ваша подруга…
Договорить она не успела, потому что Прасфора захлопнула дверь снаружи. Но внутрь так и не зашла. Альвио тяжело вздохнул.
– Так ну и что там?
– Мы не предлагаем писать, госпожа Батильда, – драконолог дотронулся до переносицы. – Мы предлагаем сначала рассказать.
– И кому же это?
– Всем, госпожа Батильда. Всем, кому сможем.
Механизм работы госпожи Батильды был прост и изящен, как решение спора ударом камня по голове – строго-то говоря, это и был тот самый удар, только била шокирующей информацией она сразу весь город, кого могла собрать.
Сейчас на носу наклевывалась сенсация – нужно было поднять на уши практически всех.
Внимательно выслушав Альиво и наконец-то сузив расширившиеся от единоразового ужаса и восхищения глаза, Батильда исчезла в дебрях дома, закопошилась, загремела и вернулась уже в полном обмундировании: теплое лавандовое пальто, вязаный свитер, высокие меховые ботинки и все тот же тонюсенький шелковый фиолетовы шарф, замотанный вокруг шеи так, как крепостная стена сужается вокруг города. Из сумочки через плечо торчала целая рота блокнотов и настолько остро наточенных карандашей, что хоть глаз выколи.
– Вперед, – приняла командование парадом она на себя, – и с песней.
Прасфора все это время стояла на крыльце снаружи – мерзла, обхватив плечи руками, но принципиально стояла: и ладно, что у Батильды не все было в порядке с головой, но своим шальным настроением и не менее шальным поведением она успела испортить Попадамс начало предыдущего дня, испоганить настроение и подорвать веру в предприятие «Ног из глины» – всего на капельку, но и лист бумаги начинает рваться с небольшого разрыва.
Журналистка, гордо выйдя из дома, демонстративно посмотрела на Прасфору, фыркнула и отвернулась, как бы давая понять, что замечает только Альвио, и только его слова для нее могут стать приоритетны.
Госпожа Батильда не принимала мнения, что хорошие сплетники превращались в хороших журналистов – она считала, что хорошие журналисты остаются хорошими сплетниками, являя собой пример двуединства в одном теле, но без лишних голосов в голове. А механизм ее работы, когда нужно узнать много информации от большого количества людей, и вправду был прост – она просто рассказывала всем подряд о самом эксклюзивным.
В буквальном смысле всем – просто собирала людей на центральной городской площади, запускала первоначальный повод для обсуждений, а дальше он вирусом, призрачной дымкой пролетал по городу, из уст в уста, подхватывал мнения, тайны и недомолвки, смешивался с ними в потоке разноцветных искр информации и мерцающим хвостом падающей звезды возвращался обратно к госпоже Батильде.
Сейчас такая цепная реакция оказалась более чем необходима: город должен был говорить.
– Мне все еще кажется, что это ужасная идея, – шепнула Прасфора драконологу, когда они дошли до центральной площади, встав перед небольшой ратушей с флюгером-грифоном на черепичной крыше цвета пылающей бордовым маревом осенней листвы. Попадамс только сейчас заметила флюгер и вздрогнула от неожиданности.
– Это единственный вариант. Нужно чтобы все заговорили об этом, а более быстрого и эффективного способа я не знаю, – Альиво заметил, как девушка дрожит, и поднял голову. – Ты правда не замечала его раньше?
Прасфора затрясла головой.
– Я же говорил, что они повсюду, – начал было драконолог с важным видом, но тут же опомнился, вспомнив, где успела побывать Попадамс, и исправился. – Э, прости, то есть не в том смысле… просто не бери в голову.
– Просто хочу, – переиначила она, – чтобы все это кончилось.
Попадамс задумалась.
– Особенно госпожа Батильда.
Журналистка тем временем залезла на небольшой пьедестал, на котором, почти в самом центре площади, стоял неработающий голем – копия того исполина, первородного Анимуса, что покоился в горах. Госпожа Батильда откашлялись.
– Господа! – захрипела она. – А вы слышали новость?
Попадамс все это казалось таким банальным, грубым и неэлегантным, что хотелось закрыть глаза. Народу на площади было не кишмя киши, но вполне достаточно – конечно, они знали, ради чего обычно начинает вещать на площади журналистка и конечно, лишь только завидев ее, вставали на низкий старт.
– Новости, требующие вашего личного внимания и моей личной проверки, – она замолчала, дожидаясь, пока заинтересовавшиеся подтянутся ближе, а потом выдала пушечным выстрелом: – Нас ждет война!
Из толпы послышались нервные покашливания.
– Простите, что-что? – уточнил кто-то.
Прасфора зажмурилась и решила отвернуться, чтобы на этот позор – и одновременно меланхоличный ужас – не смотреть. И тут же увидела, как на площади образовалась еще одна толпа интересующихся.
– Да, – поддержал кто-то из подошедших. – Нам то же самое только что сказали в «Ногах из глины»! И мы тоже не совсем поняли.
Прасфора непонимающе посмотрела на Альиво – тот улыбнулся, и только потом она успела сообразить.
– О нестабильность, – протянула девушка. – Вы с папой успели.
– Да, – поправил очки драконолог. – Но у нас нет никакого другого варианта.
– Да… – даже не прошептала, а словно начертила слова дыханием, собирающимся в морозных призраков, Прасфора. Несмотря на то, что все происходящее – вообще все – казалось ей ужасным сюрреализмом, она знала, что других вариантов нет. Потому, что она – просто она, и ничего не поделаешь с собой, ничего не поделаешь с этим…
Работу свинцовых мыслей прервали вопросы толпы и ответы Батильды:
– Я говорю предельно понятно – мэр Кэйзер собирается объявить войну.
– Кэйзер? Да вы что, он же внук Анимуса! – женщина из толпы взглянула на статую голема.
– И кому? – выкрикнул еще кто-то.
– Всем сразу, – бросила журналистка.
– А как это?
– Нет, мы, конечно, догадывались, ходили слухи…
– И чтобы внук Анимуса?!
– Да бросьте! Войн не было… никогда! Только сотни лет назад…
Выкрики превращались в бессвязный рой, оркестр глухонемых, лишенный дирижера, а потому госпожа Батильда повысила голос:
– Я говорю лишь то, что мне известно. И собираюсь выяснить больше – лично! А остальное оставим на выпуск газеты…
Вопросов абстрактного характера появилась уже много, информация потекла от человека к человеку, и слова «война», «внук Анимуса» пожаром прыгали по сознаниям, обретая новые смыслы, обрастая идеями и пониманием. Но тут, наконец, кто-то из толпы – ей свойственно всегда содержать в себе именно кого-то, – спросил:
– А что же будет с нами?
По воздуху словно бы пролетела легкая дрожь, загробное дыхание, искрящееся неуверенностью – привычный порядок жизни вдруг пошатнулся, пока лишь чисто гипотетически, но все же: накренился на бок и грозился вот-вот упасть, разлетевшись спичечным домиком. Люди, никогда не знавшие войны, не представляющие в полной мере, что это такое, все равно ощутили на губах вкус этого слова: обжигающий абсолютным холодом, кислый, как проржавевший, окислившийся лист меди, и горько-пепельный. И одна дело – глубокая история, когда где-то там, давным-давно, потерянная песками времени случилась какая-то война – тогда мир был нечесан и грязен, не знал высоких и красивых слов лести, обмана, дипломатии… только грубую правду, бьющую в лоб черными камнями. И вот сейчас – никто не мог объяснить, как и почему – люди вдруг почувствовали, как небо их мира начинает падать.
– И что же нам с этим поделать?
– Ничего, – вопрос из толпы нашел свой ответ в той же толпе, – что мы можем сделать с этим?
– Нет, ну надо же как-то попробовать…
– Я до сих пор не представляю, что внук Анимуса…
Госпожа Батильда, потерявшая всякой интерес к отвлекшимся людям, подошла к Альвио, все еще игнорируя Прасфору, и заявила:
– Я отправляюсь в горы следующим же поездом, а вы как хотите. Работа не ждет!
– Чтобы остановить это? – Попадамс смерила журналистку взглядом.
– Чтобы осветить это, – поправила та. – Первой быть в курсе событий.
– Тогда мы тоже едем следующим поездом, – этой фразой драконолог притянул к себе полный непонимания взгляд Прасфоры.
– Тогда уж точно в другом вагоне, – обращалась девушка к Альиво, но смотрела принципиально на Батильду.
– Вы многое потеряете, – съязвила та, – в лице моей компании.
– Не больше, чем уже пробрели, – кольнула Прасфора в ответ.
Альвио показалось, что находиться между двумя злыми драконами не так страшно.
Когда Батильда зашагала прочь, Прасфора Попадамс посмотрела драконологу прямо в глаза:
– Мы что, правда едем в горы?
– Да, – он был краток. – А почему ты удивлена?
– Но почему… мы же все равно ничего не сможем делать, ты понимаешь. Кто мы вообще такие? – она замялась. – Хорошо, может, я неправа: кто я вообще такая?
– Ты – Прасфора.
– Вот именно!
– А теперь посмотри вокруг, – Альиво развел руками, очерчивая уже расходящуюся и несущую с собой новости толпу. – Они – тоже просто они. Но тут же стали думать, что можно сделать. И теперь весь город узнает – никто не сможет сидеть на месте.
– Альвио, это же все так глупо, – Прасфора закрыла лицо руками. – Он мэр, у него есть големы, есть ужас со скелетом драконихи, он убил грифонов, а я… Я просто Прасфора, Альвио, я даже не могу спокойной зайти на кухню, сколько бы не пыталась. Мой мир рушится – и моих плеч больше не хватает, чтобы держать его…
– Прасфора, – он коснулся ее ледяной щеки с детским ожогом. – Посмотри на меня, Прасфора. Мы обязаны это сделать. Ты обязана это сделать.
– Я никому ничего не обязана… даже если была бы, не смогла, я…
Она опять ударилась в слезы – опять отругала себя за то, что не сдержалась, и заревела еще больше.
– Ты обязана лишь потому, – драконолог всегда плохо реагировал на плачущих девушек – а уж с вечно стойкой Попадамс такое случалось ой как редко, – что иначе все старания, все, как ты любишь говорить, удары головой об лед, будут зря. Иначе ты сама будешь зря.
Он задумался, зажмурился и произнес:
– Потому что мечты, любые мечты, станут пеплом.
Девушка подняла заплаканные глаза, схватившись руками за ворот свитера. Сквозь скрежет металлических комплексов-механизмов в голову ворвался легкий, еле слышный звук далекой флейты. Не чтобы Прасфора резко стала уверенной в себе после всех этих рассказов – в конце концов, она просто осталось Прасфорой. Но что-то екнуло внутри, уведя громогласный вой предустановок и комплексов на второй план, а на первый выведя желание сделать хоть что-нибудь – скорее всего, бесполезное, ненужное и неподходящее, заведомо безуспешное, но хотя бы что-нибудь.
Иначе потом придется жалеть, что не попробовала.
И снова винить себя, кого же еще.
Хюгге готов был поклясться, что почувствовал биение сердца – хотя у големов, конечно, не было даже намека на него, разве только рубин в центре груди, позволяющий магии циркулировать по телам глиняных марионеток. Но Попадамс точно ощутил вибрацию – так явственно, что даже одернул руку от наполненного магией голема.
– А, – заметил Барбарио, – перепады магии. Что же, неудивительно.
– Он… пульсировал.
– Брось, – алхимик махнул рукой. – Ты просто еще не отошел от мыслей о грифонах.
– И племяннице, – подумал Попадамс, радуясь, что не наткнулся на Прасфору и надеясь, что она действительно уехала. – И племяннице…
Когда Хюгге схватился за лоб, Инкубус понял, что ляпнул лишнего, и постарался быстро перевести тему:
– Ну ничего, сейчас все наконец-таки… начнется. Честно, даже не знаю, что из этого выйдет.
Они стояли на кладбище големов. Двое людей и каменные изваяния, залатанные металлом, одаренные новыми механическими конечностями и уже запущенные – пока лишь ожидающие команды, молча, словно неупокоенные души, покоившиеся на своих местах: стоя, лежа, сидя и валяясь. Воздух на этом кладбище будто бы вытеснило в неизвестном направлении – по крайней мере Хюгге в белоснежно-белом мундире казалось, что дышать невозможно – каждый вдох давался с трудом.
Все повторялось в его голове, как много лет назад – словно он смотрел тот же спектакль, но с обновленными и навороченными декорациями вместо картонок, нарисованных стажерами на чердаке за пять минут до начала.
– Я скажу тебе, что их этого выйдет.
– М?
– Либо абсолютная удача, либо полный провал. Третьего не дано.
– О да, – нервно хихикнул Барбарио. – Кэйзер не любит промежуточных результатов.
Сказать, что алхимик совсем не переживал – значит нагло соврать. Все же, это был отчасти его проект, детище, которому можно было бы – и очень хотелось – найти другое применение, но Кэйзер есть Кэйзер, его желание, его мечтание неумолимо.
И то, что застряло у него в голове, ничем не сдвинешь в сторону.
– Ну, – выдохнул алхимик, – начнем!
Он зажмурился и щелкнул пальцами. Ничего видимого не произошло: как и всегда с магией, никаких искр, огненных шаров и незапланированных фейерверков. Зато там, с изнанки реальности, фиолетово-голубые нити-потоки магии, натянутые до предела, задрожали.
Никогда не жившие мертвые големы зашевелились.
Поезд еще не тронулся, а Прасфоре уже казалось, что картинки за окном движутся, размываются акварелью, как тогда, в недавнюю поездку – но теперь мир выглядел иначе, словно поддавшись воле иного художника, смотрящего на все вокруг сквозь черно-белую ширму, запершегося в проклятом старом доме с заколоченными рамами, спрятавшегося от радости и пускавшего в гости лишь садкую, утешающую и бархатную меланхолию.
Прасфора потрясла головой – мир более-менее вернул былые краски, а пейзаж за окном, как ему и положено, замер. Альвио сидел на кресле напротив, с интересом листая свою тетрадь и делая заметки.
Попадамс не особо хотела возвращаться. И дело было даже не в страхе вероятной смерти от чьих-либо рук. Просто там, в горах – она знала наверняка – ее снова захлестнут осколки рушащегося неба, клочья ужаса и воспоминания, которые хотелось сделать обычным сном, наваждением, а отнюдь не реальностью. Девушка не хотела оставлять папу в городе одного, боялась, что они не успеют, и в равнинной части Хмельхольма произойдет ужасное, что в этом виновата будет она, потому что оставила одного, не осталась вместе с ним.
Но колесико внутри, совсем маленькое, всегда отвечавшее за необходимость шагать дальше, не сдаваться и ломать все препятствия, шептало, тянуло вперед, к горам, сделать хотя бы что-нибудь – пусть и впустую.
Вечный двигатель на то и вечный, что не останавливается. Даже, если говорить о нем чисто метафорически.
Ей так хотелось, чтобы по щелчку пальца неуверенность, это холодное желе, исчезло, сменилось согревающей душу если не твердой уверенностью, то надеждой на лучшее – как было всегда. Когда припекающий весенний свет виден вдалеке даже самого длинного тоннеля, идти уже намного проще, чем в его полнейшем отсутствии – знаешь, что есть ради чего стараться.
Сейчас это «ради чего» не находилось.
– Все будет нормально, – будто бы услышав ее мыли, сказал отвлекшийся Альвио, всегда настолько чуткий к спонтанным деталям, что умудрялся читать настроение даже по глазам.
– Почему ты так уверен?
– Уверен? – он чуть не рассмеялся. – Я ни в чем не уверен, я просто надеюсь. И мне тоже не по себе. Они убили всех грифонов… А теперь приступили к драконам.
Он инстинктивно сильнее сжал в руках тетрадку.
Поезд заскрежетал и тронулся, постепенно набирая скорость – так же неспеша, лениво разгонялись за окном картинки, из до зернистого четких домишек с красными черепичными крышами становясь смазанными широкими полями, и вот уже размытыми конусами-горами вдалеке, и вот уже затянутым тяжелыми тучами небом, ставшем серой бурлящей жижей…
…и вот уже дремотой.
У Тедди-Теодора Тминна сложилось стойкое ощущение, будто бы все вокруг резко опустело: на кухне-то, как всегда, кипела жизнь, да и то замедленная, будто поддавшаяся воле замораживающих холодов. Тедди решил даже протереть глаза, подумал, что все это ему кажется, слишком уж много событий произошло за последний день. Не помогло: ножи в руках все равно двигались чересчур медленно, кожура картофеля счищалась с ощутимой задержкой, и даже голоса будто бы растянули на бельевой веревке.
Тедди Тминн отпросился и выбежал с кухни, благо сейчас его помощь никому не требовалась; и вообще, казалось, что ничего никому не требовалось – ведь разве пустоте нужно что-то, кроме другой пустоты?
Мальчик понимал, что все еще слышит гремящие механизмы, звуки из глубоких шахт, удары и даже крики Фюззеля где-то вдалеке – он почему-то всегда представлялся Теодору неуклюжей индюшкой, думающей и пытающейся доказать всем вокруг, что она – павлин с роскошной родословной. Особенно после рассказов Прасфоры. Вот и сейчас где-то вдалеке мальчик различал ворчания этого господина.
Кстати, о Прасфоре – Тминн очень надеялся, что с ней все хорошо. И те двое получили по заслугам.
Все звуки были приглушенными, словно раздавались не здесь и сейчас, а за километры – не только в пространстве, но и во времени.
Тедди решил прогуляться до центрального зала, чтобы проверить: ну а вдруг все действительно пропали? Такое ведь могло произойти. Раз врывающаяся в кухню кричащая девушка – не фантастика, то и это – тоже.
Минув пару-тройку коридоров – и, кстати, не встретив там ни единой души, – мальчик дошел до зала и даже охнул от неожиданности: он оказался прав! Тут правда никого.
Только потом, конечно, Тедди-Теодор различил несколько человек, но по сравнению с привычной суетой это даже не считалось. Все равно что найти две рисинки в обычно полной банке и сказать, что рис дома, конечно, есть, и покупать его не надо. Центральный зал без снующих людей в мундирах почему-то мгновенна стал… более абстрактным и не таким четким, словно желавшим, чтобы каждый сам придавал ему подходящую форму. Теперь он казался безмерно огромным, с потолками, уходящими под самый пик горы. Глаза разбегались, внимание рассеивалось от масштабов, обычно как-то приземляемых четкими и контрастными мундирами.
На всякий пожарный, мальчик даже оперся рукой об одну из колонн, чтобы точно не свалиться. Хоть на ногах он и стоял твердо, все равно казалось, будто в таком внезапно большом зале сделаешь лишь шаг и непременно свалишься.
Взгляд Тедди Тминна хотел метаться, но вместо этого просто плавал по залу – не сразу заметил одну четкую фигуру в мундире, крючок, за который можно ухватиться, вернув привычный размер пространства.
Около статуи первого голема Анимуса, на пьедестале, сидел мэр Кэйзер, закрыв лицо руками – на миг Теодору показалось, что он плакал, но мысль эту точно пришлось прогнать прочь. Внук Анимуса ведь не может плакать…
Прежде, чем успеть подумать о чем-то еще, Тедди содрогнулся и сильнее вцепился в колонну. Сначала ему показалось, что просто закружилась голова, но потом мальчик понял, что проблема не в нем – проблема в полу, который дрожал и словно бы подпрыгивал.
Вибрация становилась все сильнее: будто бы тысячи шагов сотрясали землю с такой силой, что Тедди даже заикал. Мальчик спрятался за колонну – тут он порадовался маленькому росту.
Почему-то Тедди казалось, что естественной такая вибрация быть не может.
Челюсть его отвисла, когда из-за массивных дверей, ведущих на жуткое кладбище големов, стали вышагивать каменные истуканы.
Кэйзер почти не плакал – хотя это желание барахталось в глубине, захлебываясь в черных водах души, вязких и липких, не дающих выбраться и заявить о себе. Мэр Хмельхольма давно похоронил его за бетонными плитами, камнями рационального известняка.
Кэйзер думал, вспоминал и предвкушал.
Когда задребезжал пол, а шаги заработавших големов окрасили зал оттенками звуков, мэр убрал руки от лица, открыл глаза, проморгался, привстал и посмотрел на статую голема Анимуса за своей спиной.
Кэйзер вытянул руку и положил ее на грудь голему, в место, залатанное грубой металлической заплаткой и воском. Как раз там, где у человека обычно находится сердце. Мэру ничего даже не нужно было думать и говорить – только коснуться.
Свет понесся далеко и в то же время стал ближе, двигался назад и одновременно вперед, разматывался с катушки времени желто-белыми нитями и утягивал за собой звуки, цвета, смыслы, ощущения, замещая их призрачными воспоминаниями – коснешься их, и они распадутся на куски, да и от тех не останется ни следа, они мгновенно растворятся в ничего, которое слишком быстро обратится суровым настоящим.
В этом измененном свете, рябя и мерцая, является узкий зал, полный людей. Слезы их, черные от оборотного света, падают на каменный пол. Тут стоит и юный Кэйзер – тогда еще позволяющий себе плакать. Все толпятся у каменного гроба, где лежит Анимус – его длинная седая борода словно бы источает белоснежное сияние.
Кэйзер наклоняется к дедушке.
– Зачем, – шепчет он сквозь слезы. Звук дымкой зависает в воздухе. – Зачем…
Анимус долго думал, как запустить первого голема, это Алхимическое Чудо, и не придумал ничего лучше, как сделать это ценой собственной жизни. Не сказав ничего Кэйзеру, одним вечером он ушел и не вернулся – зато в тот же вечер заработал первый голем, глиняный гигант зашевелился, но остановился через пару мгновений. И только тогда Кэйзер узнал, что дед попросил старых друзей вырезать его собственное сердце и поместить внутрь Алхимического Чуда – другого варианта работы голема он не видел.
А теперь он лежит здесь, бледный, мертвый, но почему-то счастливый, с довольной и лукавой улыбкой на губах. Они плачут – а он улыбается.
Свет резко дергается – и картинка осыпается черным песком, но тут же сменяется другой, и второй, и третей – не одним событий, их вереницей, которые остаются в голове единым потоком воспоминаний.
После тех похорон Кэйзер решает, что просто обязан доработать голема, трудиться, не покладая рук – все-таки заменяет пресловутое сердце рубином, и Алхимическое Чудо разлетается по всем семи городам, технология работает.
И почему-то все говорят, какой внук Анимуса молодец – совсем забывая, что он – просто Кэйзер. Юноше не жалко, ведь изобретение правда принадлежит его деду, но холодное сомнение, смутное ощущение не покидает головы…
Уже став мэром, он продолжает придумывать, делать чертежи, всегда смотрит на небо – хочет дотронуться его, коснуться, будто бы это хотя бы на миг поможет услышать мелодию голоса дедушки Анимуса, всегда такую небесную, не от мира сего… Но почему-то Кэйзер все равно почти не слышит своего имени: только разговоры о внуке Анимуса, создателя голема, первого Алхимического Чуда…
Когда терпение достигает предела, Кэйзер не помнит. Мэр решает скинуть с себя это бремя, стать самим собой, избавиться от тени дедушки: до этого ничего, никакое изобретение и решение, не помогало, поэтому теперь он видит лишь один способ…
… и берется за вымирающих грифонов, не замечая ни средств, ни потерь – ему нужны их скелеты. Но все проваливается, не клеится, Кэйзер лишается руки. Тогда мэр придумывает первый в семи городах механический протез, заменяет им конечность, теперь приходится бесконечно пить рубиновые настойки… Опять разговоры о гениальности внука Анимуса, только и всего, и ничего о нем самом, о Кэйзере…
Но в этом протезе и старом кладбище, окутанном суевериями, мэр Хмельхольма видит возможности, ведущие к единственному решению, громогласному удару гонга на все семь городов – к войне.
Свет рассеивается, возвращается в привычное состояние, уносит за собой картинки, вновь открывая вид на мир не с черного хода реальности, а через главную дверь, чтобы оказаться здесь и сейчас…
Кэйзер не убрал руку с груди первого голема. Земля под ногами дрожала. Мэр шептал – почти как тогда, над телом мертвеца:
– Почему, дедушка… – он со скрежетом сжал механическую руку.
Замолчав, Кэйзер добавил, смотря прямо в пустые глазницы голема Анимуса:
– Почему все еще только твоя тень?
Глава 7. Имя войны
Так пусть звучит набат войны,
Услышит мир мое дыхание.
Сегодня мир увидит огонь!
«Эпидеия»
Облака нависали налитой чернилами ватой, давя почти физически, и Прасфора ощущала это даже через полусон – туда они являлись крылатыми призраками сомнения, заставляющими ее, Прасфоры, маленькую фигурку метаться по темноте, упираться в дно, которое было и сверху, и снизу; теряться в этой темноте и снова находить себя, потому что ни одна чернота никогда не бралась из вне…
Впрочем, увидела затягивающие небо массивные тучи Прасфора только тогда, когда проснулась, тяжело задышала и посмотрела в окно. Облака, в отличие от всего остального, будто бы замерли на месте.
Девушка поправила свитер, пучок волос, посмотрела на задремавшего Альвио и вновь уставилась в окно. Голову раскололо на части, как старое зеркало – после небольшого дневного сна мир стал сам на себя не похож, искривился до боли в висках, во рту пересохло, а время и пространство запутались. Девушка пыталась сообразить, сколько она продремала. За окном барабанил дождь, его стальные удары почему-то казались чрезвычайно громкими.
Прасфора повернула голову обратно. Альвио уже приоткрыл слипшиеся глаза, тоже поначалу соображая, какой сейчас час, где он и что вообще тут делает. Еще полусонный драконолог поймал на себе взгляд Попадамс, снял очки, потер глаза и протянул:
– Дождь…
Прасфора улыбнулась – вопреки общему настроению, даже хотела засмеяться, но опять отвлеклась на дождь. Нет, все-таки он барабанил по стеклу совсем не по-детски: казалось, что даже поезд содрогался, будто бы с неба сыпался град валунов.
Драконолог заерзал и повторил:
– Нет, это что, правда такой дождь?
– Ты тоже чувствуешь?
– Если ты про то, что все словно дрожит – да.
Прасфора замерла.
– Да. Я про это самое.
И тут поезд затормозил так резко, что Альвио, только собиравшийся потянуться, полетел вперед, завалившись прямо на Прасфору. Немногочисленные пассажиры тоже повылезали со своих мест, заворчав, забурчав и заругавшись что есть мочи.
– И что это такое было?! – попытался встать драконолог, восстанавливая равновесие.
– У меня есть догадка, – Прасфора помогла ему подняться, – но я очень не хочу ее озвучивать.
Поезд встал, дождь барабанил, а пол все еще нехорошо дрожал – и даже за возмущениями пассажиров слышен был скрежет магических механизмов, ставший не привычным, слегка убаюкивающим, а раздражающе-разлаженным.
Пока Прасфора и Альиво поднимались, в вагон ворвалась госпожа Батильда, гордо перешагивая через еще не успевших подняться людей.
– Что вы тут разлеглись! – возмутилась она. Потом взглянула на Попадамс. – А, впрочем, здесь еще и вы, так что ничего удивительного.
– Вообще-то, – вмешался драконолог, – мы как раз пытаемся встать. Если вы не заметили, то поезд…
– О, я-то прекрасно заметила! Вы думали, он остановился просто так?
– Даже не представляем…
– А я-то видела, почему он остановился! Поднимайтесь шустро и скорее наружу. Это все ваша война.
У Прасфоры внутри совершенно точно что-то екнуло. Будто свинцовый грузик оторвался и с громким хлюпом утонул в глубинах души, пустив круги по воде. Девушка хотела было спросить: «уже?», но так и не собралась – не хватило сил, да и Батильде с ее идиотским фиолетовым шарфом ничего говорить не хотелось.
Когда они побежали к выходу из вагона, пассажиры, интерес которых разгорелся с новой силой – мол, что это там такого, что ради него бегают, и каким боком тут война? – засуетились, поспешив следом.
Несмотря на все старания журналистки, Прасфора выбежала на улицу первой – дождь забарабанил уже по макушке, а земля так и не переставала подрагивать. Девушка огляделось – до горного города было рукой подать, вдалеке виднелись главные ворота, раскрытые настежь. Сначала Попадамс не поняла, что так привлекло ее внимание, а потом пригляделась и увидела, как из ворот стройным рядом вышагивают глиняные големы.
– О нет, – пробормотала она.
– О да! – возразила Батильда. – Нам срочно нужно туда!
– Нет, туда нам точно не нужно, вы что, ополоумили…
– Нет, – внезапно для себя сказала Прасфора – совершенно точно не собиралась этого говорить. – Она права. Нам правда нужно туда. Под землю.
Это было абсолютно нерационально – девушка понимала, но откидывала пресловутую объективность куда подальше; вперед манило иррационально, происходящее там казалось куда более важным, чем все остальное. Прасфора чувствовала, что должна кому-то: должна огромной погибшей драконихе, бесконечно-белым черепам с пустыми глазницами, Тедди и, конечно, больше всего самой себе. Сделать хоть что-нибудь, чтобы не пожалеть – все-таки, лучше в очередной раз удариться о лед и расшибить голову, чем корить себя за то, что ледяная корка была такой тонкой, а ты так и не попробовала.
Спрыгнув на холодную осеннюю землю рядом с путями, Прасфора побежала вперед, Батильда – прямиком за ней, не позволяя себе – еще чего! – отставать. Альиво слегка затормозил, но тоже понесся следом.
– Вы с ума сошли! Обе! – крикнул он. – Мы бежим прямо на марширующих големов! Они же нас…
– Это всего лишь големы, – буркнула журналистка, постаравшись выровнять голос – не так уж она была молода для одновременного бега и разговоров.
– Они были мертвыми големами, – зачем-то добавила Прасфора. – Только что вернулись и еще… не до конца все понимают.
– Да они вообще ничего не понимают! – вновь взревела Батильда на ходу. – Вы же взрослые люди! Это просто. Каменные. Истуканы!
Так или иначе, шеренга стремительно вышагивала, постепенно расползаясь по окрестностям. Троица добежала до перрона, запрыгнула (в случае Батильды вяло вскарабкалась) наверх в самом незаметном углу, чтобы оказаться в тени, и на мгновение притаилась. Големы – теперь стали различимы все их новые конечности и залатанные части – шагали из главного входа, содрогая землю.
– Да, – драконолог вздохнул. Заклубилось облачко пара, – думал, что мы успеем до начала. И что теперь?
– Ты можешь что-то сделать с големами? – вдруг четко спросила Прасфора с наконец-то проясневшими глазами. Альвио даже невольно улыбнулся.
– Да, если вспомню, что делать с магическими потоками… мы можем попробовать… А что ты..?
– Вы можете замолчать?! – осклабилась журналистка. – Не мешайте наблюдать за сенсацией…
Прасфора промолчала – только впервые после возвращения из горного города тепло улыбнулось, топя окружающее пространство улыбкой, которая словно была призвана дарить надежду, прежде всего не остальным, а своему собственному отражению в зеркале, каждое утро, вот так вот безмолвно говорить себе, что обязательно все получится, и путь весь мир – весь не верящий в это мир – катится к нестабильности.
И Альиво наконец узнал настоящую Прасфору – хотя бы ее легкое эхо, пока этого более чем достаточно. Драконолог чуть не рассмеялся, но события сдерживали поток эмоций.
Улыбнувшись, Прасфора, пригибаясь, кинулась к главному входу – Альиво хотел было ринуться за ней, но пусть ему загородила Батильда:
– Одну вы меня не оставите, – заявила она. – Так и знайте…
Драконолог хотел оттолкнуть ее – в принципе, это желание было перманентным, просто сейчас зудило сильнее обычного, – но увидел, как големы напрочь игнорируют девушку, скрывшуюся за воротами.
– Каменные истуканы, ждущие… приказа, – мелькнуло в голове. – Ладно, пусть хотя бы так. Пусть хотя бы так.
И Альвио закрыл глаза, чтобы перед взором завибрировали сине-фиолетовые нити магии, затянувшие пространство гипотонической паутиной.
Никогда еще на Прасфору не давило так сильно, а тут вещи вокруг словно бы сговорились: давило растущее напряжение, давил грохот ног шагающих големов, давили собственные свинцовые установки в голове, словно налившиеся мраком и ставшие еще тяжелей, давили, наконец, высокие потолки и своды горного Хмельхолма, в первый приезд – столь головокружительные, а теперь абсолютно иные, падающие на сознание непомерным весом.
Прасфора влегкую, но все равно с опаской, миновала големов. Как всякий житель семи городов, Попадамс знала, что глиняные истуканы вообще не могут ни чувствовать ее, ни даже обращать внимания: как такового и внимания-то у них нет. Девушка всегда гадала, как тогда они вообще ориентируются в пространстве – потом кто-то объяснил ей, что големы видят лишь нечеткие магические силуэты. Почти как пресловутые гомункулы, воспринимающие мир комплексом магических следов, или собаки – фейерверком запахов. И вот сейчас все восприятие этой… армии – словно даже на ум Прасфоре отказывалось приходить – направлено было явно на другую задачу.
С большим трудом сосредоточившись, Прасфора двигалась по опустевшему залу – опустевшему настолько, что обычные шаги ее гремели погромче големов. В этой неестественной тишине голем Анимус под лестницей одиноко взирал в пустоту, уменьшаясь по сравнению с исполинскими сводами.
Плана у Попадамс как такового не было – что вообще можно придумать, когда не знаешь, чего ожидать? Но заднего хода давать уже не хотелось, куда теперь денешься, раз хотя бы маленький маячок возможности – перед Прасфорой он горел даже в самые понурые и туманные дни – светится бледно-желтой надеждой где-то вдалеке. Может, что-то, да и выйдет?
Девушка знала только, что ей снова нужно вниз – жуткие черепа невероятным образом тянули к себе, хотя при одной мысли о них Прасфоре хотелось убежать, забиться в темный угол и свернуться клубком. А еще там был… скелет той драконихи, что она не смогла спасти.
Прасфора чувствовала, что все решится там – и шла.
Наверняка, в горном Хмельхольме был сто и один другой спуск, ведущий под землю, в нужное место – но девушка помнила только один, через кладбище големов, сейчас, видимо, опустевшее. И от этого почему-то становилось еще страшнее.
Взгляду было не за что уцепиться, деталей не хватало, и такое огромное пустое пространство размылось, словно вода смешалась с краской. Попадамс просто шла на автомате – хорошо, что еще не забыла дорогу до кладбища. И тут внимание ее – совершенно случайно – привлекла маленькая фигурка, сидевшая у колонны. Взгляд сперва схватился за нее просто так, по инерции.
И только позже Прасфора увидела, что это Тедди. Курс ее тут же сменился.
Подойдя ближе, девушка подумала, что мальчик плачет – но тот просто сидел, смотря в пустоту. При этом моментально заметил Прасфору и проговорил, не поворачивая головы:
– Это началось, да?
Ответ, в принципе, не требовался, но зачем-то Попадамс сказала:
– Да.
– Я боялся, что пол уйдет из-под ног, – вялым голосом будто бы оправдался за полугоризонтальное положение Тедди-Теодор. – А потом он вроде действительно стал уходить…
Тедди Тминн не боялся – это было видно по глазам, слышно по голосу и, в конце концов, просто ощутимо. Просто… не понимал, что происходит и что делать дальше. В голове не укладывался этот новый кусочек реальности, который хотелось выдрать, смять и выкинуть прочь. Прасфора молча смотрела на мальчика и все больше ловила себя на мысли, что будто бы стоит перед зеркалом, смотря на свое отражение – она тоже не понимала, как быть. Как быть, если она – просто Прасфора, не мэр Кейзер и кто-нибудь еще. В такие моменты все слова и попытки Альвио доказать обратное – мол, все у тебя получится – казались колючим сорняками, не только засорявшими сознание, но и ранящими его до крови.
Прасфора и так постоянно резала себя до крови, гуляя по свинцовым ножам комплексов и разбивая голову о непомерные задачи. Правда потом просто вытиралась и шла дальше.
Резко вернувшись в настоящее, девушка присела на корточки – с трудом, ноги не хотели гнуться.
– Иди на кухню, – на последнем слове Попадамс вздрогнула. – Тут нечего делать.
– А как вы?
– Справлюсь как-нибудь, – призналась она. – Не в первый раз. Хотя сомневаюсь, что в этот раз удержу целое небо.
И она пошла, с каждым шагом все сильнее и сильнее заглушая внутренние блокировки, зажимавшие уверенность в непосильные тиски – заглушала до боли барабанных перепонок.
На ворота кладбища с изображениями големов смотреть не было никакого желания, но идти с закрытыми глазами – тоже не вариант. Попадамс просто вздохнула – и расслышала шаги за спиной.
– Я провожу вас, – на ходу объявил запыхавшийся Тедди-Теодор. – До того места, куда вам надо.
Кладбище действительно пугало пуще прежнего. Теперь здесь не было големов – никогда не умиравших трупов, – зато пустота и тишина казались такими густыми, что спирало дыхание. В воздухе носилось нечто непостижимое, будто бы эхо от голосов вечно немых големов, звук их плача и просьб, произнесенных с придыханием обреченных. Прасфора и Тедди тоже старались не задерживать взгляд, как можно быстрее хотелось покинуть это место, избавиться от зловещего ощущения присутствия чего-то иного, хотя разум подсказывал театральным шепотом: нет здесь ничего такого, лишь фантомные, ничем не обоснованные мысли и эмоции.
Магический лифт-подъемник показался настоящим спасением. Прасфора и Тедди молча спустились под землю – даже там, в литейных, совсем недалеко от шахт, стало значительно тише. Звуки словно осторожничали, чтобы не разбудить тишину. Печной жар никуда не делся – лоб девушки взмок почти мгновенно, белая блузка тоже не выдерживала.
В отличие от первого раза, сейчас у Попадамс появилась возможность внимательно осмотреться. Среди инструментов, наковален, куч угля и обвалившейся в тот раз породы п, девушка увидела нормальный спуск вниз, прикрытый ширмой тьмы.
– А вот теперь, точно иди, – рукой она остановила Тедди, хотевшего сунуть голову подальше.
– А вы спуститесь еще ниже?
Прасфора кивнула.
– Но зачем?
– Потому что там… кое-что ужасное.
Тедди Тминн перемялся с ноги на ногу
– Почему вы так уверены?
– Потому отчасти оно там по моей вине. И… мне сказал об этом дракон, – она расстегнула верхнюю пуговицу на блузке. – Точнее, дал почувствовать.
– И что же это такое?
– Не знаю. Точнее, не знаю, что они с этим делают.
– Это можно… предотвратить?
– Не знаю, – девушка не смотрела на мальчика, только в темноту тоннеля.
– Так зачем тогда пробовать? – заключил Тедди-Теодор. – Если ничего непонятно… и мы, мы… ну ведь мы можем спорить с Кэйзером?
Он словно открыл шлюз для всех внутренних, холодом скребущихся комплексов.
– Не знаю, – уже чуть не рассмеялась девушка. – Просто потому, что надо. Понимаешь?
Мальчик помотал головой.
– Вот и я не особо, – вздохнула Прасфора, сделав еще один шаг – через себя.
Оставалось сделать лишь шаг в темноту.
Фюззель готов был порвать всех, как тузик грелку, вот только грелок вокруг не оказалось – только несгибаемые люди. На таких у Испражненца при всем желание зубов не хватило бы. Хозяина «Рваных крыльев дракона» как на качелях кидало от триумфа к бурлящей злости, и в этих эмоциональных перепадах он ничего не замечал, потерял счет времени, даже слова произносил на автомате, они лились клейким потоком сознания.
Когда ему сказали, что он взлетает с остальными, все вернулось на круги своя – но приятнее от этого не стало.
Фюззель уже собирался искать и расспрашивать мэра Хмельхольма, но вместо него по дороге встретил Хюгге. Чуть не вышел из себя – закипал просто от нахождения рядом с любым из Попадамсов. Этот вот, например, не посягал на его империю таверн, но потащил в эту проклятую пещеру, спуск в которую Испражненц хотел максимально оттянуть, но делать было нечего – пришлось идти. Тем более – хоть какое-то утешение – там Кэйзер точно объявится сам, и вот тогда, тогда…
«Тогда» не случилось – всю малину испортили заранее.
Фюззель хотел знать план – получил свое. И сердце ушло в пятки.
– Взлетать?! – закричал он. – Подниматься в небо?!
В голове происходящее не укладывалось, но факт оставался фактом – Кэйзер хотел поднять этот огромный, измененный скелет в воздух, пойти против стихии. Наверное, где-то в глубине души Фюззель восхищался таким решением – но негодование не давало добраться до чувств куда более благородных. В воздух, первый раз не просто в жизни, в истории, и на этом… на этом не пойми чем?!
Испражненц еще раз оглядел огромный скелет драконихи, видом своим скелет, собственно, уже особо не напоминающий. В обе стороны раскинулись огромные крылья из коричневой кожи, натянутые на костяной каркас, ребра стали опорой для металлической обшивки, внутри жужжали магические шестерёнки, на каждом шагу в свете ламп мерцали рубины. Кости хвоста откромсали, но заменили кожей, натянутой на металлические балки. Скелет огромного существа подчинился логике металла, слился с ним воедино и предстал отвратительным, но завораживающим гибридом.
И вот туда – Фюззель нервно дернулся – ему предстояло забраться, и взлететь из глубоких пещер дальше, дальше, дальше… во всем этом, правда, лишь одно лилось медом на душу: триумф казался неизбежен, ведь такое никто не остановит, не сможет ничего сделать, и тогда они все склонят головы перед ним, а дракон его империи едален расправит крылья над пеплом и прахом, оставшимся после пламени войны.
– Кэйзер, – махал руками Барбарио. – Там все еще жутко пасмурно! И облака очень плотные.
– Неважно, – недавно спустившийся сюда мэр уже стоял одной ногой на «борту» – металлических пластинах, что смыкались под ребрами. – Откладывать больше нельзя.
– Заладил одно и то же, но облака…
– Не играют роли, – подтвердил Хюгге до этого возившейся внутри скелета дракона. – Я же говорил, все не так уж плохо.
– Да-да-да! – фыркнул явно недовольный алхимик. – А потом…
– Ты поднимаешься с нами? – спросил Кэйзер.
– Я? Да ни за что! – отмахнулся Инкубус. – Я совсем, совсем не дружу с высотой, и это прекрасно знаешь, так что не делай вид…
Алхимику показалось, что мэр улыбнулся – Барбарио никогда не был уверен, точно ли он видит улыбку Кэйзера, или это просто мимолетное видение того, что хотелось бы различить на лице.
– А могу я тоже… – вмешался вдруг Фюззель, но даже договорить не успел.
– Нет, господин Испражненц. Вы – вице-адмирал, сами просили. А все мы должны быть там и… делать войну, – Кэйзер обрубил инициативу на корню.
– У нас все готово, – отчитался Хюгге. – Можем… начинать.
– Представь, что было бы тогда, если бы все вышло с грифонами, – отвлекся вдруг мэр. Попадамс вжал голову в плечи, но быстро привел себя в порядок, не давая воспоминаниям снова посеять сомнение в собственном выборе.
– Проследи за големами, – не желая ничего добавлять, попросил у алхимика Хюгге.
– Поди за ними проследи еще и уследи, – фыркнул тот. – Они уже ожидают.
Кэйзер сжал механическую руку и окончательно ступил на металлически-костяной борт. Остановился и взглянул на Испражненца, отводящего взгляд:
– Прошу вас, господин Фюззель. Добро пожаловать на борт. Все карты – в ваши руки, – мэр замолчал на миг. – И весь мир – к вашим ногам.
Мира ему никогда и не нужно было. Одной конкретной таверны – вполне достаточно. Что ж, цель… не оправдывает такие средства, но других просто не осталось в рукавах.
Фюззель Испражненц сглотнул, проклял все и вся, маленькими шажками взошел на борт и зачем-то посмотрел наверх – тут же прокляв на этот раз и себя.
Небо преломлялось, кривясь, за ледяной коркой.
Госпожа Батильда постучала по металлической пластине на боку застывшего голема, будто бы проверяя, нет ли там сейфа. Видимо, результат ее не удовлетворил – она наклонилась еще ближе, приложила ухо к телу истукана и постучала вновь
Альвио как бешеный чуть ли не за шкирку оттащил ее в сторону.
– Да что вы себе позволяете! – забрыкалась она, вырвавшись. – Вы мешаете моей работе!
– Вы стучите по голему с механической рукой, – у Альиво от шока даже очки на нос сползли, – который только что маршировал на войну!
– Ну теперь-то он стоит, – эту фразу журналистка словно ножом прочертила.
И действительно: когда из-за городских ворот вышагали все големы, они просто остановились там, где стояли – их было так много, что они уже замерли вдали от горы, а красные рубины их, сверкая в холодном, притушенном тучами свете, будто глядели на равнины. Глиняные гиганты, дополненные механическими частями – как же радовалась госпожа Батильда! – просто стояли и ни на что не реагировали. Как и всякие големы, оставшиеся без дела – пока.
Альвио долгое время вообще не планировал к ним приближаться, а вот журналистка «Хмельных вестей» загарцевала вперед моментально, как только големы перестали подавать признаки активной жизни. И тут уже начали подтягиваться любопытные пассажиры затормозившего и все еще стоявшего на путях поезда – перрон заполнялся людьми, и они шли к воротам, бродили между замерших големов и наблюдали.
Альвио все это напоминало игру на выживание – как гулять рядом с алхимическими бомбами, которые могут рвануть в любой момент.
Батильда вырвалась и продолжила рассматривать истуканов. Драконолог отошел и облокотился о камни – ладно, что тут поделаешь, не хочет – как хочет. Альвио посильнее укутался в шарф, посмотрел в сторону и увидел барельефы грифонов – тут же подумал о них, потом – о черепах и рассказах Прасфоры, потом – о самой Прасфоре.
Он долго боролся с собой, не хотел отпускать ее туда одну, но все же пришлось договориться с самим собой, найти душевный компромисс и выровнять противоречивые чаши весов заботы – ей нужно было сделать это самой, просто необходимо, просто потому что иначе… иначе она бы стала не собой.
Он помнил ее поблекшие, словно матовые, лишенные былой невероятной небесной голубизны глаза, когда встретил ее здесь, и когда она вернулась домой – и клубящуюся дымку отчаяния и темноты там, в зрачках, ставших жидким дымом; темноты, глупо было не признавать, ее собственной, ведь она живет в каждом, фокус в том, чтобы научиться уживаться с ней, но это совсем не то, что пугало его. Пугало то, что Прасфора перестанет идти вперед, перестанет бороться с собой и всем остальным миром, разбивать вдребезги те комплексы, которые сама себе и придумала.
Ведь ключ от единственного в мире замка для цепей, созданных нами для нас же, есть только у их создателя – нетрудно понять, у кого конкретно.
Это не была любовь, конечно нет, она давно выветрилась, как старые духи, остался лишь привкус – то ли приятный, то ли нет: Альиво, да и Прасфора, понять не могли. Никакая не любовь, нечто большее, крепкое и неразрывное – забота будто бы о своем незримом двойнике, такая забота, ради которой готов, возможно, сделать хуже сейчас, сделать слегка больно и жестоко, ведь точно знаешь, что потом без этого она не справится, а за нее этого сделать нельзя, просто невозможно.
С некоторыми вещами необходимо разбираться самим и только самим. И лучшая помощь в том, как ни парадоксально, чтобы в этот момент бросить.
Альвио все равно ругал себя, а заодно и поругивал за то, что так ужасно произошло с грифонами, а он – ведь так элементарно! – об этом совсем не догадался, даже тень мысли не упала на него. Да и с големами правда надо было что-то делать – но с таким количеством… он знал, что не справится, понимал этой со всей четкостью здорового, рационального рассудка.
А еще понимал, что не может пустить на самотек.
Подул холодный ветер, неся колючее дыхание горной осени, шепчущей на ухо признания в любви и заставляющей шею покрыться нервными мурашками. Альиво прикрыл глаза, попытавшись успокоиться. Что-то яростно скрипнуло – раз, второй, третий. Драконолог думал, что это ветки далеких кедров трещат с такой силой, но до него дошло только тогда, когда визжащая Батильда схватило его за руку.
– Они… они зашевелились! – вскрикнула она. – И идут на город!
Драконолог резко повернул голову, запутавшись в шарфе – любопытные пассажиры во все стороны разбегались от не замечающих их и марширующих в сторону равнин големов.
Альвио вздохнул, закрыл глаза, сосредоточился на потоках магии…
А потом его голову взорвало болью – и вот теперь абсолютно точно вдалеке захрустели кедры.
Спуск оказался неожиданно большим, плутающим из стороны в сторону, словно пытающимся запутать и вывести не туда – одна радость, хотя бы без ответвлений, чтобы выбрать, куда пойти: прямо, направо или налево.
Прасфоре становилось все холоднее и холоднее, недавний пот мерзко, влажным холодом остужал кожу, а взмокшая блузка отвратительно липла к шее. Девушка думала, что вот-вот снова увидит черепа, ведь там, под землей, было так же холодно – но ощущения подсказывали, что сейчас Попадамс спустилась не так уж глубоко.
Темнота прорезалась светом, встречу с которым хотелось оттянуть как можно дальше: Прасфора догадывалась, что ей предстоит увидеть и всей душой не хотела, чтобы жуткие расползающиеся мысли воплотились в конкретную реальность.
Еще несколько шагов – и она увидела это издалека, полностью.
Огромный скелет драконихи, уже не похожий на себя – сплошь закованный в металлические пластины, с кожаными крыльями, хвостом и контрастно выделяющимися на фоне медно-коричневого метала белоснежными костями; морда драконихи, словно фигура на конце старых кораблей, смотрела в пустоту глазницами, в которых не было ни боли, ни страха, лишь полное отчаянье и принятие.
Девушке показалось, что она услышала голос того, живого дракона – он захлестнул ее потоком слишком физических ощущений.
Прасфора пошла по корявому спуску, держась руками за выступающие камни, и только тогда услышала приглушенные голоса внизу, у мертвой драконихи – после тишины наверху они звучали паническими ударами тревожного колокола. Девушка стала еще осторожней и даже на всякий случай пригнулась.
Когда она окончательно спустилась, сразу же затаилась в углу – мужчины в мундирах спешно и нервно, это было заметно по жестам и по голосу на грани надрыва, суетились вокруг скелета. Девушка заметила знакомый силуэт, но так и не поняла, показалось ей или нет – то ли Фюззель запрыгнул на металлические пластины над ребрами дракона, то ли это кто-то другой. Попадамс ни за что бы не поверила, что Испражненц способен натянуть на себя мундир, который, впрочем, на нем все равно выглядит, как мешок на вешалке – нелепо и неуместно.
Дело оставалось за малым – всего на всего придумать, что делать дальше.
– И вот так всегда, – пронеслось в голове. – Как с кухней – заходишь, и совсем не думаешь, что будет дальше. Ведь главное зайти… ну что же с тобой не так, а?
Свинцовые шестерни комплексов загремели с новой силой – как и шестеренки, видимо, за металлическим каркасом «дракона».
Попадамс решила просто разобраться в происходящем и прокрасться поближе к скелету, посмотреть, понять, изучить – и уже потом думать, но кто же знал, что почти перед ее носом решит пробежать какой-то человек в мундире, и единственным вариантом не попасться ему на глаза будет запрыгнуть на металлический каркас, спрятавшись там, в самом углу, и затаив дыхание.
Собственно, так Прасфоре и пришлось сделать.
Ей хотелось вдохнуть побольше воздуха, но она заставила себя свести дыхание к минимуму, пока не прекратится шумиха, не затихнут голоса совсем рядом. Их, впрочем, почти не было слышно за рокотом и скрежетом магических шестеренок. Этот грохот напоминал барабаны, словно звучащие в глубине, открывающие двери самым потаенным кошмарам, ужасам и демонам, клубящимся мраком, под гимны и возгласы несущимся на волю. И война виделась ей точно такой же – бессмысленной, дымом своего пожара накрывающей все без разбора, немым хохотом прокатывающейся по семи городам, но ради чего – лишь ей одной известно.
И все же, голоса стихли. Прасфора успокоилась, часто и глубоко задышала, а потом решилась высунуть голову наружу – одним глазком посмотреть, что происходит в пещере.
Инженеры в мундирах куда-то поисчезали. По крайней мере, рядом их нигде не наблюдалось. Попадамс посмотрела вправо, влево, обогнула взглядом пещеру, а потом взглянула наверх – и тут же затаила дыхание, его просто-напросто сперло от неожиданности.
Сверху виднелось серое, затянутое набухшими тучами небо – оно мерцало и преломлялось за плотной ледяной коркой, сдерживающий массивы кристально чистой ледяной воды. Даже тут ощущался этот мокрый, сковывающий холод. Там, наверху, мелькали кривые отражения кедров.
– Мы что, – чуть не спросила она вслух неведомо у кого. – Под озером?
Не успела Прасфора разобраться, что к чему, как шестеренки загрохотали с новой силой, вокруг загудело, вздрогнуло, и лишь задним числом Попадамс почувствовала, как она – и весь скелет – поднимаются в воздух, как обдает пятком воздуха от шевелящихся с невероятной силой мертвых крыльев. Заболела голова, и как только девушка схватилась рукой за лоб, что-то над ней с треском хрустнуло, и она чуть не захлебнулась, ее обдало потоком ледяной, дурманящей воды, лидокаином сковавшей сознание и на краткий миг погрузившей его в белоснежный, пустой и абсолютный мрак, почему-то сияющий чересчур ярким, до пугающего, светом.
Альвио пытался ухватиться за что-нибудь, но нащупывал лишь воздух, судорожно размахивая руками – в итоге свалился на землю, когда услышал хруст кедров вдалеке, упавший на голову гирей.
Батильда завизжала и отпрыгнула от падающего драконолога.
– Не вздумайте сваливаться! – завозмущалась она. – Вы ведь меня сюда и притащили!
Альиво ответил бы, но слова не хотели даже высовываться. Когда перед глазами перестали прыгать желтые пятна, а боль слегка успокоилось, драконолог всмотрелся вдаль – взглянул в сторону чудесного озера, отражающего мир вверх-тормашками, и только прошептал…
– Нестабильность меня побери…
Она, собственно, и побрала – спазм боли сжал голову с новой силой. Альиво резко закрыл глаза, но также резко распахнул вновь. Увидел еще раз, теперь удостоверившись.
С гудением и треском, над озером, над горами, поднимался, как ему показалось, огромный дракон: с крыльев и тела его лились потоки воды, и даже Альвио чувствовал обжигающе-ледяной холод. Только когда очередной спазм боли прошел, драконолог разгладил все в деталях – и упал бы, не валяйся он уже. В небе парил скелет дракона, обделанный металлом и кожей, он взмыл прямиком из-под озера, сломал кедровые деревья и теперь одновременно набирал высоту и двигался вперед.
Альиво тут же задумался о грифонах – конечно, Прасфора говорила о скелете драконихи, а грифоны… просто твари меньшего размера, проба пера, что-то более мобильное, взлетающее в воздух. Видя, по сути дела, труп рептилии в воздухе, драконолог напрягся и прикрыл глаза, чтобы увидеть магические потоки.
И тут – еще один спазм боли. Зато теперь понятно, почему.
Нити магии бешено дрожали и дергались, прыгали, и Альвио был готов голову на отсечение поставить, что сейчас повсюду являлись магические аномалии – при таких перепадах от них невозможно было никуда деться. Ткань реальности прыгала, шла волнами. Драконолог старался выкинуть все свои магические знания из головы на протяжении многих лет, но даже сейчас он осознавал, каких колоссальных затрат требуют големы, и каких – искренне не хотел называть его этим словом – «дракон» в небесах.
Мир был близок к тому, чтобы трещать по швам.
– Это… это… – Батильде не хватало воздуха, чтобы отреагировать на увиденное. В итоге досталось Альиво: – Да сделайте вы хоть что-нибудь сначала с одним!
С трудом драконолог все же поднялся и чуть ли не пошел вперед спиной, чтобы не сводить глаз с летящего нечто – уже переставшего набирать высоту и двигавшегося вперед, к воротам. Развернуться все же пришлось, чтобы не навернуться, да еще журналистка как обезумевшая крутилось рядом, будто была роем надоедливых пчел. Любопытный народ уже разбежался на безопасное расстояние, теперь смотря в небо. Даже машинисты поезда, так и затормозившего не доезжая до перрона, вышли из состава и глядели на машущую крыльями полумеханическую рептилию.
Големы шагали вперед, к равнинам. «Дракон» словно нагонял их.
Альвио бежал мимо перрона, пока чуть не влетел в маячащую магическую аномалию – голова снова заныла. Драконолог разжег в руке магической синий огонек, избавившись от аномалии, и побежал дальше. Догнать големов было не проблемой – они шагали уверенно, но медленно. Вот только что делать дальше, как справляться со всем этим, а теперь еще и тем – тут он опять посмотрел в небо, чуть не навернувшись – до сих пор непонятно.
– Ну что же, – Альвио выбежал с перрона, – придется придумывать на ходу.
Он нагнал шагающих истуканов, даже слегка перегнал, и остановился. Те все еще маршировали вперед, не замечая иных целей. Красные рубины зловеще выделялись словно мистической дымкой. Или то была просто игра света?
Драконолог закрыл глаза. Зарекся не быть волшебником – не будь им. Но что ж поделаешь, когда твой мэр внезапно решает объявить войну всем семи городам. Тут даже обещания самому себе – самые важные – волей-неволей нарушишь.
Трясущиеся нити магии сменили привычный ландшафт, мир будто переключился на иной пласт бытия, видимый для волшебников – словно бы ткань расплели на тончайшие волокна, и теперь ее куда проще перекроить, заштопать заплатками и переделать на свое усмотрение.
Драконолог еле-еле ухватил одну из этих трясущихся нитей. Поток магии постоянно выскальзывал из рук, растворялся, но у Альиво все же получилось. Тогда он со всей силы рванул за этот поток – голова снова взорвалась болью, а сине-фиолетовые нити магии заходили ходуном.
Его даже откинуло назад. Альиво грохнулся на колени, потер виски, и только потом открыл глаза, смотря на марширующих големов – один из них свалился, отключившись.
– Прекрасно, – пробубнил волшебник. – Просто прекрасно. Осталось каких-то там… Несколько сотен.
Големы, ничего не замечая, маршировали мимо, гремя механическими конечностями.
– И это все?! – подоспела Батильда с блокнотом в руках. – Это правда все?!
– А вы-то что тут делаете?! – не выдержал драконолог, приподнявшись так резко, что голова закружилась.
– Я должна быть не просто в курсе событий, но и в их центре! – с важным видом она покрутила в руке карандаш. – Ну, и что будете делать дальше, м?
Альвио поправил шарф, потом снял и протер кругленькие очочки в золотистой оправе. Посмотрел на големов, идущих мимо железнодорожных путей. Потом взглянул в небо – «дракон» нагонял истуканов.
– Интересно, где Прасфора? – подумал он. От мысли о том, что девушка могла оказаться в небе, свело живот.
– Да какая разница, – ответила журналистка. Оказалось, драконолог все же заговорил вслух. – Эта ваша Попадамс что угодно своей башкой проломит. И знали бы вы, как меня это бесит.
– Огромное спасибо за конструктивное критическое мнение.
Батильда фыркнула.
– Не за что. А теперь лучше-ка думайте, что делать со всем этим. Мне не нужно никакой вашей войны!
– А она уже началась, – сверкнул глазами Альиво. – И она никому не нужна.
Драконолог опять посмотрел в небеса.
Ветер бил в лицо Кэйзеру, обдавая ледяным дыханием намокшие седеющие волосы. Капли холодной озерной воды стекали по щекам и ударялись о металл. Казалось, что уголки губ у мэра дергались верх-вниз – то ли он пытался улыбнуться, то ли просто сводило мышцы после такого контрастного душа.
Кэйзер, практически не шевелясь, смотрел не вниз, где с недосягаемой, как думалось раньше, высоты, все выглядело кукольным и уменьшенным – даже марширующие вперед големы, даже горные пики. Взгляд мэра устремился вперед, за горизонт, расширяющийся бесконечностью – туда, где ждали остальные шесть городов, которые теперь наконец-то узнают и поймут.
Каркнул и пронесся мимо огромный ворон – перед полетом мэр отпустил обоих птиц из клеток, и теперь те стали некими вестниками грядущего, хоть Кэйзер и не любил такие мудреные метафоры. Отпустил их просто потому, что разослал послания куда нужно, объявил войну, а теперь, когда все началось – или только начиналось? – в них больше не было нужды, и пусть хоть они не томятся в своих клетках.
Кэйзеру не верилось, что он наконец-то поднялся в воздух – хоть мэр всегда был уверен в своих идеях и планах, касаемо этого сомнения начали возникать еще со времен грифонов… Кэйзер прикрыл глаза, вырывая себя из царившей вокруг суеты, и тогда…
Свет снова принял ту странную, чудную форму, оборотную версию себя, которая испещрила холст, сделала его чистым и заполнила собой, взывая зыбкие, неустойчивые, но сияющие блеском воспоминаний картины.
Прямо перед взглядом Кэйзера – другого, не нынешнего, чуть моложе, с обеими руками – лежит полумертвый, слабо дышащий грифон, и впивается в нутро янтарно-золотыми глазами. Мэр отвечает холодом своих глаз.
– Мы заканчиваем? – Хюгге, стоящий рядом, берет в руки тесак.
– Подожди, – мэр наклоняется к животному ближе, пытаясь вникнуть в саму суть его вщгляда – будто таящего ту самую пресловутую тайну полета, такую нужную ему и такую недосягаемую, даже с сотней перебитых грифонов, с бессонными ночами за спиной и горами костей в воспоминаниях.
Кэйзер проводит рукой по бархатным перьям существа.
И тут грифон, казалось, держащийся на волоске от смерти, резко взбрыкивает и смыкает острый клюв над рукой мэра. Дальше все происходит чересчур быстро – мэр вскрикивает, отпрыгивает в сторону, пол заливает кровью, тесак Хюгге сносит голову грифону, а где-то уже начинает причитать Барбарио, бегущий за алхимическими веществами.
Когда Хрнес подбегает к окровавленному мэру, то хочет что-то сказать, но не успевает. Кэйзер взрывается глухим хохотом.
И вот свет меняется на привычный, сковывающий холод возвращается с новой резкой силой, и мэра Хмельхольма вырывают из воспоминания.
Хюгге Попадамс положил руку на плечо Кэйзера и легонько потряс его.
– Эй, очнись. У тебя тут все в порядке?
– Как ты видишь, – мэр указал рукой сторону марширующих големов, – в полном.
– Все ждут дальнейших указаний. Мы поднялись в воздух… – тут Хюгге замолчал, словно сам пытаясь поверить в эти слова, и повторил: – Мы поднялись в воздух. И что дальше?
– Дальше – война, – мэр окинул взглядом горные пики, а потом опять посмотрел вдаль, на прикрытые нежной рукой осени поля. Добавил, словно говоря с самим небом: – Моя война. Ты слышишь? Моя война.
И вот тут – вопреки всему, что Кэйзер думал и знал сам о себе – ему захотелось заплакать.
Прасфора сразу и не поняла, что произошло, а когда поняла, то не заорала только потому, что связки онемели и отказывались работать.
Они пробили ледяное дно холодного озера, это для начала. Ну а для полноты эффекта – они оказались в небе, высоко над землей. Они взлетели.
Попадамс никогда не относила боязнь высоты к пестрому списку своих страхов и комплексов, но сейчас этот новый пункт напрашивался на первое место. Когда первоначальный шок прошел, из чистого любопытства девушка решила высунуть голову за борт и посмотреть вниз. Сначала Прасфору обдало потоком холоднющего воздуха от машущих с сумасшедшей скоростью крыльев, потом она увидела поломанные кедры и вокзал сверху, а вот тут уже наступил вторичный шок, и девушка посильнее вжалась в металлическую обшивку.
– Отлично, просто отлично, – пробубнила Попадамс про себя. – Ну и что ты будешь делать теперь, так высоко над землей? Тут-то ты вообще ничего не можешь сделать. Боже, какая же ты дура…
Сам себя не поругаешь – кто-нибудь другой с удовольствием поругает. Поэтому лучше избиться розгами позора самостоятельно, все не так противно. Не то чтобы очень правильная методика, но для Прасфоры – вполне рабочая.
Девушка постаралась сосредоточиться и подумать, что же ей делать дальше – сосредоточиться, учитывая обстановку, вышло не особо, подумать – тем более. Мысли стучали в голове сотней маленьких металлических шариков, суровые тиски комплексов закручивались, а от намокшего свитера все тело сковало так, что один шаг сейчас стоил десяти привычных.
Сил и так не было, а теперь организм требовал их в десятикратном объеме.
– Ну, нестабильность, спасибо, – выругалась Прасфора и еще раз прикинула свои планы.
Магистральный из них был вернуться на землю. И, возможно, расцеловать ее – но это так, опционально.
В голову лез абсолютно безумный и бесполезный, как звенела вся внутренняя сигнализации, вариант – найти Кэйзера и попытаться отговорить его от всей этой затеи. Вроде бы, просто и со вкусом, но только мэр, прислушивающийся какой-то там Прасфоре, все равно что паук, решающий одуматься после писка даже не мухи – это еще ладно – а жалкого муравьишки, случайно заглянувшего на огонек. К тому же, он уже предупреждал ее… Можно было, конечно, придумать еще вариантов, да вот только их не было – либо прыгай вниз, либо делай так, чтобы эта чертова штука спускалась на землю. А дальше придумывай, как решать проблему с големами и войной…
Последнее слово стало поперек горла.
Впервые с того момента, как Прасфора выбралась из тоннелей, ей снова захотелось бросить все, ничего не делать и просто заплакать. Зачем пытаться, если все удары остаются просто ударами, и синяки появляются только на твой голове – нигде больше?
– Ладно, ноги в руки, и вперед. Хотя бы ради той драконихи. Хотя бы ради… себя.
От разговора с самой собой девушку отвлекла внезапная тряска – пришлось сильнее вцепиться в обшивку. Что-то загремело, заскрежетало, и девушка невольно опять посмотрела вниз – они приближались к равнинам. Узкими полосками внизу выделялись засаженные тыквой и картофелем поля, а между ними – точки-домики. Прасфора даже видела людей, замерших на своих местах и смотрящих в небо.
Еще одна тряска заставила девушку до боли в ладонях вцепиться в обшивку.
И тут она все же заплакала, непонятно, с какой это стати, почему – и возненавидела себя за это. Тихо, чтобы никто не заметил.
Через слезы казалось, что небо – хотя куда уж ему – опять стало падать.
День господина Турнепса начался вполне себе типичным образом, но он и не был против, всегда любил эту житейскую типичность, отличный залог стабильности, позволяющий крепко и с уверенностью стоять на ногах. Собственно, как каждое утро на протяжении пятидесяти лет, он встал, умылся, заварил чаю, подготовил все к работе, дождался, пока проснется семья, позавтракал, ушел в сарайчик, набрал инструментов и вернулся на поля, где полыхала бесстыдно-рыжим созревшая тыква и увядали листья картофеля.
Тоже абсолютно типично, с плещущей радостью в груди, господин Турнепс посмотрел на далекие черепичные крыши равнинного Хмельхолма, а потом повернулся к горной части города – и вроде как собирался продолжить дальше типично работать, но резко вновь посмотрел на горы.
Это уже само по себе выходило за рамки типичности.
А потом господин Турнепс разглядел марширующих прямо в сторону его полей странных големов, части которых почему-то блестели на слабом солнце. Зрение иногда подводило Турнепса, так что он подумал, что ему показалось. Чего не привидится, когда предстоит так много копать.
Но големы, наоборот, становились все четче. Турнепс уже различил металлические протезы и даже поймал себя на том, что шокирован увиденным, но засунул шок в чулан сознания – пусть полежит там до окончания работы, а дальше – сколько угодно. Но внуков, наверное, надо предупредить.
Турнепс провел ладонью по практически облысевшей голове и побежал к дому – увидел, что внуки с бабушкой уже стоят на крыльце, только вот смотрят почему-то наверх, тыкая пальцем.
Господин Турнепс тоже поднял голову. И вот тут шок все же яростно вырвался из чулана.
– Ты собрался сделать что?! – Хюгге не заметил, как задрожал его голос. – Ты хоть понимаешь, что ты хочешь сделать?
Попадамс смотрел на Кэйзера круглыми глазами, пытаясь понять, показалось ему или нет.
– Я сказал, сбрасывайте. Чего ты хотел, Хюгге? Началась война, которую мы готовили вместе, которую мы так долго ждали, ради которой, – он поднял механическую руку как доказательство, – так много потеряли. Нужно начать здесь и сейчас, чтобы до всех дошло.
– Я не готовил войну, – словно бы начал оправдываться Хюгге, одергивая намокший белый мундир. – Я готовил открытие.
– Ради которого ты убивал грифонов.
Попадамса передернуло.
– Но грифоны – это ведь не люди! И тогда…
Хюгге даже не находил, что сказать, но мэр вовремя перехватил инициативу.
– Какая разница, Хюгге. Я прошу тебя сделать это, или хотя бы отдать приказ кому-то еще – сбрасывайте бочонки с алхимическими жижами Барбарио.
Хюгге Попадамс ушам свои поверить не мог – просто стоял, молча рассматривая грубые руки, внезапно ставшие окровавленными, словно он только что отрубил голову очередному грифону… Когда Хюгге соглашался на предложение Кэзйера, делал пресловутый выбор, то не готов был убивать, тем более – людей, пусть и косвенно. Ему хотелось вернуть тот азарт, пылающий огонь внутри, ради подпитки которого приходилось жертвовать, приходилось совершать страшные вещи, но все же, все же…
Впрочем, Хюгге уже давно запутался, какую цену за мечту платить приемлемо, а какую – отнюдь.
– Но это же наши поля, – не выдержал он. – Поля нашего города.
Мэр тяжело вздохнул.
– Это совсем не важно. Это были наши грифоны, наши големы, наша дракониха, – Кэйзер наклонился к Попадамсу ближе. – Неужели ты не хочешь доказать? Неужели не хочешь показать, что все это было не зря?
– Стой, послушай, я знаю, как для тебя это важно, и что твой дед…
– Не говори о нем сейчас, – стиснул зубы мэр. – Я только почувствовал, как хватка его вечной тени становится слабее. И я, в конце концов, приказываю тебе сделать это.
– Я не…
– Я готов! – вдруг ворвался в разговор третий голос. Сзади, пошатываясь, с позеленевшим лицом, стоял Фюззель – пытался держаться гордо, с прямой спиной, но был похож на обмякшую, подгнившую грушу. – Готов сделать все в лучшем виде.
– Вы знаете, как это делать? – нахмурился Кэйзер.
– Эээ… вполне!
– Зачем вам это? – вопрос Попадамса оказался каверзней.
– Я привык исполнять приказы, – ухмыльнулся Испражненц, про себя подумав: – Ага, как же, щас, разбежался.
– Идите, – мэр махнул металлической рукой. Фюззель, балансируя так, будто «дракон» вращался вокруг свой оси, пополз на нижний ярус, цепляясь за все, что можно. Когда он скрылся из виду, мэр Хмельхольма добавил:
– А вы с Барбарио говорили, что он будет бесполезен.
– Он отвратителен, Кэйзер.
– Не спорю – но свою пользу принес, как и грифоны, – тут мэр надавил голосом. – Будем считать, что ты переложил исполнение приказа. Но я не понимаю, почему ты…
– Я сам не понимаю, Кэйзер, – признался Хюгге, приглаживая седые волосы. – Я сам ничего не понимаю.
– Тогда просто смотри вниз. Смотри на огонь войны, в котором мы окрепнем – в котором сгорят все тени прошлого.
Кэйзер дернулся. Такую фразу сказал бы его дед Анимус – но уж точно не он сам. Мэр добавил полушепотом:
– Они обязаны сгореть.
Турнепс даже не успел опомниться, как мир вокруг объяло пламенем: конечно, не успел толком разглядеть и крылатое нечто в небе, и летящие вниз бочки с алхимическими смесями, и уже топчущих урожай големов.
Мир вспыхнул и так же быстро погас в абсолютной черноте. Последнее, что пришло в голову после кусающей боли – мысль, что день выдался действительно очень уж нетипичный.
Пламя же, на такие мелочи внимания не обращая, продолжало есть, насыщаться всем, даже пузатые тени не спасались, становясь частью стихии, тенью внутри нее – огонь расползался, и очень скоро из него стали выходить големы, которых пламя никак не повредило. Они разрывали языки огня своим монотонным маршем, будто рождаясь из этого пожара, и шагали дальше, давая под ногами так и не собранные тыквы, еще не успевшие стать кормом для огня.
После очередной тряски Прасфора все же решилась еще раз посмотреть вниз – опять пожалела, но далеко не из-за огромной высоты и нахлынувшего головокружения. Девушка увидела, как полыхают внизу поля, как пламя охватывает дом, и как монотонно, ничего не замечая, проходят через эту огненную гриву големы, возвращенные к жизни, которой у них никогда не было.
Нет, это точно было концом.
Попадамс заставила себе не плакать. Но и встать не получалось – к чему, когда делать все равно нечего? Внутри мерцала последняя искра, будто от отсыревшей спички, все никак не вспыхивала. Хотя бесконечное Прасфорино «надо», жившее словно отдельно от нее, отдельно от разума, в этот раз пересилило: девушка не могла больше смотреть, как осколками падает на нее небо, и пускай хор металлических голосов внутри говорил, что все это зря, оно ни к чему не приведет, чего дергаться, когда скоро и так задохнешься, будто выброшенная на берег рыба.
Прасфора встала.
Для начала – уже хорошо.
Девушка на всякий случай покрепче вцепилась руками в обшивку, чувствуя, как слегка шатает «дракона» из стороны в сторону. Теперь оставалось понять, что делать дальше, но над этим думать особо долго и не пришлось. Путь все еще был лишь один – найти Кэйзера.
– Главное, чтобы не вышло как с кухней, – попросила Прасфора у самой себя. – Главное, чтобы не как с кухней…
Она уже собиралась сделать первые шаги, оглядываясь и пытаясь разобраться, куда идти безопасно, но тут вновь чуть не свалилась – никаких внезапных трясок и поворотов, ее просто окликнули:
– Прасфора?
Девушка все же устояла на ногах. Максимально аккуратно, почти п страусиному – по напугано-страусиному – повернула голову и увидела Хюгге.
Честно – не то чтобы была шокирована, но удивилась – это уж точно.
– Прасфора? – повторил он. – Что ты тут делаешь? Я же говорил тебе бежать… И ты вся намокла…
– Я убегала – но вернулась. Вернулась, потому что все это неправильно. И надо, – она зажмурилась. – Надо это остановить.
Дядя провел рукой по мокрым волосам, нервно забегал глазами.
– Тебя тут не должно быть. Ведь теперь… Прасфора, мне же теперь придется убить тебя!
– Я… – она задумалась, говорить или нет, но все же решилась: – Я пыталась остановить войну. Точнее, пытаюсь.
Прасфора ожидала любой реакции, но только не улыбки дяди – тот словно помолодел. С учетом того, что последний раз они виделись не при самых приятных обстоятельствах, это казалось даже милым, что ли.
– Вы все же решились, дядя Хюгге, – догадалась Прасфора, – вместе с ним, да?
Девушка попятилась назад.
– Мне пришлось согласиться, – пожал плечами Хюгге. – Точнее, я не совсем правильно выразился – мне пришлось согласиться, потому что по-другому поступить я не мог. Из-за себя.
– Вам нравилось убивать грифонов? – неожиданно холодно для себя выпалила Прасфора.
– Конечно нет. Мне нравилось то, что я делал – придумывал, был частью открытия, прикладывал к нему руку. Как и сейчас, – он обвел руками обшивку «дракона». – Но война… ему необходима.
– И горящие поля – тоже?
У Хюгге дернулся глаз.
– Самому это не по нраву. Но Прасфора, пойми… он так исстрадался.
– Вам тоже этого хочется? Ну, войны – такой, что, кажется, даже небо падает? Дядя, вы даже готовы… готовы были убить меня! Сейчас вы сделаете это? – девушка чуть не сорвалась на крик. – Только честно – сделаете?!
Конечно, он бы ответил «нет» – всегда, в любой ситуация, хоть на волоске от гибели; ему хотелось другого, все остальное лишь вытекало из этого, но сейчас Хюгге Попадамс просто промолчал и сосредоточил взгляд на девушке, будто глядя внутрь нее.
Наверное, в Прасфоре он видел себя – ту версию, которая смогла принять действительно правильное решение; которая против жгучего желания, горячим вином наполнявшего пустоту внутри, все же смогла осознать, что продолжит мучаться – не сможет мириться со всем «вытекающим», даже ради Кэйзера.
Наверное, Хюгге Попадамс действительно видел это. Наверное, сам постепенно становился этим. Наверное, думал, что сделать это стоило куда раньше.
– Зачем я делаю все это? – вдруг отвлек его голос Прасфоры. – Нет, правда, я не понимаю. Зачем я постоянно стараюсь в пустоту? Ведь знаю, как ничего не выйдет, будет как с этой дурацкой кухней. Знаю, что это не поле для моей игры, здесь другие высоты, мои шажки ничего не сделают. Потому что я… просто Прасфора Попадамс, так неудачно разносящая еду по домам.
Прасфора сама от себя пребывала в шоке. Непонятно, откуда взялись эти слова, видимо выкипели изнутри, вместе с тьмой и горячим чернеющим паром вырвались наружу, преодолев внутренние механизмы комплексов, установок и сомнений.
Хюгге опять улыбнулся – на этот раз еще теплее.
– Потому что ты моя племянница. Все делаешь правильно. И хорошо, что делаешь… Иначе… никто бы ничего не понял.
Дядя словно бы обмяк.
– Чего не понял? Кто?
– Будь тут, ладно? – он ничего больше не сказал и просто ушел, держась руками за обшивку «дракона».
Прасфора осталась ждать. Да и куда тут уйдешь? Ни по-английски, ни разъяренно, хлопнув дверью.
Предчувствие, почему-то, гложило очень нехорошее.
Фюззелю, мягко говоря, было до ужаса плохо. И вовсе не из-за горящих внизу полей, ладно уж с ними, плевать на этих людей, плевать на них всех, а с поставками «Рваные крылья дракона» справятся как-нибудь сами, придумают, обхитрят и еще перехитрят. И уж нестабильность с этими тяжелеными бочками, которые пришлось толкать ему лично, а не прочему сброду на этой летающей штуковине – первый и последний раз, когда он эти занимался. О нет, загвоздка таилась в другом.
Испражненца мутило. Мутило так сильно, что лицо позеленело, приобрело оттенок плесени, древней и густой, видавшей лучшие годы. Теперь-то самопровозглашенный император достиг максимального сходства со сказочным королем гоблинов, разве что грязи, жезла-палки и короны не хватало. Хотя, и то вранье – корона на голове Фюззеля красовалась всегда, сияла фантастическим маяком, но видна была лишь ему одному. Этого, конечно, было достаточно.
Такая огромная высота, потом ледяная вода, теперь – постоянные покачивания из стороны в сторону… А сейчас, как на зло, не получалось найти дорогу обратно на верхний ярус, Испражненц плутал, ничего не понимая. Да и эта штука не его спине – как они сказали, на всякий случай, если всем придется падать – зудила и мешала. В голове с новой силой закрепилась уверенность: теперь он просто обязан раздавить «Ноги из глины», оплавить их надежды, обуглить шансы на дальнейший успех, потому что иначе все его старания и страдания – не переносил ни первых, ни вторых – пройдут зря, обратятся дымом погашенной свечи…
Грандиозные планы рухнули башней из спичек, когда «дракона» резко мотнуло в сторону, а Фюззеля чуть не стошнило.
Вновь разогнувшись и обретя баланс, Испражненц отцепился от обшивки, чтобы протереть заплывшие глаза – и этим самым глазам по началу не поверил. Ближе к драконьему «хвосту» – сам Фюззель этого, конечно, не определил – стояла, тоже держась за металлическую обшивку, Прасфора Попадамс. Посвистывал ветер – боковины ничем не закрывались, были рассчитаны на то, чтобы зайти на борт и также просто с него спуститься.
Фюззель подольше поморгал, чтобы убедиться, что это – не галлюцинации из-за высоты, нехватки кислорода. А потом так воспрял духом, словно тошнота наконец отступила и уступила место эйфории, преподнеся царский подарок. Второй раз за день. Что же, третий раз в лотерею жизни точно не выигрывает.
– Сломай их, – напомнил Испражненц свою установку. – И только потом уничтожь.
Шаги его тут же стали уверенней.
– Кого я вижу! – раскинул он руки, чуть не свалившись. – Прасфора Попадамс! Давно не виделись, Прасфора. Спасибо за чудесные гематомы на лице – надеюсь, Альиво уже стал кучкой пепла.
Девушка среагировала не сразу – видимо, не поверила собственным глазам. Как только осознала происходящее, до ужаса разозлилась – так, что зубы свело.
– Не ожидала увидеть вас здесь, – откашлялась она, попятившись – встречи с Фюззелем ни к чему хорошему обычно не приводили. Тем более в этот раз магической карамелью рядом и не пахло. – Новый костюм?
Испражненц одернул мундир, делая вид, что ему максимально комфортно – позеленевшее лицо выдавало с головой. Все равно что пьянчуге для внешней трезвости втягивать живот и делать умное лицо – выйдет только хуже.
– Я и сам не особо ожидал оказаться здесь, – замечание про костюм он проигнорировал. – Но обстоятельства вынудили. Сама знаешь, какие – касаемые меня и тебя.
– Вы чуть не спалили «Ноги из глины» и уже пытались меня прикончить, – когда девушка говорила с теми, кто одним видом своим вызывал у нее отвращение, фразы хлестали темными кнутами как-то сами собой. – По тем же самым делам.
– И очень жалею, что не прикончил. Ни я, ни мои парни. И что ваш проклятый кабак не сгорел к нестабильности… – надулся Испражненц, наступая. – Все из-за идиотов Кельша и Альиво, дважды! А представляете, как бы это все сэкономило на нашем предприятии! На нашей… империи…
Прасфора сглотнула – увидела трухлявую корону на голове Фюззеля.
– Ваша империя… – начала была она, но Испражненц резко перебил.
– Моя империя, да, теперь имеет все шансы на свое рождение. Потому что война сделает свое дело, и из пепла, который она оставит за собой, я создам то, что планировал. Никаких «Ног из глины». Никаких, в конце концов, Попадамсов, – тут он улыбнулся, и желтые зубы, казалось, даже реальность окрасили в болезненно-желтый.
Фюззель был совсем рядом. Прасфора уперлась в обшивку и уже не знала, куда шагать дальше: впереди – Испражненц, справа и слева – свистящий ветер и высота.
– Думаете, это вам поможет?
– Вы видели, что было внизу? – хихикнул он. – Вы видели големов? Не сомневайтесь, поможет. Я слишком долго терпел и ждал – терпел всех идиотов сотрудников, вас и вашу идиотскую забегаловку с идиотскими идеями, терпел все эти выдумки Кэйзера… Жизни пора вручить мне хотя бы утешительный приз – так уж и быть, гран-при я готов подождать еще немного. Но дракон расправляет рваные крылья, Прасфора. И начинает это делать прямо сейчас.
Девушка даже не догадывалась, что дальше все случится именно так: с неестественной для него скоростью Фюззель кинулся на Прасфору, вцепился в нее и стал толкать в сторону края, за которым начиналось небо. Девушка, конечно, пыталась сопротивляться – преуспела бы, если бы не покидающие тело силы, мокрый свитер, холодный ветер и такое невероятное бессилие, что даже крикнуть не получалось.
Попадамс понимала, что злоба, алчность – стартовые предустановки, с которыми каждого человека упаковывают в заводскую коробку. Другой вопрос в том, на какие параметры их потом выкрутят, но это решается уже после, ползунки дергаются на протяжении жизни. Девушка знала эти вихри чернил-эмоций в себе, чувствовала, сталкивалась – но в Испражненце этого оказалось столько, что, казалось, он давно должен был перегрузиться.
В уши ударил громкий ветер – за боротом хлопали мертвые крылья. Прасфора из последних сил держалась за обшивку, расставив руки в стороны. Фюззель ослабил хватку, явно наслаждаясь своим положением. Девушка заглянула ему в глаза – думала, что увидит там, как и положено, искру безумия, но они оказались мутно-стеклянными, матовыми, с призрачной дымкой прагматизма и рационализма внутри. Будто столкнуть человека – все равно, что пересчитать золотых философов.
Руки устали держаться. Испражненц опять улыбнулся.
– Ну что же, – почти что хрюкнул он. – Да здравствует император! Да здравствует империя!
– Да разбежался!
Прасфора толком ничего не успела понять – только увидела, что Фюззеля резко оттащили в сторону, и тут же воспользовалась моментом, чтобы шагнуть вперед и вновь прислониться к холодной металлической обшивке. Только потом, успокоившись, девушка разобрала, что Хюгге оттащил Испражненца.
– Какой нестабильности вы творите?! – возмутился Фюззель. – Мы с вами за одно!
За это он получил кулаком в лицо – из носа потекла струйка крови.
– Я не сталкиваю девушек с огромной высоты!
Прикрыв нос одной рукой, Испражненц крикнул:
– Это наше личное дело! И вообще, ее здесь быть не должно! Все Попадамсы такие идиоты?!
– Нет, это наше личное дело. Даже не подумай трогать мою племянницу, – дядя закатал рукава мундира и хихкунл. – В конце концов, Кэйзер мне приказал избавиться от нее.
Прасфора услышала. Испугалась пуще прежнего. Нет, дядя, только не сейчас…
– Тогда я прямо сейчас пойду и доложу ему об этом! И об этом, – он убрал руку от носа, – тоже!
– Куда же вы теперь пойдете, господин Испражненц. Правильно – никуда. Точно говорил Барбарио – от вас ничего хорошего. Вы сами – ничего хорошего…
– Но я столкнул эти бочки, когда вы не смогли! – взбрыкнул самозванный император. – Когда вам не хватило духу!
– Потому что вы последний идиот, – Попадамс ударил еще раз. На этот раз, Испражненц успел закрыть лицо руками. Но не заметил, как сильнее засвистел ветер – Хюгге подвел его к краю.
А вот теперь точно начался повод для паники.
– Но я… я… я важная персона в Хмельхольме! И я пожертвовал двух големов!
– О да, императорский вклад.
Хюгге подошел вплотную. Расставив руки, как Прасфора, Испражненц вцепился в обшивку.
– Что вы собрались делать?..
– То, что должен был. И тогда, и сейчас, – даже хилая бородка, неухоженная поросль кустарников дяди Прасфоры, сейчас казалось Фюззелю угрожающей.
– Вы же не будете…
Хюгге придвинулся в Испражненцу вплотную – нос в нос.
– Я убивал грифонов, – он не сказал это, а будто очертил дыханием. – Я убил всех их.
– Нет, вы же не собираетесь…
– А вы – куда хуже.
Хюгге Попадамс со всей силы толкнул Фюззеля. Тот не удержался и полетел вниз, рассекая воздух, приближаясь к земле. Не успел открыть предохранительный ранец, потому что не запомнил, как – зачем ему, без пяти минут хозяину грандиозной сети таверн, это знать? Он даже закричать толком не успел, только проклял все и вся. Потом ему показалось, что за спиной раскинулись огромные зеленые крылья – Фюззель Испражненц рассмеялся, вкушая свой триумф, взмахнул ими – ничего, что они оказались рваными, – сделал рывок, еще, еще, еще…
А потом мир поглотила обжигающая тьма, и только золотистая корона освещала этот мрак, из которого нет возврата – да и та погасла слишком быстро, на поверку оказавшись обычной безделушкой.
Хюгге смотрел вниз до тех пор, пока Фюззель не скрылся в бушующем пламени. Потом тяжело вздохнул и подбежал к Прасфоре, которая непонимающе сидела, обмякнув.
– С тобой все в порядке? – он потряс девушку за плечо.
– Вы только что столкнули его…
– Мне не первый раз пришлось убивать, – перед глазами Хюгге вспыхнул и мгновенно погас тесак. – Но теперь – точно в последний.
Девушка успокоилась.
– Боюсь только, – замялся дядя. – Это бремя переляжет на твои плечи.
– В каком смысле?
Попадамс стянул что-то сплющенное наподобие рюкзака. Такое же, что торчало на спине Испражненца, примитивный аналог парашюта, который император яростно дергал в первые минуты падения.
– Держи, – сказал дядя без лишних слов.
– Что это?
– Просто держи, наденьте на спину и дергай вот эту веревку, когда все сделаешь. Ты хотела остановить войну. Боялась, что не сможешь, потому что это просто ты – но ты сможешь. Я скажу тебе, как. Просто… просто…
Он прошептал ей на ухо.
– Но тогда они все погибнут! – вскрикнула Прасфора. – Я так не могу. Ведь тогда, тогда… будет как с грифонами.
Девушка похолодела. Хюгге улыбнулся и похлопал ее по подобию рюкзака на спине.
– У них тоже есть это, у всех. Они справятся. Они ведь не Испражненц.
Девушка задумалась.
– Прасфора, единственная просьба. Последняя, – дядя вдруг опустил глаза. Не дожидаясь ответа и ничего не объясняя, подошел к краю, за которым свистел холодный ветер. К краю, с которого только что свалился Испражненц.
– Толкни меня.
– Что?!
– Я прошу тебя, сделай это. Просто я не знаю… не знаю, как быть дальше. Нет другого выхода.
– Но вы же… это же…
– Этой мой окончательный выбор. Теперь точно, – он улыбнулся. Борода стала еще более жиденькой. – Ради грифонов, ради той драконихи. Ради меня. У моей истории ведь и не может быть другого конца, призраки не оставляют меня. Я так часто слышу, как хлопают их крылья, это загробное шуршание… И они не отпустят меня, какой бы выбор я не сделал. Какой бы, кроме этого.
Прасфора замерла в оцепенении. Вот так взять и толкнуть родного дядю за грань… и пускай он творил страшные вещи, но это ведь не повод выпускать наружу свою черноту, делать то же, что тогда, в пещере, совершил Кэйзер с драконихой – убивать.
В глазах дяди читалась мольба и твердая решимость – сталь со слезами.
– Дядя Хюгге, – прошептала она, подходя ближе. – Простите.
– Не извиняйся.
Прасфора зажмурилась, чтобы не видеть, и толкнула Хюгге Попадамса. Тот полетел за борт.
В полете он закрыл глаза и расслабился, так, как в теплой кровати перед сном, пока за окном метет суровый горный снег, такой холодной, что от одной снежинки, кажется, коченеешь с головы до пят.
Сознание растворялось в мутном омуте полузабытых воспоминаний, страхов, призраков прошлого, пламени и наступающей боли – этот клубок цветных ниток плел перед глазами нечто странное, непонятное, но среди сюрреализма Хюгге Попадамс ясно увидел грифона. Живого, с мощным клювом, золотистым оперением и прекрасными крыльями.
Хюгге скукожился от страха, зная, что сейчас будет, вспоминая летящие от его рук головы. Грифон щелкнул клювом, взмахнул крыльями и…
Положил мягкое, как самый воздушный в мире плед, как летнее облако крыло на голову Хюгге Попадамса – на его дурную голову, столько всего наворотившую.
И вот тогда Хюгге понял, что все кончилось.
Перед глазами Альвио дергались бесконечные потоки магии, нити, связывающие ткани мира в тот причудливый узор, которым она оставалась. Сейчас нити эти натянулись до предела, безумно расшатывались и уже начинали рваться. Драконолог пытался коснуться их, ослабить, где нужно – подтянуть, но только обжигался, резко открывая глаза, вновь видя серое небо и чувствуя расползающуюся колющую боль в голове, постепенно, словно бы Альиво был громоотводом, добирающуюся до кончиков пальцев.
Драконолог прикрыл глаза еще раз, еще раз коснулся нитей, обжегся всем собой, вернулся в реальность и посмотрел на результат – снова нулевой. Големы продолжали маршировать, «дракон» рассекал небеса, а потоки магии – он чувствовал – трепетали.
Когда поля стало пожирать пламя, первым делом Альвио захотел ринуться туда, взмахом рук затушить пламя, но знал, что ничего из этой затеи не выйдет – вот и живи после этого в мире, полном волшебства, которое в житейских ситуациях бесполезно. Зато поднять армию големов и огромный скелет драконихи в небеса – это пожалуйста, раз плюнуть.
– Ну хоть бы огненным шаром в него бросить, – проскользнула мыль, и драконолог вспомнил себя в годы обучения – да, тогда они все так разочаровались, что не могут вытворять такого без карамели. Хотя, и так прекрасно знали об этом с детства – но все равно расстроились. Верить во всякую чушь, точно зная, что ее не существует – очень по-человечески. Даже слишком по-человечески.
С карамелью драконолог больше не мог позволить себе играться. Тем более, ее и не осталось.
– Этим и живем, – заключил Альвио, взглянув на госпожу Батильду. Та круглыми глазами – и это не просто преувеличение для красного словца – глядела на языки пламени, периодически переводя взгляд в небо. От нее расползался почти ощутимый, материальный страх, но она все равно записывала и безудержно строчила карандашом в блокноте, иногда даже на бумагу не смотря.
– И что вы будете делать, – вдруг оживилась журналистка, – после этого?
Ей даже не пришлось указывать рукой в сторону пламени – и так понятно. Зеваки из поезда перешептывались, не решаясь разбрестись – даже из горного Хмельхольма вышли особо любопытные. Хотя там, за воротами, им явно было комфортнее.
Альиво задумался – а что можно делать сейчас? Он видел Барбарио, явно контролирующего поведение големов, их работоспособность. Можно, конечно, напасть на него, но смысла никакого – не факт, что сработает, шагать големы все равно не перестанут. И даже если перестанут – вдруг повезет, – этот «дракон» в небесах продолжить свой разрушительный полет. Драконолог вообще начинал жалеть, что уговорил Прасфору попытаться сделать хоть что-то – сам переставал верить, что это фантомное «что-то» можно совершить. Видимо, они действительно оказались слишком малы для такой большой авантюры…
Кто-то дернул его шарф. Альиво отвлекся от мыслей и посмотрел вниз.
– Да?
– Простите, – с заминкой ответил Тедди-Теодор. – А Прасфора разве не вернулась к вам?
Драконолог слегка опешил – паренька он, конечно, помнил, а вот почему тот говорил о Прасфоре – искренне не понимал.
– Погоди, но она разве не должна быть внутри? В городе?
– Она спустилась в пещеры и запретила мне идти за ней.
Альиво заранее выругался про себя – и Тедди Тминн тут был не причем. Драконолог отлично знал, что Прасфора умеет убеждать одним своим видом. Альвио вздохнул.
– Так, а что было потом?
– Я не знаю… раздался жуткий треск, и в небо рванула это штуковина – но это я увидел уже потом…
– О нет, – сходу догадался Альиво, выхватывая «дракона» взглядом. – Быть не может…
– Смотрите! – вдруг заорала Батильда. – Смотрите! Там, в небе!
Драконолог увидел раньше, но не успел среагировать – только слова журналистки помогли осознать происходящее.
И вот теперь он выругался вслух.
Мэр Кэйзер чувствовал, как в очищающем пламени начинает сгорать тень его деда, подолом сползающая и тянущаяся за ним. Ощущение казалось странным и практически невозможным: будто все тело становилось легче, воздуха вокруг оказывалось больше, сделай шаг – и окажешься невесом, заполнишь собой все пространство.
И то ли еще будет, то ли еще будет.
Пока что он не ждал сопротивления Правительственного Триумвирата, но знал другое – когда оно начнется, у них не будет ни единого шанса. Непривыкшие к войнам, выработавшие только систему жандармерии и охраны собственной Башни… им придется признать – и всем остальным городам тоже, – что он, Кэйзер, свершил невозможное, и…
Что дедушка Анимус тут ни при чем.
Воспоминания роем бликов светотени жужжали над головой. Мэр Хмельхольма гнал их прочь – им тут не место; не сейчас, потом, когда дело будет сделано, многоточие сменится одной уверенной точкой.
Кэйзер не чувствовал ужасного холода, мокрой одежды, ледяного ветра – его грело нечто внутри, пламя, рожденное из дров постепенно угасающих комплексов и предрассудков. Но сколько же времени на это ушло, сколько времени…
– Господин мэр, – раздался голос за спиной. – Пожалуйста, я прошу, хватит.
Кэйзер хмыкнул и повернулся. Тут же нахмурился.
– Вы, – узнал он Прасфору. – Я же вас предупреждал, там, в городе. И говорил Хюгге… все же, он никогда не умел принимать решения. Ну и где он?
Девушка промолчало. Мэр догадался.
– Понятно, – пробубнил он. – Понятно.
Так и думал, что все свалится только на его плечи.
– Фюззель, я так понимаю… ну и нестабильность с ним, ясно было – дурак дураком.
Прасфора даже не дрожала – словно на такой высоте чувства обледенели, а комплексы перестали работать. Она складывала свои слова из льдинок. Долго собиралась говорить с мэром, хотела сначала делать так, как нашептал дядя, но все же решилась узнать окончательно – ради чего все эти ужасы? Ради чего страдали грифоны, драконы и даже големы?
И стоило ли оно того?
– Фюззель пытался… Пытался вытолкнуть войну в свое русло, найти в ней пользу и возможности.
– Это ни к чему его ни привело бы, – вздохнул мэр. – Убирайтесь отсюда. Прыгайте – вижу, что у вас за спиной. Убирайтесь, пока я не прикончил вас. Это уже второй шанс для вас. Непозволительная, однако, роскошь.
– А вас приведет? – девушка проигнорировала замечание Кэйзера.
Улыбка мэра, всегда холодная, сейчас словно оттаяла. Он спустился с «носа», оказавшись совсем рядом.
– Я не ищу в этом выгоды, не ищу пользы – к нестабильности власть, к нестабильности территории, к нестабильности все. Я ищу в этом себя – настоящего себя. Не обремененного эхом дедушки. Вы не знаете, насколько это невыносимо…
– Знаю, – все внутри сжалась, напоминая о кухне. – Но… все ведь можно делать по-другому! И… и…
– И все ради того, чтобы они увидели. Остального им было мало. Им было мало протезов, – мэр принципиально сжал механическую руку, – им было мало идей, предложений, мудрых решений, железных дорог. И ничего не остается – кроме как доказать раз и навсегда.
Уверенность Прасфоры улетучилось, как аромат дешевых алхимических духов. Девушка нашла последние силы – те оставшиеся опоры, кое-как держащие небо.
– …и этому надо положить конец.
– Вы не во власти мне указывать. Я ведь просил по-хорошему. И даже не подумаю.
– Зато я – более чем. Ради той драконихи…
Прасфора рванул в сторону, но мэр успел схватить его металлической рукой – слишком крепко, чтобы быстро вырваться. Попадамс все же нашлась: толкнул мэра плечом, так сильно, как только могла. Спасибо тряске – этого хватило, чтобы вырваться и побежать. Кэйзер, опомнившись, нахмурился и крикнул рулевому на «носу»:
– Не сходите с курса! И приготовьте новые бочки…
Мэр Хмельхольма кинулся следом.
Дядя рассказал, куда бежать. Прасфора пыталась успеть. Девушка уже не знала, правильно ли, неправильно ли поступает – просто четко видела перед собой цель, до которой обязана дотянуться, иначе продолжит пожирать себя изнутри и, в конце концов, от нее самой ничего не останется – только зияющая пустота.
«Дракона» потрясывало, но Прасфоре чудом удавалось сохранять равновесие – пару раз чуть не упала, а уж сколько споткнулась – не сосчитать. Кэйзер чуть ли не дышал в спину – слышно было, как механическая рука со скрежетом хватается за обшивку.
Наконец, Попадамс добралась до машинного отделения: вокруг дребезжали и пыхтели магические приборы, копошились мужчины в мундирах, которые, только увидев девушку, отложили все свои дела.
Она схватилась за голову – так много магических потоков в одном месте. Ринулась вперед, не теряя ни минуты. Прасфора добежала до приборов, растолкав всех инженеров, и тут в машинное отделение ворвался Кэйзер – люди в мундирах замерли.
– Не смейте! – крикнул он. – Даже не думайте! Вы ничего не понимаете. Все драконы, грифоны, големы, да даже люди… Я чувствую, как его тень начала таять! Эта война необходима! Ее запомнят – и нас запомнят, такими, какие мы есть.
Девушка не ответила. Не нашлась со словами.
Прасфора Попадамс дернула за несколько рубильников, как объяснил дядя – приборы зажужжали еще сильнее, крылья «дракона» захлопали с новой силой. Инженеры стояли, не понимая, что делать, не понимая, что происходит – просто ждали указаний, боялись принять решение сами, не могли разорваться между двух огней, молотом и наковальней.
Приборы вспыхнули: потрескались рубины, полопались трубки, и пламя, вечноголодное, вечнообжигающее, раскрыло сотни своих пастей.
– Прыгайте, – тяжело дыша и держась одной рукой за голову, второй, механической – за обшивку, сказал Кэйзер. – Прыгайте!
На мэре двуединого Хмельхольма лица не было.
Инженеры непонимающе взглянули на Кэйзера.
– Прыгайте, – повторил он. – Это приказ.
Пока мужчины в мундирах поправляли плоские ранцы за спиной и спрыгивали вниз, раскрывая полотняные парашюты, мэр и Прасфора молча смотрели друг на друга.
– Простите, – вдруг зачем-то громко и отчетливо, перекрикивая сломанные приборы, сказала Прасфора. – Правда, простите.
Мэр Хмельхольма ничего не ответил – развернулся, хватаясь за обшивку трясущегося «дракона», и поспешил прочь, на верхние ярусы, к «носу». В голове слабо отзывалась мелодия – всего несколько нот – и мэр жалел, что нигде рядом нет пианино.
Всего четыре ноты: та-та-там-там…
Ветер ласкал мокрые листья, трепыхал ветки, заставляя Хмельхольм шуршать своим багрянцем: город будто выдыхал морозную свежесть, такую влажную что, казалось, воздух сам по себе стал если не океаном, то хотя бы озером. Лужи на дорожках разбивались на зеркальные осколки, не в силах устоять перед маленькими капельками дождя, моросящего неспешно, но уверенно. Алые черепичные крыши заменяли солнце, и Хмельхольм гипнотически усыплял, клонил в сон даже тех, кто был полон сил и энергии.
Кельшу не просто не спалось – на месте не сиделось. Сначала он пытался кое-как коротать ожидание в «Ногах из глины» за кружкой нагретого пива, но никак не успокаивался – все казалось неуютным и чужим. Боясь пропустить начало войны, он сделал себе теплого молока с маслом и медом, оделся и вышел на улицу, под моросящий дождь, который его совсем не смущал.
Не до таких мелочей было.
Город стоял на ушах – и это не просто чувствовалось, а становилось видно. Даже в такую убийственно-унылую погоду, единственной краской которой остались крыши и листья, жители стояли на улице: кто на крыльцах, кто на улице, кто – просто высунулся в окно. Все они ждали обещанную войну, до последнего не хотели ее наступления, но ждали – чтобы успокоиться, поменять планы и действовать исходя из новых обстоятельств. Теперь уже не просто вероятных, а свершившихся.
Кельш очень переживал из-за Прасфоры. Его так перепугал вид дочери, когда та только вернулась из горного города, рассказывая про грифонов и дядю, что он не мог позволить ей дойти до такого же состояния второй раз.
Хозяин «Ног из глины» сделал глоток молока – оно уже остыло. Оказалось, в мыслях он простоял довольно долго.
Первыми нотками надвигающейся войны стали крики, видимо, особо глазастых горожан, заоравших: «големы!». В простой житейской ситуации этот крик никакого аншлага эмоций бы не вызвал, ну подумаешь, голем и голем, дело пустяковое. Но сейчас взоры устремились вдаль, в сторону гор – на полях очерчивались колонны марширующих истуканов.
Кто-то подбежал к Кельшу.
– И что нам теперь делать?! – спросил горожанин так, будто Попадамс был избранным главой несуществующего ополчения.
– Не знаю, – честно признался тот. – Ждать и надеяться.
Потом внимание всего города переключилось на небо – ровно тогда, когда в воздух поднялся «дракон». Поначалу никто толком не разобрал, что это такое, но кому-то – видимо, тем же глазастым – удалось разглядеть очертания скелета и огромные крылья.
И вот тут началась паника.
– Это дракон!? Они что, поднялись в воздух?!
– Это не дракон… это мертвый дракон!
– Но магия на такое неспособна…
Кельш мог прикрикнуть на толпу своим басом, заставить притихнуть: но к чему? Все равно после этого нечем будет их успокоить, да к тому же глупо пытаться утихомирить весь город. Змеи паники умеют проникать в самые узкие щели, даже когда отрубаешь им головы, все равно до конца не дохнут.
Когда загорелись поля – пламя, казалось, жарило даже здесь, в городе, – не по себе стало уже Кельшу. Он еле удержал в руках кружку, вернулся в кабак, поставил от греха, чтобы не разбилась, и выбежал на улицу – из горящего пламени выходили четкие силуэты големов, а летающее нечто становилось все больше, приближалось.
Тут сердце Кельша екнуло. А что, если Прасфора там, наверху? И вдруг она… Он сам не понял, откуда эта поганая мысль попала в голову, но избавиться от нее никак не мог. Поэтому побежал на городскую площадь, где толпа достигла своего предела.
Они не знали, что делать, были не готовы – ведь как приготовиться к тому, о чем знаешь только из пыльных учебников, что кажется пеплом истории и дедушкиными сказами? Никто бы и не подумал, что мэр Кэйзер – на минуточку внук самого Анимуса! – решит развязать войну, решить жечь их же поля, решит использовать големов и сотворит нечто из мертвого дракона.
Горожане перешептывались. Одно слово медным звоном звучало в их разговорах, в этих ползучих дымках полубреда на грани возможно и невозможного: Анимус, Анимус, Анимус…
А потом все замолкли – город накрыла тень, ветер стал срывать листья с деревьев, и они, словно бы мелкие языки пламени, разлетались по Хмельхольму. Огромный «дракон» приближался, нависая прямо над городом – от взмахов его крыльев закладывало уши, в головах проклевывалась назойливая боль.
И вот тут Кельш не выдержал:
– В сторону! Все прочь! Как можно дальше! – он замахал руками. Бас чугунным колоколом разлетелся по городу. – Вон из домов!
– Но как же…
– Я сказал прочь!
Даже если бы нашелся желающий поспорить, то не стал бы игнорировать этот совет. Площадь опустела, люди выбегали из домов и неслись к окраинам, забывали взять с собой вещи – казалось бы, первое, что сделает каждый.
Они успели очень вовремя, потому что падающий «дракон», объятый огнем, оказался точь-в-точь над Хмельхольмом.
С неба свалилась бочка, и площадь вспыхнула слепящим пламенем.
«Дракона» мотало из стороны в сторону, и Кэйзер еле дошел до мостика, к «носу» – по пути отдавал приказы всем прыгать вниз. Рулевой стоял на месте, держа намеченный курс.
– Отойди! – оттолкнул его мэр. – И прыгай. Это приказ.
– Но мэр Кэйзер…
– Я сказал, что это приказ!
Внизу грохнулась бочка с алхимической смесью – Кэйзер увидел, как разгорается в городе пламя, и так сильно сжал механическую руку, что чуть не сломал штурвал.
– Отставить бочки! – заорал он так, чтобы услышали все. – Все вон! Прыгайте!
Его приказы металлическими глефами врезались в сознание, и «дракон» постепенно пустел. Мэр резко выкрутил штурвал – падающий и уже сам начинающей гореть «дракон» грузно развернулся, вместе с ним чуть не свалился сам Кэйзер. Крылья двигались с невообразимой силой, слышался треск рубинов и шестеренок в машинном отделении.
Кэйзер уводил «дракона» от города. Какой теперь смысл – все, конец, уже поздно что-либо менять, ему не нужны разрушения впустую, и он знал, что они совершенно точно пройдут зря. Мэр Хмельхольма ощущал, как налитая свинцом тень его деда Анимуса вновь падает на его плечи, он пытался удержать ее – как и всегда до этого – но расправленные мгновения назад плечи не выдерживали и уже не выдержат никогда.
На глазах мэра наворачивались слезы – небо его мира трещало, опадая острыми осколками.
Сперва Прасфора подумала, что у нее закружилась голова, но быстро сообразила, что закружился мир вокруг – дракона кидало из стороны в сторону, пришлось плотнее вцепиться руками в обшивку. Девушка чувствовала запах гари, кашляла от едкого, черного дыма.
Прасфора выглянула наружу – увидела, как они теряют высоту. Но прежде… заметила родную площадь равнинного Хмельхольма, всю в огне, и тогда дыхание девушки перехватило, словно бы она на секунду вообще забыла, что такое дышать. Она тут же подумала об отце, о «Ногах из глины», о вечно-алых черепичных крышах, о мягком дыхании наступающей осени и ее же скрипучих морозах… И тогда стало совершенно точно понятно: сейчас останавливаться – не вариант, хотя внутри раздавался крик, что все впустую, тщетно, они в огне, там, внизу…
Прыгать Прасфора конечно же никак не решалась, и что это за штука у нее на спине – непонятно, вдруг не сработает, вдруг это очередной фокус?
– Почему так сложно, – прошептала она. – Почему так сложно.
Она поверить не могла, что справилась. Что у нее – просто нее – все получилось. Комплексы словно бы замолкли навсегда, но на деле это жар приборов и визг других мыслей заглушали их, уводя на второй план.
И почему-то Прасфора не почувствовала удовлетворения. Вообще ничего не почувствовала. Разве что успокоилась, что хоть как-то помогла драконихе. Хотя бы мертвой – обрести покой.
Запах гари становился сильней, глаза слезились, дыма прибавилось. Опять стало жарко – как тогда, под землей, и вот тут-то воспоминания чуть не накрыли Попадамс с новой силой. Один из приборов хлопнул и загорелся – теперь уже все в машинном отделении полыхало, огонь становился больше и свирепей.
Прасфора никак не решалась, но готова была прыгнуть – в чем смысл всех геройств, если в конце отдать себя на погибель, на съедения стихии? Да и героем девушка себя никогда не считала, и даже не подумала бы – так, настоящая трусиха, вполне себе признающая свои страхи. А еще не просто трусиха, но и дура – теперь из-за нее погиб дядя, горит родной город… и вообще, все из-за нее – чего она этим добилась?
– Так, хватит! – крикнула она про себя, заглушая металлический грохот сознания. С еще большими усилиями – «дракон» начинал подпрыгивать в воздухе, как на невидимых кочках – она подошла к краю, здесь почти скрытому за металлическими пластинами обшивки. В ушах свистело.
– Я просто Прасфора, я просто я, – пробубнила она.
Ветер творил с волосами невиданные вещи. Девушка зажмурилась и прыгнула. Уже в полете, рассекая потоки воздуха и ощущая почти ледяной, жидкий ветер, дернула за нужную веревку.
Что было дальше, Прасфора Попадамс, конечно же, не помнила.
Даже в минуту окончательного отчаяния Кэйзер заставил свои слезы застыть, превратил их в расплавленный металл, затвердевший на холодном воздухе. «Дракон» падал, а впереди виднелись горные пики, куда тот стремительно несся – итог последнего маневра мэра Хмельхольма.
Кэйзер, почти не потеряв равновесия, выпил остатки рубиновой настойки, откинув пузырек в сторону. Механическая рука заработала – ей он вытер те холодные слезы, что еще оставались на щеках.
Раздались взрывы – огонь добрался до приборов и полз к алхимическим бочкам. Кэйзер уже спиной чувствовал жар – этот безумный жар, почти как около морды драконихи, живой, с невозможными глазами, даже не молящими о пощаде, а словно жалеющими – жалеющими его, Кэйзера.
Мэру казалось, что плечи его сейчас не выдержат, и он упадет. Бремя дедовой тени стало таким невыносимым, каким не было никогда.
Кэйзеру даже не понадоблюсь закрывать глаза – образ дедушки Анимуса, сотканный из света и тени, сам появился перед ним, улыбаясь. Конечно, как всегда, улыбаясь – во всю эту пушистую белоснежную бороду, которой, честно говоря, так все эти годы не хватало рядом, как и самого Анимуса. Образ деда маячил перед глазами и улыбался, будто бы радуясь – хотя в чем толк, чему радоваться? Краху всех надежд? Всех стараний?
– Я не смог, – голос показался мэру уже не своим, а лишь отголоском, тенью эха. Кэйзер улыбнулся – по-настоящему, так тепло, как когда-то давно, и вот теперь слезы уже ничего не сдерживало, а в глазах вместо холодного металлического блеска на мгновение вспыхнуло нечто обжигающе-яркое.
– Дедушка, – повторил мэр Кэйзер. – Дедушка…
«Дракон» напоролся на горы, врезался и взорвался, мерцая ненасытным пламенем и искрясь алхимическими бородавками-взрывами.
Поначалу Барбарио Инкубус смотрел в небо и всем телом радовался, что стоит на земле – даже живот урчал так, как после хорошего обеда, которого, кстати, припомнил алхимик, у него давно не было. Но Кэйзер вынуждал работать голодным – приходилось следить за армией шагающих големов, ведь если что – их надо будет перенаправить, ну или сделать что-то там еще. Заранее Барбарио об этом не задумывался, отложил на потом. Он любил решать проблемы по мере их поступления. Обычно, прямо в момент их поступления.
Вдоволь посмеявшись над Альвио, пытавшемся остановить големов – нет, правда, на что он рассчитывал? – Инкубус понял, что замерз. Ну вот, еще одна жертва во имя Кэйзера – и чего ради него не сделаешь. А могли бы обойтись без всей этой войны, просто сидеть себе и изобретать дальше – самое главное, в тепле и уюте.
Алхимик как-то сам собой сразу согрелся, когда заполыхали поля – он, конечно, лично готовил эти смеси, но такого эффекта не ожидал. Точнее, эффекта-то он ожидал, может даже чуть помпезней – но только не на родных Хмельхольмских полях.
Ладно, Кэйзер есть Кэйзер, что с него взять. Все стены расшибет – или сожжет, как вышло сейчас.
Живот снова предательски заурчал, но Барбарио мысленно пригрозил ему, топнув ногой. Мол, все потом – сейчас алхимик напряженно смотрел на шагающих уже в сторону равнинного города големов, не поврежденных пламенем.
– Тяжела моя ноша, – вздохнул он. – Следить за ожившими мертвецами, которые никогда не жили.
Потом Инкубус видел, как загорелся «дракон», как сделал разворот над городом и полетел к горам, падая – вот тут все мысли о еде сами собой разбежались, как крысы от зубастой деревянной игрушки-солдатика. Алхимик мог понадеяться, что Кэйзер, конечно, прыгнет с парашютом, но понимал, что этого точно не произойдет
Просто потому, что знал – Кэйзер будет там до последнего.
Когда «дракон» разбился и взорвался, а перед глазами бутонами принялись раскрываться взрывы, еле заставив себя, Барбарио Инкубус перевел взгляд на поля, на големов, почти дошедших до города, закрыл глаза и, натужившись, щелкнул пальцами.
А потом упал, обессилев, потому что нити магии – а вместе с ними и всю ткань мироздания – встряхнуло.
Альиво не помнил, как побежал, как сорвался с места, но обнаружил себя уже несущимся со всех ног в сторону полей. Туда, где вниз падали люди с раскрывающимися за спиной кусками белой ткани. В голове гудела только одно – успела ли Прасфора? Эта мысль будто бы плотным карнизом заслоняла даже проносящийся мимо мир, но вспышка взрыва разбившегося «дракона» все-таки прорвала эту преграду, и драконолог отвлекся – вот только теперь побежал еще быстрее, потому что на спине проступил жуткий, предсмертный холодок.
Он не понял, что произошло, но голова вдруг вновь сжалась в спазме боли, а глаза прыснули образами магических потоков-нитей, наконец-то ослабевающих. Мир засочился сине-фиолетовым. Альиво упал, постепенно погружаясь в убаюкивающую темноту.
Но перед тем, как потерять сознание, он будто бы услышал – точнее, почувствовал всем телом, – как глубоко под землей, в пещерах под горами, на своем невозможном языке перешептываются дремлющие драконы. Он не разобрал слов – перенял только ощущение, щекочущее и нежное, жасминовое со сладостными, но такими по-детски грустными нотками.
И ощущение это почти наверняка значило: «Покой».
Далеко от Хмельхольма, за вихрящимися туманами столицы семи городов, Сердца Мира, среди каменных статуй и водостоков-драконов прошел их собственный шепот. Конечно, на самом деле не существующий, только придуманный – но даже каменные статуи будто вздохнули с облегчением. Среди того же густого тумана, будто смазанного магической дымкой, высоко в Башне Правительства, триумвир Супримус открыл глаза и глубоко вдохнул.
Он стоял, уперевшись руками в большой овальный стол, и тяжело дышал. Перед глазами все еще мерцали сине-фиолетовые пятна. Сделав еще несколько глубоких вдохов, Супримус опять прикрыл глаза – только для того, чтобы тут же открыть их.
– Успокоилось? – спросил Златочрев, Хранитель Философского Камня и второй триумвир, заглядывая почти в лицо Супримуса. – Магия успокоилась?
– Да… Но мы этому никак не поспособствовали, – член Правительства нахмурил седые брови.
– Неудивительно! И не могли бы! – закопошился Златочрев. – Нам просто повезло, что Кэйзеровы игры…
– Не вини себя, Супримус, – проговорил мужчина в белом плаще и такого же цвета жандармском одеянии. – Я ведь знаю, что ты будешь винить себя. Мы даже не были готовы – и не могли бы. Война… слово настолько позабытое, что мы не знали, как на него реагировать.
Супримус посмотрел на Кроноса – третьего триумвира и Главу Жандармов.
– Нам бы пришлось ждать, пока он не доберется сюда, – член Правительства наконец-то выпрямился. – Големы и это жуткое нечто, поднятое в воздух.
– По крайней мере, теперь точно ясно, почему и зачем исчезли грифоны, – заметил Кронос.
– Не напоминай, – вздрогнул Златочрев. – Про это сейчас думать еще не хватало. А ты уверен, что големы и…
Супримус потер густую, но короткую седую бороду.
– Уверен. Вы сами видели, как реагировали потоки магии – нам давно уже пора придумать что-то, что позволить видеть на расстоянии…
– Вот лучше бы Кэйзер этим и занимался! А не всей своей военной ерундой. Да и протезы – вы представляете, механические протезы! – в глазах Златочрева забегал неугомонный детский азарт. – Вот вам и внук Анимуса…
Супримус жестом остановил его.
– Не надо.
– Что – не надо?
– Вспоминать Анимуса.
– Создателя первого Алхимического Чуда? Ну ты…
– Правда не надо, – вмешался Кронос. – Почему-то кажется, что сейчас это совсем не к месту.
– Ну не хотите – как хотите, – надулся Златочрев и выудил из-под золотого балахона стеклянный сосуд с настойкой, припасенный там для смягчения стрессовых ситуаций. – И что будем делать дальше?
Моментального ответа не последовало, поэтому Хранитель Философского Камня пригубил сосуд.
– Пусть все встает на свои места, – Супримус потер переносицу. – И мертвецы остаются мертвецами. Даже големы с драконами. А в остальном… я буду очень ждать свежих газет.
Триумвир посмотрел на одиноко лежавшие на таком большом для них столе записку и фрагмент кости драконихи. Хотел ухмыльнуться – как положено победителям, – но почему-то не смог. Наверное потому, что победы, как таковой, не чувствовал.
И не сказать, что не был прав.
А на нижних ярусах Башни Правительства, около стеклянной трубы, по которой падали золотые философы, проносясь мимо Философского Камня, дракон-казначей впервые за долгие годы отвлекся от работы. Он уставился в одну точку – ненадолго, – потому что почувствовал, потому что услышал, как далеко в горах его собратья наконец успокоились и задремали вновь.
Барбарио, откровенно говоря, хотелось напиться до беспамятства – но спонтанное пьянство он никогда не поощрял. Вместо этого алхимик решил наесться все до той же потери пульса.
На полках в пробирках булькали розоватые гомункулы, в свете холодных, почти белых – специально их такими сделал – магических ламп мерцали реагенты, алхимические порошки и пудры, зеркальца; молотые рубины моргали кроваво-красным, в углу стояла деревянная фигурка Фуста – создателя Философского Камня, здравствующего в Злтаногорске.
На столе же, среди опустевших глиняных мисок, лежали чертежи – его чертежи, меланхолично заметил алхимик. Все то, над чем Кэйзер успел начать работу: начиная механическим протезом, заканчивая летающим «драконом» и его прототипами. Строгие и четкие линии смыкались, пересекались и образовывали словно каскады, корпусы идей, которым предстояло быть воплощенными в жизнь.
И кто же догадывался, что им столь же быстро предстояло кануть обратно в небытие.
– И зачем тебе надо было все это, – чуть ли не всхлипнул алхимик. Круглый живот, казалось, скоро разрыдается вместе с ним. – И зачем? Неужели все из-за Анимуса?
Ответа на вопрос, ожидаемо, не последовало, но сам не понимая, почему, Барбарио похолодел – нет, пожалуй, стоило обойтись без Анимуса. Его и так достаточно увековечили. А вот Кэйзер…
Алхимик наконец встал, еле дошел – даже докатился – до полок и ящичков. Вернулся к столу он уже с веревками и пожелтевшей бумагой, аккуратно сложил все чертежи, обернул чистой бумагой, перевязал и, взяв карандаш, написал сверху большими буквами:
«ЧЕРТЕЖИ МЭРА КЭЙЗЕРА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕГО САМОГО»
– Вот и славно, – подумал Инкубус. – Ни слова о его дедушке.
Потом Барбарио разжег алхимическую печь. Когда пламя затрещало, голодая, алхимик взял в руки пачку чертежей, вздохнул и прошептал:
– Все для тебя, Кэйзер. Все для тебя.
С этими словами Барбарио Инкубус швырнул чертежи в пламя – огонь проглатывал чернеющую бумагу, растворяя память о Кэйзере в вечности, переплетая его и только его имя с воздухом и подмешивая, казалось, в саму структуру памяти.
Два огромных черных ворона рассекали потоки воздуха, черными стрелами рвали пространство, оставляя за собой тающий в одно мгновение чернильный след. Вороны возвращались – вот только не понимали, куда теперь возвращаться. Летели по наитию, ведомые инстинктом, потому что яркий свет их личного маяка угас. Весь мир открылся перед ними, а они все равно пытались вернуться.
Вороны сбавили скорость и уселись на холодные камни среди обломков метала, огромных белых костей. Чумазые клубы дыма терялись среди острых каменных склонов и гор. Вороны сделали несколько осторожных птичьих шажков к обломкам. Глаза-бусинки замерли.
Зачем-то они ударили – почти синхронно – клювами о камень. Потом громко каркнули, ворвавшись в гармонию свистящего ветра: их карканье эхом, резонирующим шаром покатилось среди камней.
Вороны вспорхнули и унеслись ввысь, поняв, что возвращаться им действительно больше некуда.
– Вот ведь ж здорово! – чуть ли не ультразвуком заверещала довольная дама средних лет, забирая теплые горшочки с едой – в основном картошкой, чем же еще. Закончив, она попрощалась и спокойно закрыла – чудо, даже не захлопнула! – дверь.
Прасфора Попадамс в новом свитере, для стороннего наблюдателя ничем не отличавшемся от старого, закинула опустевшую сумку на плечо и, прихрамывая, отправилась дальше – то есть, обратно, домой, в «Ноги из глины». На сегодня все – не густо, но хотя бы успешно. Уже прогресс, и на том, как выражалась одна отвратная семейка, спасибо преогромное.
Пламенной осени давно пора было смениться унылой и практически бесцветной, серой с оттенками светло-серого и темно-серого, но она особо не спешила. Ало-рыжеватые листья продолжали гореть маленькими язычками пламени, прохладный ветер с присвситыванием гулял меж бежевых домишек с бордовыми черепичными крышами, а сверху все это полупрозрачной ночной сорочкой прикрывало облачное небо. Свет даже не лился, а скорее капал на улицы, заливая их мерцающим маслом.
Прасфора глубоко вдохнула. Этот запах… оставлял в памяти такие следы, которые становились сигнальными огнями для сознания – забывались до следующий осени, а потом вспоминались с теплой ностальгией, и каждый раз хотелось повторить этот же самый момент, но все выходило иначе. И только запах вперемешку с ощущением оставался тем же.
Девушка остановилась около большого дома. У входной двери стояла стремянка, пара человек – один внизу, другой – вверху – обменивались криками.
– Да сними ты эту треклятую штуковину! Видеть ее больше не могу!
– Я пытаюсь, она зацепилась… и хватит так кричать!
Прасфора улыбнулась – не столько от перепалки, сколько от того, что прямо сейчас с дома снимали вывеску «Рваных крыльев дракона». Работники Фюззеля быстро прознали, что ему наступила крышка, и даже не особо расстроились. Не радовались, конечно – в отличие от него свиньями они не были и становиться не хотели. Вот тогда-то фундамент будущей империи, зыбкой, как мокрый от прибоя песок, рухнул – забегаловку решили превратить в куда более уютное место.
Двое мужчин наконец-то пришли к некоему творческому соглашению, стянули старую деревянную табличку, скинули на землю – та символично треснула – и водрузили новую. Прасфора принципиально пошла дальше, решив оставить новое название для себя сюрпризом – лучше зайдет сюда потом.
В голове сами собой всплыли стеклянно-мутные, прагматичные глаза Фюззеля, подобно которым девушка никогда не видела. Она до сих пор не могла поверить, что не сверкнуло там ни безумного огонька, ни отражения одержимости – просто стекло, и ладно бы черное. Нет, полностью матовое.
Попадамс оглянулась на бывшие «Рваные крылья дракона». Вот так, подумала она, реальность и меняется. По кусочком, как мозаика – незаметно для всех вокруг и, похоже, для самой себя.
Городская площадь и окрестные дома, конечно, оставляли желать лучшего. Их словно бы обильно облили черной краской – огню не свойственна жалость, вот и сейчас он не расщедрился. Некоторым домишкам так вообще не повезло – остались от них только рожки да ножки, чего, впрочем, оказалось достаточно для того, чтобы хлипко, но поддержать веру в лучшее. Хозяева натурально чуть с ума не сошли, когда поняли, что случилось – а теперь уже сходили с ума по восстановлению и домов, и площади. А куда ж деваться?
Прасфора посмотрела на небо.
– Да, – отозвались мысли. – Когда ничто небо не держит, приходится делать это самому.
У «Ног из глины» девушку ждал Альиво. Лишь заметив ее, драконолог тут же помахал рукой.
– У тебя шарф весь в грязи, – заметила она, когда они обнялись. – Удивлена, что ты не заметил.
– Ты думаешь такое можно не заметить? – словно бы в подтверждения слов, Альвио дернул длиннющий красный шарф. – Я просто не успел его постирать. Подумать только, даже дня еще не прошло с… эээ… начала войны.
– Да…
– Как твоя нога?
– Бывало и хуже, – махнула Прасфора рукой. – Как будто это кого-то останавливало?
– Тебя после знакомства с черепами грифонов вполне остановило бы.
Попадамс вздрогнула.
– Я тогда и так остановилась. Потому что дура, – и вот поди угадай, шутила девушка в такие моменты, или опять начинала себя накручивать. – Но давай лучше не будем о грифонах. Пока.
Мир – по крайней мере, ее личный – успел встать на место, осколки неба Прасфоры как-то умудрились выстроиться обратно. Конечно, остались только осколками, куда уж им там до старого неба – это как назвать разбитую и на скорую руку реставрированную статую той же самой, что была сотни лет назад. Прасфора чувствовала, как на нее снова давят небеса – кода ж они не давили? – но при этом ощущала свои окрепшие плечи, и уже начинала расправлять их. Звучит, может, и странно – у самой Попадамс язык бы не повернулся вот так об этом рассказывать. Но ощущения бурлили именно такие – перекрываемые жужжанием сотней и одного комплекса, конечно.
Или, может быть, уже просто сотней.
– Собственно, я забежал попрощаться, – продолжил беседу драконолог и пояснил, поймав непонимающий взгляд Прасфоры: – Я еду в горный город.
– А поезд снова ходит?
– Ну а ты думала! Они там работают более, чем оперативно.
Альвио достал кожаную тетрадку.
– Спасибо, что сохранила. Теперь в главе о грифонах там хотя бы стоит точка. И насчет зарисовки деда-прадеда никто не сомневается, – он откашлялся. – Ай, да, договорились же без грифонов…
– Ага. У тебя все равно еще остались драконы.
– И единороги!
– Не начинай, – Прасфора вдруг вспомнила: – Кстати, помнишь того паренька, Тедди? Который, конечно, Теодор. Так вот, мы же тогда…
– Собственно, – драконолог поправил очочки, – это вторая причина, по которой я еду в горы.
Девушка улыбнулась.
– Зайдешь? – пригласила она.
– На это я и рассчитывал, – рассмеялся Альвио в ответ.
В «Ногах из глины», как обычно, пахло дурманящей смесью приправ, не менее дурманящим картофелем, жареным мясом и, раз уж на то пошло – само тепло тут становилось дурманящим, окутывающим с ног до головы и расползающимся по телу.
Внутри, собственно, был аншлаг: гости галдели, смеялись, активно махали руками и, конечно, ели-пили – вполне себе обоснованное поведение в кабаке. Пока Прасфора и Альиво раздевались, к ним уже подбежал Кельш.
– Как нога? – спросил он первым делом.
– Вы что, сговорились? – фыркнула Прасфора. – Все хорошо, не переживай.
– Не переживай! – наигранно взмахнул руками Кельш. – Альиво нашел тебя на земле без сознания, а потом ты проспала половину суток – да уж, совсем не повод для переживания.
Когда Прасфора падала, ей казалось, что мир выворачивается наизнанку, становится кроваво-красным, потом туманным, а потом и вовсе гаснет. Девушка не запомнила момент падения, но точно знала, что боли не было – не считая внутренней, острыми иглами рвущей изнутри сознание, отказывающееся принимать происходящее за правду. В тот момент Прасфора даже подумала, что потеряла, кто она есть, забыла саму себя.
Очнулась уже дома, с тяжелой головой. Вспомнила, что она – просто она, Прасфора. И не то чтобы она смогла остановить войну. И не то чтобы стала симпатичней. И… и… и…
Домино из бесконечных комплексов внезапно остановилась, и мысль, постоянно сидевшая в потаенных, охраняемых внутренней тьмой уголках сознания, перевернулась, отразилась зеркально, приняв иной вид: «Просто я – Прасфора».
Наглядный пример столь важной перемены мест слагаемых.
Конечно, это не заглушило все свинцовые шестерни собственных предустановок, не сорвало все нержавеющие замки. Но…
– Нет, правда, все в порядке. И кстати – с доставкой все прошло отлично, – девушка отложила в угол пустую сумку.
– Ну вот! Жизнь возвращается в привычное русло, – широкие плечи Кельша аж подпрыгнули от удовольствия.
– Нужна помощь, пап?
– Пока нет, но потом – понадобится. Я бы отговорил тебя и предложил, даже заставил бы отдохнуть, но… ты упертая, как баран, – он рассмеялся. – И в этом вся ты!
Девушка ничего не ответила – хотелось бы ей иногда обессилено валиться лицом на холодный лед, да как-то не получалась. Кому-то не хватало силы духа, а ей – силы, чтобы этот дух усмирить.
Она так и не рассказала отцу про дядю – никак не могла собраться с духом. Хотя Кельш, казалось, все понимал, просто принципиально не спрашивал.
– Пока нет дел… теплое пиво? Теплое молоко? – Кельш заговорчески подмигнул. – За счет заведения!
– Очень смешно, пап.
– Пожалуй, молоко, – согласился Альиво.
– Пожалуй, пиво! – поддержал Кельш.
Они оба уставились на Прасфору.
– Вы идите, – ответила она. – А я… подойду попозже.
Пока они усаживались за стол, Попадамс пошла вглубь «Ног из глины». Уже без свитера, осталась только в кремовой блузке, слегка маловатой, так что пуговицы на груди не очень сходились. В другой момент девушка обязательно бы отметила это и поставила бы сияющую галочку-клеймо в голове – но сейчас было не до этого.
Одно дело оставалось недоделанным – в принципе, не только сейчас, а всю жизнь. Хотела бы Прасфора сказать, что с детства – но, наверное, лишь с того момента, как научилась мечтать, а потом поняла, что лично для нее эта мечта уж точно несбыточна.
Прасфора подошла к дубовой двери в кухню. Печной жар усилился, ароматы – тоже, мир вообще словно выкрутили на полную катушку. Попадамс слышала грохот кастрюль и горшочков, звон металла, ругань поваров и кухарок, закипающую воду…
Девушка зажмурилась. Перед глазами, словно в напутствие, всплыли черепа грифонов: с бесконечными, спокойными и холодными пустыми глазницами, будто бы форточками в продуваемую бездну.
– Ну спасибо, – пробубнила она сознанию.
Попадамс открыла дверь, подошла к порогу – ударило не просто запахами, а самой атмосферой кухни, чуждой и отталкивающей. Девушка зажмурилась еще сильнее – заново почувствовала всю тяжесть неба своего личного мира. А потом, решившись, наконец расправила плечи.
Прасфора сделала шаг – и совершенно точно не в темноту.
Некий словарик всяческих терминов за авторством г-на Словоформа
Алхимические Чудеса – всего выделяют четыре Алхимических Чуда: Голем, Философский Камень, Искусственный Человек и Эликсир Вечной Жизни. Первые два уже созданы.
Анимус – имя первого созданного голема и его создателя.
Аномалосос – прибор, работающий на магии, способный засасывать в себя магические аномалии, тут же избавляясь от них, преображая в магическое пламя.
Время – состоит из 30% нестабильности и 70% стабильности. Практически не изучено. Из-за большого содержания стабильности не поддается манипуляциям.
Големы – глиняные гиганты, питаемые магией, обычно метра два-два с половиной ростом. По сути, это «куклы», которые двигаются благодаря тому, что через них, как кровь, циркулирует магия. В глиняные тела вмонтированы рубины, позволяющие магии «течь в жилах» големов.
Гомункулы – алхимические существа. Хранятся в пробирках, созданы из непонятной алхимической жижи и рубиновой крошки. Могут выслеживать человека и объекты по магическому следу, подобно собакам. Не путать с Искусственным Человеком.
Грифоны – вид существ, однажды населявших мир. Тело льва, голова орла, крылья. Окрас в основном бело-золотой. Жили в горных районах Хмельхольма. Истреблены.
Драконы – вид существ, населяющих мир. Обычно не латают, спят среди минералов/на горах драгоценностей глубоко под землей, в пещерах, гротах и т.д. Смышленые. Некоторые особи, обычно, что поменьше, обладают способностью к связной и долгой речи (как казначей в Сердце Мира). Их чешуя приобретает цвет и свойства того металла, около которого они находятся (чаще всего встречаются золотые и серебряные драконы).
Златногорск – портовый и торговый жаркий город, родина Философского Камня и магической Карамели.
Искусственный Человек – человек, созданный искусственным, предположительно, магическим, образом. Пока не существует, хоть и были попытки создать его. Не путать с Гомункулами.
Карамель/Магическая карамель – особая карамель с примесью рубиновой крошки. Человек, лизнув ее, сам становится проводником магии, и может делать из нее что угодно – в том числе, материальные объекты. Например, бутылки вина, огненные шары и т.д. Все материальные объекты со временем развоплощаются. Чревата летальными побочными эффектами. Нелегальна.
Магическая аномалия – появляется тогда, когда в определенном месте количество нестабильности начинает превышать допустимое, и образуется лишняя магия. Не приносит вреда человеку, но влияет на ткань реальности. Волшебники могут использовать аномалию, чтобы, например, зажечь волшебный огонек и избавиться от нее (аномалия и есть лишняя магия). Не-волшебникам приходится либо прибегать к помощи первых, либо использовать Аномалосос.
Магия – состоит из 70% нестабильности и 30% стабильности. Потоками течет через реальность. По сути своей – некая «незримая глина», очень гибкая для создания чего-то нового. Используется для работы шестеренок, механизмов, големов, фонарей и другой техники, а также в алхимии. Не может быть использована для прямого создания чего-либо материального только из себя самой (если не прибегать к помощи Карамели).
Материя – состоит из 50% нестабильности и 50% стабильности. Поддается механическим воздействиям (карандаш – материя, его можно сломать, если приложить усилия, сам он не меняет своей формы), но не столь гибка, как магия.
Пикси-духи – авторское название, данное сырой жизни в буквальном понимании. Выглядят как светящиеся призрачно-зеленым точки, могут летать и говорить, как связно, так и нет. Практически не изучены.
Правительство/Правительственный Триумвират/Триумвират – орган, управляющий всеми семью городами. Состоит из трех членов, на данный момент это Супримус (первый лучший в мире алхимик), Златочрев (хранитель Философского Камня) и Кронос (глава жандармов).
Рубины – драгоценные камни, естественные проводники магии. Используются во всех магических приборах и других изобретениях (часто используют рубиновую крошку).
Семь городов – все города мира. Управляются Правительственным Триумвиратом. Каждый город же – своим мэром.
Сердце Мира – столица семи городов, где находится башня Правительства, заседает Триумвират и на данный момент хранится Философский Камень.
Стабильность и Нестабильность – две образующие силы всего сущего, составляющие Магии, Времени и Материи. Некоторые также считают, что Нестабильность – либо отдельное пространство, либо сущность с сознанием. Это не доказано.
Суккубы – до конца не известно, что это за существа, определенно – магические. Непонятно, материальны или нет. Но привлекательны так, что кровь к ушам приливает. Правда эти уши могут и отрезать – в смысле, часто встречи с ними оканчиваются летально.
Философский Камень – созданное в Златногорске Алхимическое Чудо, способное превращать минералы в золото. Сейчас хранится в башне Правительства и используется для создания золотых Философов. Создатель его – алхимик Фуст.
Философы – название валюты всех семи городов, золотые монеты с выгравированной буквой «Ф».
Хмельхольм – двуединый горный город, поделенный на равнинную и горную часть. Место, где изобрели первого в семи городах голема – Анимуса.
Хрусталия – один из семи городов, их «культурный центр».
Эликсир Вечной Жизни – из названия понятно, что это. Не создан.
Эликсир молодости – алхимический раствор, помогающий поддерживать молодость организма, но не дарующий вечной жизни. Не путать с Эликсиром Вечной Жизни.
Благодарности
- «Она плавает в формалине, несовершенство линий, Движется постепенно»
Эта песня Flëur стала во многом гимном – если хотите, основной музыкальной темой – для Прасфоры. Но, нежданно-негаданно, и картким описанием процесса работы над книгой. «Големикон» действительно плавал в формалине: долго, с трудом, на последнем издыхании. Как жалко, что так и не придумали восьмой день недели – хотя бы только для писательства.
Как-то раз, еще до пандемии, мы успели съездить в Таллин. Там есть небольшая забегаловка, под средневековье, в старом здании, со свечками, супом в глиняных тарелках и отменными горячими пирожками! Это «Третий Дракон» – в самом сердце старого города. Тогда, с тем самым горячим пирожком в руке и ветром в голове, появилась мысль: интересно, какой была бы доставка еды в средневековье? Собственно… идея чуть съехала в сторону, но корень – остался.
Пержде всего я должен поблагодарить «Эпидемию», из строк песен которой впервые родился ритм «Големикона», стала понятна обновленная задумка. Ну и, конечно, всю череду случайностей – статей, впечатлений, событий, – которыми задумка обрастала. Мои бесконечные музыкальные слова благодраности также рок-опере «Икар», вгонявшей в нужное настроение, и рок-опере «Орфей» за необходимые, как это говорится, вайбы.
Бесконечное спасибо Вадиму Панову, который нашел время на черновик текста, сказав, что все надо расшевелить к чертовой бабушке. Надеюсь, удалось. Надеюсь, получилось.
Спасибо Rosehip за чтение черновика и комментарии, городу Сочи, куда мы так внезапно выбрались с друзьями, за горы, грозу и релакс, критически нужный в то время. За бомбическую обложку все аплодисменты sollonight! Иллюстрация в начале – мой скромный приз в лотерее от «Механизмов Хендрика»
Спасибо – на всякий случай, всему и сразу. Чтобы никто не ушел обиженным)
А вы это… заходите, если что: https://vk.com/kladezsuzhetov
