Гоблин бесплатное чтение
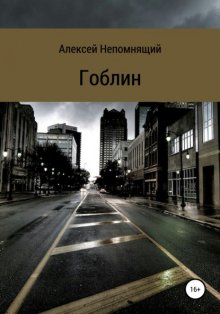
Тома упёрлась в дверь вспотевшим лбом, и перевела дыхание. Сквозь глазок её разглядеть не получилось бы, разве только ядовито-зелёный рюкзак с феями, и круглые плечи, и бессильно повисшие завитки волос.
Кроме зелёного рюкзака с феями, она дотащила на себе шесть уроков плюс факультатив, плюс тридцать два на улице, плюс шесть этажей без лифта. Её телесная оболочка в школьной форме уже кое-как добралась, несмотря на то, что туфли давили страшно, а ноги в капроне вспотели до чёртиков, но вот душа её только ещё поднималась, задыхаясь, по бетонным ступеням. Может, шаркала сейчас где-то между третьим и четвёртым этажами. Может, надеялась, что лифт заработает.
Тома вынула ключи из внутреннего кармана жилетки (упаси Бог убирать их в боковой карман), после трёх оборотов ключа в нижнем замке, надавила на ручку и вошла в квартиру. Мамы не было дома: она бы для безопасности закрыла на оба замка, для безопасности, ну или не закрыла бы оба – потому, что Тома опять задурила ей голову, и она всё забыла.
В прихожей было тихо и душно, но всё же не так жарко, как на улице – под осатаневшим солнцем. Пахло старым кремом для обуви, с кухни тянулся запах супа, и ещё чего-то мерзкого – суп точно забыли на плите. Есть не было никакого желания, чистить обувь – тем более. Хотелось только раздеться, смыть в душе всё уличное и школьное, надеть что-то лёгкое, мягкое, чистое, домашнее, и лечь в нём на кровать. Лечь хотелось аккуратно, чтобы не перестилать потом колючее шерстяное покрывало, и надолго, чтобы совсем оставили усталость и неясные дурные мысли. Ничего больше не хотелось.
Тома закрыла дверь на один замок, после – на второй, но без самой нижней защёлки, да – чтобы мама сама смогла отомкнуть дверь, а не тратила долбаных три часа у двери, пока Тома, лошадь глухая, наконец, уже её услышит. Она сбросила серые лодочки, жутко натёршие ноги. Мысок левого гольфа оказался с дыркой прямо над большим пальцем, и с этим точно надо разобраться до вечера, потому что всё надо собирать с вечера, но это всё потом. Стянув гольфы и скомкав их в руке, Тома надела лиловые тапки, а измученные туфли ушли на нижний ярус обувной полки. Невыносимо тяжёлый рюкзак отправился отдыхать рядом, и Томины плечи тут же заныли: жалобно, но с явной благодарностью. Отнести рюкзак в комнату и разобрать там тетради и учебники можно и позже, всё потом.
Тома отправилась по узкому коридору к ванной комнате: к тёплой воде, жидкому мылу, сухому полотенцу. Наглый жёлтый луч прочертил мягкую полосу на полу перед ванной. Шторы на кухне были задёрнуты с утра – и от жары, и чтобы в окно никто не заглядывал, а то ведь у прохожих это первое дело – заглядывать людям в окна, смотреть, что дома никого нет, и тогда уже обкрадывать. За это всё можно было быть спокойной – сквозь теневую штору точно ничего не было видно, а сквозь тюлевую – вряд ли, совсем уж крохотный оставался просвет. Солнечный луч подтверждал это своей скромной шириной. Слева от просвета занавесок гудел и громыхал холодильник, половину мощности, как обычно, тратя на холод, другую – на разнородный шум. Справа от просвета занавесок стоял деревянный стул. На стуле кто-то сидел.
Язык Томы словно прилип к нёбу, пальцы сжались, сминая несчастные гольфы. Тело налилось таким мраморным холодом и твёрдостью, что Тома тут же забыла, что когда-либо в жизни могла шевелиться. Она чувствовала, что вот-вот разревётся, но этого не случилось. Не от большой смелости, а совсем наоборот: ей было люто страшно. Сидящий справа от луча явно понимал, какое впечатление произвёл, и это его устраивало.
– Руки всё-таки вымой, а потом приходи сюда. – проговорил он. – Только дверь не закрывай, иначе я её открою, и убью тебя.
Тома ничего не ответила – ни говорящему, ни себе самой, а повернулась на негнущихся ногах, и вошла в ванную комнату.
– Свет включи. – подсказали из кухни. Тома так и сделала, пошарив вдоль дверного косяка рукой – совершенно деревянной, будто уже не своей.
Она ощущала каждый миллиметр своей кожи, каждый шов на белье, каждый вздыбившийся на теле волосок, себя привычную не ощущая уже совсем. Не могло быть того, что сейчас происходило, не бывает такого. Из овального зеркала на неё смотрело девчачье лицо – и её лицо было, и чужое совсем. И без того большие глаза стали круглее круглого, сверкая непролившимися слезами, лицо – бело-красное, но совсем не «кровь с молоком», как в сказках, ну разве что кровь накапала в молоко кривыми осьминожьими каплями. Рот растянулся в жутком оскале, губы дрожали. Тома была уверена, что ещё чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и этот её рот, это горло, пока ещё окаменевшее, издадут такой дикий крик, которого ни её квартира, ни весь девятиэтажный дом, которого и сама Вселенная с момента сотворения никогда не слышала.
– Только не ори. Я в твоём возрасте стометровку пробегал за полторы секунды. Это быстро? Не слышу.
– Уггумн. – подтвердила Тома так внятно, как смогла. Слёзы уже не сдерживались ничем, и она, нагнувшись над раковиной, дала им волю. Зубы стучали так, что она едва не прокусила язык. Её мутило. Тома оперлась о край раковины скрученной судорогой рукой, а скомканные гольфы положила на противоположный край, ближе к заиндевевшему от солей крану – постирать же ещё. Она аккуратно, насколько позволяли непослушные руки, повернула один кран – холодная вода побежала тонкой струйкой, повернула другой – вода стала теплей, и эта её дружелюбная теплота показалась совершенной глумливой издёвкой. Мыло пахло своей обычной, нормальной орхидеей, которых ни Тома, ни мама, в глаза никогда не видели. Если бы не Тома, то мама, конечно, увидела бы и орхидеи, и те края, где растут орхидеи, и мужчин, которые дарили бы ей эти орхидеи, преклонив мужественное колено, а вот Тома бы ничего не увидела. Похоже, что лучше бы и не видела ничего никогда, лишь бы не увидеть сегодня то, что сидело в кухне на её стуле.
Пальцы понемногу оживали, возвращали привычную гибкость, – то ли от тёплой воды, то ли от тошнотворного запаха химической орхидеи, но оживали. По стенкам раковины стекала серая вода с белыми мыльными пузырьками. Чуть позже вода посветлела, ещё позже – стала прозрачной, а пальцы – совсем розовыми. Тома набрала воды в ладони и попробовала умыться. Пальцы скользили по коже, смывая слёзы, пот, уличную пыль. Запах орхидей стал ещё более сильным, густым и плотным, в его сладкой мерзости захотелось спрятаться целиком, с ногами, свернуться там в клубок и зажмуриться, пока не уйдёт тот, кто на кухне, а мама не вернётся с работы, и не выковыряет её обратно.
– Тома.
Это прозвучало будто прямо спиной, хотя зеркало сказало, что нет. Оказаться с гостем лицом к лицу, на трёх квадратах ванной комнаты, в компании кафеля, пластика, тюбиков, флаконов, безопасных бритв и, хуже всего – зеркала, она бы точно не смогла, ни за что на свете. Покомкав в руках полотенце, и собрав им воду с лица, Тома вернула его на крючок, а потом подошла ближе к дверному проёму. Только подошла, чтобы когда-нибудь потом, когда придёт подходящее время, выйти в коридор, к жёлтому лучу. Чтобы идти дальше, чтобы переступить порог, нужно было собраться с силами. Сил не было. Ничего не было. Тома смотрела на жёлтый луч, пересекавший линолеум поперёк древесного узора, и луч её вполне устраивал – красивый луч. Да, он живёт за границей ванной, но всё равно он очень неплохой, пока он там, а она – здесь. И сам линолеум очень хороший, он изображал паркетную доску из зеленоватого дерева, с широкими волокнами, изредка с сучками и задирами, почти как на настоящей древесине. Этой захватывающей красоты Тома никогда раньше не замечала, так много времени было потрачено впустую.
С кухни послышался противный скрип, а после – тяжёлые шаги. Шаги приближались. Подняв глаза, Тома тут же опустила их, и вжала голову в плечи, пытаясь унять озноб. В ушах стучало молотом. В том, что приближалось к ней по коридору, в его облике, в его шагах, не было ничего нормального, ничего, что не вызывало бы омерзения и ужаса. Всё, чего ей хотелось – забыть, начисто забыть то, что увидела, чтобы сохранить рассудок, если она его и правда хранила до этой секунды. Тома задержала дыхание, чтобы общий с гостем воздух не попал в лёгкие. Здесь пахло не испорченным супом. Воняло гоблином.
Липкая ледяная рука с каким-то ненормальным числом пальцев, обхватила её руку, и потянула в сторону кухни. Тома пошла следом, как телок на верёвочке, так она и поступала всегда, совершенно несамостоятельное чучело, стоит только на нормальных девочек посмотреть.
– Не усугубляй. – сказал гоблин, отпуская руку, когда они оказались в кухне. Он вернулся на стул, если верить звуку – смотреть на него Тома точно не собиралась.
Усугублять Тома не хотела. Она хотела очнуться, проснуться, или прыгнуть в момент до своего рождения, в ту блаженную чернильную темноту, но усугублять точно не хотела. Скованная ужасом, она старалась только устоять на ногах.
– Для начала так. – гоблин словно стряхнул с пальцев невидимые капли, и по кухонным стенам, полу, потолку словно протянулась зелёная сеть. Свет потускнел, и даже наглый жёлтый луч стыдливо подтаял, почти исчез. Звуки за окном смолкли, будто по щелчку, и беззвучные автомобили на куске дороги напротив окна поползли дальше в жаре и пыли – чудесной жаре, замечательной пыли, где небо и солнце, где всё шумит, и можно идти себе, куда хочешь, никто тебе слова не скажет.
