Гуннхильд бесплатное чтение
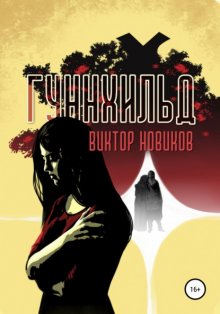
Глава I, в которой Торвальд впервые приходит в дом Харальда
Волны бьются о гранитную подошву утёса, цепляются за гальку ослабевающей пеной и с шипением просачиваются под камешки. Некоторые из камешков размером с большой палец, некоторые меньше песчинки… Старые люди говорят, море пришло из первозданной бездны. Это из преданий про убитого Праотца Имира, чьи глаза стали звёздами, а кости – твердью гор. Когда упал зарубленный Имир, вся его кровь вылилась из ран и только на девятое утро осела на пустое морское ложе затяжным дождём. Где летал, с какой магией соприкасался этот самый первый в мире дождь, не знают даже хранительницы судеб.
Над сине-чёрной массой порхают чайки, выхватывая с поверхности то рыбёшку, то ниточку водоросли, то червя, смытого со старых досок – ещё весной чёрных, а ныне буйно зеленеющих. Когда-то около утёса стоял причал, но ниже по берегу возник новый, более вместительный, более выгодный для посёлка, и старый забросили. Настилы обвалились, так как никому не было дела до их латания, а рубленные толстые доски похоронил песок. Каменные столбы время пощадило, и они, как клыки из нижней челюсти Мирового-Змея, торчат среди мелководья бухты.
Вокруг столбов намотаны цепи. Каждое их звено размером с голову барана, некоторые наполовину скрыты под водой, а сверху облеплены гроздьями соляных сосулек. В столбах чернеют скобы, на которые, было время, ловили канатами славные деяниями и именами корабли.
Но сейчас только лодка-одновёселка покачивается у ближайшего к утёсу столба, привязанная за кольцо на носу. На самом утёсе, поджав ноги в мокрых сапогах, сидит её владелец. Он, судя по непросохшим штанам и кожаному плащу, вышел на сушу недавно.
На его левый глаз надвинута шапка некрашеного войлока, какими торгуют во франкских портах. Шапка вся старая и расползшаяся. Полями она прикрывает розовые бороздки, которые продираются через неровно растущую левую бровь и исчезают во впалой щеке. Левый глаз полностью белый – белые и зрачок, и радужка. Правый же чёрной живой точкой оглядывает море. Если бы где-то в мире ещё говорили на праязыке, человека с утёса прозвали бы Одно-Глаз. А он бы не обиделся. Но так-то его звали Торвальд.
Иногда Торвальд поднимает голову к рассветным облакам – цветом они совсем как нежные восточные ткани. И вот он, уставший, растягивается на сохлом вереске и закладывает правую руку под затылок. Левая лежит на широком поясе, у ножен с кинжалом. Она на всякий случай не спит.
Море утробно рокочет, а заутёсный пролесок, убаюкивая шелестом, советует доспать недоспанное ночью… Побережью тоже снятся сны. На сей раз оно вспомнило, как восемь с половиной зим назад напротив шёл драккар с серо-красным парусом.
– Харальд!
Крик раскатился от мачты до кормы, от кормы до носа, после чего улетел в море, встревожив прибрежные скалы и утренний туман. Крик был сиплый, но не от простуды, а от кое-чего иного – о чём свидетельствовал красно-синий отлив щёк кричавшего. Казалось, в горле его что-то застряло и сейчас клокотало на каждом слове:
– Эй, Харальд! Тут бочка протекла!
Крикун на корточках сидел у связки бочек возле мачты.
Бока его раздавались в стороны, как подобает бокам в пору поздней зрелости, хотя в бороде-волосах ещё не было ни сединки – при том, что на лице почти не осталось места, свободного от растительности. Даже глаза с обвислыми веками скрывались под бровями, разросшимися как еловые лапы в разные стороны.
– Найди и выкинь!.. – донеслось с места кормщика.
– Ух-х, – Крикун что-то буркнул ещё в ответ и пополз под полотно, накрывающее припасы…
Только напротив старого причала серо-красное полотнище паруса надул нужный ветер. Настилы там пока что стояли, щерясь, правда, выбитыми досками.
Уже в полдень нужно встать на якорь у пристани, но они успеют. Кормщик с первых своих усов знает окрестные фиорды, мелководья, рифы и течения, поэтому драккар идёт как по маслу.
В переливчато-радужных брызгах беззвучно выгибаются весла – как деревянные плавники огромной касатки. Вспарываются одна за другой волны, и за кормой, пенясь, крутятся весёлые белые барашки. Перламутрово-серые полосы на небе созревают, на глазах наливаясь жёлтыми, сиреневыми и тёмными соками. Солнце зависает над морем, но звёзды пропадать не торопятся. От воды поднимается туман, и они, теряя яркость и блеск, дрожат в его редеющей дымке. А может, это они смеются над разговором, который сейчас пойдёт на крошечном и далёком от них драккаре с серо-красным парусом…
Хёгни подменил конунга Харальда на руле, и Харальд пошёл к носу. Неторопливо, держа за поясом большие пальцы. Посматривая, как остальные взрезают вёслами волны под свирель Свейна – приятеля оравшего про протекающую бочку Кнуда. Правый ряд, левый… Левый, правый… Всякий раз перед Харальдом с одной из передних скамей маячила широченная спина в стёганой кожанке.
Харальд тихо хлопнул по плечу дремавшего под мачтой светловолосого паренька:
– Подмени Рагнара. Пусть отдохнёт.
Паренёк пригладил вихры, сонно сморщился и в следующий миг уже стоял около гребца в кожанке.
Харальд думал, что Рагнар откажется, но тот кивнул и отодвинулся от гребного люка. Паренёк втиснулся на скамью к самому борту, поймал вращающуюся рукоять весла. Несколько совместных ударов для приноровки, и Рагнар отпускает весло.
Отдышавшись, Рагнар утёр полой куртки пот и поднялся со скамьи. Наверное, он понял, по чьей указке подошёл парень. Глаза его кололи Харальда безжалостно, как колет и пропарывает обшивку борта вмёрзший в ледяную гору обломок дерева.
«Передай рыжему, Торвальд, что о своей чести он вспомнит, только когда будет валяться в луже со свиньями».
… Харальд поспешил отвернуться первым.
Кнуд подкатил бочонок. Он должен отдыхать после гребли, но слоняется по палубе почём зря.
– Кричал-кричал тебе!.. Хвали меня, Харальд! Я вчера на ней сидел! Вот обод на трёх гвоздях.
– Сказал же, выкинь.
– Нет уж, до берега подожду, надену кому-нибудь на голову, – Толстый Кнуд, старый друг, засмеялся. Как всегда, заразительно.
– Укатывай.
Кнуд, бормоча что-то невнятное, покатил добычу.
Харальд заметил, что ступает по мокрым пятнам от Рагнаровых подошв. Бывало – и совсем недавно тоже – что эти доски смазывала кровь с выбитыми мозгами… Которые потом замывал и тот, чьи следы ведут на нос.
«Поговоришь со мной, Рагнар?.. Поговоришь? – с трепетом взмолился Харальд. – А то я свихнусь, и мою издёрганную душу унесёт в ледяную пустыню».
Рагнар стоял спиной к Харальду, облокотившись на бортовой брус.
Разговор начинать бывает трудно. Пару раз Харальд открывал рот и передумывал…
– Молчишь? Ну молчи дальше. Ты едва ли десять слов сказал за всё плавание.
Харальд так разозлился на собственное косноязычие, что не заметил, как эти слова слетели с языка. И за ними свалилось по тяжеленному мешку с каждого плеча.
Рагнар, наконец, разлепил губы:
– А ты хочешь, чтобы я пел тебе песни? Я плохой певец, Харальд.
В его тёмно-карих глазах больше не плавала отколотая от льдины молчаливая смерть. Гора растаяла под солнцем, и опасный сук из её внутренностей пошёл ко дну.
Лицо его ничего не выражало, будто бороду, усы, морщины у носа заткали слоями паутины невидимые пауки. Может, тот колючий взгляд привиделся? Вспомнился не ко времени?..
«Он заговорил. Так что пересиливай себя, Харальд, отвечай».
– Нам не нужно будет бояться, что ты язык проглотил.
Харальд опёрся на один из прибитых к борту щитов – ближайший к Рагнару, с красным соколом.
Рагнар сдвинул локти, освобождая ему место.
– Мы бы послушали твои плохие песни…
– Какие? – буркнул Рагнар, исподлобья посмотрев на Харальда. – Я знаю много песен, Харальд. Про богов, о море. Все они хорошие. Я даже когда-то сложил одну, – Он отвернулся дальше созерцать пузырящуюся морскую пену, смешанную с утренним светом. – А что толкает людей складывать хорошие песни? Иной раз и горящая деревня. Быть может, та, откуда ты родом.
Харальд стукнул кулаком щит с раскрашенным соколом. Как нос, как скулу, как живот врага. Плевать на вконец сбитые костяшки.
Вышло громко. На них с Рагнаром пялились. Харальд чувствовал любопытствующие взгляды даже сквозь шерстяной плащ с поднятым до ушей воротником.
– Ты клялся!.. – зашептал он с яростью. – Ты на мече Ингвара клялся! Что прошлое осталось в прошлом! Нет? Это для тебя ничего не значит? Ни я, ни Торвальд, ни Ингвар? Всё было впустую?
Вздрогнул ли Рагнар от его прямых вопросов, Харальд не заметил. Но на виске у Рагнара забилась жилка. И шевельнулась борода, а рот в ней сжался в злую щель.
Рагнар, опустив голову на грудь, выцедил нитку слюны. Сплюнул, растёр мыском сапога, хрустнул плечами, поникшими после ночи за веслом.
– До сих пор меня винишь? – снова спросил Харальд.
А Рагнар снова замолчал.
Но когда Харальд опять стукнул щит, чуть было не полетевший от этого в волны, и развернулся уходить, Рагнар сказал:
– Сразу видно, как редко в своей жизни ты прощал. Но я давно знаю тебя, со всеми твоими потрохами. Всё, что ты мог сделать – ты сделал вдвойне. Я оценил это тогда и ценю сейчас.
Харальд несколько мгновений переваривал услышанное.
Его смех, неуверенный сначала, потом нарастающий – пока не отозвался отгласами с берега – заставил напрячь загривки оба ряда гребцов. Харальд с размаху хлопнул Рагнара по спине, а Рагнар опустил голову. На сей раз в его бороде была улыбка.
Харальд прокричал – нет, даже проорал! – гребцам, тормоша Рагнара за обширное плечо:
– Хвала Пресветлым Асам, я вернул брата!..
И тихо-тихо, уже совсем стискивая Рагнара, спросил:
– Так что ж ты молчал?
– Помучить тебя, дурака, подольше хотел.
Час спустя Харальд подменял Хёгни-кормщика. Пристань покажется через три поворота дикого побережья, и по обычаю заводить в неё корабль будет хозяин. Мачту сняли, парус завязали, гребли вполсилы – течение по осени сильное и само несёт в нужном направлении.
Около бокового руля стояли ящики, и на них, закутавшись в медвежью шубу, отлёживался Рагнар. Все остальные из его смены спали у сложенной вдоль палубы мачты. Гребля их уморила – никто не ворочался в волнении от того, что скоро берег и дом. Но Рагнар не спал. Кашлял и ворочался, устраиваясь поудобнее.
Харальд, стоя рядом, следил за ним краем глаза – и тщетно надеялся. Радости от грядущего прибытия в Волчье Гнездо на лице Рагнара не читалось. Это были чужие ему места.
– Харальд, – вдруг позвал Рагнар.
– Да.
– Кто тот мальчишка, которому ты приказал меня подменить?
Харальд с силой сжал рукоять руля. Рукоять была резная, с узором, отпугивающим зло. Он посмотрел на свои ладони, лежавшие на ней, почерневшие, все в засечках и шрамах – откуда одни он помнил, а другие, наверное, прибавились сами. Таким рукам ничего не трудно. У мальчика будут такие же; хоть он никогда не был белоручкой.
Трюггви, пока не мужчина, но и не мальчишка, как Рагнар назвал его – сейчас в смене гребцов. Вон на носу, из-за спин, плеч, голов выпрыгивают длинные и белые его волосы.
Харальд тогда хотел ему сказать так, как всем говорит – мол, живо на подмену! Но не смог и сказал мягче.
Харальд повернул руль и погладил усы. Усы у него были хорошие, ухоженные. Как по колоску к каждому уголку рта.
– Моё наследство от Бешеного… Сын!
«Эх, Рагнар! – ликовал радостный Харальд. – Хочешь узнать, что же случилось со мной, пока тебя не было? Если да, то поймёшь ли всё, что скрыто за моими словами?.. До Соснового Устья понял бы, будь оно всем под солнцем проклято».
Зашуршала шуба… Это Рагнар сел на ящиках. Жмурясь и улыбаясь разгорающемуся утру, он смотрел на Харальда.
Густая его борода изрядно разрослась во все направления, и даже в нос, но то был прежний Рагнар. И Харальд видел, как ветер сдувает с его лица ненавистную паутину безразличия, обрывая её навсегда.
– Мать Трюггви умерла две или три зимы назад, – негромко начал Харальд, – не так давно, как кажется по сравнению с другим событием. Ведь это тогда мне передали, что Бешеный умер.
– О-о, та весть долетела и до Устья, – Рагнар хмыкнул и скрестил на груди волосатые руки. – Помню, порадовался за тебя.
Харальд взглянул на его скрещённые локти.
«Опять про Устье? Порадовался, говоришь?..»
– Для многих это была хорошая весть, – продолжил Харальд, – а для меня и подавно. Я мог вернуться со спокойной душой. И вернувшись, я однажды наблюдал, как гонят коров… Наших с братом! Наших коров, Рагнар!.. Олав подошёл ко мне и рассказал о Трюггви. Бешеный определил мне в наследство только его. Как моего сына от служанки. Пока Олав говорил, я словно наяву слышал, как Бешеный изрыгает разные оскорбления по этому поводу.
«И слышу опять сейчас…»
– Знаешь, это было вполне в его духе. Он назвал нас с Олавом именами славных конунгов и посчитал, что на этом его отцовский долг исчерпан, – Харальд мотнул головой, рассмеявшись. – Сколько раз он, пьяный, клялся спалить Гнездо! Все думали, он бахвалится… Но он точно довёл бы дело до конца, не прибери его смерть в один прекрасный день. А после хозяином Гнезда по родовому старшинству наконец-то стал Олав.
– Мягкий человек был Олав. Хороший человек. За сколько отдал он тебе парня?
– Ни за сколько. У меня тогда не нашлось ни крошки серебра, Ингвар только собирал нас в поход… Ты прав, Олав был хороший человек. Он просто отпустил Трюггви. А я с трудом уговорил Ингвара взять мальчика на борт. Ингвар орал, что на его драккаре нет лишних припасов, тем более для пастухов, и что я ещё глупее Бешеного. Но он живо сдался, когда я заявил, что не иду в поход… Трюггви пришлось нелегко за веслом, но всем нелегко в первый раз. В этом Ингвар был прав. Хотя к концу похода Ингвар признал-таки, уже не цедя сквозь зубы, как он это умеет – что Трюггви неплох для пастуха. И даже, – Харальд, задыхаясь от смеха, похлопал по рулю, – учил его вести корабль. Да! Доверил ему своего Серого! А я был горд как никогда. Я видел себя, рыжего, кусачего, под этими белыми волосами… Только они ему от матери достались. Вместе с лишним лежаком в скотнике.
Оскорбления и похабные разговоры про служанку-мать Харальд пресёк сразу и навсегда. Хватом за горло весельчака Кнуда. И полётом того до самой кормы. Не без кровавого дождика…
От рассказа, вопреки ожиданиям Харальда, крылья за спиной не раскрылись. Наоборот, тянуло в какую-то тревожную пучину. Из тех, что скрывают риф от заспанных глаз кормщика, или из тех, откуда прорываются новые течения.
– Некоторые великие конунги, – говорил словно издалека Рагнар, – не имели и лежака. Как и ты когда-то. У парня хорошая судьба, и ты можешь сделать из него великого конунга.
Решение, как обойти пучину, жравшую Харальда, вдруг оказалось простым, и Харальд принял его сразу. По приезде в Гнездо он не будет откладывать, сегодня же прикажет готовиться… Рагнар прав. Волею Пресветлых Трюггви однажды станет великим и славным конунгом.
Сегодня ночь древней охоты – когда Один и его эйнхерии поскачут по далёким облакам сражаться с Кораблём-Мёртвых и ледяными истуканами. Сегодня время отстаивать весну и власть добра во всех подвластных Пресветлым Асам мирах.
– А я говорил с ним, – сказал Рагнар, – перед отплытием, вечером у Торвальда. Немного, правда. Но круто… Паршивец не признался, что твой сын.
Харальд расхохотался:
– Неужели стыдится меня?
«Пусть это шутка, но кто-то же дёрнул за шнур, ведущий к твоему сердцу – не так ли, Харальд? И согласись, чем старше ты становишься, тем легче нащупываются такие шнуры».
Рагнар, как всегда хмыкнув, устало покачал головой:
– Он со мной случайно столкнулся. Угрожал всевозможными карами, принялся чего-то там доказывать. На это я хотел только посмеяться… Хорошо, что он понял, насколько сглупил. А ты не бойся. Видел бы ты, с каким лицом он следил за тобой, когда ты на пристани раздавал приказы. И как он посмотрел на меня, когда я сказал, что ему повезло с конунгом.
С солнца ушёл туман, и по морю от него, вторя счастью в душе Харальда, пробежала волшебная пламенеюще-золотая тропка. Трудно было бороться с искушением и не повернуть драккар на неё.
– Знаешь, Рагнар, – Харальд провёл большим пальцем по усам, стирая улыбку. – Я возвращаюсь сюда, потому что это мой дом. Я хочу посвятить Трюггви здесь и хочу, чтобы его посвящал ты.
Рагнар прищурился в свете поднимающегося всё выше солнца.
– Не надо меня, Харальд. Не думаю, что это хорошая мысль.
Харальд спросил, еле сдерживая взвившуюся ядовитым огнём обиду:
– Почему?
Рагнар говорил медленно и, вероятно, только половину того, что думал на самом деле:
– Есть причина… Не из-за наших дрязг. Со мной охота у Трюггви не выйдет такой, как тебе хочется. Посвяти его лучше сам. Раньше он, наверное, молился на каждое слово о тебе. Он будет рад, а ты, я думаю, и сам этого хочешь.
Как всегда, Рагнар сказал достаточно.
Даже предостаточно. Харальд, не став спорить, замолчал…
Льды размером со страны позади. По правому борту тянется побережье – непрерывная мозаика с неровным, неразборчивым узором из красного, серого, коричневого гранита, песчаника и мрамора. Порой встречаются серые камни, светло-серые, тёмно-серые, бурые, огромные угольно-чёрные. Иной раз совсем синие, как небо в летнюю полночь. Меж камней ползёт и колеблется высохшая трава, а по сколотым зернистым поверхностям живой радугой расцветают лишайники. В тёмной кайме леса, что растёт поверх камня, песочно-красными мазками выделяются погибшие в прошлые зимы сосны.
Совсем скоро скалы разгладятся в пологий склон, который закончится обширной пристанью и посёлком – торговыми и защитными вратами усадьбы Волчье Гнездо.
Сон ушёл, а за ним ушёл и миг пробуждения, похожий на рывок из кромешно-чёрной глубины на переливающуюся светом поверхность, по которой когда-то плыл драккар Харальда Рыжего Волка.
Время открыть глаза, вспомнить собственное имя и приподняться на локтях.
За утро небо расчистилось в ровную бело-серую пустошь, по которой мела позёмка из тумана. Облака вдали застыли неприступными горными кряжами. Чайки улетели дальше по берегу, за бухту, но их крики будто остались на гальке вместе с объеденными рыбьими скелетами.
Торвальд достаёт из матерчатого дорожного мешка сушёную сельдь в мелкой соли. Один кусок он отправляет в рот, а саму сельдь сбрасывает на камни чайкам.
Запивать пришлось из ручья. Их около утёса целая семейка, льётся в море по окаменелым руслам. Тут ничего не растёт, кроме вереска, который высох в ковёр из ломких стеблей и недоцветших цветов. Чем ближе пролесок и ручьи, тем зеленее и мягче этот ковёр. И тем заметнее в нём тропинка.
Встав, Торвальд долго отряхивает с плаща приставший вереск. Хотя в пролеске травы прилипнет гораздо больше.
Мешок ложится на плечо; Торвальд оглядывается. Чайки прилетели. Слышно, как они дерутся на прибое за найденную рыбину, но вопли заглушает мерное, поглощающее мысли шуршание гальки…
Губы Торвальда, потрескавшиеся от ветра и пересоленной пищи, размыкаются в детской, едва заметной улыбке.
Море вернётся к нему. Он может в этом поклясться. Море никогда не отпускает своих сынов. К тем, кто хоть раз ходил по морю, оно придёт даже в предсмертном сне.
Но сейчас тропинка в пролесок зовёт всё отчётливей, всё нетерпеливей.
Пока он плавал по морю, на побережье пришла осень. Пускай и опоздавшей гостьей.
Листва держится, но своды пролеска уже налились мертвенной жёлто-коричневой краской. Своды покачиваются, показывая небо, и от каждого порыва ветра с ветвей на шапку и за шиворот сыплется редкий липкий дождик. Приходится подтягивать плащ чуть ли не до ушей… Иногда на тропинке попадаются замёрзшие лужицы, и под пяткой ломается ледяная корка. Цветы по-осеннему пышны, по-всякому красны, белы и желты.
Вдали трещит дятел. Постепенно его стук превращается в отглас иного мира, от которого вздрагивают плечи, если вслушиваться. И хочется громче насвистывать непотребную песенку про девушку, которой в ответ на её желание отказывает возлюбленный.
Уже нет осинок и берёзок, растущих на песке и гальке чахлыми сорняками. Тут не кусты-молодняк из низин, в коих из ручьёв собираются речки. Здесь высятся отборные строевые, мачтовые сосны.
То и дело у пней попадаются следы подношений с начертанными углём и краской рунами. И щепки серые, рыжие, а то и совсем белые, пока что не утонувшие во влажной чёрной почве…
Море продолжало шуметь в сверкающих просветах между многослойным частоколом из стволов. К острому запаху соли ветер подмешивал дым – дым из человеческих жилищ, его с другим дымом не спутать.
Тропинка вклинивалась в дорогу, широкую, накатанную. Луж на дороге было больше, чем на тропке, ведь её проложили в русле высохшего ручья, и она, огибая кусты бузины с ярко-красными ягодами, уходила к посёлку, который ссыпался к пристани, как осадок с пологого склона.
В дальних загонах звенело блеяние, за домами гоготал заблудившийся гусак, а на улице грызлись собаки… Тёмной верёвочкой поднимается дым – по-видимому, это кузница – оттуда гудит молот, и гудение его высоко-высоко повисает в воздухе. На дощатых настилах громыхают повозки, их тянут понурые лошадёнки. Идут, налегке или скрючившись под тюками и бочонками, горожане в таких же войлочных шапках, как у Торвальда.
У торговых мест раскладывали россыпи из мечей, топоров, разноцветное стекло, бирюзу и нефрит нанизанными бусами, кожи, восточный шёлк и меха с севера.
На причале оживились – подошёл торговый корабль.
Его парус собрали, к бортам кинули доски и мостки. Пока привязывали к столбам цепи с кормы и носа, по доскам уже скатывались бочки с дорогим франкским вином.
Но тропинка не спускается к пристани, а бежит на пригорок, вдоль бузинных зарослей, у которых стоит Торвальд.
Он вытягивает руку и вздрагивает, коснувшись бузинной ветки. И моргает, быстро-быстро, почти до слёз.
Потому что видит обоими глазами.
«Начинается…»
Миг назад с ветки свешивались гроздья алых ягодок, но сейчас вместо них сгрудились соцветия. Их обрамляют листья, острые, как торчащие из колчана наконечники стрел. И цветочки пахнут необычайно резко.
Лес разбежался вправо и влево разом, ведя вслед за каждой стороной расширявшийся, обострявшийся взгляд каждого глаза, пока не схлестнулся за затылком. Торвальд, даже не оборачиваясь, увидел, на которой из сосен…
Лес не стал ни ниже, ни выше. Но раскрылась подложенная иными мирами его скрытая половина.
Ярко и пронзительно вспыхивает солнце.
Между тропинкой и цветущей бузиной прямо на Торвальда, подхватив юбку, бежит девушка.
Под её башмаки стелется сочный зеленеющий вереск, сосны переливаются самыми радостными и беспримесными оттенками – кажется, что в лес спустилась поиграть стая солнечных котят. Вьющиеся волосы девушки порхают облачком вокруг головы и длинной косы. Платье её синего или зелёного цвета, но на солнце почему-то полыхает ярко-багряным… Бузина обильно цветёт звёздочками и пахнет просто оглушающе.
Свет сияющей бурей, будто по огромному водовороту, стягивался в одну точку. И этой точкой была девушка. Световая буря двигалась вместе с ней, не отпускала, ловила её как добычу.
Девушка захлёбывалась, смеялась от счастья, и по её щекам бежали мокрые дорожки… Или это ещё девочка? Лицо гладкое и юное, и радоваться так может лишь ребёнок. Наверное, она и была ребёнком, а старше казалась из-за роста.
Проскочив в волоске от Торвальда, она побежала по траве вдоль дороги.
Торвальд пошёл следом в лес.
Шагая, он слышал, как сухо хрустит лёд, но в следующий миг вокруг щиколотки чавкала затхлая, прогретая солнцем жижа. Порой там плавали головастики, вернувшиеся из какой-то ушедшей весны. Дорога иной раз сужалась в полоску толщиной с ногу, и пыльная трава, свешиваясь с её обочин, секла колени. Пряно пахло влагой и летней грибницей, но виднелся лишь убитый солнцем желтоватый мох и чёрные точки клюквы в нём. Времена года, оставшиеся в лесу, окончательно сошли с ума.
Краски густели, становились резче. Плоские тени восставали, будто вырезанные, и солнце немилосердно било между ними. Цвета блекли, как бывает при тепловом ударе. Запахи и живого, и сухого мха – со всех времен года – залетали в ноздри и перемешивались, чтобы Торвальд расчихался…
Ясень на поляне, серокорый, редколистный от старости, закрывал почти что полнеба. В его корнях сидел паренёк в рубахе из сурового льна, перешитой несколько раз и болтавшейся мешком на плечах – любящие матери сыновьям так не шьют. Ярко-белые волосы затеняли лицо до подбородка, но руки, плечи, то, как он сидел – Торвальд понял, что знает мальчишку.
«Эй, Трюггви! – хочет окликнуть его Торвальд. – Ты как тут…»
Но Трюггви давно вырос. Он сейчас высокий славный воин, уже не мальчик-пастух.
Но, Пресветлые Асы и духи родного леса, это он! Это он, обнимая колени, жмётся к стволу по-мальчишески худенькой спиной, и стук из его груди наполняет пролесок.
Это маленькому Трюггви мир видится безмолвным бело-чёрным ненастьем.
Воспоминания переставшего шелестеть пролеска оживали, распускались и умирали, словно лепестки цветка. Вот Трюггви выбегает на поляну. Вот он сидит под ясенем, растирая кулаком по лицу слёзы и сопли. Вот он зайцем бежит от ясеня к Торвальду. Хлюпает ртом и носом, а волосы колышутся сзади белым отсветом…
Да, таким он мог быть восемь зим тому назад. Правда, Торвальд впервые увидел его мальчиком повзрослее. Перешедшим-Море.
Трюггви не добежал до Торвальда полшага и пропал, а мир потемнел, подчинившись подростковой обиде… В пролеске рассветёт, когда по тропинке пойдут трое – Трюггви в медвежьей куртке, худой и невысокий мужчина, а за ними Торвальд.
И он еле поспевал. Призрачный лес мешал, не давая догнать и хлопнуть этих двоих по плечам – как порою бывает и во снах. То вставала стена новорождённого комарья, то в лицо летели стаи мух и слепней. Или дул ветер с дождём, сменявшийся колючими хлопьями.
– А у Гуннхильд, – вдруг услышал Торвальд высокий мужской голос, – попроси прощения и подари чего-нибудь… У неё и без тебя мало радости… Это ведь она летом носила тебе поесть…
Сугробы оттаивали и тут же замерзали в серый ледяной панцирь. Его осколки крошились под подошвами, смачивая прошлогоднюю траву и превращая её в почву.
В плаще то было нестерпимо жарко, то он не спасал от пронизывающего мороза. Торвальду хотелось то надсадно кашлять, то вытирать, не переставая, рукавом липкое лицо… Тем же двоим всё было нипочём.
Оказывается, с Трюггви идёт Горм, слуга из Волчьего Гнезда. Это его медвежья куртка на Трюггви.
Горм что-то негромко говорит, покачивая пальцами перед собой. Трюггви дуется, судя по плечам и затылку, но в бело-чёрный мир прозрачными водяными пятнами возвращаются краски. Вместе с равновесием в его юной душе…
Торвальд сморгнул скопившуюся влагу и поднял левую руку к левому глазу. Увидеть ладонь он смог, лишь когда сдвинул её к самому кончику носа… Наваждение кончилось. Да, всё же нечасто. Отвыкает он видеть мир с левой стороной.
Трюггви и Горма впереди не было, как и следов от них. Дорога была другой, изгибалась по-иному, а из кустов по её бокам выросли настоящие деревья.
Вокруг чернеют ёлки. За их нижними голыми лапами просматривается ярко-жёлтый березняк, а в нём – кровавые глазки бузины. Ельник глухой, невысокий, в полтора-два человеческих роста. Не пройти, не расцарапавшись.
Но с каждой зимой ему приходится отходить от усадьбы Волчье Гнездо.
На новые вырубки тянутся огородные плетни из ивовых прутьев, обмазанные смесью глины, песка и щебня с морского берега. Прямо у елей вырастают склады для шкур, дровяники, ближе к жилью – для еды. Новые овчарни, козульники, хлева для коров (лошадей держат в прибрежном посёлке), птичники для кур, уток, гусей, хижины для слуг. Всё больше и больше работающих тут решают перебраться из посёлка к хозяевам и старым слугам семьи.
Дом конунга в середине предгорной пустоши виднеется отовсюду. Восемь зим назад, вступив в права хозяина, Харальд Рыжий Волк следующим днём велел перестроить старый.
«Хлев Бешеного», – сказал он тогда, выругавшись.
После дом растянулся ввысь и вширь, на старые огороды, на часть сада и прежнюю мусорную яму. Тёсаные, плотно пригнанные брёвна золотятся до сих пор, не потускнев за суровые сезоны и не потрескавшись – Харальд отбирал их с друзьями-корабельщиками, которые знали древесину да толк в строительской стезе. Наверное, поэтому дом походил на корабль, зависший на вздыбленной волне. Из-за его красоты мало кто вспоминал хлев Бешеного, что полвека был неотделим от здешней пустоши.
Крышу дома покрывают переплетённые слои соломы – в середине каждого лета поверх прошлогоднего слоя кладётся свежевысушенный. Главный вход, как положено предками, смотрит на благостный солнечный юг.
Из дымохода вьётся струйка, а вокруг мшистых валунов на пустоши журчит ручей. Около огородов он замедляется. Камни со дна выковыряны, кое-где перекинуты мостки. Вдоль берега тянется плетень, за которым по рядам кочанов ползает слуга с корзинкой. Как только ручей выбегает за пределы усадьбы, камни на дне обнажаются, и среди них бурлят омуты, ледяные даже летом. Там, стоя в воде по щиколотку, женщины полощут одежду.
Они распрямляются, когда видят на тропинке незнакомца в войлочной шапке и кожаном плаще.
Торвальд улыбается всем их приветливым и неприветливым взглядам. Сбрасывает с плеча мешок и поднимает руку с веткой бузины.
Только сейчас он вспомнил, что отломал её на развилке.
– Меня зовут Торвальд Одноглазый, – говорит он в возникшем пытливом молчании. – Конунг Харальд пригласил меня на пир.
– Провидец! – вскрикивают прачки и кидаются к пришельцу.
Шлёпаются на камни скрученные тряпки, вертятся в водовороте чьи-то штаны… Стирать остаётся только одна. Прачки засыпают Торвальда вопросами, трогают его прославленный плащ, а она взглянула лишь раз, наморщив лоб.
Торвальд отвечает невпопад и украдкой следит за ней поверх затылков в белых платках.
Платье у неё шерстяное, старое, уже до неуловимого окраса полинявшее от солнца, пота и частых стирок. Поверх платья надета безрукавка до колен из жёлтой овчины, без завязок и нараспашку. Она трёт кулаками брошенную кем-то рубаху, и её коса шевелится меж лопаток. Выбившиеся вихры налипли на лоб, на щёки, и кудрявятся, как волокна вокруг старого каната…
Лицо маленькое, черты не проглядываются из-за обильных веснушек, сливающихся в рябое пятно.
Она отжимает постиранное и собирает своё в корзину. Вскидывает напоследок круглые блёклые глаза.
Если б меньше солнце жарило её лицо, если бы чаще она носила новые платья, мыла, распускала и расчёсывала косу. Если б… Она давно, похоже, не была тем радостным источником лучащегося сияния.
Она поднялась и горделиво пошла к дому. Будто лохматая коса была короной из золота и драгоценных камней, а она сама – королевой крови, не иначе.
За огородом, посчитав, что её никто не видит, побежала по тропинке, мелко-мелко, как мышка.
Глава II, в которой на пиру собираются и живые, и мёртвые
В церкви рухнули все четыре столба, на которых по обычаям вырезали книжников. Ингвара ударило по шлему и перебило спину; пыль, забившую рот во время крика, вместо слюны стала смачивать кровь. Ему повезло – он оказался под самой верхушкой кучи, в которую сложилась церковь. Когда пали стены, он стоял возле оконного проёма, поэтому смог выползти наружу…
– Вот как думаешь, Кнуд, проклинал ли он себя? – спрашивал Торвальд Провидец, Торвальд Одноглазый. – Себя, распоследнего в мире глупца, и всё ходящее на двух ногах?.. Нет, он смеялся. Он готовил ловушку эйринцам, а попал в неё сам, со своими людьми.
Рассказ льётся… Сельди плывут по стенным доскам, как живые. Плещутся, переворачиваются, трутся брюшками с икрой о края приколоченных щитов. Икра на самом деле буро-коричневый след кисти между их нижними плавниками. Сквозь другие мазки, белые, синие, чёрные, проглядываются прожилки древесины. Если потереть пальцем, на подушечке останутся чешуйки краски.
Ушам Гуннхильд рассказ напоминает дождь, рассыпающийся по натянутой коровьей коже. На крышах из шкур дождь звучит особенно громко. Слова, как капли, падают часто, быстро, от каждого под ключицу прыгает сердце… Журчание с козырьков обычно заглушает крики из двора, которые не хочется слышать. Прямо как этот рассказ.
Гуннхильд очень любит рассказ, храброго Ингвара в нём и голос рассказывающего. А она его видела? Это он шёл по тропинке с моря, когда Гуннхильд стирала?
Выглядывать не надо… Её увидят. Не надо.
С улицы её в тёмном углу не видно. После наружного солнца там ещё темнее, а выходящих яркий свет заставляет щуриться…
Что это за гром? Небо за дверью синее, на нём ни облачка! Но это не гром, а внезапно раскатившийся хохот.
Когда гремит гром, в одном месте крыши тонко-претонко, как бескрылая оса, гудит расщепленная дранка. Сейчас она тоже гудела.
В грохочущем хохоте глумливо хрипит пьяный голос:
«Сам-то прыгал?»
Гуннхильд узнала старого толстого Кнуда. Подтянула на шею безрукавку из ярочки, которую выхаживала позапрошлой осенью, и на полглаза выглянула из-за углового бруса.
За столами трясутся гости. Смутно знакомые. Громадные, огромные. Их пять или шесть… Смеются, качаясь во все стороны.
Одноглазый тоже улыбается, уголком рта с полосками знаменитого шрама. Его пальцы, как гадюки, покачиваются у подбородка.
«В моих родных местах сети иногда уносит в море, – начинает он в ответ новый рассказ. – Плести и рубить сети – дело священное, поэтому сами они не менее священны, и их берегут… Поэтому за ними приходится нырять. Если сеть достать удаётся, то море милостиво. Если она порвана или запуталась в камнях, море грозит пальцем. Если сети нет, – Пальцы Торвальда расцепились, а ладони разошлись в стороны, – море обиделось на своих детей. Летом ныряют мальчишки, осенью парни. И я пару раз нырял».
Гуннхильд тоже нырнула.
Перед этим сжала губы, чтобы не выпустить ни пузырька воздуха. Надула щёки, закрыла глаза.
Рядом плывёт Торвальд, разводя руками перед лицом. На лице, на шее играет волшебный зеленовато-жёлтый свет, разглаживающий все складки на коже, даже глазной шрам… Однако на самом деле он за столом, а не под водой с Гуннхильд. Лоб его спокоен, губы не подняты к носу, а пальцы стукаются друг о друга вместо того, чтобы постепенно превращаться в плавники.
«Ну? Признавайся, Кнуд, – улыбается Торвальд, – ты же нырял и, похоже, поглубже, чем я, раз спрашиваешь такое?»
Он заглянул под стол и мыском одного сапога стукнул по щиколотке другого.
«Я, пьяный, нырял вот посюда. Гляди. А ты? По колено-то было?»
В ответ на это дранка снова гудит от хохота.
Гуннхильд растянула губы в улыбке и засунула в рот кулак. Так глубоко, что даже выступили слёзы.
Толстый Кнуд любит посомневаться в чужих заслугах. У него же кроме пьяной славы отнимать нечего. Шутил ли он сам, или над ним шутили – всякий раз все смеялись охотно, и Кнуд тоже смеялся. Посмеяться он любил. Щёки его багровели, как вино, которое он нещадно поглощал, покатые плечи и пузыреподобный живот тряслись под рубахой.
«Бух-бух, бух-бух», – бухают поблизости чьи-то шаги.
Кто-то остановился возле угла Гуннхильд. Это Старая Уна.
В её правой руке, коричневой, костлявой, с набухшими венами, ведро с ломтями солёной свинины, новое, деревянное. В левой расплёскивает очистки и ошкурки треснутое старое…
Ведро со свининой ставится на пол. Его тут же уносит подскочившая служанка.
«Что стоишь? Стену подпираешь, – Уна шипит в сторону Гуннхильд и плюётся через сломанный зуб. – Без тебя не упадёт! Я тебе что сказала? Вот хоть мясо помоги таскать! Сейчас хозяйка придёт, а я и так уже за тебя, молодую, бегаю! Пожалела дуру! Давай иди! Делай, что говорят, или уходи! – Уна, сузив губы до ниточек, замахивается свободной рукой на Гуннхильд, как на собаку. – Уходи!»
Напрягшаяся Гуннхильд не шевелится. Она представляет себя одним целым с брусом-подпоркой, к которому жмётся грудью. Она не слушает Уну. Ведь подпорки не имеют ушей. Старуха умолкает, и становится слышно её злое свистящее дыхание.
Уна берёт ведро с очистками в отдохнувшую руку и выходит за порог, оставив, наконец-то, Гуннхильд наедине с сельдями и Ингваром Бойцом.
К счастью Гуннхильд рассказ продолжается, разворачиваясь дальше, подобно мотку восточного шёлка с чудесными цветами и узорами…
На самом верху бруса чернеет точка, которую по кругу обходит красно-жёлтый ободок. Это глаз. Нарисованная сельдь улыбается – край щачла подтягивается к глазу, и он, как живой огонёк, сверху подмигивает Гуннхильд.
«Я видела», – говорит сельдь.
Говорит как Старая Уна, если её станет передразнивать Гуннхильд.
«Плыла под лодкой, под рулём. Под стариком… И видела, как прыгнул Ингвар. Хочешь, расскажу?»
Спросив это со смешком, рыба замолкает. Повесть Торвальда льётся дальше… Пока он рассказывает, Гуннхильд ничего делать не будет.
Старая Уна вышла на задворки, затянутые крапивой – стоявшей зелёной даже в первые морозы – опрокинула в яму помои из ведра и громко сказала то, что так или иначе думали все:
– Несчастный ребёнок.
При том, что Гуннхильд давно не следовало считать ребёнком.
В часы недовольства на свою жизнь Уна ворчала на всё и вся; но всякий раз вспоминала Гуннхильд, успокаивалась и жила, как живётся, дальше.
Надо бы разогнать бездельников в зале и послушать, что рассказывают… Разбегутся. Из почтения к старости.
Она вздохнула так, как могут вздыхать старухи, и поковыляла к дому. Горма вызовут на двор за мясом, Уна растолкает слуг и встанет на его место слушать Провидца.
Перед локтем Торвальда лежат глиняная тарелка и оклёпанный серебряной проволокой рог.
От его лица не отрываются почти дюжина глаз, его рассказ ловят почти дюжина ушей. А то и больше, если посчитать всех слуг. Как долго будут смотреть на него, как долго будут слушать – столько же будут пополняться рог и тарелка…
И наконец-то после долгой дороги Торвальд за столом конунга Харальда, без прилепившихся к телу за три дня шапки с плащом. Они висят за его спиной, на стенном крюке вместе с мечом.
По правую руку от Торвальда сидит его приятель Рагнар, справа от Рагнара во главе стола – сам Харальд. За другим столом сидят старинные Харальдовы друзья Свейн и Кнуд. Пришёл ещё Трюггви, сын Харальда, и сел на белый стул по правую руку от конунга.
– Шли белые ночи, – продолжает Торвальд, – в стране Эйре они незаметны, но небо до самого рассвета удивительно светлое. Море днём греется, и за ночь холмы побережья затопляет туман – в котором не видно ничего.
Ингвар в белой плотной пелене лежал на обломках и смеялся. Рёбра болели нестерпимо, будто в них остывал жидкий свинец.
Одинокий смех, который пугал даже его самого, бился оглушённой летучей мышью среди развалин города, несчастной жертвы Ингварового нападения. Туман поглотил всё – развалины, тлевшие угли, мёртвые тела эйринцев и его людей.
Ингвар подумал, что как жалки, наверное, теперь носовые драконы его подожжённых драккаров. И захохотал громче.
Он умолк, когда по улице разнеслось шарканье. Наплевав на взвившуюся боль в лёгких, повернулся на локтях. Кто-то ещё выжил?.. Он отпихнул ногой доски, придавившие колени, и пополз с кучи.
«Даже кровному врагу не пожелаю ползти по останкам здания, которое строилось на века и рухнуло из-за тебя, – скажет Ингвар однажды своему другу Торвальду. Помолчит и добавит: – Иной раз упрёшься во что-то холодное и увидишь, что это чей-то окровавленный лоб, влажный от тумана. Или рука, которая, как тебе кажется, вот-вот сожмёт твою – отчего ты сразу сделаешь штаны тяжелее. Но этой ночью она окоченела насовсем».
Ингвар поднялся на ноги, вскарабкавшись по врытому в зелёный дёрн каменному кресту. В Эйре их часто помещают напротив входа в церковь. Вскарабкался, надо сказать, с трудом.
Туман рассеивался, шарканье слышалось ближе. Ингвар сунул руку за пазуху, где прятал нож. Эйринцы тоже вполне себе шаркают… Сломанные меч и щит пропали в развалинах, поэтому вся надежда была на ножик. И на шлем, выдержавший удар стен, треснув одной только кожей на боку.
Вдоль церкви к морю ковылял кто-то высокий и крупный. К шарканью прибавлялся шелест – рваным хвостом за идущим по битым кирпичной кладке тянулся плащ. В жилистой руке, тонкой, но с широченным запястьем, блестел посох, похожий больше на копьё.
Человек хромал бодро, переваливаясь с ноги на ногу. Видимо, приноровился с годами к застарелому ранению.
«Эй!» – крикнул Ингвар и, мигом одумавшись, прикрыл рот ладонью.
Но из повернувшегося лохматого капюшона выпала борода. Длинная, белая, лишь ото рта тянулись жёлтые подпалины. Старик соизволил обратить внимание на Ингвара. Хотя явно видел все его шевеления с самого начала.
«Подожди! – крикнул Ингвар. – Эй! – И повторил на наречии Эйре: – Подожди!»
С каждым шагом в ноги и спину Ингвара возвращалась былая крепость, никаких ран не чувствовалось, и он размеренно бежал по кирпичам и взрытой земле. Старик маячил далеко впереди, бубнил что-то неразличимое, махал рукавом в туман и бил камни посохом.
Только у самого моря Ингвар потерял его в проклятой дымке. Лёгкие горели так, что изо рта почти вылетал огонь. Ингвар подумал, что отстал.
Подумать о том, зачем нужно было догонять старика, он не успел. Из тумана выплывала двувёсельная лодка…
Старик умостился на её носу. Плащ цвета сгустившейся тучи разгладился, став частью лодки. Из просторного рукава высунулся палец с птичьим когтем и показал на доску у вёсел.
«Что стоишь? – спросил старик плавным и тягучим говором, каким разговаривали дед Ингвара и его ровесники. – Садись!»
«Кра!» – раздалось над Ингваром, и в клубах тумана мелькнула воронья тень.
Ингвару показалось, что она раздвоилась. И что вторая тень была шире по размаху крыльев.
В воду между ним и лодкой что-то плюхнулось. Чернея кровавым ногтем, на поверхность всплыла содранная с чьего-то пальца кожа. Ингвар хмыкнул – вороньё добралось до еды. Вдобавок, на дальних холмах уже гудели волчьи трели.
Повернув голову, Ингвар крикнул:
«Иду, дед!» – И попрыгал к лодке по камням над водой.
… Лицо старика не различалось даже вблизи. Из провала капюшона высовывался лишь нос, острый, серый, крючковатый. Часть правого крыла отсутствовала, и ноздря, казалось, задиралась вверх, к переносице.
Ингвар примерился к вёслам. Они двигались легко; слушались так, будто в них, как древесные корни, вросли его руки.
«Куда?» – спросил Ингвар у старика.
Тот не ответил… Поэтому пришлось отпустить вёсла. Ингвар проследил за взглядом из чёрной дыры в капюшоне.
Из тумана одна за другой вырастали знакомые шеи носовых драконов. Драккары отнесло от берега, и они дрейфовали, полузатонувшие, накренившиеся. Ингвару было горько видеть на их отборной древесине жирные угольные пятна, на которых ещё плясали язычки пламени. И от которых в сырость тумана примешивался сладковатый смрад.
Ингвар поклялся про себя, что в жизни не приблизится к побережью Эйре.
– Помнишь, Свейн, когда ходили с Ингваром, сколько раз он отказывался даже поворачивать в сторону Эйре…
– Дай дослушать! – мигом прервал Кнуда Харальд. Тишину он мог наводить быстро. – У тебя в кружке что ли пересохло? Долейте ему, чтоб рот не раскрывал.
– На это я согласен. Наливай, Горм…
Горм, очень худой, невысокий, с коротко подстриженными чёрными волосами и бородой принялся размешивать вино на дне ближайшей к очагу бочки.
Он главный слуга в Волчьем Гнезде. Без него Гнездо вовсе не Гнездо.
– Правильно, Кнуд, – кивнул Торвальд. – Всё правильно ты сказал. И я подмечал избирательность в его приказах.
Когда Ингвар, призывая в безмолвной клятве богов в свидетели, дошёл до имени Одина-Всеотца, старик расхохотался на весь туман, чуть было не выронив посох в воду.
Как в чём-то неделимом, в его смехе сливались треск высохшего дерева, карканье вороны и волчий лай.
«Зря зарекаешься, – сказал, отсмеявшись, старик. – Сам себе заграждаешь загончик. Здесь ходить. Там не ходить», – И раскаркался снова.
Ингвар удивился. Неужели его мысли прямо на лбу стадом паслись?
«Это не твоё дело, – ответил он. – Если тебе что-то не нравится, я выкину тебя из лодки и вдобавок веслом дам по…»
Старик, прекратив смеяться, хлестнул посохом волну за бортом – а Ингвар, охнув, скорчился. Позвоночник завыл в том самом месте, куда ударил церковный столб. В рёбрах проснулся свинец, и на голову наделся раскалённый глиняный горшок. О сжавшиеся кулаки ударились рукояти вёсел.
«Греби!» – приказал старик и шевельнул длинным костистым пальцем в сторону моря.
Ингвар смотрел в чёрный провал с бешенством, но пыхтел и двигал вёслами. Те скрипели, поторапливая.
Плыли они долго. Но куда? Сколько ещё? Ответы на эти вопросы Ингвар ждал с нетерпением.
На светлеющем небе высыпали звёзды, но в известные созвездия они не складывались. Стоило вглядеться, как в запрокинутую шею натекал приступ боли. Звёзды скрывал туман, который то рассеивался на тончайшие слои, то сгущался дерущимися клоками. Иногда вдали прорывался световой столб, и на глади моря играло солнечное белое золото. Раз или два на волнах недолго плавало снежное крошево. Плыла ли лодка вдоль мелководья или по открытому морю, было непонятно – глубина под днищем не просматривалась.
Ингвар чувствовал усталость ещё на первом гребке, но как человек моря, в море он забыл про неё. Ингвар то проваливался в тяжёлую дрёму, то просыпался, от того что судорожно вздрагивали руки, которые, оказывается, гребли сами по себе…
Наконец, Ингвару надоело. Хорошо, если старик везёт его – его же руками – к богу-великану Эгиру на пир. Но скорее Мировому-Змею в глотку.
Он громыхнул вёслами о борт:
«Куда мы плывём?»
Старик не шевелился.
Неужели от него осталась лишь одни тряпки?.. Но из капюшона высунулся щербатый нос.
«Греби!» – И старик снова опустилв воду посох.
Боль в костях вспыхнула сильнее, но руки прекратили ныть, слившись крепче с рукоятями. С детства не плакавший от обиды Ингвар вытер слёзы о плечо и поглядел злобно на старика.
Подождав, он спросил старика во второй раз:
«Куда мы плывём? – И прорычал: – Я устал».
«Греби», – Старик будто только это слово умел говорить, не корёжа на старый лад…
И Ингвар тут уверился, что везёт Одина. Вроде бы в старике ничего явно не выдавало Первого-Вождя, Прародителя и Первого-Бога, но то был бог Один.
Тот наверняка знал об Ингваровых догадках, хотя Ингвар в мыслях продолжал называть его стариком. С черт лица, прорисовывавшихся в провале капюшона, уходила нечеловеческая переменчивость. На месте мёртвого глаза показалась пустая дырка.
Ингвар спросил в третий раз – уже с близким к смиренному почтению уважением:
«Куда мы плывём?»
Старик положил четыре пальца на его вздувшийся от напряжения кулак, немного подержал, и Ингвар с облегчением отпустил вёсла. После пальцев старика на коже осталось странное сухое тепло.
«В Место-С-Множеством-Имён», – ответил Один.
Длинное слово из праязыка, появившись в голове, рассыпалось на несколько простых и понятных. Ингвар всё же переспросил:
«Куда?»
Старик распрямил просторный рукав, указав за спину Ингвара.
Туман перестраивался в проход с призрачными колоннами и стенами, в конце которых влажной чернотой наливался массив суши – и становились различимы побережные камни, исполинские корневища между ними и лес поверху.
Ингвар вскочил, хрустнув коленями. Он уже не мог не представлять, как ищет пресный родник, ведь слюны во рту даже на плевок не осталось. В скалах наверняка найдутся птичьи яйца, хотя гомона гагар или чаек не слышалось – остров восставал в безмолвии. Камни были чистыми, без белых подтёков. Что ж, тогда он поищет грибы с ягодами. Клюкву, бруснику, а если попадётся дикая яблоня или рябина…
«Рябина там есть, – Старик назвал имя, слово на праязыке: – Листья-Золотые-Ягоды-Алые».
Ингвар не отрывал взгляда от ритмично шевелившихся на острове деревьев. Чем дольше он всматривался, тем отчётливее на них рдели скопления пятнышек, похожие на гроздья рябины.
Старик рассмеялся. И то был скорее клёкот хищной птицы, нежели человеческий смех.
Он протянул Ингвару на ладонях две красные грозди. По грозди – из каждого мешковатого рукава.
«Хочешь? – спросил он, продолжая хрипло, с искреннейшей радостью смеяться. – Как раз поспела».
Ингвар выхватил ягоды и запихнул их в рот прежде, чем клешни старика, кривые, испещрённые рубцами, успели вернуться под плащ. Ягоды, восхитительно-кислые, распухшие от сока, давились под его пальцами, проливали сок на губы, и рот уже не был сохнущим от летнего зноя болотом.
Ингвар не заметил, как в длинной седой бороде с рыжими подпалинами зашевелились губы.
«Ешь, ешь, – услышал он, – едой мёртвых в первый раз непросто насытиться».
И Ингвар выплюнул в море всё, что было у него во рту. Перегнувшись через борт, засунул два пальца до самого горла, закашлялся… Зачерпнул воды, принялся полоскать рот.
«Не бойся, – говорил ему в сгорбленную спину Один, – ты великий воин и конунг. Я забираю тебя в чертог Украшенный-Серебром. Ты сядешь там под самые богатые золотые щиты».
Ингвар выцедил изо рта воду, солёно-кислую от рябины и желудочного сока.
«Зачем?» – прохрипел он и съёжился в нервной судороге.
Лохматый капюшон, повернувшись, кивнул на остров, где над лениво расступавшимися прибрежными деревьями сплетались в светозарный узор ягоды, горевшие как угли, и листья цвета солнца. Узор рос вверх – и рябина поднималась над островом.
Вёсла застучали в петлях, а лодка боком по течению понеслась к каменистому берегу.
Ингвар впервые за сегодня смертельно испугался.
«На острове люди находят то, что ищут всю жизнь, – сказал Один. – Правда, когда они получают желаемое, это оказывается равносильно смерти. Им становится незачем жить дальше… И они уходят из мира живых».
Ингвар поднял голову от воды и, вскинув брови, улыбнулся старику:
«Но я не хочу умирать!»
В голосе старика больше не слышались крики посвященных Одину тварей. Вместо них в голове Ингвара мерным колоколом звучали вопросы:
«Разве к этому часу не догорели драконы с носов твоих кораблей? Разве не потонули твои драккары, выплыв в открытое море? Разве не сложил ты из обломков святого дома свой погребальный холм? Разве не умерла твоя душа на восточном побережье Эйре…»
Подскочив, Ингвар схватил старика за грудки. Тот был лёгким, невесомым, будто под его плащом были только кости.
«А разве, – вторя вопросам из своей головы, прошипел Ингвар, – я сам не знаю, что я жив? Жив, слышишь? Могу повторить это прямо в заросли в твоих ушах! Я жив! И собираюсь жить дальше».
Зрячий глаз Одина переливался игривой радугой, как драгоценный камень, и непрошенно лез в душу Ингвара… В Ингваровых руках, державших плащ старика, проснулась премерзкая боль, которая мигом разбежалась от локтей до лопаток.
«От меня не уйдёшь, – Ингвар со всех сторон слышал этот шелестящий шёпот. – Даже если прыгнешь в море. Ты утонешь и войдёшь в залу мёртвых, лишь невежливо припозднившись».
Ингвар разжал трясущиеся кулаки, и старик бесшумно опал на доску.
Вёсла хлопали по волнам, крутились во все стороны, и лодка неслась, качаясь, к острову… Ингвар решился.
Он наступил ногой на уключину и вытянул руки навстречу развёрстой, пенящейся пасти Брата-Смерти. Вода, словно губы, если у змей есть губы – х-хлюп! – сомкнулась за его пятками… Прыгните в море, когда идёт снег, и узнаете, каково бывает, если на вас обрушивается целый мир. Тело, которое перед этим едва-едва царапал ветер, тут же сдавливает жгучая вода, но её давление – сущий пустяк в сравнении с холодом, от которого одежда не спасает, а совсем наоборот; рубаха, штаны, и особенно сапоги превращаются в толстую изморозь и налипают второй кожей. В носоглотке, на языке появляется солёный налёт, кровь в теле тоже становится солонее и… И голова выныривает на поверхность. А бывает, что не выныривает – куда ты плывёшь, ко дну или вверх, иногда понимаешь слишком поздно.
Однако Ингвар умел плавать как никто в мире живых…
Вода с грохотом вытекала из ушей, а холод скапливался неравновесными гирями в сапогах. Сомкнув губы, облупившиеся лохмотьями, Ингвар расталкивал ногами воду и кидал руки вперёд. С лодки казалось, что к острову течение очень сильное, но на самом деле море стояло почти как опавшее тесто. Поэтому отплыл Ингвар далеко и от лодки, и от острова.
Он будто затылком видел – который колола шилом ноющая боль – как остров искрится невозможными цветами, и поверх него на полнеба, как корона из белого золота, светятся ветви. И скорбным колоколом повторяется имя этого древа – слово из праязыка, распадающееся на четыре слова из языка нынешнего:
«Листья-Золотые-Ягоды-Алые».
Имя волшебной рябины, у которой листья золотые, а ягоды всегда алые…
«Тебя ждёт счастье, – помолодевшим голосом старика пело дерево, – то, ради чего вы, смертные, живёте. Тебе больше ничего не надо искать».
Ингвар заговорил вслух, заглушая старика:
«Я честный воин, поэтому всё беру по праву силы. Захочу и сам поверну к острову. Но почему, почему я должен поворачивать?»
«Найди своё счастье, храбрый, что будет длиться вечность…»
«Боюсь? Боюсь, – признался себе Ингвар. – Почему мне страшно? Я трус? Это позор? Но я не хочу… У меня тысяча причин, чтобы жить, и это тысяча моих якорей. Есть те, кто меня ждёт».
Ему и вправду было страшно. Страх дикий, животный, как у целого стада овец, клокотал внутри вонючими пузырями, стекал по лицу с потом и смывался морем. Ингвар, прекрасно себя зная, не потакал страху, а крутил руками быстрее. Он думал, что его спасение кроется в этом, и он был не так уж неправ. Когда рассудок возвратился на место, Ингвар обернулся.
Остров растаял в смутное пятно, прикрытое серо-дымчатой завесой. Глаза перебежали левее, и Ингвар дёрнулся прочь, чуть не утонув под волной. Почти все силы ушли на то, чтобы выплыть из-под неё.
Смаргивая слёзы и морскую воду, Ингвар подумал, что лодка плыла вслед за ним – настолько старик казался огромным. Поначалу, не веря глазам и своему суеверному ужасу, Ингвар решил, что это так причудливо соединились море, туман и туча.
Старик, нищий странник, бог Один, словно бы с сожалением смотрел на Ингвара и мёртвым, и живым глазом. Бородатое лицо то прояснялось, то таяло. Ветхий плащ преобразился: капюшон стал пластинчатым шлемом блестящего сплава – иногда такие шлемы находят в древних холмах – а на накидке у шеи и по плечам засеребрился пышный меховой воротник.
Сухо сверкнул зарницей в чёрной-пречёрной туче наконечник копья-посоха Гунгнира, Бьющего-Без-Промаха, и призрачный Всеотец исчез вслед за вспышкой. Остались безжизненный туман да ветер, воющий, как волки с побережных холмов Эйре.
Какое-то время спустя страх стал бесполезным и глупым… Ингвар покачивался на волнах, раскинув руки крестом и смотря на звёзды. С наступлением утра небо посветлело, но они остались. Силы Ингвара восстанавливались медленно, а ледяная вода успокаивала боль в костях так же верно и безжалостно, как раскалённое железо рану.
Он старался не думать попусту о таких вещах, но утонет он или нет – в душе насчёт этого, как чайка в скале, угнездилось безразличие.
После краткой передышки он поплыл. Иного выхода ему не оставалось. Плавать он умел как никто в мире живых.
Торвальд подпёр нос сцепленными пальцами. Если он нервничал, эти пальцы было не разорвать.
– Ингвару повезло. Когда он замёрз до окоченения и уже слышал, как на спине трескается ледяная корка, из тумана вышел корабль. Его увидели и выловили. Он сразу спросил об острове, и ему ответили, что поблизости ничего нет. Но не только Ингвар видел остров – были другие очевидцы… Да, Ингвар не утонул. Не успел, как он пошутил.
Туманное море со снегом отступает, вместо него восстаёт свежеструганный тёс стен. Лодка Одина и Ингвара выгибается вширь и распадается на пиршественные столы, за которыми сидят люди. Люди во плоти, а не тающие воспоминания.
Торвальду согревает горло вино, славно льющееся ручьём в пересохший рот… В этот мир он по-настоящему вернётся, только утолив жажду. И пока он пьёт, ни с кем не хочет встречаться взглядом.
Служанки в тишине помешивают варево в огромном железном котле. Или переставляют на можжевеловые подставки горшки из очага. За очагом стоят открытые винные бочки, за ними рядочками уложены закрытые. Дальше только спальный угол хозяев в глубине дома.
Соседи Торвальда по столу забыли про выпивку и еду, стывшую на серебряных и деревянных тарелках.
Кто-то выглядывал из-за столба перед порогом, но Торвальду было не до переглядок в ответ. К тому же через дверь муравьями сновали слуги – наверное, кто-нибудь из них.
Харальд отхлебнул вина из своей золотой чаши и по праву хозяина сказал первым:
– Я слышал это. После его смерти болтали всякое, и думается мне, много врали. Ведь всегда врут про таких людей после их смерти?
– Врали много, – кивнул Торвальд. – Но я не единственный, кому Ингвар всё рассказал… Говорю на случай, если кто-то из вас услышит это снова, но не от меня. Знала жена – куда без неё? – и ещё двое-трое. Не один же я таскался с ним по местам, куда нас не приглашали, – И все, хорошо знавшие Ингвара, расхохотались.
Громче всех гудел Рагнар, поскольку сидел рядом с Торвальдом. Харальд тихо скалил зубы под рыжеватыми усами.
Ингвар звал исследовать белые пятна на картах всех-всех, даже самых случайных знакомых. И все с радостью шли в эти походы, ведь под началом такого конунга легко на следующий день очутиться в песне.
Торвальд хмыкнул. Забывшись, поднёс пальцы к шраму на глазу. Отдёрнул их и продолжил:
– Мне он рассказал, когда мы пересекали горные ледники Грёнланда. Вот я смотрю на очаг и вижу не вас, красавиц, – На это служанки всполошились, но громко засмеялись, – а наш костёр в одной из тамошних пещер. И худое лицо Ингвара над ним. Наверное, ему было трудно держать в себе пережитое.
– Да, – покивал Харальд. – А после следующего плавания Гудрун стала вдовой.
Все сегодняшние гости ходили в тот поход, все плыли на сером драккаре Ингвара, гребли там в двух сменах. Все они рубили снасти по Ингварову крику, сражались в разгоревшейся стычке. Всё к ним оттуда вернулось…
Опять на носу драккара стоит Ингвар. Он хмур – будто впереди не исхоженный путь в Альдейгью, а странная, неизвестная дорога. И поэтому Ингвар подумывает развернуть серый драккар обратно домой.
Из-за другого стола на Торвальда моргают бело-голубые, как пузыри, глаза Свейна. Старый, незлой Свейн, над которым приятно посмеяться. Он грохает кружкой о столешницу и пресмешно вздрагивает от неожиданного звука.
– Ты говоришь об Ингваре прямо таком, каким он был, – говорит Свейн.
– Потому что это он рассказывает, а не я, – пошутил Торвальд, – от меня лишь язык требуется. Да, таким он был, Свейн. Это правда.
Свейн, посопев, хотел добавить пару слов, но захлопнул рот. Потому что заговорил хозяин Харальд, тихо и задумчиво:
