Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера бесплатное чтение
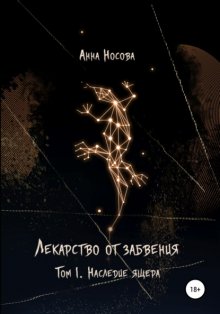
Пролог
Матерь звезд Сферы неспешно и величаво завершала свой ежедневный обрядный танец над той частью древнего мира, что была вверена ей самим Прародителем. Мягкий вечерний свет, струясь легкой газовой вуалью в чистом морском воздухе, ложился косыми лучами на хранимую богом Огня землю Харх. Необъятный остров, возвышающийся над таинственным морем Вигари, в закатные часы выглядел особенно царственно – в том смысле этого эпитета, где он проходит опасную границу со словом «грозно». Отбросив излишнюю осторожность, можно было бы взять это слово в руки в виде горящей воинственным пламенем короны и увенчать им землю Харх – вот истинная мера величия острова огненных воинов и их подлинного короля Каффа.
Конечно, необразованное, далекое от семантических (как и прочих других) изысканий население острова не знало о значении названия своей родины. Этот сильный телом и духом народ исстари служил лишь одной науке – тактике ведения боя, и если какое-либо из существующих на Сфере искусств могло пленить его сознание – это было военное искусство. Однако если бы главный военачальник Харх – Рагадир Твердокаменный – был знаком с древними языками, то на ежедневных военных учениях, дабы укрепить и без того высокие патриотические чувства подчиненных, не упускал бы возможности напоминать им о происхождении названия защищаемой ими земли.
– ХА! – горным эхом с левой стороны строя раскатывался бы по равнине у подножия королевского замка первый слог, отпечатываясь в сердце каждого воина словом «огненная».
– РХ! – звучно выдыхали бы бесчисленные, идеально ровные ряды с противоположной стороны, заключая в этот грозный рык всю свою воинскую мощь и ярость.
«Ярость» – именно так переводится второй слог в названии острова с древнего языка, преданного забвению в заброшенной библиотеке королевского замка, где паутина траурной каймой обрамляла летописи о военной доблести и чести легендарных предков хархи.
Ибо бездна прошлого, словно ненасытный зверь, поглотила и события, и героев той летописи, и сам ее язык. Жизнь же, давно ставшая размеренной и безмятежной, с каждым днем все больше отдаляла островитян от прежних потрясений. Полчища сменяющихся поколений перепахали собою пески огненной земли, Матерь звезд озарила ее бессчетным множеством рассветов, а череда созвездий будто бы соскоблила острыми лучами часть небесной бирюзы. Во всяком случае, так поговаривают старцы, и нет ни единой причины им не доверять. Но даже они, седовласые северные долгожители, на вопрос о правдивой истории Харх и ее священных заветах лишь задумчиво покачивают белыми головами, не в силах ни вспомнить, ни разгадать наследия давно ушедших времен. Лишь самые дряхлые из них порой что-то неразборчиво шепчут о памяти Каменных голов, упрятанных высоко в горах Убракк. Однако происходит это, как правило, в тот торжественный и скорбный миг, когда с умирающим уже начинают говорить боги. Неужели кто-то воспримет эти слова всерьез и не сочтет их предсмертным бредом? Задумается ли сын или внук такого старца: «А не попытать ли мне удачу на Севере?»
Особенно нынче – в столь спокойный, безоблачный век. Счастливое мирное время…
Как и у яркого дневного света есть сводная сумрачно-отрешенная сестра ночь, темная сторона его сущности, так и мирное время – благо двуликое. Одной рукой оно озаряет нас пленительными надеждами на будущее, а другой окропляет зельем беспамятства. Укрощает оно демонов темных времен, которых за спиной мы носим в зной и стужу; заклинает оно змей, уже смыкающих кольца отчаяния на шее нашей; целительным сном изгоняет видения и призраков; дарует мужество поджечь погребальную ладью и отпустить ее в море.
Так и поступили хархи много звездных оборотов назад. Не в силах противиться дурманящему действию этого зелья, они закрыли глаза на грозные события прошедших лет. Их цивилизация значительно упростилась, сбросив с себя чешую исторических и культурных ценностей, и, даже не дав себе труда должным образом сохранить летописи о подвигах предков, огненные воины взяли курс на создание мощной державы, готовой отразить любое нападение на священную землю Харх. Вся многовековая династия их королей следовала трем главным принципам управления, передававшимся наследникам вместе с опаловым венцом власти: «Сильные воины – безопасность»; «Крепкие стены – защищенность»; «Всем, что не усиливает безопасность и защиту, – пренебречь во имя бога Огня и подлинного короля Харх». Почему пренебречь и от кого защищаться – этого уже не помнили ни короли, годами наблюдавшие за военными учениями с высоких дворцовых террас, ни народ острова, всегда находивший себе занятие в упражнениях с оружием, многочисленных турнирах и поединках, да и просто в цикличном водовороте хозяйственной жизни средневекового уклада.
Но какое-то смутное, не имеющее лица и физического образа видение времен седой старины все же неизменно колыхалось в свежести хвойно-соленого воздуха Харх. Оно упрямо оседало пепельными клочьями на утесах огненных опаловых гор, заставляя каждого из королей возводить стены еще выше и следить за учениями еще зорче. Огненный народ существовал подобно улью, монотонно и слегка тревожно жужжащему в тишине летнего зноя, но готовому в любой момент впиться ядовитым жалом в руку, потянувшуюся за медовыми сотами.
Не успев скрыться за пурпурным горизонтом, Матерь звезд всеми гранями своего рдеющего тела ощутила, как та самая тишина вдруг задрожала. Натянулась вибрирующей скрипичной струной на острие фальшиво взятого аккорда. Повисела несколько секунд в закатном воздухе, сея мелкую рябь на воде. Выдержала паузу длиной в два лихорадочных вдоха человека, ожидающего оглашения приговора. Еще один резкий, судорожный, хриплый вдох, подхлестывающий и без того бешено колотящееся сердце.
Это раздувались узкие ноздри, привыкшие дышать и придорожной пылью, и мшисто-грибным запахом пещер, и эфиром невесомых облаков. А когда-то давно – воздухом совершенно иного рода.
Под шершаво-глянцевой кожей уже накопилась убийственная доза яда. В голодных желтых глазах отражались хаотически вьющиеся спирали. Вертикальные зрачки расширились в злорадном предвкушении, требовательно, но вместе с тем вопросительно косясь вверх.
– Не сейчас, – властно ответила Всадница.
Глава 1 На Перстне
Утро застало остров в том же круговороте повседневных забот, что и последние несколько спокойных, как штиль, звездных циклов. Прошла церемониальная смена королевской стражи и часовых, равномерно распределенных вдоль высокой каменной стены, опоясывающей замок-гору надежным графитовым кольцом.
Выстроена эта стена была еще в эпоху короля Гимеона – прадеда нынешнего короля Каффа, которому в глубокой старости открылся дар видеть в снах легендарные события из прошлого Харх. Хоть и монархическая власть на острове издревле считалась священной, а королевские приказы – неоспоримыми, все же многие и во дворце, и в народе узрели в возведении немыслимо высокого укрепления лишь воплощение «игр старческого разума». Дословно же требование гласило: «Окольцевать огненную опаловую гору таким перстнем, чтобы любая змея состарилась, прежде чем вспорола бы чешую о зубцы его верхушки». Поэтический указ произвел тогда немалое впечатление на безграмотных подданных Гимеона. Письменность к тому времени успела полностью исчезнуть из обихода хархи, поэтому фраза вихрем разнеслась по острову, передаваемая из уст в уста. В несколько дней она стала крылатой, позже – частью народного фольклора и неиссякаемым источником шуток, которыми то и дело шепотом перебрасывались по тавернам, лавкам и постоялым дворам простосердечные и слегка грубоватые в своей жизнерадостности хархи:
– Гляди, Далида, король-то на старости лет окольцевать гору свою вздумал. Песок-то уж сыпется, а все туда же! Мало ему королевы нашей подлинной, еще и гору-невесту подавай!
– Гимеону, видать, яблоко червивое после обеда попалось, так он стеной до неба решил от червяков защититься!
Долго еще жители огненной земли упражнялись в остроумии, наблюдая, как, вопреки их насмешкам, стена с каждым днем растет и приближается по высоте к окружаемой ею горе. На строительство Перстня – так окрестили городское нововведение хархи – были брошены огромные силы. Несмотря на то что на острове не ощущалось недостатка в искусных ремесленниках, плотниках и гончарах, первому советнику Гимеона пришлось приложить немалые усилия, чтобы заручиться достаточным количеством рабочих рук для выполнения столь масштабного приказа. Требовались ежедневные объезды дворов, мастерских, домашних хозяйств с призывом немедленно бросить все дела и прибыть к рабочему лагерю, разбитому у подножия стены, чтобы подключиться к строительству и «достойно послужить своему подлинному королю Гимеону во имя Огненного бога». Крепкие, выносливые, неприхотливые в быту и покорные любым проявлениям монархической власти хархи смиренно следовали за советниками и глашатаями, готовые приступить к выполнению королевской воли.
Лагерь под Перстнем разрастался пропорционально размерам стены вокруг замка-горы. Лояльный к своим подданным, король Гимеон до сего момента не отличался подобными актами эксплуатации жителей Харх, но теперь лицо его каждый раз довольно сияло, когда с высоты своей обители монарх бросал взгляд на панораму строительства. На закате лет, как ни странно, острота зрения не покинула Гимеона. Так что в погожие сумерки он нередко выходил на свою террасу, где подолгу полулежал на кушетке, украшенной коваными завитками и крупными оранжевыми рубинами, вглядываясь в происходящее внизу.
Королю было по-отечески отрадно смотреть в лица жителей острова – воинственные, словно вырубленные в скале и обточенные ветром. Каждая черта этих лиц говорила о твердом характере, жизнелюбии и стойкости духа. Скромный рост хархи компенсировался недюжинной физической силой как у мужчин, так и у женщин. Их не знающие отдыха мышцы скульптурно проступали под льняными рубахами и туниками. Бронзового цвета кожа идеально гармонировала с жесткими густыми волосами, рыжеватые вкрапления в коих напоминали всполохи закатного светила на морской глади.
Как сталь несгибаемы,
Как пламень огненны —
Страх давно уж забыл к сердцам их дорогу,
Мечом и огнем венчаемы
Короля горы подданные —
Дети звезды-матери и Огненного бога.
Так поется в песне, что древнее самих огненных опаловых гор. В песне, которая порой витала и над рабочим лагерем у подножия стены, нестройным многоголосием доносясь до слуха старого Гимеона; вызывала тихую улыбку на морщинистом лице, успокаивала тревожные мысли, которые приносила ему ночь на своем черном бархатном палантине. Ибо были то мысли, леденящие душу и сковывающие плоть. Они наполняли разум образами существ, которых не видел никто из живущих на острове, которые не фигурировали ни в легендах, ни в трактирных байках. Каждую ночь, шурша по каменному полу, они подползали к королю и сдавливали его виски тесными рядами смертельно опасных бус… И сон Гимеона лишался безмятежного покоя, необходимого для сохранения душевного равновесия в наступающем дне.
Ночь за ночью.
Подобно черным волнам безумия, мысли набегали друг на друга, разрушая песочные замки здравого смысла, которые еще несколько лет тому назад казались незыблемыми твердынями.
Вскоре наблюдения за работой неутомимых хархи перестали приносить королю былое удовольствие. Его упорство сменилось лютой одержимостью. Властно взяв под руку седого Гимеона, она увела его под своды своих сумрачных чертогов, не дав даже оглянуться, чтобы увидеть отчаяние в глазах детей, королевы и всего двора. В несколько дней все происходящее вокруг, кроме растущей стены, обесценилось для короля. Пугающая бездна разверзалась внутри каждого, кто был с ним в его последние дни, пока всесильный бог Огня не подарил ему облегчение, укутав в белоснежный саван в королевском склепе напротив Святилища. Но даже когда с чуть слышным шипением погасла в воздухе последняя искра ритуальных факелов, король Гимеон продолжал смотреть на простившуюся с ним семью лихорадочно блестящими глазами, обрамленными черными кругами бессонницы и безумия. Какими благами и достижениями ни было ознаменовано правление ушедшего монарха, получилось так, что в память его окружения прочно впечатался именно такой образ: страдающий от мнимого удушья старик с трясущейся головой, перебирающий на шее невидимые бусы: «Еще каменный ряд. Еще один. Еще! Еще!»
Шли годы, часовые продолжали соблюдать установленную Гимеоном традицию – они вели наблюдение с Перстня и сменяли друг друга в установленном порядке. Утро семнадцатого дня Ящерицы1 не стало исключением. Утомленные бессонной ночью караульные спешили передать пост дневным дозорным, чтобы, набив желудки сытным завтраком в одном из лепившихся к стене трактиров, безмятежно заснуть под пахнущими сеном и шалфеем домоткаными одеялами в своих казарменных домишках из необработанных бревен.
– Какие новости, Дримгур? – поинтересовался низкорослый крепкий юноша, принимая оружие и шлем у своего напарника, готовящегося вкусить вышеперечисленные прелести жизни. – Море ночью, похоже, было спокойное, все равно что льдом покрыто.
– Ты-то откуда знаешь, как лед этот выглядит, Умм? – насмешливо глянул сверху вниз широкоплечий Дримгур, тряхнув рыже-каштановыми, словно смазанными маслом, вьющимися волосами, как будто пытаясь избавиться от преждевременных объятий сна. Поразмыслив несколько мгновений, он предположил: – Опять ходил истории безумного Тихха слушать? Говорил я уже тебе, что один вред от них! Побоялся бы хоть бога Огня и жрицы Йанги! Старик с разумом, как Гимеон-царь, давно попрощался, а вы слушаете, время от службы и отдыха отнимая. Тьфу! Вот тебе уже и море льдом каким-то покрыто, а завтра…
Распалившись на пустом месте, обессиленный ночным бдением Дримгур не смог расшевелить свою фантазию, чтобы привести достойный пример пагубного влияния вечеров «у оракула», полюбившихся островитянам.
– А завтра за ваши разговоры во время церемонии смены караула будете награждены отправкой в замок-гору, – раздался звучный голос командующего королевской стражей аккурат за спинами спорщиков. – Усиление стражи во время королевского совета – почему бы и нет?
Юноши вмиг умолкли, потупив взгляд, и даже не подняли головы в сторону начальника, выражая смирение и готовность понести наказание. Несмотря на свой молодой возраст и недолгий срок службы, Умм и Дримгур были хорошо знакомы со сводом военных правил на Харх и с последствиями их нарушения.
В течение своих первых созвездий в армии молодые стражники каждое утро на учениях громогласно повторяли за командующим Заповедь огненных воинов – древнейший кодекс поведения и внутреннего распорядка, передававшийся из поколения в поколение. Каждый последующий день учений добавлял новый раздел Заповеди, который будущим воинам предстояло выучить, присоединив ко вчерашнему отрывку. И поскольку грамота как форма культуры игнорировалась на Харх уже тысячи звездных циклов, у поступивших на службу не было возможности записать ни строчки из обширного свода правил. Приходилось запоминать – каждый день и помногу. И так уж вышло, что Умм должен был стараться больше других.
Имелись на то свои причины, коими юноше, увы, не приходилось гордиться.
В отличие от большинства товарищей, он смог попасть на учения у замка-горы в роли будущего служащего королевской армии с огромным трудом, сделав практически невозможное. Сложность заключалась не в недостатке физических способностей, выдержки или дисциплины. Нельзя было сказать, что юноша в глубине души тяготел к занятиям другого рода. О нет, напротив! Мечты о сияющих на солнце кованых доспехах и красно-золотом отличительном знаке королевского стражника не покидали его с самого детства. Вихрем носясь по окрестностям фермерских угодий деревни Овион, где жили и работали его родители, Умм упражнялся в боевых приемах с аккуратно обточенной отцом дубовой веткой, издалека смахивающей на деревянный меч, который действительно использовался на настоящих учениях. На груди мальчика в такие моменты обязательно развевался лоскут красного ситца, который по его просьбе мать каждое утро прикалывала к простой рубахе из небеленого полотна. Прямо напротив сердца.
К наступлению возраста призыва на учения Умм, не отличавшийся высоким ростом среди и без того низкорослого населения Харх, все же демонстрировал недюжинную силу, замечательную ловкость и сноровку в обращении с оружием. Понятное дело, его деревенское окружение, занятое возделыванием земельных угодий, уходом за скотом и молитвами Огненному богу и верховной жрице, о настоящем оружии могло только слышать. Или так, из праздного интереса бросить пару взглядов на ослепительный блеск клинков во время турниров. Истинной же тяги к военному искусству у потомственных земледельцев, предпочитавших жить «в труде во благо бога Огня» и «поближе к чреву плодородной земли-кормилицы», конечно, быть не могло. Не по годам смышленому Умму хватало сообразительности не винить в этом родителей и не искать с ними споров о собственном будущем. Он просто спокойно наблюдал за неспешным ходом жизни своей семьи, подчиненным двум календарям: сельскохозяйственному и религиозному. К его чести сказать, не только наблюдал, но и посильно помогал в поле, на скотном дворе и за прилавком на городских ярмарках.
Не реже двух раз в созвездие2 Умм с отцом и старшим братом Заккиром, нагрузив лошадей увесистой поклажей, отправлялся в ближайший город Нумеанн, чтобы обменять дары плодородной почвы на мешочек железных пластин с королевской символикой – горой, опоясанной легендарным Перстнем. Мальчику всегда было приятно становиться частью того магического процесса, в ходе которого аккуратно выложенные на некрашеных сосновых досках овощи, орехи, пряности и зелень постепенно исчезали, а пирамидки пластин с другой стороны прилавка – росли.
Было ли это искренней радостью крестьянина от реализации плодов его честного труда? Расценивал ли мальчик ярмарочную торговлю как один из способов борьбы за выживание? И да и нет. Все дело в толковании терминов.
Не секрет, что для односельчан Умма «выжить» означало не беспокоиться, чем прокормить семью, когда придет Скарабей3, и на что приобрести необходимые товары в спокойные созвездия года. Так что, возвращаясь с очередной ярмарки и звеня железными пластинами в подвязанных к поясу мешочках и полупустыми бутылками из-под дешевого янтарного вина, крестьяне действительно дышали полной грудью, ощущая приятную усталость вместе с чувством выполненного долга. Перед семьей, детьми, Огненным богом, жрицей Йанги и самими собой.
В выси послезакатного темно-лилового неба Матерь звезд обычно уже вела за своим подолом свиту мелких сияющих огоньков, когда группа удачно поторговавших крестьян с легким сердцем и потяжелевшими карманами въезжала в открытые ворота своего поселения. Некогда и Умм был частью этой группы, оставаясь при этом парадоксально одиноким.
Его внутреннее одиночество, никогда не демонстрируемое окружающим, происходило от несовпадения желаний и возможностей. Эти чаши весов всегда склоняются не в ту сторону, издревле терзая человеческие души, увеличивая своими колебаниями амплитуду земных страстей. Так случилось и с деревенским мальчишкой, который, работая с отцом в поле, ухаживая за скотом и торгуя на городских ярмарках, мысленно оставался частью другого мира. В этом далеком и прекрасном мире Матерь звезд отражалась не в серпе косы, а в до блеска начищенных доспехах. В нем Умма окружали не крестьянские дети, а огненные воины, одним из которых он, разумеется, видел себя в каждом цветном сне. Именно поэтому в железных пластинах с замком-горой и была запечатана мечта Умма, озаренная ореолом божественной недосягаемости. Вместе с тем пластины стали и физическим воплощением средства ее достижения. Чем старше становился мальчик, тем отчаянней он ощущал свое незавидное положение сына землепашца из провинции, для которого, согласно древней островной традиции, двери в мир блестящих доспехов оставались закрыты. Как говорится, ничего личного. Ведь принцип формирования войска из потомственных огненных воинов служил неприступным барьером для представителей всех прочих социальных групп: земледельцев, ремесленников, торговцев, кузнецов, рабочих.
Тем не менее вопреки своему «родовому предназначению», в которое свято верили хархи, вопреки устоявшимся военным традициям и вразрез с убеждениями семьи Умм твердо решил начать действовать. Цель, едва проблескивавшая на горизонте всполохами робкой надежды, властно тянула его к себе на аркане амбиций, юношеского честолюбия и непокорности судьбе. Тянула не по ровной проторенной дорожке, а грубо тащила по пересеченной местности: сдирала загорелую кожу ветками шиповника, жгла спину жаркими языками крапивы, кидала вдруг с размаху на жесткие булыжники. Но продолжала тащить.
Вероятно, этих сравнений все же будет недостаточно, чтобы отразить бурю противоречий в душе Умма перед лицом будущего. Ведь ему предстояло не просто переступить через условности местных обычаев, а перекроить линии жизни на своих ладонях, начерченные самим Огненным богом.
Не менее половины звездного цикла прошло в тяжких терзаниях. Они душили юношу пульсирующими тисками сомнений и не ослабляли хватку даже во сне после тяжелого трудового дня. А уж о том, чтобы открыто обсудить свои дерзкие мечты и авантюрные планы в семейном кругу, не было и речи. Рассчитывать на поддержку и понимание домашних? Каким надо быть глупцом, чтобы просто предположить такое! Стоит лишь представить глаза родителей – молнии гнева в отцовских и молчаливые слезы в материнских – и недоумение на лицах брата и сестры, чтобы навсегда оставить саму мысль о посвящении их в свои тайны. Умм сделался в родном доме до того скрытным и молчаливым, что, признаться, перестал узнавать сам себя. Друзья же, с которыми раньше он проводил почти все свободное время, довольно быстро превратились для Умма в недалеких деревенских парнишек, носа не кажущих за пределы уютного домашнего очага.
Понятное дело, совмещать ежедневные крестьянские заботы с тайными вылазками в кузнечную мастерскую – ближайшая находилась в маленьком портовом городке Доххе, граничившем с деревней Овион, – оказалось крайне непросто. Сколько раз эти планы срывались, отзываясь в Уммовом сердце приступами слепого отчаяния и ощущением собственного бессилия! Нужно ведь было не только успеть справиться со всем объемом хозяйственных работ и найти подходящий предлог для своей отлучки, но и, самое главное, застать в кузнице Дуффа.
Помощник кузнеца, с которым в начале Медведицы посчастливилось познакомиться Умму, вечно околачивавшемуся около связанных с оружием заведений, не видел ничего дурного в том, чтобы «немного подсобить бедному сельскому парнишке в обращении с венцом кузнечного искусства». Дуфф, королевский стражник в отставке, имел в виду, конечно, настоящий стальной меч. Правда, в его представлении, вынимать оружие из ножен «сельский парнишка» должен был исключительно для самообороны в случае нападения по пути с ярмарки.
Мог ли участливый, сердобольный Дуфф представить, что его помощь – это преступный спор с богами о судьбе, избранной ими для его юного подопечного? Разумеется, коли интуиция стражника в отставке соизволила бы вдруг пробудиться, то ни на какое обучение Умму бы не пришлось рассчитывать.
Однако, не иначе как волею тех самых богов, все вышло по-другому. И потому Умм ловил на лету наставления бывшего представителя элитных войск Харх, зеркально отражая все приемы и упражнения, которые тот методически и последовательно демонстрировал своему ученику. Интерес в этом обучении, стоить заметить, оказался обоюдным. Для Умма не было секретом, что Дуфф рано овдовел, а его двое сыновей давно завели собственные семьи и разъехались кто куда. Так что пожилой, но сохранивший военную стать и выправку стражник регулярно и с удовольствием делился плодами своего опыта с благодарным учеником. После каждой тренировки с деревянным мечом напротив кузницы юноша уходил домой со своей неизменной спутницей – мышечной болью. Выматывающей, но вместе с тем, как ни странно, постепенно вживляющей в тело новые силы. В голове он без устали, словно редчайшие на Харх драгоценности, перебирал усвоенные за вечер приемы. Что касается полуседого Дуффа, тот тоже возвращался в свой одинокий дом не с пустыми руками: обычно он сжимал в них мешочек ароматных специй или горсть орехов редкого сорта шицуб4. Отеческая гордость за юного ученика согревала душу вдовца, разливаясь внутри теплыми волнами ностальгии по своей давно миновавшей весне.
Но затем всегда наступало утро.
С некоторых пор Умм яро невзлюбил это время суток. Во-первых, приходилось призывать всю силу воли, дабы побороть сопротивление ноющих связок и мышц. Во-вторых, рассветный час предвосхищал долгий день работы в поле. Работы однообразной, тупой и скучной, отнимающей силы, которые ох как пригодились бы для занятий иного рода. Да и, что говорить, таскаться по полю за плугом Умму стало куда тяжелее, чем, с восторгом ловя каждое слово и движение Дуффа, подчинять себе поющую сталь меча. До чего муторно после этих увлекательных занятий было сосредоточиться на покосе сена, сорняках и удобрении «чрева земли-кормилицы»! Ну а монотонное, если не сказать медитативное, кружение по пастбищу с отарой овец, похожих на облако орехово-бурых завитков, плывущее по бескрайнему травяному ковру, превратилось для Умма в самую суровую каторгу.
Но даже эти трудности меркли на фоне поджидавшей его новой внутренней борьбы – безжалостной и одинокой. Потея и покрываясь гусиной кожей, он проваливался в ее бездну всякий раз, когда, как заправский карманник, незаметно тянулся на ярмарке под прилавком к той самой пирамидке гравированных железных пластин. Руку саднило от накатывающих волн стыда и вины перед ничего не замечающими отцом и братом. Однако так продолжалось лишь два созвездия. Позже Умму открылась новая истина, и она утверждала, что нет на бескрайнем Харх ничего такого, к чему нельзя привыкнуть, особенно если ты молод и сияние мечты слепит твой взор все сильнее день ото дня. А когда до наступления дня сборов оставалось последнее созвездие, волны стыда все же разбились о внутреннее упрямство и уверенность в себе. Они разлетелись на тысячи мелких брызг и постепенно растворились, на прощание плюнув пеной неприятно щекочущего осадка.
Взгляд молодости порой кажется единственно верным способом принятия решений на фоне клонируемых из века в век образцов устоявшегося миропорядка. Этот взгляд, быть может, дерзок, сверх меры категоричен, неоправданно ультимативен. Его принято осуждать, наскоро приговаривать к смертной казни, препарировать под увеличительным стеклом опыта прошлых лет. «Судьи» меж тем в пылу праведного гнева забывают о главном: что порой все же не грех смахнуть с собственных рассуждений вязкий ил предвзятостей, сбросить с плеч окаменелости архаики и поднять голову чуть выше.
Вряд ли Умм задумывался о таких вещах. Не стоит полагать, что, размышляя о собственной судьбе, он воспарял мыслями так высоко, что видел ее в контексте истории Харх. Ни на мгновение в голову юноши не закрадывалась сумасбродная идея о том, чтобы пойти наперекор этой самой истории, не говоря уж о священной воле богов. Откровенно признаться, ни до богов, ни до островной хронологии юному землепашцу попросту не было дела.
И все же одним прекрасным днем он, сам того не подозревая, восстал против того и другого.
Собственных, куда более искренних и незатейливых суждений Умму оказалось для этого достаточно.
В день сборов юных потомственных воинов босой и просто одетый крестьянский паренек уверенной походкой вошел в ворота портового городка Дохха и свернул на его единственную, а потому главную площадь. Рука этого паренька не дрогнула, привычным скрытным движением протягивая командующему группой отбора воинов собранную за полцикла созвездий стопку пластин в грубой холщовой тряпице. Умм не опустил глаза и выдержал тяжелый взгляд командующего из-под ржаво-белесых бровей. Сдержал он и крик фонтанирующего прямо из солнечного сплетения восторга, когда воинственный начальник – юноше не довелось даже запомнить его имя – незаметно кивнул Умму, в свою очередь не меняя каменного выражения лица. Ну а дальше опьяняющий вихрь первобытного возбуждения закружил юношу с мечом в поединке на смотре. И, вероятно, старый Дуфф был бы разочарован, узнав, что одержать победу в демонстрационной схватке его ученику помогли не проведенные у кузницы вечера тренировок, а ни с чем не сравнимый экстаз первого успеха. Еще бы! Ведь его, Умма, допустили до смотра наравне с сыновьями королевских стражников (каким-то чудом в захолустной Доххе нашлось двое таковых)! Остальные же юноши, в зависимости от выказанных умений, способностей и физической подготовки, были распределены по воинским частям Харх.
Задуматься только, ведь изначально судьба не могла предложить Умму и этого! Что до службы в королевской страже… Огненный бог свидетель: это стоило и потраченных пластин, и угрызений совести, и так тяжело давшегося решения бежать из дома! Да что там! Прикажи ему заново пережить все это ради места в почетном карауле на Перстне, Умм не задумываясь бы согласился.
Ибо он был уже не тот, что раньше. Многое, очень многое изменилось с тех пор, как мечты взяли над ним верх.
Лед невинности вместе с незыблемостью векового уклада крестьянской жизни и предрешенной судьбы дали глубокую трещину. Если внимательно прислушаться, можно было уловить глухое эхо скрежета ее расходящихся швов на поверхности исторического полотна.
Оно продолжало гулко пульсировать в ушах Умма, который в составе группы сборов под барабанящим градом впечатлений уже подъезжал на иссиня-черной лоснящейся кобыле к величественному своду трех обвивающих друг друга горных вершин. Перед слезящимися от морского ветра глазами распахнулся вид на грозное укрепление из графитового камня с тонущей в облаках зубчатой верхушкой. Казалось, она насмешливо скалится на приближающиеся ряды будущих молодых стражников, щерясь своими черными выступами с наростами морской соли и ползучего мха.
Однако все это не попало в фокус «взгляда молодости». Все мысли меркли перед той, которая перешагнула порог фантазий и сновидений Умма, найдя свое воплощение в реальном мире: «Я на Перстне…»
«Я на Перстне!»
Глава 2 Собирайтесь, собирайтесь…
Командующий королевской стражей Рубб вечером того же дня, за час до начала совета, отправился в замок-гору, чтобы, пройдясь по его залам, лестницам и коридорам, убедиться, что отличившиеся утром Умм и Дримгур находятся на постах.
Обычная рутинная обязанность – ничего более. Разыскать двух болтливых караульных да сообщить им о предстоящем взыскании за неуставное поведение. Или не сообщить и повременить с этим до вечера, чтоб не расслаблялись. Большой разницы, в общем-то, нет. Он, Рубб, уже неоднократно поступал с подчиненными обоими способами, но так и не определился, которому отдать предпочтение. В конце концов, это всего лишь очередной отрезок изъезженной вдоль и поперек дороги службы, которой, увы, ничем уже не удивить командующего. Он, признаться, на этот раз даже обнаружил в себе отголоски смирения с тем, что Святилище с недавних пор перехватило у него обязанность вершить суд над нарушителями военной дисциплины.
«Что так, что сяк – закончится все прижиганием плеча, которым эти мальчишки еще и гордиться станут, – бесстрастно рассуждал про себя Рубб. – Ну, это так, по молодости, по незрелости своей, разумеется. Пока не раскумекают, что за этими ожогами ничего-то и нет, что они там себе воображают. Одна кромешная пустота».
А уж о пустоте во всяческих ее проявлениях командующий знал не понаслышке. Подступала она к нему медленно, но неотвратимо.
Отец Рубба незадолго до смерти передал ему, вместе с тяжким грузом ответственности за всю их многочисленную семью, золотисто-красную эмблему командующего личной охраной монаршей династии. Рубб принял ее, торжественно склонив голову перед тогда еще молодым королем Каффом, на Ладони напротив замка-горы. Гордость переполняла нового начальника королевской стражи: близость к легендарному роду, причастность к истории Харх, блестящая возможность проявить себя… Именно такой представлял молодой Рубб вожделенную должность.
Но суждено ли было его мечтам исполниться?
Вступление Рубба в должность ровным счетом ничего не изменило в его судьбе: места для подвига в ней все так же не находилось. Он словно попал в хорошо отлаженный часовой механизм, заменив собой пришедшую в негодность шестеренку.
Сравнение, что называется, в яблочко. Действительно, став однажды частью этого механизма, любой королевский стражник, помимо высокого статуса и народного признания, начинал остро ощущать на своем лбу клеймо обезличенности. Не стал исключением и Рубб. Парадоксально, но служба в элитном подразделении армии огненных воинов зачастую горько разочаровывала стражников, и это несмотря на все ее преимущества: близость к королевской семье, внешний престиж, проживание в безопасности и комфорте пределов Перстня. Расхожим стало сравнение помпезности королевской стражи и истинной сути нахождения в ней с неправильно выращенным земляным орехом шицуб. Гладкая ароматная скорлупа с янтарными прожилками, внутри которой вместо вожделенного плода с экзотическим фруктовым вкусом оказывается только синеватая плесень. Усиливало такой эффект древнее предписание, не позволяющее служащим в замке-горе видеться со своими семьями чаще двух раз в звездный цикл. Сохраняя таким образом для стражников возможность продолжения рода, предписание тем не менее превращало хранителей королевского покоя в ряды одинаковых шариков кремнезема5, из которых состояли опаловые горы. Принцип наследственности в отборе стражников, их изоляция от турниров, учений и прочих возможностей проявить свои воинские качества дополняли ритуально-символический характер их службы.
Рубб, унаследовавший высокое воинское звание от отца, в конечном итоге научился воспринимать его трезво, не строя иллюзий относительно каких-либо особых перспектив для себя и своей семьи. Видеть истинную суть вещей – вот чему действительно научила его сияющая на груди эмблема в виде двух мечей, скрещенных над Перстнем. По счастью, за годы службы Руббу удалось выстроить мощный ментальный барьер, не позволяющий обратной стороне этого знака отличия давить на сердце тяжелым камнем нереализованного честолюбия, несыгранных турниров, неполученных одобрительных взглядов короля и его приближенных. Эмблема с мечами – предмет восхищения и зависти среди простонародья – стала восприниматься Руббом не иначе как крест, который он по праву рождения взял из рук умирающего отца и обреченно, но с достоинством понес дальше.
– Спину ровней. Полумесяцы алебард в один ряд. Полная тишина.
Как ни странно, команды напоминали не рявканье сторожевого пса, а негромкие умиротворяющие мантры. От мантр их отличали едва уловимые непроизвольные ноты обреченности.
Но, так или иначе, «часовой механизм», которым управлял Рубб, продолжал работать безупречно. Четверки закованных в бронзовые доспехи стражников были симметрично распределены по периметру замка. Застывшие каждый на своем месте, издалека они напоминали восковые фигуры. Рубб удовлетворенно отметил про себя, что стальные топорики алебард были в этот раз начищены раствором соли и пыльцы драккура6 с особой тщательностью.
«Побольше лоска и почтения традициям, поменьше черных мыслей».
Не один десяток звездных циклов миновал, прежде чем командующий смог в полной мере оценить этот прощальный совет своего отца. Однако, вспоминая его угасающий с каждой встречей взгляд, таящий неизбывную тоску о навсегда упущенных возможностях, Рубб пришел к выводу, что отец и сам оказался бессилен перед легионом тех черных мыслей.
– Явились. Рты чтоб были на замке у обоих, – не меняя интонации, бросил Рубб, проходя мимо Умма и Дримгура. Те подобострастно вытянулись в парадной стойке и будто бы даже не дышали.
Обездвиженные бронзовыми клещами доспехов и кодексом Заповеди, молодые стражники не имели достаточно свободы, чтобы хотя бы утвердительно кивнуть, заверяя командующего в своей готовности выполнить приказ. Не только этот, но и любой другой. Да и вообще, согласны хоть каждую ночь выходить в караульную цепь на Перстень, чтобы там, не издавая ни единого звука, охранять пределы замка-горы. Готовы до блеска начистить доспехи и оружие всему подразделению королевской стражи. Что угодно, лишь бы избежать наказания в Святилище.
Казалось, тревожные мысли стражников скоро обретут реальную физическую энергию и пустят трещину по шлемам, горделиво возвышающимся над их головами. Холодный пот, бегущий по разгоряченным под металлическими панцирями спинам, обжигал не хуже смоченных в кипятке прутьев.
Рубб видел все это. Читал мысли и чувства молодых стражников как открытую книгу.
Видел также, что вызубренная за годы службы Заповедь не позволяла юношам не то что высказать эти просьбы вслух, дополнив их искренним раскаянием за утреннюю минутную слабость, а даже устремить на своего командующего молящий взгляд. Что им оставалось? Пожалуй, лишь, мысленно сложив пальцы рук в ритуальном жесте, беззвучно просить Огненного бога избавить их от кары в Святилище. Или облегчить ее, насколько это возможно.
Однако командующий сделал свой выбор.
Та пара секунд, на которую Рубб задержался около Умма и Дримгура, ни на йоту не приподняла завесу тайны над их ближайшим будущим, как ни пытались они уловить хоть какой-то намек во взгляде или выражении лица командующего королевской стражей.
– Вы двое, поменяйтесь местами. Поправь забрало. Подбородок выше, – раздавались команды уже за спинами сокрушенных друзей и были адресованы не им, а другим стражникам.
Эхо шагов затихало, растворяясь в гигантской глотке трех сплетенных в единый природный конус гор. Застывшая над Уммом и Дримгуром тишина оставила их один на один с клубком тревожных мыслей, одновременно возвещая, что совет вот-вот начнется
Обычно в таких ситуациях юноши испытывали особую гордость и трепет, граничащий с восторгом. Стражники предвкушали момент, когда мимо них по очереди прошествуют все представители королевской семьи. Каждый раз – как в первый. Неспешно, будто бы нехотя, они прошагают по подвесному мосту в Грот заседаний, сверкая инкрустированными опаловыми венцами на головах. Как всегда углубленные в собственные размышления, венценосные особы, скорее всего, даже не бросят взгляда на стражников, слившихся с обстановкой замка, но сама возможность находиться в такой близости от легендарной династии согревала сердце. Но не в тот вечер.
Последние минуты до начала вечернего совета. Согласно древнему обычаю, он проводился в Гроте заседаний, в глубине королевского замка-горы. Далекие предки нынешнего короля Харх завещали своим потомкам соблюдать эту традицию из соображений безопасности: если мифические враги хархи дерзнут напасть на остров аккурат во время совета, то грот мгновенно превратится в надежное убежище для представителей политической и религиозной власти. Именно поэтому одной из воинских традиций Харх оставалось усиливать охрану замка в день заседания, чтобы обеспечить надежную защиту избранным хархи и в случае нападения защищать их до последней капли крови.
Пурпурные стены грота тускло мерцали слюдяными наростами, отражая тихое пламя свечей, расставленных по периметру огромной треугольной малахитовой плиты. Это пламя выхватывало из мрачной темноты искусно выкованный королевский трон, стоящий на небольшом возвышении напротив плиты. Словно посвящение стихии огня, сочетание металлов золотистого, медного и багряного цвета превратило спинку трона в устремленные высоко вверх языки пламени. На самой верхушке, недосягаемой для света коротких массивных свечей, три «огненных» столпа, повторяя строение замка-горы, сплетались в единое целое. Во влажном пещерном воздухе стоял насыщенный грибной дух. Из пазух черного наскального мха сочились тонкие струйки росы, называемые в народе слезами каменных великанов. Не успевая достигнуть земли, роса испарялась, так что полупрозрачный шлейф легчайшего тумана постоянно окутывал грот, стелясь по его низинам, присыпанным крошкой лимонно-желтого цитрина7.
Тонкие ленты тумана были разорваны суетливыми движениями перебирающих по мерцающему полу коротких ножек в сыромятных сапогах с бряцающими мелкими бубенчиками. Внутри бубенчиков перекатывались крошечные золотые шарики. Слегка хромающая походка их владельца создавала своеобразную нервическую мелодию, проигрываемую тремя инструментами: тонко дребезжащими бубенцами, нестройным скрипом подошв по цитриновой крошке и передразнивающим их глубинным эхом.
Великан мне подпевает,
Бог Огня цитрин подарит.
Скарабей придет уж скоро,
Ну а мне какое горе?
Поцелованный огнем,
Я не чахну над копьем,
Только знаю, что совет
Не укроет Харх от бед.
Знает Эббих, знает точно:
Перстень ровно что песочный.
Скарабей взойдет на трон,
Тихх поведал нам о том.
Собирайтесь, собирайтесь,
Напоследок поиграйтесь,
Жабий глаз и кочерга,
Заседайте до утра,
В танец искры не вмешайтесь,
Собирайтесь, собирайтесь…
Простая, незатейливая песенка – ни дать ни взять детская считалочка, – однако все дело в исполнении. Хриплый голос Эббиха, наполнял ее мрачноватой игривостью, превращая веселую мелодию в зловещее карканье.
Согнувшийся под тяжестью собственного горба, хромой Эббих все же умудрялся необыкновенно быстро перемещаться по давно знакомым ему коридорам замка-горы. Низкий даже по меркам хархи, с лысеющей головой сплошь в пигментных пятнах, увенчанной бронзовым обручем, горбун обычно производил противоречивое впечатление на окружающих. С одной стороны, его прихрамывающая походка, маленький рост, заискивающие мутно-желтые глазки, неиссякаемые песенки собственного сочинения вызывали умиление и могли бы обеспечить карлику самое нежное обращение. С другой – клеймо в виде треугольника на изрезанном морщинами узком лбу, клинообразная борода, доходящая до голенищ сапог, постоянное невнятное бормотание и тихий дребезжащий смех вызывали в душе смутное чувство тревоги.
Тревожиться по пустякам обитатели огненной земли не любили, а Эббиха предпочитали избегать.
Уникальное положение горбуна при дворе усиливал бытующий в сознании хархи приоритет физической силы перед прочими характеристиками. Стать, развитая мускулатура, блестящее владение оружием, умение постоять за себя и защитить других всегда были главными критериями, определявшими общественное положение. В сочетании с принципом потомственности наличие или отсутствие этих качеств позволяло делать выводы о будущем того или иного молодого хархи: карьера, перспективы личной жизни, близость к королю, возможность вступить в престижную гильдию.
Чего можно ждать от хромого карлика? На что этот горбун может сгодиться? Да ведь он первым бросится с высокой террасы замка, если враги начнут его осаду! Первый под пытками раскроет секрет убежища королевской семьи в гроте, не выдержав и минуты боли. Он не сможет защитить даже самого себя, не говоря уже о короле и его приближенных. «Всем, что не усиливает безопасность и защиту, – пренебречь во имя бога Огня и подлинного короля Харх», – гласит культовая Заповедь хархи.
Но так уж вышло, что Эббихом не могли пренебречь. Даже если бы захотели.
Обход Грота заседаний почти завершен. Неся перед собой подвешенный на железной цепочке небольшой фонарь из дутого цветного стекла со вставленной в него коптящей свечой, Эббих, по обыкновению, недоверчиво осмотрел помещение. Убедился, что металлические «языки пламени» королевского трона сияют достаточно ярко при тусклом освещении грота. Поправил одну из оплывших свечей на малахитовой плите – свеча нарушала правильную форму треугольника. Раздраженно нахмурил редкие клочки выгоревших бровей. Проверил расположение каменных стульев с высокими спинками, выполненными на манер королевского трона, но в более простом символическом стиле. Пощупал их сиденья из холодного камня: хорошо ли они утеплены верблюжьими покрывалами? И, довольный результатами ревизии, издал блеющий смешок, мгновенно размноженный горным эхом и окруживший саркастическим смехом его самого.
Напоследок поиграйтесь,
Собирайтесь, собирайтесь…
Эббих в последний раз проворчал свою стихотворную поговорку, вставая у тяжелой, окованной железом двери, отделяющей грот от внутреннего пространства замка. В его руках оказался металлический диск размером с три головы самого карлика и молоток с позолоченной рукоятью. Удар металла о металл высвободил резкий звенящий звук, будто рвущийся из самого сердца предметов. Звук заполнил собой все помещение, отразился от сочащихся росой пурпурных стен и наконец вырвался из грота. Громогласный глашатай известил о начале заседания.
К тому времени по другую сторону двери уже собрались участники совета. Здесь в торжественном молчании стояли король Кафф с женой, сыном и сводным братом Явохом, три королевских советника, главный военачальник королевской армии Рагадир, главы оружейной, аграрной, ювелирной и торговой гильдий, главный целитель и звездочет. Этих влиятельных персон нечасто можно было встретить в одном месте. И все они как один покорно стояли у закрытой на тяжелый засов железной двери, ожидая приглашения на заседание и сохраняя сакральное молчание.
– Рад всех видеть в добром здравии. Начнем совет, – без лишней помпезности и с искренней улыбкой поприветствовал своих подданных Кафф – подлинный действующий король огненной земли Харх.
Прозвучали эти слова только лишь после того, как утихло эхо оглушительного удара позолоченного молоточка по металлическому диску, а Эббих занял свое место на выступе в стене грота и заболтал ножками, обнимая стеклянные грани фонаря.
– Волей Огненного бога и милостью священного Пламени, – не то подсказывая нужные слова супругу, не то вознося молитву, полушепотом монотонно пробормотала жена короля Окайра.
Одетая в длинную бархатную черную тунику, королева воплощала собой образец духовного смирения. Свободный крой одеяния оставлял строение ее тела загадкой, а тяжелые складки капюшона хранили в секрете прическу монархини. Украшения? Нет, взгляду не за что было зацепиться и здесь. При том что королева, разумеется, могла позволить себе самые изысканные драгоценности, она ограничилась лишь узкими дорожками мелких изумрудов по краям рукавов и подолу туники. Мягкий свет карих, слегка раскосых глаз струился, казалось, в какое-то другое измерение. На тонких губах нельзя было уловить и тени одобрительной улыбки, но в то же время лицо Окайры не выражало и недовольства. Не глядя никому в глаза, она сложила руки в религиозном жесте: соединила крестом большие пальцы, указательный правой руки лег между указательным и средним перстами левой, остальные пальцы – согнуты к ладони. Получившаяся фигура напоминала не то три сплетенные горы, внутри которых и проходил совет, не то Эббихово клеймо.
Окайра, склонив голову, легка коснулась лба сложенными в «знак пламени» пальцами. Совет поспешил зеркально отразить ее движение. За ними последовал и король.
– Продолжим, – вернул Кафф подданных к насущным вопросам.
Пламя свечей яркой вспышкой отразилось в широком, доходящим до самого локтя золотом браслете короля, напоминающем рыцарские латы. Такое же украшение охватывало его вторую руку. Оба средних перста короля были закованы в металлические, с витиеватыми гравировками кольца, больше похожие на ястребиные когти, они полностью закрывали пальцы.
– Имит, будь добр напомнить господам членам совета, какой нынче с утра у нас день, – без долгих вступлений обратился король к звездочету.
– Нынче, – откашлявшись и церемониально положив одну узкую сухую ладонь на другую, отвечал седовласый Имит, – вечер семнадцатого дня Ящера. Ящерицы, если желаете, по новому толкованию. Звезды уже отчетливо сложились в хвост, часть брюха и задние лапы.
– Что скажешь нам о ее форме? Сейчас уже можно что-нибудь понять? – нетерпеливо спросил Кафф.
На несколько секунд в гроте повисла тревожная тишина, нарушаемая лишь тихим позвякиванием золотых шариков внутри бубенцов Эббиха. Тот, скрючившись и крепко обхватив свой разноцветный фонарь, продолжал сидеть на выступе.
– Ваше Величество, – почтительно ответствовал Имит, – я не смею сеять подозрения в ваших мыслях своими далекими от науки приметами… К тому же я обладаю основаниями, не подтвержденными какими-либо законами или хотя бы частными теориями. Как вы сами знаете, я опираюсь только лишь на годы наблюдений и свое субъективное отражение закономерностей…
Звездочет слегка дрожащими руками извлек из складок шерстяного хитона8 небольшой деревянный сундучок, пахнущий ладанной смолой и влажной почвой. С легким стуком, до которого не смогло дотянуться докучливое пещерное эхо, поставил его перед собой на угол малахитовой плиты. Члены совета переглянулись.
Окайра еще ниже опустила глаза. Королева, по своему обыкновению, все так же находилась в ином измерении, что, однако, не мешало ей отчетливо сознавать, что сегодня на совете откроется нечто. Окайра не была потомственной предсказательницей, каких часто можно встретить на городских ярмарках; не переняла у верховной жрицы способность смотреть в будущее сквозь пыльцу гаудра желтолистого. Да и вещие сны не были частыми гостями под шелковым балдахином королевского ложа. И все же напряжение, предшествующее перелому самого хода совета, королева ощущала физически.
Стаккато дыхания зарождающейся тревоги дотянулось и до короля. Оно прочертило узкую влажную дорожку пота по его мощной шее, прижгло плетью выпирающие на запястьях вены, заставив их пульсировать быстрей. Страху неизвестности безразлично, что носит его жертва: огненный опаловый венец или рабские кандалы. Однако тот, чью голову пока украшал опаловый венец, не имел права поддаться смутным предчувствиям, что уже заползали в его мысли черными злорадно шипящими змеями. Кафф чуть заметным движением стиснул кулаки так, что на ладонях отпечаталась гравировка колец-когтей. И, не меняя интонации, продолжил:
– До прихода Скарабея, судя по твоим словам, Имит, остается тридцать три дня. В этот срок мы должны завершить все начатые в Ящерицу планы: пополнить кладовые городов припасами, заготовить достаточно корма для скота, который временно не будет пастись на воле. Особое внимание должно уделить поселениям, наиболее отдаленным от нашей столицы, Подгорья. – Кафф многозначительно посмотрел на тучного Курхана, главу аграрной гильдии. – Изготовить достаточно капель регенерации для лечения пострадавших от вспышек слепящих смерчей.
Король медленно перевел взгляд на целителя Аннума. Тот смиренно кивнул, продолжая методично перебирать бусины черных сапфиров, продетые в несколько рядов тонких кожаных браслетов. Они украшали изящные руки лекаря, изборожденные дорожками зеленоватых вен.
– И, как вы помните, – безапелляционно провозгласил Кафф, – День обмена должен состояться не позднее чем за три дня до исхода Ящера. – Король специально употребил древнее название созвездия, чтобы подбодрить сникшего над деревянным сундучком толкователя звезд. – Не позднее.
В подтверждение своего приказа король легонько ударил по плите острым концом кольца-когтя.
– Все будет подготовлено в лучшем виде к визиту уважаемых гостей из моря, ваше сиятельство, – поспешил заверить правителя глава торговой гильдии. Он заискивающе склонил голову набок и сузил миндалины глаз болотного цвета, пытаясь – пока что безуспешно – поймать взгляд короля. – Каменная мантия уже увеличена в размерах как вширь, так и в длину, – с жаром отчитывался Гаркун. – Народ трудился день и ночь, но, – глаза толстяка просияли гордостью, – скажу прямо: в этот раз обошлись без использования рабов. У тех, от кого Огненный бог отвернулся, сами знаете какие руки, да и в прошлый звездный цикл умудрялись еще строительные камни на черный рынок по ночам стаскивать! Зато теперь какая красота!.. С любой высокой террасы замка видно! А если с берега поглядеть – ну просто в горизонт уходит! Не Перстень, конечно, тоже работа что ни на есть…
– Гаркун, тебе здесь кто-то разрешал говорить? – раздался тихий голос по левую руку Каффа. Его четырнадцатилетний сын Бадирт раздраженно поднял бровь, изобразив на юном лице искреннее недоумение. – Ты, кажется, забыл, что находишься на королевском совете, а не в трактире Подгорья со своим торгашами.
Слова прозвучали резко, нарушив размеренный ход совета. Даже Окайра подняла голову, выйдя из своего полугипнотического состояния, но ни словом, ни жестом не отреагировала на сыновнюю реплику. При этом лица присутствующих не отразили ни малейшего удивления ее внешним равнодушием. Все как один воззрились на короля, чтобы успеть подстроиться до того, как зарождающийся конфликт войдет в переломную фазу. Горбатый Эббих сощурил маленькие желтые глазки, во мраке грота напоминающие кошачьи.
Перепуганный Гаркун уже забыл, о чем только что с таким жаром и вдохновением докладывал королю в своем искреннем порыве выслужиться и получить похвалу за честно выполненный приказ. А что, он ведь и впрямь уложился в установленный Каффом срок! Можно даже сказать, с запасом. Сумел везде договориться, сбить цены на материалы, убедить Рагадира прислать солдат, когда стало не хватать рабочих рук. Да еще и не задействовал рабов. Однако кому нужны эти аргументы, если ты умудрился разозлить королевского отпрыска? Со стороны уважаемый глава гильдии теперь выглядел так, будто затолкал рвущиеся наружу слова себе обратно в глотку. Да не просто затолкал, а еще и для верности залепил рот расплавленным сургучом, лишь бы эти самые слова прекратили играть с Гаркуном свою злую шутку.
– Где твои манеры, Бадирт? – мимоходом бросил король, метнув в «отпрыска» один из своих наиболее суровых взглядов.
На этом инцидент был исчерпан. Конечно, в глубине души Кафф негодовал по поводу дерзости сына в присутствии подданных. Далеко не первой за этот звездный цикл. Вечно занятый государственными делами, освобождаясь от них только для того, чтобы с головой уйти в занятия боевыми искусствами, король не мог уловить закономерность, управляющую изменившимся поведением Бадирта. Созвездия? Баланс успехов и поражений в тренировках с мечом? Может, любовные переживания? Как бы то ни было, сын короля не должен столь открыто выказывать презрение к самым почитаемым хархи, которые долгими созвездиями преданной службы снискали всеобщее доверие и признание. В конце концов, это прежде всего этикет, и его правила одинаковы для всех.
Дав себе обещание найти время на скорее дружескую, чем назидательную беседу с сыном, Кафф ободряюще взглянул на мысленно уже прощающегося со своей должностью Гаркуна. Тот же, в свою очередь, благодарно опустил голову ниже, чем Окайра в своих молитвенных ритуалах, и облегченно вздохнул.
Кафф, до сих пор пытавшийся сдерживать нетерпение, теперь, после раздачи указаний по подготовке к Скарабею, был рад вернуться к тревожащей его теме. Возможно, все дело в гаснущем разуме старого Имита, который, подобно кривому зеркалу, преувеличивает значение несущественного? Выдает его за некое знамение? Хочет на склоне лет успеть остаться в памяти островитян выдающимся пророком? Тени надежды маятником раскачивали фантазию Каффа, подталкивая к утешительным объяснениям. Он уже был готов ухватиться за спасительную соломинку одного из них, напрячь метальные силы и выбраться из вязкого болота смутных предчувствий.
Воодушевленный проснувшимся самообладанием и уже готовый посмеяться над собственной мнительностью, Кафф приглашающим жестом подозвал Имита. Тот смиренно пошаркал с сундучком в руках по цитриновой крошке к королевскому трону. Все, кроме Окайры и продолжающего разыгрывать оскорбленные чувства Бадирта, напряженно вытянули шеи в сторону Каффа. Он уверенно положил руку на шершавую деревянную крышку сундучка, словно на эфес любимого меча, и одарил подданных лучезарной улыбкой.
– Сейчас досточтимый Имит раскроет нам тайны будущего. Слушайте и запоминайте. Может, в этот раз подползающий к нам Скарабей дыхнет на Ящерицу не слепящим смерчем и засухой, а алмазной пылью? Тогда это уже ответственность господина главы ювелирной гильдии!
Сидящие вдоль малахитовой плиты машинально улыбнулись шутке короля. Никому не хотелось, с одной стороны, выставить себя трусом, с другой – наступить на грабли Гаркуна.
Их улыбки синхронно сползли с побледневших лиц, когда Имит открыл ржавым от времени ключом свой сундучок и разложил перед Каффом глиняные таблички с выдавленными рисунками. На табличках были изображены ящерицы, символизирующие различные звездные циклы: ползущие, затаившиеся на камне, спящие в клубке собственного продолговатого тела и даже стоящие на задних лапах.
Каждое из созвездий Имит систематически срисовывал заостренными палочками, чтобы в дальнейшем делать выводы об их характере, опираясь на сопутствующие им события. Порой действительно складывалось так, что под Спящей Ящерицей жизнь на острове не отличалась неожиданными событиями; под Выпустившим Когти Ястребом имели место вспышки восстаний рабов; под Выгнувшей Спину Медведицей чаще обычного рождались бездыханные младенцы. А иногда характер созвездия никак не отражался на хархи и их повседневной жизни.
На последней табличке рисунок был не окончен, а срисован лишь настолько, насколько Огненный бог приподнял небесный шатер, чтобы дать островитянам знак своей всемогущей рукой, как он это делал каждое созвездие. Сначала клинописный набросок ни о чем не сказал Каффу. Король хмуро вглядывался в его очертания, состоящие из небольших точек с расходящимися лучами. Имит заметил это и перевернул табличку вверх ногами. Поводил заостренным ногтем по изображению звезд, показывая Каффу уже намеченные очертания. Очевидно, что пресмыкающееся будет лежать на спине, разметав чешуйчатые конечности, хвост будет лежать рядом…
Кафф недоуменно посмотрел на звездочета. Тот только кивнул на немой вопрос короля. Казалось, в гроте никто не дышал, даже роса перестала сочиться по пурпурным стенкам.
– Ящерица… – Кафф тяжело вздохнул, еще крепче стиснув пальцы в оковах колец. – Ящер мертв.
Глава 3 Метаморфозы света
Лучи Матери звезд, проходя сквозь толщу бирюзовых вод моря Вигари, затейливо преломлялись полупрозрачным колышущимся веером. Он продолжал скользить дорожками своих шелковых полотен далеко за поверхностью водной глади, распадаясь на глубине богатым спектром.
В самом начале своего погружения в эти воды сияющие посланцы Матери звезд будут выхватывать из подступающего со всех сторон сумрака вполне заурядные пейзажи, служащие декорациями жизни типичных морских обитателей. Однако не стоит думать, что серебристые переливы рыбьей чешуи, кирпично-бурая бахрома водорослей и белесые кляксы дремлющих медуз – конечная цель этого путешествия. Прыткие стрелы лучей, выпущенных из тетивы ослепительного звездного тела, стремительно рассекут толщу морских глубин и продолжат расцвечивать пространство такой глубины, которой никогда бы не достигли лучи другого рода. Например, солнечные. Между тем эту непреложную истину было бы невозможно проверить в условиях мира, отличного от Сферы. Ведь море Вигари с разверзнутой в ней гигантской впадиной, почти доходящей до сферической сердцевины, пока что остается единственным подобным водным пространством во Вселенной. Во всяком случае, так утверждают многочисленные труды по гидрографии, океанологии и космологии, заполняющие полупрозрачными мембранами своих страниц библиотеки знаменитого Университета Вига, а также примыкающего к нему Лабораториума.
Итак, преодолев «слепую» границу, после которой лучи любого другого небесного тела сдались бы под гнетом тянущего на дно мрака, дети Матери звезд упорно продолжают начатый триллионы километров назад путь, прославляя Прародителя этим смелым паломничеством. В своей непреклонности и бесстрашии они напоминают горсти светящихся семян, щедрым мановением божественной длани рассыпанных по бездонным глубинам Вигари.
Достигнув твердой поверхности, которая в любом другом море могла бы стать верным признаком конца пути, упрямые посланники света не успокоятся. Они знают: завершение одного есть начало другого. Пошарив по каменистому дну, вездесущие нити лучей обязательно доберутся до стелющегося по его поверхности бескрайнего плаща темно-оливковых водорослей. Их алые фосфоресцирующие шипы изгибаются причудливой вязью. И то, что можно принять за своеобразное украшение дна Вигари, скрывающее под собой лишь слои базальтов, окажется чем-то совершенно иным. Ведь это водорослевое плетение есть самая высокая точка уже совсем другого мира. Оно служит небесным куполом подводной цивилизации Вига – интеллектуальной жемчужины Сферы, оплота наук и искусств.
Здесь, на верхней границе миров, заканчивается путь звездных лучей. Но только для того, чтобы своей последующей реинкарнацией они, изменив форму уже в третий раз, убедили даже самых закоренелых агностиков в бесконечности силы света, как и самой жизни.
Хархи верят, что Огненный бог, подлинный посланник Прародителя на Сфере, каждое утро облетает по кругу Матерь звезд на своем крылатом скакуне, обдавая ее диким вихрем языков пламени, чтобы Матерь проснулась и в ликовании затанцевала по небесному своду.
Казалось бы, красивая легенда, и не более.
Так вот то, что произойдет с лучами Матери звезд за вьющимся ковром шипастых водорослей круах, кого угодно заставит поверить во всемогущество главного божества хархи. Потому что если присмотреться к этим водорослям, то в сложной структуре их плотного плетения можно все же разглядеть мириады крошечных клубков. Их круглые тела с переливающимся внутри светящимся веществом издалека напоминают россыпь мелких звезд, слабо проглядывающую сквозь тюлевую дымку ночного неба. Также эфимиры напоминают затерянных в древесной кроне светлячков. С той лишь разницей, что обитатели водорослей круах являются неотъемлемой частью своего «дома». Такой же, как толстые волокнистые ветви с перекатывающимися внутри газовыми пузырьками и прикрепленные к ним красноватые спирали острых шипов, загадочно мерцающие во мраке морских глубин.
Эфимиры, не связанные с круах каким-либо общим органом и не вживленные в них, по сути дети этих водорослей, которые, появляясь на свет из их шипов, навсегда остаются жить на необъятном родительском теле, ничем его не обременяя. Все дело в том, что круглые, окаймленные невесомыми прозрачными ворсинками тельца эфимиров светятся неспроста: они питаются теми самыми добравшимися до них с недосягаемой небесной высоты лучами Матери звезд. Они жадно вбирают колышущимися ворсинками звездный свет, растворенный водной бездной до тончайших блекло-серебристых нитей. Можно сказать, подводные «светлячки» их вдыхают, накапливая свет в себе и тем самым превращаясь в шарики ярко сияющего бисера, которыми богато расшито бескрайнее покрывало водорослей. В течение дня крошечные эфимиры поглощают столько сияющих нитей, что даже ночью продолжают рассеивать глубинный мрак. Находясь на огромном расстоянии от сводов небесного шатра, из которого Огненный бог любуется на прислуживающие ему звезды, эфимиры все же тесно связаны с круговоротом его жизни. Ночью «светлячки» засыпают, подобно Матери звезд на горизонте неба, но так же, как и ее дети-звезды, продолжают окутывать свой мир нежным чарующим светом. Светом, который сулит умиротворение и спокойный сон, укрывая от эха грозовых раскатов прошлого и от вспышек молний с мелькающими в них зловещими предсказаниями. А утренняя заря торопится поскорей запустить свои длинные искристые пальцы в гущу водорослей круах, чтобы найти в них еще сонных эфимиров и передать им эстафетный факел. Теперь они – главные и единственные проводники света и тепла в непроницаемых глубинах моря Вигари.
Да, конец любого пути – это всегда одновременно начало следующего. Так любят говорить вига, жители одноименного подводного государства, границы которого очерчены гигантским темно-зеленым палантином с мерцающими в его складках звездочками эфимиров. Их рассеянное сияние создает затейливую игру света, усиливающую чувство пребывания в другом измерении, которое непременно возникнет. Даже если вы еще не поняли, где находитесь. Даже если вы только преодолели многочисленные слои круах и еще плывете к земле Вига внутри огромной прозрачной рыбы фицци, сознанием которой управляет мастер ихтиогипноза9.
В условленный день, сверившись по карманным часам – ромбовидным стеклянным колбам с насыпанными внутрь лепестками, – трое вига покинули свои дома, чтобы встретиться на окраине столицы. Стенки колб уже начали слегка поблескивать едва уловимой золотистой пыльцой, возвещая о скором наступлении зари. Поблескивало, разумеется, не само стекло, а лепестки цветов часовика – редчайшего из растений на Вига, «младшего брата» водорослей круах. Разница между ними лишь в том, что недосягаемый круах вьющимся куполом укрывает подводную цивилизацию от внешнего мира, а прихотливый часовик стелется по крутым выступам Расщелины. Место, о котором некоторые в глубине души суеверные вига предпочитают вовсе не упоминать вслух. Между пузырчатыми «ветвями» часовика запрятаны не суетливые светлячки-эфимиры, а цветки с длинными узкими лепестками и пучком пурпурных нитей в черной сердцевине. Пучки эти похожи на кровоподтеки каменистого горла Расщелины. В течение дня продолговатые лепестки меняют цвет в зависимости от интенсивности света, посылаемого сверху эфимирами.
Исследователи мира подводной флоры давно выявили эту уникальную особенность необычного растения, доставленного в Университет экспедицией факультета естественных наук из самой, как выразились ее участники, глухомани Вига. В архивах университетской библиотеки (или «книжницы», так она именовалась на момент экспедиции) сохранился отрывок путевого дневника одного из исследователей-энтузиастов, добившихся от ученой семерки10 разрешения на путешествие категории «высшая степень риска».
Отрывки из путевого дневника магистра Паддау, факультет естественных наук
День 151. На краю леса Стуммах. Зима.
За плечами нашей группы остались долгие дни пути, подробно описанные выше, а впереди наконец виднеется конечная цель самого дальнего на нашем веку путешествия. Купол круах, насколько мы можем догадываться, здесь сильно истончен, а значит, мы впервые за историю Университета добрались до границы миров. По нашим расчетам, до прибытия к Расщелине остается не более полудня умеренным шагом. При иных обстоятельствах мы добрались бы туда раньше, однако обступающая со всех сторон темнота и покрывающая дорогу разветвленная корневая система деревьев щелгун не позволяют группе идти быстрее.
Здесь очень холодно. Для поддержания оптимальной температуры тела используем дистиллированную смолу дерева эмху, растирая ею конечности.
Освещающие наш путь медальоны из щупалец звездчатых медуз дают теперь совсем немного света, хотя даже по самым пессимистичным прогнозам их энергии должно было хватить с запасом – вплоть до выхода группы из области истончения. Вероятно, при подготовке к экспедиции мастер точных наук Тиннаэ переоценил нашу выносливость и способность ориентироваться в условиях сумрака. В следующий раз пусть делает расчеты исходя из того, что их объект – не группа ученых-естественнонаучников, а сборище слепых кротов. Делать записи в дневнике также становится все сложнее: приходится класть светящийся медальон прямо на мембраны его страниц, а это, как известно, значительно высветлят чернила. У магистра Миббах медальон уже вовсе погас.
Позволим себе сделать смелое предположение, что недостаток источника света и тепла в виде эфимиров, которые инстинктивно избегают селиться над границей миров, вызывает постепенную гибель ветвей водорослей круах. Их высокая регенеративность всем широко известна; тем не менее, мы готовы выдвинуть гипотезу о том, что энергии фосфоресцирующих шипов недостаточно, чтобы восстановить ветви, лишенные «подпитки» от эфимиров. Шипы могут лишь создать условия для завязи новых ветвей. Серьезным вопросом для науки остается, что происходит с увядшими круах. По нашему мнению, они постепенно погибают, а неизбежные структурные изменения не позволяют «хворосту» оставаться частью плетения из здоровых водорослей. Далее увядшие ветви осыпаются.
Да простит нас мастер Тиннаэ за подобные допущения, но если бы он был сейчас здесь и своими глазами увидел кружащие над лесом черные хлопья, то, вероятно, согласился бы с нашей версией. Учитывая сильнейший холод, распространяющийся по всей области истончения и совокупность природных явлений, изложенных в записях выше, мы полагаем, что открыли особую климатическую зону Вига – зону вечной зимы.
Пометка на полях:
Важно! Не забыть обосновать ключевые отличия зимы от поздней осени, господствующей в других областях истончения. Сравнительный анализ. Итог: обновленная система классификации климатических зон Вига. Приложить к моему труду на мастера естественных наук.
День 153. Лес Стуммах. Зима.
Исследования Расщелины, результаты которых непременно будут изложены в общем отчете нашей группы, принесли не только новые для науки образцы живой и неживой природы, но также и практические плоды для удовлетворения нужд членов экспедиции.
План осмотра и сбора данных на территории Расщелины успешно выполнен, и в данный момент мы уже движемся в обратном направлении. Как можно заметить, читая эту запись, цвет используемых мною чернил из бледно-голубого вновь стал насыщенно-синим. При этом медальоны у всех окончательно потухли, когда мы еще только подходили к Расщелине. Магистр Риэ резонно предложил закопать один из медальонов близ самого выделяющегося ее выступа в память о первой экспедиции Университета на нижнюю границу миров. Мы с радостью согласились подобным символичным способом увековечить наше рисковое предприятие во имя науки и семи великих искусников. Точные координаты данной точки будут также указаны в групповом отчете.
Если же по каким-либо обстоятельствам мы не вернемся в Нуа и кто-то найдет этот дневник, то искренне прошу передать его в Университет. Уверен, вас ждет вознаграждение. На этот случай сообщаю местонахождение нашего тайника здесь.
Найдите на опушке леса Стуммах два гигантских дерева щелгун со сплетенными стволами и встаньте к ним спиной. Сделайте десять шагов вперед и пятнадцать влево, пока не упретесь в первый высокий камень, выступающий из корней (он обрамляет Расщелину в числе других). Окружающая этот камень поверхность свободна от корневых спиралей и состоит из крупных зерен ослепительно-белого песка и следующего за ним слоя коралловой крошки. На раскопки именно такой глубины хватило наших сил. Если вы верно следовали указаниям, то позвольте вас поздравить: вы рассекретили тайник. В измельченных радужных кораллах и спрятан медальон самого мастера Риэ. Понадобится около восьми уверенных движений лопатой – и вы достигнете цели.
Так почему же, невзирая на то что наши «походные эфимиры» (авторство этой вариации названия для медальонов принадлежит магистру Гридау) позавчера предательски потухли, сейчас я пишу в условиях достаточной освещенности? Достаточной даже для самой глубокой чащи непроглядно-темного леса Стуммах. Все дело в цветках весьма необычного растения, напоминающего водоросли, скрученные в запутанные клубки. Именно они и оплетают высокие камни, окружающие Расщелину, и, насколько я могу предполагать, спускаются внутрь нее по каменистым выступам. Едва подойдя к данному растению, вся группа обратила внимание на слабое, но устойчивое свечение, исходящее от его продолговатых полупрозрачных цветков. Мы наперегонки бросились к этому источнику света, поскольку последние несколько дней провели в кромешной тьме зимнего леса у нижней границы миров. Было очевидно, что отдельно взятый цветок стал бы не более чем каплей в море против сумрака, царящего под чахнущим круах. Однако более детальное рассмотрение собранных образцов выявило важную особенность: иллюминирует не весь цветок, а только его лепестки. Поэтому, чтобы в прямом смысле «пролить свет на происходящее», мы срезали сияющие части соцветий и наполнили ими пустые колбы от смолы и некоторых эликсиров, любезно предоставленных нам факультетом тонких материй. Эти импровизированные фонари мы продолжаем успешно использовать уже почти два дня. Занесение настоящей записи в путевой дневник также стало возможным лишь благодаря столь неожиданным особенностям растительного мира Расщелины.
Пометка на полях:
Очень важно! Продолжить наблюдения за лепестками. Выявить зависимость свечения от внешних факторов. Они прозрачные – проявится ли цветной пигмент под воздействием эфимиров? Одного этого открытия будет достаточно для звания мастера! Может, мои коллеги не обратят на лепестки внимания?
День 156. Болотная пустошь Варадум. Поздняя осень.
Вся наша группа торжествует как один: три дня пути быстрым шагом – и глухая стена темного Стуммаха осталась позади. Несмотря на улучшившиеся условия движения благодаря свету лепестков с Расщелины, весь «лесной» участок пути нас не покидало общее тягостное ощущение. Совокупность низкой температуры воды и недостатка сна (мы старались не тратить время на сновидения, чтобы как можно скорее преодолеть расстояние до Варадума) в значительной мере усиливала наше разбитое состояние.
Тем не менее уже сегодня мы в полном составе вышли за черту вечной зимы (так было пока условлено называть климатическую зону, охватывающую Стуммах, Расщелину и ее пустынные окрестности). Да, мы все еще находимся в области истончения, что доказывают следующие факторы: слабая освещенность на грани сумрака, изредка срывающиеся сверху черные клочки водорослевого купола круах и сравнительно низкая температура. Но все же это не Стуммах, против которого ночи в Нуа кажутся яркими летними деньками. Даже наша дорога, которая теперь превратилась в кишащую чернильными водомерками11 топь, теперь кажется родной и знакомой.
Признаюсь, меня согревает не только перспектива в какие-нибудь 150 дней оказаться под арочными сводами нашей цитадели знаний. Есть еще кое-что. Не могу поверить, но мое робкое предположение из предыдущей записи начинает подтверждаться результатами реальных наблюдений! Лепестки в колбе, которую я теперь не снимаю с шеи, начали вести себя весьма необычным образом. Во-первых, поймав первые слабые лучи редких эфимиров, они уже стали светиться с большей интенсивностью. Это не только позволяет своевременно отгонять чернильных водомерок и обходить прячущиеся в трясине пни, но и служит прекрасной предпосылкой для формулирования моего личного открытия. Полагаю, установленная мной прямая зависимость между силой излучения эфимиров и лепестков в скором времени получит еще больше доказательств. «Младший брат» небесных светлячков, обнаруженный на территории Вига, – что сможет сильнее потрясти сегодня наше научное сообщество?!
Но на этом исключительные свойства собранных лепестков не заканчиваются. И если первое наблюдение, касающееся свечения, скорее всего, было произведено и моими коллегами, то итоги второго действительно могут стать моим авторским открытием. Поскольку каждый участник группы в первую очередь радеет за собственные научные интересы, неудивительно, что мы зачастую избегаем разговоров об экспедиционных находках. В особенности тех из них, что наиболее перспективны для дальнейших изысканий.
Здесь, полагаю, в высшей степени окажется полезным мое от природы острое зрение. Прошло совсем немного времени с того момента, как мы оказались на болотной пустоши, но я успел уловить едва заметные изменения цвета лепестков. Вернее сказать, даже не цвета, а полутонов. Если в неосвещенной зоне они не имели окраса как такового и отражали на своей поверхности окружающую среду, то теперь лепестки приобрели слабый бледно-лимонный оттенок. Иллюминирующие свойства при этом пока остались на прежнем уровне. Поскольку сейчас уже поздний вечер, судя по почти угасшим наверху эфимирам, то позволю себе обобщить ниже итог своих дополнительных наблюдений в новых условиях.
К установленному мной наличию у лепестков цветного пигмента можно добавить другую совершенно уникальную особенность: он меняется в течение дня. Это далеко не очевидно и вовсе не означает, что на лепестках постепенно отобразится вся палитра радужного спектра. Все изменения происходят не выходя за границы светло-желтого оттенка.
Незадолго до пробуждения эфимиров от ночной спячки я обнаружил, что содержимое моей колбы подернулось мельчайшими золотистыми крупинками, слегка отражаясь на ее стеклянных гранях. С наступлением утра прозрачные лепестки постепенно начали заполняться едва уловимым светлым пигментом, в то время как вышеупомянутые крупинки растворились в лиственной структуре. На этой почве возникло еще одно предположение: эта золотистая «пыльца» и является тем самым природным красителем, отвечающим за цветовые метаморфозы лепестков.
Я уже запланировал ряд экспериментов на базе университетского Лабораториума для выявления справедливости данной гипотезы. Не терпится повернуть диск из черного серебра на двери от инструментального хранилища и погрузиться в мир исследований. Верю и надеюсь, что они прольют свет истины на наши таинственные находки! Ведь если Университет преуспел в установлении истинной природы и практического назначения некоторых образцов, доставленных даже с варварского Харх, то и Расщелина постепенно раскроет нам свои загадки под «пытками» лупы и алхимических растворов. На этот счет у меня нет сомнений. Главный вопрос здесь, кто из нас быстрее достигнет результатов и украсит свой палец заветной второй печатью.
Итак, проявившийся с рассветом цветной желтоватый пигмент в течение дня так и не приобрел даже намека на яркость и насыщенность, однако продолжал движение в сторону более глубокого тона. До настоящего момента мне удалось выделить пятнадцать таких оттенков. Если изобразить их на мембране, поместив в единый столбец, получится как раз часть спектра: от прозрачно-лимонного до светло-желтого. Добавим к этому, что динамика изменения окраски лепестков подчиняется равным временным интервалам. В этом я убедился, всякий раз отсчитывая про себя одно и то же число между прохождением лепестками очередной цветовой «границы». Это число – три тысячи шестьсот. Не считая времени, проведенного во сне, когда я не мог заниматься подсчетами, всякий раз это число оставалось неизменным.
Пометка на полях:
Важно! Возможно, после соответствующих исследовательских процедур по этим необыкновенным лепесткам можно будет ориентироваться во времени и пространстве?! Пока не уверен, станет ли это когда-нибудь возможным, но я назвал бы их «часовиками».
Приведенному отрывку из путевого дневника уже несколько столетий, и, конечно, за это время в Лабораториуме было произведено также много других выдающихся, неоценимых открытий, каждое из которых становилось новым витком развития подводной цивилизации. Но теперь всякий раз, когда группа студентов-первокурсников во главе с одним из магистров посещает музей факультета естественных наук, будущие ученые благоговейно останавливаются около бюста мастера Паддау. Они все как один достают из своих темно-синих мантий заранее приготовленные горстки сияющих лепестков. Взмах нескольких десятков рук – и лик Паддау, навсегда застывший в гранях прозрачного стекла, несколько мгновений переливается отраженным блеском парящих вокруг него лепестков.
Да, именно при помощи часовика, заключенного в три разных циферблата, пожилой Ялирр, зрелый Лиммах и молодой Елуам определили, что час пробил.
Путешествие началось.
Им троим необходимо заглушить мольбы внутреннего голоса, буквально требующего остаться внутри родных стен. Кажется, эта просьба слышится не только внутри. Ее мелодия отзывается и в тихих переливах жемчужных плит, и в затейливой мозаике рельефных изразцов, украшающих фасады. Однако придется на время отречься от светлой стороны жизни, чтобы вновь получить дань от сумрачной грани существования – столь же горькую, сколь и необходимую. Пришло время собрать оброк с тех, кто в изгнании незримо обитает на границе миров, сиротливо гнездясь на дне Расщелины. Там, куда столь любимый на Вига часовик лишь тянет окровавленные нити из черной сердцевины цветков, не озаряя кромешную тьму даже редкими всполохами света. Прозрачные лепестки растения отражают только глянец острых выступов, по которым они вьются внутрь разверзнутой на дне трещины.
Седой Яллир хорошо помнил этот удручающий пейзаж, который ему вскоре предстояло увидеть вновь. Снова спуститься туда, где во мраке его будут ждать трое. Вернее, не совсем его. И кто сказал, что в этот раз они действительно ждут? Тем не менее старый купец, меланхолично проведя ладонью по небольшим жестким плавникам, растущим прямо из лопаток, тяжко вздохнул и усилием воли отпер дверь. В голове назойливо крутилась строчка из стихотворения его собственного сочинения:
Свет эфимиров здесь не дотянется до часовика цветков,
Они безжизненно повисли, как крылья мертвых мотыльков…
Глава 4 Сила и смирение
– Сын мой, подойди ко мне, – раздался тихий женский голос за спиной принца Бадирта, бесцельно слонявшегося вокруг огненного алтаря.
Бадирт застыл в отрешенной, созерцательной позе, окруженный тенями стрельчатых арок колоннады, предваряющей вход в Святилище, древнейшее архитектурное сооружение Харх. В отличие от замка-горы, эта островная обитель Огненного бога не являлась уникальным природным творением, а была выстроена самими хархи еще задолго до Перстня. Каменная кладка ее овальных куполов на протяжении многих звездных циклов покорно вбирала в себя полуденный жар беспощадных лучей, подставляя под них свои облупившиеся узоры. Небольшие круглые окна типа «бычий глаз», строго очерченные латунными решетками в форме звезд, часто пропускали наружу струящиеся в жарком воздухе клубы землисто-пряного дыма. Это означало, что жрица Йанги почтила своим присутствием главный зал Святилища и готова принять жертвоприношения или оставить поцелуй милосердия на лбах страждущих.
Однако в этот раз окна лишь равнодушно смотрели желтоватыми зрачками звездчатых перегородок на простирающийся под ними величавый горный пейзаж. И вместо Йанги, сияющей пудрово-золотистым напылением «повязки» на глазах, рядом с Бадиртом стояла его мать Окайра. Уж ее-то Бадирт всегда мог заранее распознать по знакомой строгой поступи и шороху длинного подола! Слух не подвел и в этот раз.
«Могла не утруждаться со своим «сын мой», – ухмыльнулся про себя принц.
Юноша резко развернулся на звук знакомого голоса, пытаясь как можно скорее вынырнуть из омута мыслей и настроиться на беседу – столь же бесполезную, сколь утомительную. Последнее время ему, по правде говоря, очень не нравилось, когда его отвлекали. Это при том, что, не считая регулярных визитов в Святилище, длительных уединенных прогулок по его колоннаде и берегу моря Вигари, Бадирт уже давно не был замечен в какой-либо целенаправленной деятельности. Ну и что! Зато она, эта деятельность, незримо разворачивалась в его голове с зачесанными назад прямыми черными волосами, расцвеченными россыпью багровых прядей, которые юный принц, вероятно, унаследовал от своего отца. Речь, однако, идет только лишь о цвете. Жидкие, уже с проплешинами волоконца волос принца, разумеется, ни в какое сравнение не шли с буйной гривой Каффа.
– Да, Ваше Величество, – нехотя, буквально сквозь зубы проговорил Бадирт, вскинув правую бровь.
Эта новая мимическая привычка раздражала Окайру, поскольку служила явным признаком, что сын не расположен к беседе. Вновь.
– Бадирт, почему не «матушка»? Рядом с нами никого нет. Я приказала стражникам сохранять расстояние в пятнадцать шагов до места нашей встречи.
Распрямившись после приветственного поклона и машинально поцеловав руку матери, Бадирт скептически посмотрел в ее карие глаза.
– Мне уже не десять лет, если вы помните, матушка, – с нажимом на последнее слово парировал принц.
Конечно, он был еще очень далек не только от своей воображаемой зрелости, но и от того уровня восприятия действительности, когда начинаешь видеть окружающий мир глазами других людей. Или, по крайней мере, стараешься, на протяжении всей жизни оттачивая это мастерство и очищая его от скорлупы предубеждений, субъективности и личной выгоды. Например, при всем своем внешнем величии и властности одновременно ощущать себя ничтожной песчинкой мироздания в руках Огненного бога. Или хотя бы отдавать себе отчет, что, сколько бы тебе ни было лет и каким бы опытом ты ни обладал, в глазах матери ты всегда одинаков. А именно – беспомощное синюшное существо, надрывающееся в жалобном крике и рефлексивно сгибающее покрытые слизью конечности.
– Я искала тебя на Ладони, где сейчас тренируются на мечах твой отец и дядя Явох. Раньше ты всегда с интересом следил за их поединками. – В голосе Окайры чувствовалось внутреннее напряжение матери, понимающей, что больше не управляет сыном.
– Ваше Величество, вы сами прекрасно знаете, что мои отец и так называемый дядя тренируются почти каждый день. А иногда дважды в день. То с мечом, то с боевым топором, то с полэксом. И до сего момента прекрасно справлялись без лишних зрителей, – равнодушно ответил Бадирт, неловким движением пытаясь поправить фитиль плавучей свечи в алтарной чаше.
Свеча потеряла баланс, мерно качнулась на воде и, окончательно перевернувшись, потухла. Над чашей, выдолбленной из цельного королевского цитрина, зазмеилась тонкая струйка молочно-серого дыма. К исходящему от алтаря аромату влажной листвы и флердоранжа примешался запах жженых хлопковых волокон.
Окайра заметила это, и в ее глазах мелькнула тень суеверного ужаса. Словно от кого-то защищаясь, она сложила пальцы треугольником и коснулась ими склоненного лба, в ту же секунду рухнув на колени перед чашей. Как ни странно, сын моментально последовал ее примеру. На несколько мгновений между ними будто бы снова протянулись нити невидимой связи. Окайра попыталась ухватиться за них. Кажется, появился шанс вывести Бадирта на долгожданное откровение.
– Один Огненный бог ведает, что сулит нам будущее: чем обернется Ящерица и что принесет нам Скарабей, – сохраняя молитвенную позу и не отнимая знака ото лба, полушепотом произнесла королева. – Кто мы такие, чтобы предрекать и пророчествовать? Смирением своим да снищем мы благосклонность посланника Прародителя. Священным кольцом божественного пламени да защитит он нас и детей наших от неисповедимых игр созвездий и карканья старого Имита. И если неправ звездочет и клеветой своей опутал сыновей Матери звезд, да будет милостив к нему тот, что вихрем своим огненным сеет жизнь и свет на земле своих верных подданных. Все мы – искры в его священном пламени.
– Вы правы, матушка, – вставая с колен, согласился Бадирт.
Тонкие губы Окайры изогнулись в слабой улыбке.
– Вот и славно, сын мой. Не ведаю, куда вело тебя сердце последнее время, но ты всегда был разумным мальчиком. Следуй заповедям, будь сильным и смиренным, как тихое пламя факелов Святилища, и Огненный бог щедро наградит тебя.
Бадирт снова слегка поднял правую бровь; оранжевые зрачки, словно тлеющие угли, полыхнули на бледном лице.
– Правы, матушка, вы и здесь, – почти кротко проговорил он. – Сила – это то, что делает нас хархи. Так говорит отец, и я полностью согласен с ним. Наша мощь спит в нас. Мы как огромные камни Перстня, обожженные звездными лучами.
Улыбка еще уверенней осветила лицо королевы. Светотень, образовавшаяся внутри колоннады, подчеркнула легкую паутинку морщин вокруг ее влажно блеснувших глаз. Ну вот и все. Те изменения в сыне, что так тревожили Окайру всего несколько минут назад, теперь казались не более чем причудами молодости, напоминающими королеве ее собственные золотые годы. А дерзость на вчерашнем совете в присутствии высокопоставленных хархи нынче виделась просто досадным шипом, одним из тех, что неизбежно обрамляют тернистый путь взросления. Безусловно, много созвездий спустя они затупятся – в этом Окайра была уверена. «Сточившись о шершавую поверхность побед и поражений, шипы непременно сменятся глубокими зарубками жизненного опыта, – уверяла Окайра саму себя. – Они затянутся целительной смолой времени и почти не будут напоминать о себе».
Сбросив с души тяжкий камень сомнений и тревожных предчувствий, королева раскинула руки и взмахнула черными воланами длинных рукавов своего шелкового платья. Бадирт, не выражая каких-либо эмоций, сделал шаг к Окайре и положил свой узкий подбородок на ее плечо. Заключив мать в объятия, принц добавил:
– Я сомневаюсь лишь в одном, матушка.
Может, сейчас все откроется? Королева мысленно собралась и положила тонкие руки на плечи сына. Слегка отстранившись, она устремила на принца внимательный взгляд и, казалось, была готова ко всему.
– В чем же, Бадирт?
– В том, чего именно Огненный бог ждет от нас… – Принц осекся. Он уже ругал себя за то, что, забывшись, чуть не навлек на себя скуку последующих длительных бесед, увещеваний и, возможно, даже наказание.
Пожалуй, нужно быть осторожней и лучше следить за языком.
– Продолжай, Бадирт, – настаивала королева. – Открой мне свои сомнения, дай развеять их. Чего ты боишься, мой мальчик?
«Я боюсь? Да уж, матушка… Ты хочешь вернуть меня к черному шлейфу своих юбок, но даже не подозреваешь о том, насколько мы уже далеки», – резкой вспышкой промелькнуло в голове принца. Тем не менее он постарался, чтобы эта мысль не отразилась во взгляде.
– Я боюсь одного: стану ли я когда-нибудь достойным, подлинным наследником, – сказал принц первое, что пришло ему в голову. – В глазах Огненного бога, – быстро добавил он.
Спонтанная ложь выглядела достаточно убедительной. Это можно было прочесть по вновь просветлевшему лицу Окайры.
«Что ж, пожалуй, мальчик действительно должен чувствовать всю ответственность и сложность будущей роли, уготованной ему судьбой, – подумала королева. – В любом случае осознанность лучше бездумного греховного легкомыслия. Особенно для будущего монарха», – окончательно успокоившись, заключила мать Бадирта.
– Сомневаться в своих достоинствах – это удел не слабых, а думающих. Только дурак может быть полностью доволен собой и наивно считать, что знает все. Мудрец же, которому открылись тайны мироздания, всю жизнь уверен, что так и не приблизился к ним.
Окайра использовала все доступные ей словесные приемы, чтобы развеять сгущающиеся тучи над головой единственного, так тяжело давшегося ей сына.
– Вы снова правы. Я всегда буду помнить об этом, матушка. Надеюсь, мне досталась хоть капля вашей мудрости и терпения, – не глядя на мать, послушным тоном произнес Бадирт.
Королева, окрыленная мнимым успехом в беседе и преисполненная материнской гордости, уже мысленно строго отчитала себя за принижение достоинств сына.
«Действительно, кто бы на его месте спокойно смотрел в лицо грядущим событиям? Да кто вообще мог оказаться на его месте? Мальчик до сих пор жил в тени великого отца, добившегося немалых успехов в своем постоянном стремлении улучшить жизнь хархи. Кафф отдал дань древнейшим традициям земли огненных воинов, сумев развить их в интересах своего народа. Не изменив вверенных ему предками принципов военной державы, он укрепил остров хорошо обученными, дисциплинированными войсковыми частями. Усовершенствовал порядок отбора и формирования этих войск: теперь будущие солдаты12, преодолев архаичное правило «за плечом отца – плечо сына», могут самостоятельно выбирать тип войск, в которых хотели бы служить, исходя из своих способностей и амбиций. Все это пошло на благо Харх и усилило защиту нашего населения, которое Кафф также не оставил без внимания. С помощью трех советников всего за два созвездия он разработал систему отраслевых гильдий: аграрную, оружейную, ювелирную и торговую. Вступая в нее, ремесленник получает столько возможностей для развития своего мастерства! А возросшее число заказов, которые ему теперь напрямую делают купцы, состоящие в этой гильдии… Последние, кстати, тоже в выигрыше от присоединения к такому союзу: их интересы и экономическая безопасность отныне под личной защитой главы гильдии, входящего в королевский совет. И это далеко не все плоды правления отца Бадирта… Неудивительно, что сын уже сейчас осознает, что превзойти Каффа ему будет непросто. Но само это осознание вселяет в душу надежду, что мальчик не разочарует Огненного бога и всех нас!»
Доводы в пользу сына слились в голове Окайры в единый жаркий монолог. На волне этих чувств королева, сама того не заметив, заодно восславила и мужа, наделив его поступки и политические решения поистине божественной гениальностью.
Конечно, этот поток мыслей смахивал на отчаянное самовнушение, но какую мать и жену могло смутить подобное?
– Думаю, – сказала Окайра, – твой отец и дядя Явох все еще на Ладони, Бадирт. Если мне удалось хотя бы отчасти развеять твои сомнения насчет будущего, теперь ты можешь с легким сердцем присоединиться к ним. Давно мы все не любовались на твой танец с мечом, а я помню, как он прекрасен.
«Сейчас он вновь обнимет меня, как раньше, и мы вместе пойдем на Ладонь, – облегченно подумала королева. – Когда тренировка с оружием закончится, я сама скажу Каффу, что наш сын всего лишь волнуется о том, сможет ли сохранить и приумножить его государственные достижения. Пусть отменит запланированную беседу с Бадиртом о манерах на заседании совета. Ибо в его глазах я увидела достаточно здравомыслия, чтобы быть уверенной: вчерашний инцидент не повторится».
Теперь рассуждениями королевы управляла исключительно радость от примирения с сыном, подаренная свечой, погасшей в столь удачный момент. Следующим шагом Окайры могла стать публичная похвала Бадирта за какой-либо успех в тренировках или усердные молитвы в Святилище. Тем более, возможно, он в самом деле явился сюда в столь ранний час, чтобы первым вознести хвалу Огненному богу и попросить его о силе, мудрости, удачи и смирении?
Опознавать истинную природу мотивов и устремлений другого – искусство. Окайра частично овладела им за годы, проведенные в молчаливых отстраненных наблюдениях за подданными на многочисленных советах, судебных заседаниях, праздниках и религиозных обрядах. И все же ее догадки о том, каких качеств просит для себя склоненный над алтарной чашей Бадирт, были не совсем верны. По крайней мере, в одном из них она сильно ошибалась. А еще одним из перечисленных качеств принц и так был награжден (насколько это можно считать наградой) с рождения. И, увы, нет в этом заслуги ни родителей, ни легендарных предков, ни самого Огненного бога.
Бадирт задумчиво переставлял золотистые фигурки звезд с красноватыми лучами на широком обруче чаши. Выполненные лучшими мастерами ювелирной гильдии из кристаллов гелиодора, они отражались в воде алтаря и придавали ей теплый медовый оттенок.
– Вы меня перехваливаете, – ответил принц. – Мне еще нужно очень много тренироваться, прежде чем я смогу достойно смотреться с ними в настоящем, взрослом поединке.
Он хорошо знал, как мать ценит скромность и не терпит тщеславия.
– Вернемся к тому, с чего начали, сын мой, – попыталась мягко направить его Окайра. – Ты осознаешь это, а значит, уже обеспечен половиной успеха. Приложи к этому честный, упорный труд на тренировках, окропи Ладонь своим потом – и да узрит усилия твои посланник Прародителя…
– …И да наградит щедро, ибо милостив он к тем, кто не дает божественной силе и пламенной ярости своей праздно дремать в слабом, немощном теле… – в угоду матери подхватил Бадирт знакомые ему с детства строки Семи наставлений Прародителя.
– …а упорством дугорога13 и несгибаемостью железного сплава днем и ночью доказывает, что не зря его вечной душе на время даровано пристанище в теле огненного воина, сына пламенной земли Харх, – закончил за спиной матери и сына низкий хрипловатый голос с легким нездешним акцентом.
Еще сильнее повеяло флердоранжем, к нему примешались едкие ноты дыма и пряностей, остро щекочущие нос. Позади стояла жрица Йанги, власть которой простирались столь широко, что порой выходила за пределы понимания простых хархи.
Второй раз за утро Бадирт развернулся на звук знакомого голоса. Сейчас сердце его наполнилось совсем иными эмоциями, нежели при появлении матери. Перед ним словно из ниоткуда возникла молодая женщина – высокая, грациозно-худощавая, будто бы вовсе и не из народа хархи. У нее были длинные прямые пепельные волосы, высокие скулы и глаза, напоминающие два кристалла желтого гелиодора. Того самого, из которого высечены звезды, опоясывающие алтарную чашу.
«Может, это оттого, – подумалось вдруг Бадирту, – что Йанги слишком уж часто читала молитвы за всех нас, когда стояла здесь, склонив голову к водной глади алтаря? Может, она уже столько времени провела над этими плавающими свечами и этими блестящими фигурками, что ее глаза наполнились их светом? Она же как кошка. Так непохожа на наших женщин. Удивительна. И каждый раз какая-то… новая. Я люблю кошек». – Слившись в едином потоке восхищения, эти мысли стрелой пронеслись в голове принца.
Жрица, поправив на своем высоком лбу обруч с прикрепленными к нему черно-серебристыми перьями, не дополнила это непринужденное движение никакими иными знаками приветствия королевских особ. Она держалась величественно, но не стремилась подчеркнуть или как-либо усилить это. Облегающая бордовая туника простого покроя идеально сидела на изящной фигуре. Как и Окайра, Йанги никогда не злоупотребляла своими привилегиями, чтобы расцветить длинные узкие пальцы сиянием редких драгоценных камней, а платья – богатой вышивкой. Из придворных женщин замка-горы ее выделяли три основные черты: иноземная внешность (что как нельзя лучше объясняло прозвище «нездешняя», коим нарекли ее в народе), волосы цвета старого серебра без единой огненной пряди и татуировка в области «третьего глаза» – три закручивающиеся кверху спирали.
– Ваше Величество. Мой принц, – поприветствовала их Йанги.
Устремив отрешенный взгляд в небо, она сплела изящные пальцы в ритуальный треугольник и коснулась им лба. Было очевидно: все почтение жрицы адресовано не престолу, а иной власти – высшей и абсолютной.
Мать и сын одновременно последовали ее примеру. Бадирт – молча, а Окайра – одними губами монотонно шепча славословие в честь Огненного бога и его посредника на Харх в лице жрицы.
– Отрадно видеть вас здесь, – с улыбкой молвила Йанги. – Святилище всегда готово заново зажечь угасающее пламя в сердцах тех, кто денно и нощно печется о благоденствии и процветании земли нашей. Да не потухнут искры душ ваших, что озаряют своим светом все бескрайнее тело Харх.
Несмотря на торжественно-ритуальную интонацию, в речи верховной жрицы нельзя было уловить и тени фальши. Патетичное изречение прозвучало из ее уст так естественно, будто на самом деле Йанги произнесла самое обычное повседневное приветствие.
– Мой принц, – обратилась она к Бадирту, – ты пришел узреть справедливость Огненного бога?
Окайре показалось, что фраза заключала в себе намек на какие-то ранние договоренности. Будто была свидетельством некой незримой, но прочной связи, недоступной ей, матери Бадирта. Однако вместе с тем королеве не нужны были доказательства, чтобы и днем и ночью помнить об этой самой связи. И медленно сходить с ума. Будучи постоянно окруженной семьей, свитой и подданными, но в полном одиночестве.
И смирении.
– Да, Сиятельная, – с готовностью ответил молодой принц, вернув руки на цитриновую поверхность чаши. – Если это угодно тебе и посланнику Прародителя. Я пришел сюда с рассветом, как велел мне горбун.
– Не чье-то повеление, но зов сердца и пламя души должны вести тебя, мой принц, – ровным тоном заметила Йанги, покосившись в сторону хранившей ритуальное молчание королевы. – Мы с твоей матерью надеемся, что ты явился именно поэтому. Ибо все, что ты делаешь вопреки своей истинной воле, – делаешь наперекор своей судьбе, что вершится…
– …в неисповедимом танце искр, ниспосланных нам Прародителем чрез щедрую длань Огненного бога, – двумя медленными кивками завершила Окайра хорошо знакомую цитату из Наставлений.
Не более получаса назад она заходила в Святилище с двумя целями: заново найти общий язык с сыном и вернуть его к привычным занятиям, вытянув из порочного омута праздности. Заходила, уверенная в своей правоте, готовая начать разговор мягко и дружелюбно, но в случае необходимости прибегнуть к любым доступным ей мерам, вплоть до телесного наказания. К счастью, удалось обойтись доверительной беседой: взаимопонимание было наконец восстановлено, и душевные раны начали заживать.
Благодать, увы, длилась недолго. Во взгляде сына вновь сквозила холодная отстраненность. Окайра, судорожно дыша, пыталась понять, как ее успехи могли так скоро обратиться в ничто? Один взгляд жрицы – и они расползлись вместе с легким дымом, только что закурившимся из круглых окошек. И без того тонкая паутинка связи с Бадиртом, едва укрепившись между ними, снова натянулась и лопнула. Конечно, это никак не проявилось физически, но в голове у Окайры еще долго стоял резонирующий гул, вызванный разрывом незримых волокон.
Несколько мгновений она простояла, молча созерцая фигуры сына и Йанги. Они медленно и степенно удалялись в сторону высоких резных створок, отделяющих колоннаду от внутреннего помещения Святилища. Королева не двигалась с места, пока четыре массивных стражника в черных доспехах не скрестили алебарды поперек этих дверей, чтобы обеспечить полное уединение и покой вошедшей в них пары. Очевидно, жрица не намерена сегодня принимать жителей Харх в своей обители, хоть дым благовоний из окошек говорил об обратном. На стражниках не было традиционных эмблем в виде двух перекрещенных мечей над кольцом Перстня. Вместо них на нагрудных пластинах доспехов, покрытых черной позолотой, были высечены крупные перевернутые треугольники.
По завершении совета, что состоялся в Гроте заседаний днем ранее, Рубб вновь погрузился в свои мрачные мысли. Ничего необычного в том не было: последнее время беспокойный разум командующего часто занимали тяжкие раздумья, а сердце терзали смутные предчувствия. Инцидент на совете лишь позволил этим переживаниям прочно обосноваться в душе начальника королевских стражников.
Во время заседания он лично стоял на страже внутри самого грота, так близко к королевской семье, как никто другой из его подчиненных. Все прочие представители королевской стражи находились снаружи, равномерно распределенные по обширной территории замка-горы. Рубб не отличался суеверностью и обычно направлял поток рассуждений в мысленное русло, сложенное из жизненного опыта, заветов отца, воинской Заповеди и семи Наставлений. Но это было раньше, до того, как старый Имит предрек Харх нечто. Ожидание неизвестности – вот та ничтожно малая капля ярко-василькового раствора, которой под силу изменить прозрачные воды мыслей. Надо признать, что Имиту это удалось, хотел он того или нет. Со дна невидимой реки поднялся песок внутренней смуты.
«Грядет нечто, – прокручивал Рубб в голове калейдоскоп табличек Имита. – Не знаю что, но оно грядет и нас не спросит, готовы ли мы. Отреклись от истории, от самих себя задолго до Гимеона Безумца, теперь получим на орехи. Тут уж никакой звездочет не нужен, чтобы понять… А что, может, так нам и надо? Что сохранили мы от наследия воинственных предков? Одно тщеславие и напыщенность. Ах да, еще лоск, спасибо за наставления, отец! Это ими мы будем защищаться, когда придет время? А оно придет, ох, чую, придет! Не верил бы я старческой болтовне и карканью, да так уж вышло, что сам все вижу. И речи возвышенные о воинской славе и традициях Харх оставлю королю Каффу, пусть со своей высокой террасы тешит крестьян и лоточников – может, они ему и поверят. Далеко нам до тех великих хархи, которые отстояли огненную землю, когда мы еще бесплотными духами летали меж звезд!»
Сундучок с «предсказаниями» распалил Рубба не на шутку. Он так и продолжал стоять напротив входа в грот, не меняя позы и не выражая никаких эмоций на суровом лице, что совсем не сочеталось с поднявшейся в его сердце бурей.
Когда члены совета один за другим стали в полном молчании покидать грот, до этого еще колебавшийся Рубб окончательно принял одно важное решение. Оно касалось ближайшей судьбы двух служащих, нарушивших утром того же дня одно из правил Заповеди. Перспектива, проглядывающая в картинках со звездами, заставила начальника королевской стражи забыть о своей мягкости, порой избавлявшей его подчиненных от наказаний за мелкие проступки.
Убедившись, что все разошлись, Рубб, сверкая отраженным пламенем догорающих свечей на бронзовых доспехах, уверенным шагом подошел к горбуну, занятому соскабливанием оплывшего белого воска с малахитовой плиты. Застывшие восковые кусочки с глухим стуком падали в зеленую бутыль с широким горлышком, которую Эббих таскал за собой, обвязав грубой бечевкой. Завидев приближающегося Рубба, горбун не прекратил своего занятия.
– Главный королевский стражник, – с ехидной улыбкой процедил карлик, бросив в его строну короткий взгляд. – Как там твои игрушечные солдатики? Сегодня вы особенно нарядны. Это, надо понимать, для Гаркуна? Хе-кхе-кхе-е-е… – Саркастическая речь прервалась полусмехом-полукашлем.
Руббу на мгновение показалось, что где-то под каменными сводами грота закаркал старый ворон.
– Эббих, я не намерен выслушивать твои прибаутки. Прибереги их на тот случай, когда будешь ползать под ногами Йанги, чтобы она не пнула тебя за твой убогий вид, – будничным тоном парировал Рубб, готовый к подобному приветствию.
«Сила – в смирении», – сам не веря в это, твердил он про себя, до скрежета стискивая зубы.
– Намерен, не намерен – это не мое дело, и нет мне дела до тебя, – насмешливо проблеял Эббих. Он остановился и ткнул скрюченным мозолистым пальцем в сторону Рубба. – А тебе до меня – есть. Видишь, как оно получается, главный стражник? Не можете без нас? – Каждая фраза горбуна жалила острыми иглами издевок.
Ни тени страха, ни признака благоговения перед физическим превосходством.
– Получается, что так решили не мы, а Заповедь, а ее правила угодны Огненному богу, – отчеканил командующий. – Ясно тебе, бородатый прислужник? Так слушай и запоминай: завтра, как закурится дым из Святилища, пришлю к вам своих двоих. Нарушили вторую часть заповеди: не сохраняли молчание во время церемонии смены караула. Разбирайтесь там сами, но завтра вечером они нужны мне в охранной цепочке нижнего яруса замка-горы. Не буду отвлекать тебя от твоих обязанностей – вижу, плита еще недостаточно блестит.
Карлик мерно закивал, бегая глазками по поверхности стола.
Рубб остался доволен: не каждый день ему удается поставить не в меру остроумного прислужника на место, да еще так красноречиво. Начальник королевской стражи резко развернулся на каблуках и, звякнув металлическими кольцами доспехов, словно отвесив Эббиху звонкую пощечину, еще уверенней зашагал к выходу из грота.
Горбун, в свою очередь, продолжал согласно кивать Руббу вслед. На изъеденном пятнами морщинистом лице промелькнула торжествующая улыбка.
Глава 5 Гипноз во благо
За Яллиром закрылась дверь, окончательно отделив его от безопасности стен родного дома. Закрылась не посредством движения руки и не от холодного сквозняка поперечного течения, которые ранним утром часто пронизывают Нуа своими бурлящими пружинами. Определенно здесь вмешалась какая-то иная сила! Ибо старый купец готов был поклясться, что дверь затворилась сама, словно показывая: обратной дороги нет, дом примет своего хозяина обратно только по возвращении из Расщелины. И непременно – выполнившего долг. Будто в подтверждение этих мыслей за спиной седеющего торговца раздались мягкие переливы колокольчатых раковин, усеивающих природной мозаикой эту самую дверь. Разумеется, подобный музыкальный эффект был вызван легким ударом дверных створок о порог, что силой своего импульса и открыл ребристые половинки круглых раковин. По той же причине пришли в движение прикрепленные к ним металлические язычки – они тотчас завертелись по шершавой известняковой поверхности ракушек. Соприкасаясь в кружении с «молоточками» мелких темно-розовых жемчужинок, язычки послушно извлекали из них приглушенный каскадный перезвон.
Яллир в свое время самолично доставил с острова Харх этот особый металл язычков, прозванный местными «певучим» за свою исключительную звукопроводимость и способность до неузнаваемости менять тональность в одних и тех же условиях. В глубине души купца возмущало, что варварское население огненной земли не нашло великолепному металлу достойного применения. Молодому Яллиру, признаться, было искренне жаль мелодичный дар хархских рудников. Ведь вместо того, чтобы занять достойное место, скажем, в оркестре, он, подобно пастуху, созывал хархи то на ярмарку, то на очередной обряд, способный, по мнению этого народа, повлиять на природную стихию. Да что там! Ведь даже в королевском замке-горе «певучий» использовался не для музыкального сопровождения торжеств, а довольствовался куда более скромной ролью: впаянный в плоский металлический диск горбуна Эббиха, он знаменовал начало заседания совета.
Да, Яллир, само собой, знал об этом. Более того, купец втайне гордился тем, что лично заключил на Харх первую сделку по закупке «певучего». Сумел-таки обогатить свою родную землю Вига новыми дарами огненной земли, на проверку оказавшимися куда более полезными, чем предполагали невежественные хархи.
Как только не распекал купец жителей Харх по возвращении своих караванов обратно в Нуа!
«Живя преимущественно в горной местности, – говаривал прежде он, – имея открытый доступ к ценнейшим рудным месторождениям и редчайшим полезным ископаемым, эти религиозные фанатики даже не дают себе труда пустить сокровища недр на благо своего народа! Только ради оружия и доспехов отправлять рабочих на рудники – какое неслыханное узколобие!»
Теперь же, услышав в утренней тишине хорошо знакомый перезвон, Яллир воспринял его совершенно иначе. То была не музыка, а завеса из тончайшего кружева звуков, опустившаяся невесомыми складками между привычным миром и Расщелиной. Хоть торговец пока еще не сделал ни одного шага в сторону окраины Нуа, тем не менее он всем своим бледно-голубоватым телом ощущал, что уже находится на той стороне. И даже представшие перед его взглядом декорации родных окрестностей, слегка подсвеченные утренними косыми лучами эфимиров, не рассеивали этого темного наваждения.
Но как бы то ни было, дело, выхватившее Яллира из крепких объятий сна, настойчиво требовало его непосредственного участия и, увы, ждать не могло. Он со скорбным вздохом еще раз бросил взгляд на свой двухэтажный дом из жемчужных плит, напоследок вслушался в угасающую музыку колокольчатых раковин (прощальным диминуэндо она выразительно окрашивала сцену расставания с родной обителью). И слегка прихрамывающей, энергичной походкой отправился из Купеческого круга в сторону левой нижней окраины столицы, или Чернового круга.
Здесь разумно будет ненадолго прервать наблюдение за пешим маршрутом Яллира через весь Нуа, чтобы лучше разобраться в специфическом ландшафте этого города. Вот как описывает своим студентам внутреннее устройство столицы Вига мастер Циммиах с архитектурного факультета Университета:
Основы градостроительства для начинающих: пять великих территориальных центров Вига
Нуа (столица государства Вига)
Итак, обобщим вышеизложенные ключевые особенности Нуа как важнейшего территориального центра государства Вига.
Уникальная (и единственная в своем роде из доступных нам к изучению сегодня) городская система Нуа представляет собой обширный комплекс из кругов с расходящимися по спирали зданиями. Они, в свою очередь, разделены по отраслевым и функциональным признакам, но вместе представляют единое поселение. Всего существует шесть таких спиралевидных кругов: Дворцовый, Ученый, Виртуозный, Купеческий, Зодческий и Черновой. Как можно понять из названий, каждый из кругов служит для удовлетворения различных потребностей населения Вига: муниципальных, судебных, экономических, хозяйственных, научно-образовательных и духовно-эстетических. Рассмотрим принцип их формирования на примере Дворцового круга.
На заре возведения Нуа, в первой половине III световехи14, в самом сердце города был выстроен древний дворец хранителя Вига (на тот момент им был Золиатт), на сохранившемся фундаменте которого стоит нынешняя отреставрированная обитель нашего властителя Ингэ. Вокруг дворца по спирали выросли дома высокопоставленных вига, разграниченные между собой внутренними дворами с разбитыми в них цветущими садами и каменными водопадами. Статус приближенных к хранителю, как правило, был прямо пропорционален близости их домов ко дворцу. Так в городской системе Нуа появился первый круг, внешне представляющий собой спираль, закрученную внутрь.
Золиатту, поклоннику новых архитектурных и художественных стилей, пришелся по нраву такой принцип строительства, что отразилось в сохранившемся до наших дней указе: «Разбить нестройные нагромождения зданий, называемые столицей Вига, и на их месте закрутить спирали, подобно Дворцовому кругу. Между ними провести дороги для удобного перемещения из одного круга в другой». Таким образом появились новые районы Нуа, которые своей архитектурой полностью отразили требование Золиатта. Центрами этих районов-кругов стали здания, собирающие под своей крышей сообщество нынешних и будущих мастеров своего дела: Университет (объединенный подвесными мостами с Лабораториумом и Библиотекой), Купеческий черторг, Цитадель искусств, Мастерская зодчих и Черновик (огромный цех широкого профиля, в котором трудятся рабочие, ремесленники, алхимики и их подмастерья).
Яллир мысленно похвалил себя за пунктуальность и предусмотрительность. Эти две полезные привычки, взращенные годами торгового ремесла, позволили ему прибыть к месту встречи вовремя, несмотря на внушительное расстояние до него. Вереница домов бедного Чернового круга – грубо слепленные между собой морские глыбовые валуны, наглухо заросшие губками сфагнума, – осталась позади. Равно как и предшествующие им витиеватые дома Зодческого круга, построенные из гибких и прочных когтей угундра ползучего15, сплетенных в остроконечные пирамидки цвета слоновой кости. Ранний утренний час делал свое примиряющее дело: он укутывал абсолютно непохожие между собой круги Нуа покровом тишины и умиротворенности, стирая в своей божественной гармонии иерархические границы между спящими жителями столицы Вига.
Тропинка известково-глинистого ила, огороженная по бокам низкими плетнями из черных скользких коряг, которой доверился старый торговец, покидая последнее кольцо бедных домов вокруг Черновика, не подвела. Как, впрочем, и всегда. По правую руку от Яллира за высокими заостренными стеблями дикорастущего морского хвоща показалась открытая трехъярусная постройка. Однако открытой она была лишь на первый взгляд. Купец прекрасно помнил, что это вытянутое вширь невысокое здание на самом деле обшито вулканическим стеклом гокху, завезенном на Вига две световехи назад в виде обломков остывшей лавы одноименного вулкана на южной стороне Харх. Благодаря своей колоссальной прочности это стекло, соединенное с каменным каркасом, образовало доселе невиданное на Вига здание. Это был гигантский аквариум.
Еще несколько шагов – и обман зрения преодолен. Разумеется, аквариум не был открытым. Иначе какой в нем смысл? Уже ставшие ярче лучи эфимиров весело сновали вокруг здания, множа свое сияющее отражение в его стеклянных стенах. И стенам было что дать взамен. Не строя никаких преград любопытствующим посланникам «светлячков», они открывали панорамный вид на поистине необыкновенных созданий, величаво скользящих по своему прозрачному дому.
– Яллир, старина! – приветственно закричали двое, стоявшие у входа в аквариум.
Тот, что помоложе, слегка неуверенно переминался с ноги на ногу.
Купцу не пришлось напрягать зрение, чтобы узнать в этих фигурах своих собратьев из Купеческого чертога – Лиммаха и Елуама. Охваченный сумрачными размышлениями о долге, так и не развеянными цветистым калейдоскопом дорожных видов, Яллир был не расположен нарушать тишину аналогичным радостным криком. Да и было бы чему радоваться. Разве только встрече с собратом Лиммахом и знакомству с будущим купеческим пилигримом… И все же лучше бы она, эта встреча, состоялась в другом месте и причиной ей послужил бы иной повод. Поэтому Яллир удостоил ожидающих лишь сдержанным кивком и отрывистым взмахом бледной руки, покрытой чуть заметной сеточкой голубоватых полуколец, имитирующих чешую.
Подойдя на достаточное расстояние, «чтобы не драть впустую глотку» – именно так подумал про себя Яллир, – он, пару раз нервически кашлянув, обратился к Лиммаху и Елуаму:
– Здравия вам, собратья. Вы оба здесь – значит, я ничего не напутал. А то возраст уж не тот, сами понимаете…
Коренастый Лиммах, на гладко выбритом черепе которого также слегка проглядывала псевдочешуя, по-дружески хлопнул Яллира по плечу. Движение вышло широким и размашистым, как обычно это водится у Лиммаха, но старый торговец, что называется, ухом не повел.
– Это-то возраст, Ял? О чем ты вообще? Вот дед мой – скоро уж световеха стукнет, как он под светом эфимиров греется, – там и правда возраст! Да и то все новости Нуа наперечет вперед меня знает да про все новые товары с огненной земли ведает – ни дать ни взять архивариус! Или как там эта должность в ихней библиотеке зовется? Не припомнишь? – прогудел своим зычным голосом Лиммах.
Яллир не понял, что именно стояло за этой неуместной веселостью: стремление подбодрить весь собравшийся у аквариума торговый отряд или плохо скрываемое внутреннее напряжение. Как бы то ни было, пожилой купец лишь коротко вздохнул в ответ. Ял был слишком озадачен предстоящим путешествием и слишком углублен в свои тревожные мысли, чтобы соответствовать тональности Лиммаха. Вместо ответа он перевел взгляд на молодого Елуама – медленно и настороженно. Пожилой пилигрим не желал признаться самому себе, что боится. Вдруг уже сейчас он что-то прочтет на этом юном лице с большими светло-голубыми глазами, отчасти прикрытыми легкой серебристой волной ниспадающей челки?
К примеру, отражение своего собственного страха.
Будущий купец, тоже блуждающий в лабиринте собственных мыслей, не почувствовал на своей перламутровой коже тяжелого взгляда Яллира. Судя по всему, и Елуам не разделял бравурного настроя Лиммаха. Кто знает, может, оно и к лучшему? Зачем парню зазря обнадеживаться и уповать на то, что будет легко?..
Перекинув через правое плечо черную полу своего плаща, в третий раз поправив лямку торбы из узловатых прутьев болотной ивы и тем самым исчерпав все уместные в данной ситуации действия, Елуам все же подключился к общему разговору:
– Рад видеть тебя, почтенный Яллир, – проникновенно проговорил он, чуть опустив голову в приветственном кивке. – Мы не встречались лично, но мне доводилось не раз слышать твое легендарное имя у нас, в Купеческом черторге. Признаться, я даже не верил, что один вига может доставить на свою родину такое количество бесценного сырья, химических элементов и природных образцов. О великие искусники! Задуматься только: передо мной тот самый купец, караван которого подарил Вига первую горсть драммиров и сосуд с семенами вселекаря! – Будущий последователь Яллира не смог сдержать восхищения перед ним, титулованным купцом, известным на весь Вига.
– Тише, тише, Елуам, не расплещи запас сил раньше времени, – остановил его Яллир в своей суховатой манере. – Уж поверь бывалому караванному пилигриму: он тебе сегодня ох как пригодится…
– Да будет тебе, Ял, – вновь затрубил Лиммах. – Юнец уже несколько дней только о тебе и говорит. Да и, надо сказать, ты как от дел отошел, мы тебя почти и не видим. В Черторге-то токмо по праздникам большим появляешься да когда главный наш, Балоах то бишь, тебя за наставлениями молодым вызывает. Да и то не всегда дозывается. К тому же ты сам, поди, понимаешь, что Елуаму встреча с тобой и должна тех сил придать, о которых ты толкуешь. Инициацию пройти – это тебе не цену на ярмарке сбить.
Вот так в бурном словесном потоке Лиммаха, невзначай блеснув острой гранью в общем смысловом вихре, на свет показалась причина, побудившая трех вига в столь ранний час собраться у прозрачных стен гигантского аквариума на окраине Нуа аж за Черновым кругом. Каждого из купцов слово инициация резко полоснуло под ребрами. Ведь до этого момента оно замалчивалось, и даже не по воле самих собеседников. Слово будто бы имело собственную энергию и было наделено своенравным характером. Замалчивало само себя. Скручивалось тугим жгутом, крошечной куколкой в тесном коконе и не хотело наружу – наводить сумрак в пока еще светлых водах Вигари.
Но уже поздно. Случилось.
Кокон ссыпал свою защитную скорлупу прямо под ноги купцам, обнажив скрывавшуюся в нем личину. Увы, она вовсе не оказалась прекрасной бабочкой или драгоценной жемчужиной.
Первым вышел из замешательства Яллир. Все-таки та напряженная, скрытая от посторонних глаз внутренняя работа, которую он скрупулезно вел последние несколько дней, принесла свои плоды.
– Лиммах, советую поменьше рассуждать о том, что тебе незнакомо. Запомни это, ведь кто знает, что сулит вам следующий караван на Харх. Хоть ты обычно и не выходишь на берег с торговыми пилигримами, а ждешь их возвращения под водой, все же припомни мой совет. А те, кто выходит, слишком хорошо знают, что ярмарочная торговля и инициация – все равно что весы, где на одной чаше перышко, а на другой – глыбовой валун. Потрудись взвесить, дружище Лим, – тихим усталым голосом проговорил седой Яллир, слегка хлопнув собрата по плечу, как бы передразнивая его излюбленный жест.
Лиммах виновато потупился, поддел рваный клочок ила загнутым носком своего сапога из грубой кожи. Ил резко взметнулся наверх в толще соленой воды и плавно осел на зубчатой пряжке из потемневшего серебра, украшавшей задник сапога. Проводник караванов заметил это и с силой стукнул пяткой по коряге, опоясывающей дорожку, на которой стояли все трое.
– Прости, Ял. Прошло ведь столько светокругов… – Лиммах задумчиво поскреб свой блестящий гладкий затылок. – Когда ты учился дышать на суше, там, у слепых в Расщелине, я был несмышленым ребенком, а отец мой был не старше меня нынешнего! Что правда, то правда. Однако ж не будем загодя впадать в отчаяние, собратья! Что у нас с вами получается?
Яллир и Елуам устремили взгляды на Лима: отчего-то он решил взять на себя роль ответственного за моральное равновесие в «отряде». Проводник невозмутимо продолжал:
– Взять хотя бы тебя, Ял. Как ни крути, а все же ты благополучно вернулся в свое время с границы миров, и потом, после обряда того, выжил и столько лет еще курсировал с караваном туда-сюда! Сколько путешествий мы, помнится, совершили в ту пору! Я, когда меня провожатым к вам главный определил, торбу дома не успевал разобрать да к жене лечь – а ну как завтра снова на Харх, будь он неладен? Кхм-м-м… Так о чем бишь я?
Елуам воззрился на бритого оратора полными надежды глазами: в них читалась искренняя готовность поверить любым оптимистичным доводам.
– Что почтенный Яллир благополучно вернулся и выжил после обряда, – благоговейно напомнил юноша. Его сакральный полушепот был больше похож на молитву, чем на реплику в разговоре.
И это несмотря на то, что Елуам понятия не имел, что такое молитва.
– Ну да, так оно и было, – кивнул проводник караванов. – Да и сейчас хоть наш герой и прибедняется, а все же здоров как бык, этим слепым образинам назло! А что, знай наших! Помню я… – Лиммах вдруг резко умолк, вновь впечатав язык себе в небо под тяжелым взглядом Яллира.
На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Казалось, число пузырьков растворенного в воде кислорода уменьшилось вдвое и вся неизмеримая толща вод Вигари разом надавила Елуаму на грудь. Он сделал тяжелый вдох, судорожно, каким-то ломаным движением поправил челку, хотя она в этом не нуждалась, чуть запрокинул голову назад, тряхнув блестяще-серой копной прямых волос. Усилием воли юноша поборол нахлынувшие чувства и заставил себя вернуться к разговору.
– Почтенный Яллир, прошу тебя, не смотри так на Лиммаха. – В голосе Елуама звучали примирительные ноты. Бедный мальчик! Уж Яллир-то знал, как тяжело давалось ему внешнее спокойствие. – Мой отец… Тут ничего не поделаешь, это в прошлом. Светлая память о нем озаряет каждый мой день, хотя, по правде, я был так мал, что почти его не помню. Моя мать видит произошедшее по-своему, и я не виню ее за это. Как я могу? Она вынесла довольно и не заслужила, чтобы я донимал ее своими бессмысленными укорами и пытался перекроить картину, которую она себе нарисовала. И все же я, сын Двилга, погибшего, по сути, от рук слепых, отказываюсь верить, что это был злой умысел! Более того, я горжусь, что Черторг выбрал меня новым купеческим пилигримом из сотни достойных претендентов! Ведь теперь я сам смогу вместе с прославленными купцами, такими как Яллир, отправиться на Харх и поучаствовать в Дне обмена!
Лиммах приоткрыл рот, демонстрируя два ряда чуть заостренных зубов-стилетов. Яллир, сощурившись от ярких бликов на стенках аквариума, внимательно смотрел на юношу, словно пытаясь дотянуться своим пронзительным взглядом до клубка переживаний Елуама – истинных переживаний. Он хотел прочесть мысли, очищенные от юношеской бравады, от желания не ударить в грязь лицом и оправдать доверие всего Черторга.
– Молодец, Елуам, – поспешил с ободрением старый купец. В конце концов, бравада то была или нет – какая разница, если это поможет юноше сохранить нужный настрой? – У тебя хорошие задатки. Уверен, ты сможешь доставить нам кое-что даже более полезное, чем камни драмиры и семена вселекаря.
Будущий пилигрим, словно забыв, с кем ведет диалог, задумчиво проговорил:
– Не знаю, к чему Университету столько этих камней из-под трех опаловых гор, но вот вселекарь – точно полезное приобретение. Может, тогда он бы спас отца, привези наши караваны его чуть раньше…
Теперь настала очередь Лиммаха многозначительно кашлянуть и бросить неодобрительный взгляд. «Как ты смеешь упрекать в чем-то собрата, что гораздо старше и опытней тебя?» – читалось в нем. Елуам – на то и будущий купец – вовремя заметил посланный ему знак и поспешил реабилитироваться:
– Я ничего такого не имел в виду, собратья. Если в моих словах вы уловили мнимый укор почтенному Яллиру, то, уверяю вас, у меня его и в мыслях не было! – К будущему купцу вернулся жизнерадостный тон юноши, преисполненного больших надежд. – Я прекрасно помню, что первый его караван с семенами вселекаря прибыл в Нуа лишь спустя светокруг16 после того, как не стало отца. Как я уже говорил, ничего нельзя было сделать… Тем более что Университету, в свою очередь, потребовалось немало времени для экстракции нужного ингредиента из этих семян с огненной земли. И поговаривают, эликсир из вселекаря не всем помогает… Что здесь у нас под водой, даже находясь в защитных колбах из крепчайшего стекла гокху, свойства семян несколько меняются. Только вот не ведаю, в какую сторону.
Яллир и Лиммах в очередной раз обменялись тревожными взглядами.
– Кажись, нам эликсир этот больше разум поправляет, мозги на место вкручивает, – поспешил Лиммах поделиться свежими слухами из Черторга. – Так мне давеча доложили купеческие пилигримы, которые крайние на Харх плавали. Я тогда в Нуа остался, выпросил у Балоаха двадцать светокругов отдыха, а то уж лица родных начал забывать.
– Лим, иной раз мне сдается, что тебе самому не помешает разум поправить, – окончательно потерял терпение раздраженный Яллир. – Елуам, мой юный друг, не слушай того, кто и в торговле, и в алхимии, и в лекарском деле понимает меньше, чем я в… эм-м… ну, в зодчестве, к примеру.
Яллир вдруг распрямился, преодолев нажитую годами сутулость, широко расставил ноги, упер руки в бока и высоким крючковатым деревом с иссохшей корой навис над низкорослым Лиммахом. У того от неожиданности еще больше округлились и без того выпученные глаза. Проскользнувшая между ними витая лента сквозного течения успела поиграть черными гравированными кольцами, которые полосатой дугой окаймляли ухо проводника торговых караванов.
Старый пилигрим заговорил, и его голос, прежде негромкий и хрипловатый, зазвучал авторитетно и властно:
– Я был там, где гигантское око изо дня в день обжигает беспощадным жаром сухую пыльную землю. Я ходил по этой земле под его пылающими лучами, облаченный в мантию из тройной мембранной ткани. Меня окружала лиходейская пляска проникающих в самое горло удушающих запахов и пробирающихся под кожу резонирующих звуков. Я шел на поклон к этому варварскому племени, не знающему грамоты, простейших законов сфероустройства и даже собственной истории! Я унижался. Я делал вид, что благоговею перед их физической силой, выдрессированностью и первобытными ритуалами! Мои руки так запорошила черная вулканическая пыль, столбом стоящая в спертом ярмарочном воздухе, что нельзя уже было различить на них мою фамильную вязь – достояние славных пращуров рода. И этими руками я, как какой-нибудь презренный торгаш, дошедший до того, что пускает с молотка семейные реликвии, разложил перед ними драгоценные дары моря Вигари, виртуозно обработанные лучшими мастерами Черновика и университетскими искусниками. Разложил, да еще нахваливал, живописал достоинства, разъяснял уникальность изделий такой красоты и силы, что перед ними преклоняется сам хранитель Ингэ! Пересохшим языком я втолковывал им истинную суть наших даров, могущих поставить эту потерянную цивилизацию на путь просвещения. Открыть им, недостойным варварам, верящим в божественную силу обычных природных явлений, законы этой природы, чтобы отныне она подчинилась им, а не наоборот!
Громоподобная речь Яллира распугивала стайки голубоватых рыбок, и те спешили уплыть подальше, беззвучно шелестя плавниками, напоминающими ажурные манжеты утопленника-аристократа.
– И они не поняли ничего из того, что я терпеливо раз за разом им объяснял, – свирепо продолжил Яллир. – Абсолютно ничего! О, эти их треугольники, которые они по тысяче раз за светошаг17 прикладывают к своим пустым головам! Все доводы, доказательства, факты вдребезги разбиваются об эти треугольники. Они просто закрываются ими, словно блокируя малейшие движения разума! Стремятся удержать священную пустоту в головах!
Яллир замолчал. Суровость его неожиданно сменилась улыбкой. В ней проглядывало непритворное торжество: старый купец уже чувствовал, что ему почти удалось переломить страх и опасения Елуама. А значит, он добился своего.
«Забытый вкус победы. – Он едва заметно прикусил нижнюю губу. – Мои старые друзья: могущество слов, сила убеждения… Как давно мы с вами не виделись!..»
– И все же я добился своего. – Яллир вдруг заметил, что сказал это вслух. – Пусть и иным путем – не так, как изначально было задумано и одобрено хранителем Ингэ. – В светло-зеленых глазах бывшего купеческого пилигрима зажглось по крошечному пляшущему огоньку. – Рыжеголовые взяли то, что я им привез. Пусть и не для развития своей первобытной цивилизации, а просто как затейливые игрушки из моря. Слишком уж они приглянулись молодому принцу Каффу, и он отказывался выпускать «диковины» из рук. Его отец, Чаккар, не смог отказать единственному сыну и был готов уплатить высокую цену, которую я у него затребовал. Нет, конечно, это были не те плоские железки с аляповатыми символами, которыми они расплачиваются друг с другом. И не драгоценные камни из богатых недр рудных месторождений, что в перерасчете могли бы инкрустировать дворец хранителя. От фундамента до верхушек семи шпилей. Ха! Если бы я согласился на такую оплату, то наши караваны могли бы еще не менее двух светооборотов18 приплывать на огненный остров и возвращаться с битком набитыми торбами. Но вышло все же по-моему.
Собратья не сводили восхищенных взглядов с Яллира. Под впечатлением от его одухотворенной речи они даже на время позабыли, зачем они здесь, чего ждет от них Черторг, куда сейчас они должны отправиться и что ожидает их там. Все временно растворилось вместе с лопающимися пузырьками воздуха, что легчайшим бисером нанизаны на острие стеблей морского хвоща, отделявшего купцов и проводника от темного силуэта Чернового круга. Ибо то, о чем с жаром рассказывал Яллир, до сего часа было известно лишь хранителю Ингэ, некоторым из искусников и узкому кругу посвященных в Купеческом черторге. Казалось, время застыло, и даже часовик-счетовод ненадолго разорвал свою магическую связь с эфимирами.
Набрав узкой бледной грудью кислородного раствора и медленно выдохнув его через прорези небольших жестких плавников, Яллир продолжил:
– Они дали мне три горсти семян вселекаря. Он и поныне растет на огненной земле – прямо из жерла потухшего вулкана Йундра… Единственное место на Харх, где можно встретить это растение. Рыжеголовые поубивали не одну сотню рабов в попытках добыть вселекарь, ведь спуститься внутрь Йундра и вернуться живым удается единицам. Тех, кто возвращается с семенами, сразу отпускают, и жрица Огня самолично снимает с них рабское клеймо. Я это видел сквозь клубы едкого дыма в их жутком храме. А еще видел, как одно растертое в ступке семечко вселекаря подняло со смертного одра дряхлого старика. А измельченная в порошок шелуха этого семени оживила умершую в родах кошку и всех ее пятерых котят, к которым остатки этой шелухи поступили через пищевод матери. И все пять орущих паршивцев благополучно выбрались на свет из чрева несчастной и прожили больше среднего, донимая королевских домочадцев своим бесконечным царапаньем и глупыми играми. Пятерым – слышишь, Елуам! – пятерым хватило проглоченного матерью порошка шелухи одной ничтожной семечки! А в нашем распоряжении теперь десятки колб этого снадобья!
Самоубеждение – сила, разбивающая преграды любого рода. Яллир заигрался с этой силой, но даже осознав, не в состоянии был остановиться. «И все же я добился своего», – стучало у него в висках, заглушая все прочие мысли. Выражение облегчения и бесстрашия на лице Елуама было лучшим тому подтверждением. Все, что теперь нужно, – это последний штрих, который надежно закрепит это состояние и пронесет его через грядущее испытание, что бы там ни ляпнул вслед неотесанный Лиммах.
– Ну что? Все еще боишься Расщелины, Елуам? – с легкой издевкой поддал на камни Яллир, заговорщицки подмигивая будущему купеческому пилигриму.
Словно под гипнозом, Елуам отрицательно закачал головой, не сводя со старика взгляда.
Лиммах только тяжело вздохнул, проскрипев сквозь зубы:
– Ял-то, гляжу, вообще не изменился. Вот только к добру это или к худу?..
Глава 6 Крошки для голубей
Трактирщик Куримар с выражением смертельной скуки на осунувшемся лице уже не менее получаса монотонно протирал поверхность высокого прилавка. Каждый взмах ветхой холщовой тряпицы примешивал к спертому воздуху помещения плесневело-винный дух. Кусок материи знай скользил туда-сюда по уже безупречно чистой сосновой столешнице.
Упомянутая столешница прилавка всегда была предметом особой гордости Куримара. Да и впрямь, даже перед королевским советником или главой гильдии на нее не стыдно было иной раз поставить щербатую костяную чашу, до краев наполненную хмельной маругой19. Гладкая поверхность прилавка, отдающая нагретым деревом, щеголяла многогранным орнаментом из треугольников, охваченных языками пламени. Эти витиеватые узоры не были полыми: их заполнял прессованный янтарный порошок, изначально прогретый в раскаленном песке и затем выкрашенный в яркие цвета. Янтарная масса, затвердев внутри узорчатого трафарета, украсила треугольники глубокими оливковыми и вишневыми оттенками, а язычки пламени – оранжевыми.
Что и говорить, резчик Гивдар поработал в свое время в «Хмельной чаше» на славу. Даже несмотря на то, что руки мастера уже тогда предательски дрожали, выдавая пагубное пристрастие своего хозяина. Куримару, уже второй звездный цикл вынашивавшему золотую мечту об искусно декорированном прилавке, стоило немалых усилий договориться об этом заказе с отошедшим от дел резчиком. Чаще всего его тогда можно было встретить не за работой, а бесцельно ошивающимся около турнирных и тренировочных ограждений или бредущим нетвердой походкой по глянцевым окатышам морской отмели. Что тут поделаешь? Неисповедимый танец искр его судьбы вместе с ярмом потомственного ремесла привели Гивдара не в стройные воинские ряды и не на манящие яркими флагами турнирные площадки, а в душную клетку отцовской мастерской.
И врожденный талант не стал ему утешением.
Трактирщик часто, с жалобным спазмом в глубине горла, вспоминал, как однажды под вечер, выглянув из узкого окошка своего заведения, вдруг заметил бездыханное тело, перекатываемое по песку в пене прибрежных волн. Забыв даже припрятать эмалированную шкатулку с железными пластинами и приказать помощнику Шогу не спускать с нее глаз, тучный Куримар бросился к месту происшествия, переваливаясь на бегу. Хотя, если задуматься, что он, невежественный кабатчик, сможет сделать, чтобы помочь горе-утопленнику, коли тот волей священного пламени остался жив? Как ему поступить в случае, если душа несчастного уже отправилась к Матери звезд и ее сыновьям? Ведь всем хархи с самого детства хорошо известно, что мертвец в трактире или даже рядом с ним – конец доброй репутации! Что с ним случилось и как он туда попал, никого не интересует, ясно одно: завтра твои завсегдатаи к тебе ни ногой! А послезавтра слух расползется шипящей змеей по Подгорью, и вход к тебе всему побережью заказан! Хоть бесплатно янтарное вино с маругой наливай и седоплава20 в соли за просто так на тарелку с овощным рагу подкладывай – ничто не вернет к тебе суеверных посетителей! Останется только своими руками поджечь трактир вместе со злосчастным телом, развеять по морскому ветру пепел и попытать удачи в другом месте. Добропорядочные хархи не пьют с духами утопленников, изгнанными из чертогов Огненного бога – это столь же очевидно, сколь темна ночь и светла утренняя заря.
Тем не менее все вышеперечисленные доводы не могли тягаться с силой внутреннего порыва, захватившего Куримара, когда он опрометью бросился к телу, не снимая тяжелой обуви и безразмерной туники. Изрядно начерпав смеси из соленой воды, песка и ошметков морской капусты широченными голенищами кожаных сапог, отчаянный трактирщик все же успел схватить несчастного за полу истрепанного хитона. В тот самый момент, когда пасть прибоя, жадно капающая пеной, уже была готова поглотить тело. Оттащив утопленника на безопасное расстояние от рокочущих волн под перепуганными взглядами чаек, Куримар с ужасом узнал в нем мастера Гивдара, того самого талантливого резчика по дереву. Живого или мертвого – а кто его, заблудшую душу, разберет? Кабатчик трясущимися руками взвалил тело на свое массивное плечо, обхватив его поперек спины пухлыми руками и, не ведая, что творит, потащил прямиком к трактиру.
Встречные хархи, завидев эту пару на своем пути, в священном ужасе шарахались прочь, а некоторые даже бросались наутек, подальше от греха. Куримару все это было безразлично. Для него они слились в абстрактную мешанину разноцветных клякс на холсте побережья. Кроме одного. Краем глаза запыхавшийся трактирщик успел разглядеть, как нищая беззубая старуха Нуулха, что-то бормоча себе под нос, сложила из скрюченных пальцев некое подобие треугольника и осенила их этой фигурой. Быть может, это-то тогда им двоим и помогло, кто его знает…
Но еще несколько шагов, и раскаиваться, сожалеть о чем-то стало поздно.
Ибо за спиной уже протяжно скрипнула калитка, отделяющая трактирный дворик от шума набережной, и ее скорбный стон не сулил ничего хорошего. Еще бы! Поглядите, какого гостя с бледно-зеленоватым лицом и черными кругами под глазами трактирщик самолично тащит в свое переполненное в вечерний час заведение!
Куримар, вздохнув, принялся еще тщательней полировать свой искусно декорированный прилавок. Некстати нахлынувшие воспоминания не позволяли кабатчику сосредоточиться на чем-то ином. Словно вот оно, безжизненно распластанное тело Гивдара с прилипшими к белому лбу мокрыми паклями рыжих волос – прямо здесь, перед ним! Куримар часто заморгал, чтобы избавиться от наваждения, и с силой протер глаза.
А ведь в тот злополучный вечер до кабатчика все окончательно дошло, только когда тело с глухим стуком свалилось с его плеча на низкий длинный стол и из-за него начали выскакивать перепуганные посетители. Оглашая трактир истошными воплями, они всей толпой устремились к дверям; их лица побледнели, почти как у бедняги Гивдара. Со всех сторон сыпались проклятия в адрес «нечестивого» трактирщика, звучали обрывки молитв к Огненному богу и Матери звезд с просьбой защитить от греха. Громкий голос Куримара не смог перекрыть нестройного хора, дирижируемого суеверным страхом.
«Куда вы несетесь сломя голову, ровно табун дугорогов под своим собственным созвездием?! – застыл в сознании немой вопрос. – Скорее всего, этот несчастный пьяница еще жив, нужно помочь ему, да побыстрей, пепел вам на голову!» Куримар лихорадочно огляделся и понял: надеяться здесь не на кого. Только на собственные руки. Эта светлая мысль озарила мозг трактирщика как раз вовремя – буквально за пару мгновений до того, как Гивдар мог отправиться постигать тайны звезд и любоваться колесницей Огненного бога с куда более близкого расстояния. Нет, Куримар не бросился откачивать мутную воду из тощей груди пострадавшего.
Он предпринял нечто иное.
Этими самыми пухлыми ручищами он вцепился в хорошо знакомый ему черный хитон, принадлежавший юному Цардаху, младшему лекарю из высшей плеяды целителей Харх. Какое, казалось бы, неслыханное нахальство!.. Однако трактирщик твердо знал, что делает.
Цардах, не к его чести будет сказано, питал слабость к знаменитой Куримаровой маруге. И хоть обычно употреблял ее в разбавленном виде, а все же в страшном сне не пожелал бы увидеть лицо своего строгого наставника Аннума, прознавшего о пагубной привычке подопечного. На том молодой целитель и попался. Куримар сгреб вырывающегося Цардаха в охапку и доходчиво разъяснил ему безрадостные перспективы его карьеры в случае, если тот откажется молниеносно вернуть резчика Гивдара «со звезд на огненную землю».
Неудивительно, что повторять дважды трактирщику не пришлось. Пара размашистых шагов – и младший лекарь уже склонился над телом, лежащим на низком столе. Куримар стоял за спиной Цардаха, грозно возвышаясь над ним на случай очередной попытки трусливого побега. С другой стороны путь к отступлению преграждала длинная дощатая лавка, лихо развернутая перепуганной толпой.
Лекарь умел без промедления оценивать ситуацию и понимал: конкретно эта складывалась не в его пользу. Попасть сразу в две ловушки – это надо постараться. «С одной стороны, – бегло рассудил он, – с этого кабатчика станется доложить Аннуму, где я коротал сегодняшний вечер. О последствиях доноса лучше даже не думать. С другой, тут захочешь не убежишь: толстяк уже перегородил все пути к отступлению, а ввязываться в потасовку – последнее, чего бы мне сейчас хотелось». Признаться, единственное, чего на самом деле хотелось Цардаху в тот злополучный миг – это как можно скорее выбраться из ловушек и как можно незаметней скрыться. И если для этого требуется немедленно оказать врачебную помощь утопленнику, что ж, придется пойти даже на это.
В логике молодому целителю не откажешь. Покончив с рассуждениями, он переступил через суеверия и наконец нашел в себе силы прикоснуться к холодному бледному телу.
Руки лекаря, довольно-таки изящные для хархи, двигались так быстро, а манипуляции были столь неуловимы, что наблюдающий из-за спины Куримар с трудом постигал происходящее. Нисколько не преувеличивая, он и годы спустя утверждал, что это был танец рук, состоящий из резких толчков в грудь, надавливаний какими-то черными камушками на виски, круговых растираний лба и втыкания в запястья тончайших иголок с крючковатым ушком. Сколь странными ни казались эти лекарские эксперименты, последний из них явно пошел бедняге на пользу. Первыми ожили его руки: они начали выписывать волнообразные движения вдоль пока еще недвижимого тела. Выглядело это немного пугающе. Следом с нарастающей силой заходила, вздымаясь, грудь, видневшаяся сквозь мокрые лохмотья разорванного хитона. Эти судорожные сокращения мышц избавили «утопленника» от изрядной порции соленой воды, приправленной мелким песком, на которую в приступе отчаяния тот променял излюбленную хмельную маругу. Мелкие черты лица зашевелились в пробуждающейся мимике и тем самым сорвали с себя ритуальную нефритовую маску21.
Славься, славься, пламень жизни,
Торжествуй, великий бог,
Пробудился Гив от смерти,
Не спешит он в твой чертог!
Матерь звезд его простила,
Самоказнь хоть страшный грех,
Но на небо не пустила
В назиданье для нас всех!
Эти бесхитростные строчки сами собой сложились в голове трактирщика в тот момент, когда он окончательно убедился, что горе-пловец пришел в чувство. Записать бы их, да куда и как? На языке каких символов? Разумеется, потом они выцвели и стерлись из памяти Куримара, перекрытые многочисленными слоями новых впечатлений, эмоций и событий. К ним относятся и клятва об украшении прилавка резьбой, взятая со спасенного Гивдара, и его многодневная работа с перерывами на хмельное забытье, и, наконец, бесславная кончина талантливого резчика в крошеве осколков бутыли из-под винного спирта возле этого самого прилавка.
Что тут поделаешь? Мельница жизни, ни у кого не испрашивая одобрения, заскрипела дальше своими лопастями, перемолов и это. Порой Куримару казалось, что жизнь заодно перемолола его самого. Что осталось от жизнерадостного и предприимчивого трактирщика? Одни мелкие осколки, подобные тем, что усеяли пол вокруг мертвого Гивдара.
«Надо жить дальше», – так говорят в народе? Вот Куримар и зажил, да только не так, как раньше, а тем безрадостно-обреченным манером, что в том самом народе именуется небрежным словом как-нибудь.
– Что, как там увалень-винодел из «Хмельной чаши», не слыхал? – иной раз, когда другие темы для беседы уже явно были исчерпаны, спрашивал один воин другого, не отвлекаясь от налаживания доспеха.
– Куримар который? – всегда зачем-то следовал уточняющий вопрос. – Да это… как-нибудь.
– А прилавок все же у него богатый… Нигде такого в Подгорье не видал!
– Да уж, славно сработано. А слыхал ты, дружище Нурхан, что этот хряк тогда пьяницу резчика – не помню, как его, грешную душу, звали – из моря сам выловил? Да лекаришке Аннумову тесак мясной к горлу приставил, только чтоб тот от Матери звезд его обратно в кабак возвратил?
– Известное дело, – лениво отвечал Нурхан собеседнику. – Нашел новость! Об этом уж почитай все Подгорье слыхало. Расписной потолок в Святилище виноделу покоя-то не давал! Я видал, да и другие хархи сказывали, что в дни жертвоприношений или на Горидукх22 Куримар все больше не на жрицу, а на потолок пялился. Задерет бороду кверху, да так, что вот-вот подпалит ее своим факелом, и глазищами по потолку так и шныряет. Какие уж там ему грехи выжигать и какие молитвы читать? Дела ему до этого не было никогда, скажу я тебе! Стоит и будто запомнить пытается узор тот. На кой хрен, спрашивается, а? Чтоб он ночью ему приснился вместо Нездешней?
– Ну ты и тугодум, Нурхан! – вспыхивал Водрих. – Сам же сначала сказал, что покоя тот потолок его грешной душе не давал! Перенести, стало быть, он хотел потолочный узор на прилавок у себя в трактире. Дошло до тебя? Бутыли с маругой чтоб ставить на священные символы, к которым ты в Святилище взываешь, чтоб матушка твоя поправилась и чтобы Тридда тебе красный платок на турнире бросила! И вообще, снял бы ты шлем, а то, как по мне, перегрел он твой котелок. Не соображаешь, по-моему, ни шиша.
– Вот ведь бестия семипудовая! – искренне возмущался Нурхан. – Верно, ты, Водрих, толкуешь! Так оно и есть. Сам видел, как в «Хмельной чаше»-то наши священные треугольники локтями обтирают – янтаря, ну, который внутри них, и не видать уже. Поди разгляди его за пятнами от пролитого вина да следами жирных пальцев! – И в испуге шептал: – Пощади, Мать звезд, его заблудшую душу!
– То-то и оно, друже, то-то и оно, – кивал сослуживец. – А кто там следить за порядком теперь будет и с рисунков тех жир соскабливать, коль жена его, Хигдая, еще пять созвездий назад к какому-то лучнику по ту сторону опаловых гор свинтила?
– Да ну тебя, Водрих! – терял терпение Нурхан. – Иной раз хуже бабы – Огненный бог тому свидетель! С тобой все сплетни по Подгорью соберешь, на копье их намотаешь, а потом копье то с земли не подымешь. Брехня пустая еще и душу утяжеляет, – резонно добавлял ревностный поборник правды. – Не я придумал – в Семи наставлениях так толкуется. Помнишь такие слова: «Все лишнее, что со сплетнями к тебе прирастает, потом в себе будешь тяжким грузом таскать»? Аж до самого Горидукха, а он ой как не скоро! – следовало уточнение.
– С каких это пор ты, Нурхан, жрецом заделался? – насмешливо вопрошал ничуть не пристыженный Водрих. – Или ты, чего доброго, черные латы с треугольниками вместо наших бронзовых доспехов на себя примеряешь? – парировал он. – Лучше бы ты вместо своих Наставлений больше Рагадира слушал, тренировался усердней да турниры б не пропускал. Глядишь, и Огненный бы тогда заметил твое старание и отсыпал бы удачи на твою тугодумную голову. А там уж, наверно, и Тридда бы поласковей стала, а отец ее… как бы это сказать?.. ну, добрей, в общем, к тебе, дураку. А что до жены Куримаровой, так это истинная правда – кого хочешь в Подгорье спроси. Ибо не слыхивали об этом только самые ярые противники досужих разговоров – такие, как ты, к примеру. Коль не веришь другу, что ни разу ни единой истории не приукрасил для твоих мнительных ушей, так давай, разузнай все сам! Возьми да спустись в любую таверну, зайди в первый попавшийся кабак и поинтересуйся, где нынче обретается любезная Хигдая? Ха! Сам потом прибежишь ко мне с глазами, будто дисками из Певучего! Да еще спать потом мне не будешь давать! Всю ночь кряду ведь будешь возмущаться: «Да как такое под Матерью звезд…» Как там дальше у тебя? А, вспомнил: «выгорело»! Ага, точно. «Как, – будешь бубнить мне с соседней лежанки, – такое выгорело, чтобы жена, венчанная с мужем священным пламенем огненного нимба на глазах у жрицы – ну, еще там всяких подробностей свадебного обряда приплетешь, – вдруг разорвала эту выплавленную на небесном своде связь, трижды плюнула на Семь наставлений, не говоря уж о собственных венчальных клятвах, да и сбежала вдруг от мужа?! А когда узнаешь – хотя это уже давно известно всем, – что еще и дочку их, малышку Медиз, на руках Куримара оставила, то до конца созвездия покоя мне в своем праведном гневе не дашь! Ну давай, иди, – уже чуть не подталкивал он опешившего Нурхана. – Сегодня как раз свободный от службы день! Большая удача для тебя, – не смог удержаться от шутки бойкий на язык Водрих. – А то ты тут со мной уж столько сплетен намотал на копье, что все равно не поднял бы его и до стрельбища бы не дотащил. Ха-ха-ха!
Собеседнику, сраженному в этой словесной баталии, оставалось лишь беспомощно развести руками.
– Да к чему мне тащиться в таверну и к добрым хархи приставать, когда ты мне все карты прям тут и раскрыл? Видать, теперь жителям Подгорья меня ничем не удивить…
А все же удивить недоверчивого Нурхана словоохотливые обитатели приморской местности могли, да еще как! Ведь разговор, подобный тому, который завел болтливый Водрих, частенько вился над муравейником черных каменных домишек Подгорья. Вился-завивался причудливыми кольцами правды и вымысла, щедро сдобренный гнилостно-сладким душком сплетен. Ветер на своих растрепанных крыльях разносил их вдоль всего побережья. Обрывки наблюдений и каркающее эхо слухов стали вожделенными крошками хлеба для изголодавшейся стаи голубей-попрошаек.
И не насытившись аппетитным мякишем пересудов и кривотолков, они начали клевать трактирщика прямо в голову.
Если в одном конце Подгорья утром рябая сукновальщица, стуча внушительным кулаком по своему кожаному фартуку, утверждала, что-де Куримар посещал Святилище, только лишь чтобы выучить его потолочную роспись, то через пару дней, на другом конце, он уже «ни во что не ставил Огненного бога и думал, будто кабак достоин такого же украшения, как и Святилище».
– Грех, грех-то какой! – склоняя седые головы под треугольниками из трясущихся пальцев, вторили старики хриплым хором.
– Не возгордись, подобно трактирщику из «Хмельной чаши», а то не видать тебе воинской службы как своих ушей! – вразумляли матери своих строптивых чад, в глубине души радуясь такому показательному примеру.
Пролетая над прибрежными поселениями, этот слух постепенно обрастал павлиньим хвостом выдуманных подробностей. Слава Куримара стремительно неслась впереди него.
Кто он такой? Что сталось с его жизнью? Как он вообще дошел до нынешнего положения? Спросите – и вам расскажут!
Расскажут, что-де презренный кабатчик, видимо, увлекшись дегустацией своих напитков, ни с того ни с сего возомнил себя не меньше чем членом королевского совета и посчитал уместным ставить бутыли будто бы на потолок Святилища. То есть предложить своим гостям выпивать прямо на священной для хархи символике, а то и сплевывать на нее застрявшие между зубов виноградные и рыбные косточки. Перенес возвышенное, божественное – вниз. Святыня, к коей устремлялись молитвы, благодарности, немые вопросы, просьбы о защите живых и жаркие заклинания о лучшей доле для усопших, оказалась под чашами с маругой, под тарелками с обглоданными свиными ребрышками.
Грех, грех-то какой.
А как трижды нечестивый трактирщик, дошедший в хмельных бреднях до святотатства, сумел воплотить в жизнь этот лукавый план? Ясное дело как! Всем ведь известно, что он и в обычные дни, и уж тем более по праздникам, не вылезал из Святилища; якобы весь из себя богопослушный и смиренный, что твоя овца. Ею он и был, по крайней мере снаружи. Этакий добродушный бесхитростный бурдюк с салом – вперится ягнячьим взглядом в потолок, изукрашенный янтарными многогранниками, и глаз бессовестных с него не сводит! Коли не знаешь всего, можно и взаправду подумать, что молится с усердием, да не за себя – за весь свой род куримарский грехи замаливает. Чтоб отца, нечистого на руку, Огненный из своего чертога не прогонял, чтоб сестре зрение вернулось, чтоб жена наконец родила ему сына, а малая его, Медиз то бишь, чтоб выросла красавицей и попала бы в гарем к одному из этих толстосумов гильдейских.
Оно, конечно, хорошо, коли бы из этого нового торгового союза муженек-то ее будущий оказался. Тогда, глядишь, на резном том прилавке выстроился бы ряд редких восточных вин с экзотическими пряностями! Да и ядреных настоек на северных ягодах ажно из-за самого Убракка было бы в достатке… Хотя, чего скрывать, родство с выходцем из ювелирной гильдии устроило бы наверняка алчного кабатчика не меньше. Уж тогда бы, небось, этот прилавок расцветили бы мерцающие самоцветы и драгоценные металлы – не то,что какой-то там янтарь.
Да, об этом, видать, молился набожный трактирщик, а сам глазами едва дырку в потолке Святилища не просверлил. Нет, вы это видели? Все, шельма такая, запомнил, до единой черточки, до мельчайшей детали: где какая фигура, где завиток, где крошечная линия, что и как в этих многогранниках расположено. А они ведь страсть какие сложные – позаковыристей наплечных татуировок лучших воинов королевской армии! Если долго на них смотреть, а потом резко закрыть глаза, начнут яркими узорчатыми дисками прямо в темноте перед тобой вращаться, словно хитрый механизм какой. Только там, в рисунках этих с потолка, все сложнее любого механизма устроено. А этот взял и запомнил. Не иначе как в голове у себя записал! Будто подталкивал кто, подсказывал, нашептывал. Может, сам рыбий царь? Да, вот уж он-то (или она, поди их, бледное отродье, разбери) мог до такого додуматься – даром, что ли, в нем и мужик, и баба вместе уживаются? Тьфу ты, водится же в этом ихнем Вигари такое…
Грех, грех-то какой.
А дальше как дело было? А как бы ни было, ясно одно: без мастера тут никак, ибо у самого Куримара руки только вино в чашу подливать приспособлены, да и то бывало, что мимо нее. Ну, вы знаете эту его неповоротливость. С мастером, надо сказать, все больно непросто оказалось. Оно понятно, что ремесленники – народ не шибко умный, да и к медовухе, знамо дело, неравнодушный, а никто за дело богопротивное браться не хотел. Зачем, спрашивается? Чтоб в сговоре сбрендившего кабатчика с рыбьим царем свою долю греха заиметь? Так недолго и на Стене отверженных оказаться. Спасибо, уж лучше в гильдию податься: там хоть свяжут по рукам и ногам, но, по крайней мере, таким заказом не наградят.
А вот опустившийся Гудхар не избежал заказа этого, хоть и пытался уж под конец на дне морском от назойливого толстяка запрятаться. Говорят ведь, что резчик тоже тот еще «подарок» был: у самого руки не из того места – вот уж наказание отцу-мастеру! – да еще и завистливый дальше некуда. Глядел-глядел, как у брата и отца все складно из-под резца выходило, а сам при этом только дерево портил да инструмент затуплял. Ну и утешался маругой, как водится. В «Дурманящем кубке», само собой, – там, где подешевле да подальше от дома, чтоб отец с братом не нашли и по затылку киянкой не настучали. А Куримару только того и надо: вот он, тут как тут с халявной выпивкой. Кабатчики – они свое дело знают. Сначала умаслят гостя дармовым пойлом с разогретыми в котелке объедками со вчерашнего ужина, а потом давай в размякший разум свои шкурные интересы пропихивать! Вот он и так, и сяк подъезжал к захмелевшему Герхану – и на рыжей кобыле, и на пегой: «Упроси, – говорит, – брата старшего или, лучше, отца, пусть прилавок мой на манер потолка в Святилище разукрасят! Заплачу хорошо железными пластинами новой чеканки! А уж как принимать у себя в «Пьяной чарке» буду – все равно, что королей! Все, что здесь подается, вовек всей семье твоей бесплатно будет!»
Градхир пить-то пил, а согласия на заманчивые предложения Куримару не давал. Ясно как день: зависть уже так его душу прогрызла, что не желал он ничем пособлять ни отцу, ни брату. Не хватало самому на блюдечке этим «золотым рукам Подгорья» новые заказы притаскивать! Добряк Куримар ему и без того от души знай наливает, так чего ради против своей воли идти? Это ж… как там в Наставлениях толкуется?.. «Все, что ты делаешь вопреки своей истинной воле, – делаешь наперекор своей судьбе, что вершится в неисповедимом танце искр». Слова эти все с младых годков назубок помнят! А нарушить их…
…грех, грех-то какой.
Эдак какое-то время и тянулось, пока Куримар так горе-резчика не допек, что тот ровно в силках охотничьих оказался: по правую руку – семья со своими упреками, по левую – трактирщик клещами вцепился да, кажись, еще и подмешивать что-то дурманящее в пойло начал. Тут-то разум Градхиров окончательно и затуманился. И куда бедолаге от этих напастей деваться, как не на дно Вигари! Вот и решил он, душа грешная, к рыбьему царю с горя податься, ибо Огненный за слабость и праздность его теперь уж и близко к своему чертогу не подпустит. Кто знает, может, там, в пучине, его лучшая судьба дожидалась, а длинноволосые острозубые сирены из-за красных кварцитовых валунников давно уж Гаммира к себе зазывали? Вот он и пошел как миленький. А кабатчик неугомонный снова тут как тут: «Куда собрался? Погоди, – кричит, – у тебя еще на огненной земле дела остались: покуда родню свою мне прилавок вырезать не пришлешь, никуда не пущу!»
Да и плюх прямо в волны за ним.
Чуть не располовинил несчастного, деля с сиренами его, нахлебавшегося воды! Еще немного, и только руки его трактирщику бы достались. А что с них толку? Они и при живом-то хозяине не больно искусно резцом владели. Так что Гамхир нужен весь, целиком. Поэтому-то Куримар зубцами разбитой бутыли тем девицам хвостатым личики так разукрасил, что свеженький утопленник потерял для них всякую привлекательность.
Ну, вытащил на берег тело – глядь, а оно уж бездыханно, хоть сразу на Пепелище его. Тут у Куримара поджилки-то и затряслись: остатки трактирщиковой храбрости еще там, в пене морской, закончились, а мужества в помутненном разуме и жировых складках отродясь не водилось. Пялится на мертвеца, на берег вытащенного: кровь вся от лица отхлынула, уж сам на него сделался похожим, как припомнил, что с вечера опять к нему в кабак Цогдаш из лекарской гильдии пожаловал. Вот удача! Утопленника на плечо, как мешок с картошкой, взвалил и диким кабаном помчался обратно в питейную обитель, сшибая все на своем пути. Хархи добрые на это смотрят: «Никак совсем умом тронулся! Лучше б сразу кабак подпалил с собой вместе, чем окаянство такое совершать!»
Грех, грех-то какой.
Влетел он в трактир и сходу тело прямо на стол с маругой и закусками свалил, а сам сзади встал и собой, будто пивным бочонком, выход гостям перегородил. Да еще пригрозил им, что если не выживет резчик, то со всех присутствующих будет клятва огненная взята раскаленными щипцами для углей. Придется, дескать, поклясться, что ничего в тот день в трактире не произошло и никто в его стенах не думал помирать! Ну, тут отважный лекарь Цогдаш и вызвался на подмогу, хоть другие на него цыкали, чтоб молча сидел: молодой ведь еще совсем! А ну как обезумевший Куримар ему пальцы своей кочергой прижжет, если пьяница не очухается? Но на то он и лекарь, самого Аннума ученик, чтобы не оставить страждущего в его мучениях! Ниспошли, Матерь звезд, лучи благоденствия на его голову! Подошел молодой целитель к Гиддиру да и начал руками по нему колдовать, а трактирщик тесак для разделки мясных туш прям возле горла его держал. «Вытаскивай его с небесного свода сюда к нам! – рычал ему прямо в ухо. – Мы тут с ним еще не закончили! А не вытащишь – за ним следом быстрехонько отправишься!»
Грех, грех-то какой!
Цогдаш-то вытащил. И разбрелись все, не помня себя от страха, по домам. Шли из проклятого трактира и думали про себя: а вдруг на какое-то время резчик все-таки помер, а бесстрашный лекарь его и правда прям оттуда достал? Тогда получается, что все они пили тем вечером с мертвецом! Милосердная Матерь, что же теперь делать? Какими молитвами и жертвоприношениями исправлять такой страшный проступок?
Грех, грех-то какой!!!
Крепко задумались гости Куримарова кабака, и, хоть ровно ничего богопротивного в нем тем вечером не произошло, завелось в народе восьмое «наставление» – обходить окаянный трактир за три версты. Не сказать, правда, что с тех пор никто к Куримару не захаживал. Ему удавалось кое-как сводить концы с концами благодаря особо отчаянным огненным воинам, что повадились бросать в «Хмельной чаше» вызов собственному страху. Доказать что-то себе и Огненному богу: вот, мол, ставим на кон собственную загробную жизнь, лишь бы снискать твою похвалу за отвагу! Не боимся, дескать, дремучих народных поверий, а слушаем только священные Наставления Прародителя. На этой почве в воинских частях Подгорья родился обычай: на спор выпивать чашу маруги за столом, на котором тем роковым вечером лежал утопленник. Поборовшему себя и смертельно расстроившему свою семью воину полагался новый знак в кольцо наплечной татуировки, напоминающий глаз, охваченный пламенем. «Взгляд смерти в глаза», – окрестили воины этот новый символ, нашедший не так уж много желающих украсить им свое плечо.
Наиболее любопытные и наименее суеверные хархи из других городов острова, особенно по ту сторону опаловых гор, время от времени тоже жаловали трактир своим присутствием. Приходили сравнить узоры в Святилище и на прилавке Куримара…
И действительно не находили отличий.
Вымышленное и истинное, словно не замечая своей несовместимости, сплетались все теснее. Их связь крепла, образуя чудовищный полумифический гибрид, который наступил своей великаньей ступней на Куримара. Даже ничего не почувствовав при этом, он изломал трактирщика как снаружи, так и изнутри. Крошки слухов, брошенные голубям, проросли хищным плотоядными цветами-мухоловками, что, не подавившись, пожрали огонь сердца трактирщика, оставив в нем зияющую пустоту.
Куримар протер увлажненные воспоминаниями глаза тряпицей, которой надраивал столешницу. В нос ударил резкий кислый запах, а глаза только сильнее защипало от спиртовых испарений и въевшихся в холщовую ткань специй. Похудевший почти вдвое трактирщик на мгновение вернул себе тень былой расторопности, метнувшись в сторону кадки из бурового вяза, дабы плеснуть в лицо прохладной водой.
Плюх. Кап-кап-кап…
Струйки приятно стекали по истощавшему лицу и задерживались тяжелыми каплями на всклокоченной бороде. Легкое дуновение морского ветра, долетевшее до Куримара сквозь крошечные окошки каменного помещения «Хмельной чаши», проскользило по этим мокрым дорожкам и на прощание оставило на лице след из мелких мурашек.
Нет! Это уже ни в какие ворота…
Нужно скорее обтереться полой хлопкового фартука, чтобы десятилетняя Медиз, вернувшись с рынка, не приведи Огненный, не застала его в таком размякшем виде. Да и подкрепиться не помешает: с утра крошки во рту не было, хотя всякой снеди на кухне предостаточно. Несмотря на полное отсутствие аппетита, ему, Куримару, следует хотя бы сделать вид, что он поел, а не то Медиз снова начнет браниться. И – вот ведь причуды судьбы! – с точно такой же интонацией, что и ее мать Хигдая. Помнится, давно – почитай, уже как вечность назад – жена то и дело упрекала его за чревоугодие. А сама-то уж, наверно, теперь на восточных сластях и винах с нездешними пряностями тоже не легкой бабочкой порхает. Или что она там вкушает с новым мужем за опаловыми горами?
Эти мысли, будь они неладны, тоже нужно гнать прочь.
– Пш-ш-шли-и! – Куримар с силой ударил кулаком по цветным янтарным дорожкам своего прилавка, глядя куда-то сквозь него. Непрошенные слезы все так же застилали глаза.
Другой рукой трактирщик извлек из кармана фартука огрызок вчерашнего яблока и начал без аппетита его жевать.
«Ничего, – уговаривал себя Куримар, – надо только дотянуть до вечера». Слишком давно он не ходил к Двурогому холму оракула за исцеляющими душу историями. Ну, как исцеляющими… Их действия, разумеется, всегда хватало ненадолго; после них порой было еще сложнее возвращаться в свой опостылевший мир, словно в беспощадном похмелье. И да, на следующий день волны реальности еще грубее будут шваркать исхудавшее лицо Куримара об острые края тех самых стеклянных осколков, в которых когда-то лежал здесь несчастный Гивдар.
И в этом следующем дне его снова ждет укор в глазах дочери, его малышки Медиз… Что поделать, коли она поверила кружащему вокруг ее рыжей кудрявой головки воронью, до сих пор посыпающему побережье пережеванными крошками слухов?.. Куда деться от упрекающего взгляда? В то же время ее по-детски упрямое каждодневное ожидание возвращения матери попросту сводило трактирщика с ума. Имел ли он право открыто поведать дочке, что именно ее появление на свет и заставило когда-то Хигдаю отбросить мечты о муже-воине и пойти за него, Куримара, замуж? И что все эти созвездия Хигдая только и ждала повода, чтобы снять с себя семейное ярмо и устроить собственную жизнь получше… Прикинув так и эдак, Куримар рассудил, что такого права у него нет. Ибо понимал, что, развенчав образ Хигдаи в глазах дочери, он лишит ее согревающей сердце иллюзии. Заставит почувствовать себя нелюбимым, ненужным ребенком. К чему это и без того настрадавшейся по его милости малышке?
Так что Медиз оставалась насчет матери при своем мнении, а именно: матушка была слишком праведна и религиозна, чтобы оставаться в этом греховном месте, куда ее ополоумевший муж своими руками притащил мертвеца и угрожал всем посетителям!
Успокой свой измученный, растерзанный разум, дружище Куримар. Не сегодня. Уже вечером ты будешь сидеть на мягком зеленом ковре у подножия холма в окружении сиреневого клевера и россыпи мелких голубоватых ромашек, будто бы воспарив над стаей этого брызжущего ядом воронья. Нега травяного медового аромата проникнет прямо в твои мысли вместе с неторопливым повествованием Тихха о далеких звездах, костяных островах далеко за горизонтом Вигари и мудрецах, ведающих о нас то, чего не знаем мы сами. Убаюкивающий голос оракула на крылатом коне унесет тебя далеко, очень далеко отсюда. И сегодня, хотя бы сегодня, ты уснешь спокойно.
Только дождаться бы вечера.
Глава 7 Переосмысленное молчание
Яллир придирчиво сощурил глаза и еще раз внимательно оглядел Елуама, словно желая убедиться в неоспоримости своей победы. Удалось ли ему, умелому переговорщику, развеять страхи и сомнения будущего пилигрима? Сильны ли, достаточны ли были доводы? Не зря ли, слегка увлекшись этой игрой, он раскрыл некоторые, скажем так, личные подробности своих торговых паломничеств?
«Все-таки годы делают дружбу с риском все более натянутой…» – некстати подумалось Яллиру.
Первое впечатление, увы, не слишком обнадежило старого купца: лицо юноши выражало полное отсутствие каких бы то ни было мыслей. А если они и были, то блуждали где-то бесконечно далеко от окраины Чернового круга. Ни осознанностью, ни воодушевлением, что называется, и не пахло. Да что там – парень выглядел еще более потерянным, чем до их «доверительной беседы»! Наверное, впервые в своей жизни Яллир в буквальном смысле ощутил, как почва уходит из-под ног – медленно, песчинка за песчинкой. Устоишь тут на ногах, когда старые приемы и средства уже не действуют, а новые не спешат им на замену!..
Легкий толчок в бок прервал внутреннее ворчание купца и заставил вновь поднять глаза на своего преемника. Что там хотел показать ему Лиммах? Неужто засвидетельствовать его, Яллира, запоздалый триумф?
Старый пилигрим медленно поднял усталые, полные недоверия глаза.
Нет, все же есть еще порох в пороховницах, а старые приемы не так уж и плохи: лицо юноши просветлело облегчением. Наконец-то исчезло затравленное выражение, таившееся в аквамариновой глубине взгляда молодого вига. Предательски выступающие приметы эмоциональной незрелости сменились первыми признаками уверенности в себе.
Яллир, однако, не спешил торжествовать. «Надолго ли это?..» – только и хмыкнул он про себя.
Что ж, это лучше, чем ничего. «Будем, – заключил бывалый пилигрим, – довольствоваться тем, что есть». Временное забытье так или иначе окажет свое целительное воздействие на эо23 юноши. Оно наложит ему успокаивающий травяной компресс на разгоряченный лоб, терпеливо распределит по своим местам восемь жидкостей его сосуда и не даст им снова смешаться в зловеще булькающее варево страха. Чтобы стало в точности как на потертой от времени оригинальной иллюстрации к «Учению об эо: корневой системе психики вига» – строгий порядок и равные пропорции. А что до выданных сгоряча тайн Черторга вместе с секретными деталями странствий – да семеро искусников с ними! Не жалко, по крайней мере теперь. Это молодому и залихватски бесстрашному «морскому черту» Ялу, коим он был много светооборотов назад, бесконечно льстила та мантия таинственности со вшитыми в нее чужестранными загадками, что гордо развевалась за спиной при каждом шаге. В ее темных складках было все: мистерия Расщелины, не разбавленный водой кислород, вулканическая черная пыль, рисунки из звезд, бессмысленная жестокость турниров и публичных казней, королевские сады каменных цветов, пряные благовония из Святилища, звон браслетов горделиво шествующего мимо гарема, соленый привкус ветра, хоровод примет и суеверий, горький сорх24 в чашах с наперсток, три сросшиеся клином горы из драгоценного опала, капли пота воинов в пыли тренировочных полигонов, первобытный экстаз Горидукха, корично-цитрусовый аромат шицуба в меду, первая горсть вселекаря в дрожащих от волнения серебристых руках… Все это тот лихой пилигрим Ял долгое время носил на себе, ревниво скрывая содержимое складок невидимой мантии не то что от посторонних, а даже от собственной семьи – родителей, жены и двоих сыновей.
Теперь же он был только рад укрыть ею Елуама от сонма черных мотыльков, несущего на лохмотьях иссушенных крыльев отравленную пыльцу страха. Яллир, награжденный не только сединами, но и мудростью, отчетливо выкристаллизовавшейся из остывшей смеси лихачества и амбиций, все сделал верно. Подбросил крупное полено в очаг внутреннего тепла юноши и не чувствовал ни йоты жертвенности в совершенном поступке. Да будет так! Жизнеутверждающего потрескивания этого пламени и фейерверка рассыпающихся золотых искр должно хватить на весь долгий путь до Расщелины, а если повезет, то и до окончания самой инициации. Пусть себе отвлекает растревоженные мысли Елуама. Пусть мягко, но настойчиво уводит их по хладнокровному течению логики, вовремя оттаскивает за растрепанную косу от штурвала тощую истеричную девку-плакальщицу и заменяет ее матерым морским волком.
Да разгорится этот пламень назло темной магии трех изгнанниц!
Все трое собратьев крепко уцепились за невзначай брошенные Яллиром соломинки уверенности, взяли себя в руки и вполне бодрой походкой направились к призывно поблескивающим стенам гигантского прозрачного куба. Им и впрямь стоило поторопиться, ведь их ждали. Еще в середине своей проникновенной речи старый купеческий пилигрим выхватил взглядом знакомую фигуру в длинном сером рубище напротив входа в аквариум. Яллир – спасибо выдающейся зрительной памяти! – совершенно точно знал, кому принадлежал этот скромный силуэт. И не ошибся: то и в самом деле был мастер ихтиогипноза Офлиан, который, как видно, уже все подготовил для их дальнего странствия.
Успешно решив деликатный вопрос с настроем Елуама, Яллир теперь был рад сделать небольшой перерыв. Он с радостным предвкушением вынырнул из темных вод чужого эо, готовый хлебнуть свежего кислородного раствора. Пилигрим знал: встреча со значительнейшей фигурой сферы научно-прикладных искусств Вига сможет отвлечь его от тяжких дум. Яллира, к слову, вовсе не смущало, что внешний облик Офлиана не соответствовал его высокому званию. Ни облачение, ни походка, ни мимика – ничто не выдавало истинный статус молодого вига. Последняя так и вовсе служила воплощением самой искренней юношеской расторопности – ни дать ни взять подмастерье перед наставником. Подойдя ближе и учтиво склонив голову в приветствии перед Офлианом, по возрасту годившимся ему в сыновья, Яллир в который раз подивился скромности мастера. Купеческий пилигрим будто бы немного пристыженно покосился на свои руки. Чего стоил один крупный перстень, царственно оплетавший средний палец левой руки тройным обручем белого золота, перехваченный по диагонали гравированной пластиной из черного хархского опала: она имитировала денежную единицу огненной земли!.. А браслеты-спирали, представлявшие собой собрание редких драгоценных камней Харх… Пожалуй, все это следовало бы оставить дома или, по крайней мере, на время припрятать в недрах дорожного плаща.
Яллир нервно пощелкал пальцами и, сцепив их в замок, спрятал за спину. Хотя, если подумать, с чего бы ему кого-то стесняться? Эти богатые украшения – награда за сложное, опасное ремесло, которому он посвятил жизнь. Не просто предметы роскоши, а заслуженные отличительные знаки, и носить их следует с достоинством! Старый пилигрим разжал пальцы, положил руки на пряжку ремня и перевел взгляд на Офлиана.
Мастер нисколько не изменился с их последней встречи, а ведь с тех пор прошло почитай уж семь светооборотов. Он все так же, завидев Яллира, без тени превосходства скромно склонил голову к своей худой груди и приложил к правому виску ребро распрямленной ладони – древнейший ритуал, которым магистры, мастера и искусники Вига приветствуют представителей других сословий. Развернутая к торговцу фаланга мизинца была отмечена двумя темно-синими, вертикально расположенными знаками: параллельными волнистыми линиями сверху (общий знак всех магистров факультета естественных наук) и парой пересекающихся окружностей снизу (знак мастера ихтиогипноза). На безымянном пальце красовалось свидетельство того, что Офлиан имел, помимо прочего, магистерскую степень в области тонких материй. Прямо напротив «естественно-научных» линий виднелась нательная печать в виде широко открытого глаза. Яллиру в который раз стало слегка не по себе: как бы ни расположил Офлиан свою руку, это иссиня-черное око продолжало в упор смотреть на старого купца. «Очень недипломатично», – пытался он с помощью неловкой шутки отогнать неприятный зуд между плавниками. Разумеется, не вслух.
– Здравия тебе, почтенный Яллир! Светокруги летят быстрее моих скороходов-фицци в день идеальной ментальной симметрии, а ты все так же пунктуален! – стирая рукавом своего рубища капельку светло-голубой крови с запястья, непринужденно проговорил мастер.
«Видимо, кто-то из питомцев уже «поцеловал» мастера острой чешуей с утра пораньше», – промелькнула догадка в голове торговца.
– Рад, искренне рад встрече с тобой, мастер Офлиан, – поспешил он поддержать дружелюбную тональность беседы. – Еще только подходя к месту встречи с моими собратьями, я заприметил новых особей в твоем личном стеклянном Лабораториуме. Могу ли поздравить с пополнением? Прости уж мне мое просторечие; ты ведь знаешь, что я так и не осилил этот талмуд с естественно-научными терминами, который ты мне как-то вручил за мои обывательские вопросы.
На несколько секунд Офлиан напряженно замер в приветственной позе – так, словно Яллир вдруг заговорил с ним на древнехархском. Впрочем, для мастера приблизительно так оно и было. Пополнение? Он поправился? Его субтильная фигура не менялась с университетской скамьи, а регулярные пешие походы до Ученого круга и обратно, вкупе с энергозатратным уходом за своенравными созданиями фицци, только способствовали ее сохранению. Издалека Офлиан так и вовсе смахивал на студента, если не на зеленого созреванца25.
Тут эксцентричного мастера осенило. Видимо, недавняя встреча с Балоахом, главой Черторга, немного натренировала ученого в ведении светских бесед.
– Ах, да! Пополнение у Моэ и Нэлхи! – хлопнув себя по лбу, изрек он. – Да, слава искусникам, это свершилось! Теперь могу спать спокойно: пять светокругов безустанного изучения и в прямом смысле бесплодных попыток репродукции южноводных фицци в неволе не прошли даром, – затараторил Офлиан. В его синих глазах зажегся огонь подлинной страсти, который дарят успехи в любимом деле. – Ты ведь знаешь, как редки стали эти создания еще в VIII световехе, как не хотели я и часть моих коллег коверкать разум и изнашивать тела сохранившихся фицци в угоду «прогрессивной» политике Ингэ! Когда я под давлением его прихвостней из Обители согласился практиковать ихтиогипноз в якобы благих целях укрепления связи Нуа с другими городами и местностями Вига, то поклялся себе использовать все открывающиеся передо мной привилегии для повышения демографических показателей популяции фицци.
Разоткровенничавшись, мастер окончательно вышел за границы сухого академического языка и перешел к стилю, недопустимому даже для самых демократичных научно-популярных изданий. Проще говоря, он стал самим собой.
Все это время Лиммах и Елуам скромно стояли чуть поодаль, ловя каждое слово диалога двух легенд Вига. Лим уже предвкушал, как дома он с гордостью разложит перед своими скатерть-самобранку «подковровья» Университета и Обители хранителя. Этот сомнительного благозвучия термин проводник караванов изобрел сам, достигнув таким образом предела своих ономатологических26 способностей. Данная лексическая единица по понятным причинам не прижилась в высшем обществе Нуа, однако стала расхожим выражением в торгово-купеческой среде. Непритязательному Лиму этого было предостаточно. Елуам же, в свою очередь, попросту отдался во власть юношеского восторга.
– Ведаю, ведаю об этом, мой друг, – отечески закивал Яллир.
Его белесые, слегка волнистые пряди, вторя такту кивков, чуть запаздывающими движениями неторопливо колыхались в лазурной бездне Вига. Не закрывать лицо торговца им помогал плоский черный обруч с тончайшим серебристым венком арабески.
– И поверь старому пилигриму, – Яллир изобразил самый что ни на есть понимающий взгляд, – я всегда чувствовал твой неодобрительный взгляд перед тем, как ты закрывал глаза и сливался с сознанием своих питомцев. Когда мы по одному пролезали в их распахнутые глотки, ты обычно находился уже далеко отсюда, во всяком случае разумная часть тебя. И знаешь, мне ведь всякий раз думалось: «Да уж, вот мним мы себя высшими существами, щеки раздуваем, а порой ведь чистой воды варвары, ничем не лучше этих рыжеголовых дикарей… Одно утешает: Офлиан сейчас не видит, как мы набились, точно икринки, в рыбье чрево и ждем, когда зашевелятся плавники в сторону огненной земли или Расщелины».
«Ох, закручивает свои басни старый черт, – подумал Лиммах. – Не иначе как молодчик Елуам ему о былых подвигах напомнил и язык наконец-то куда надо подвесил. А то ишь растерял, разменял на спокойную старость свою торгашескую натуру: дом знай все украшает диковинами хархскими (конечно, столько добра оттуда напер, не все же Ингэ под ноги вываливать!), в Черторг ни ногой, а спросишь чего – ни гу-гу! Еще и поглядывать стал свысока. Это хорошо, что Балоах его наставником на инициацию нового купца определил. Как только он уговорил эту угрюмую, отошедшую от дел «легенду»? Ну на то он и Балоах. Известное дело – в горло тебе вгрызется, эо из тебя хлеще морского монаха высосет, а своего добьется да ни гроша не уступит. Истинно – мастер! Вот кто должен молодым купцам примером быть! Особенно тем, которые трусливо дрожат перед Расщелиной. Тьфу ты, совсем измельчали выходцы из школы прославленного Черторга! Это ж еще самый что ни есть достойный, Елуам этот; выбирали-то аж полсветооборота всей купеческой братией. Да уж, выбрали, нечего сказать! Не боялся я за него, а теперь вижу, что придется…»
Тем временем мастер одного из величайших на Вига искусств и обладатель парадоксально простосердечного эо, Офлиан, не усмотрел во внешней солидарности Яллира ни тени его прославленного дипломатического хитроумия. С родительской гордостью поглядывая на двух огромных прозрачных существ, нависших в правом нижнем углу аквариума над стайкой своих уменьшенных копий, мастер увлеченно зачастил:
– Конечно, варварство! А как еще можно назвать такой способ обращения с исчезающим видом? Сколько их вообще осталось в нашем государстве? Страшно подумать – всего три аквариума: у нас, в Лагеппе и в Инма. Все, больше ни единой особи на весь Вига.
– А как же водораздолье? – Сохраняя искреннюю заинтересованность на лице, Яллир поспешил щегольнуть островками знаний о географии миграции фицци. – Я имею в виду то из них, куда покамест не дотянулись «прогрессивные» длани Ингэ.
Все трое, включая недоумевающего Офлиана, вопросительно уставились на седого пилигрима. Его, в свою очередь, это изрядно рассердило: с каких это пор именитые представители Университета и Черторга позволяют себе такие пробелы в знаниях? Ведь сейчас он им не раскрыл ровным счетом ничего нового. В особенности маху дал, конечно, господин мастер ихтиогипноза. Ибо спроси сейчас любого созреванца-естественнонаучника – тот без запинки тебе отбарабанит, что-де «фицци южноводные на пороге фатальной депопуляции развили в себе мощный инстинкт продолжения рода и, следуя ему, совершили глобальную миграцию в Восточное водораздолье между городами Ямэ и Гифу, в то время как из южных и западных независимых вод этот вид был полностью выловлен и функционально распределен по университетским аквариумам согласно приказу хранителя Ингэ».
Между собеседниками повисла физически ощущаемая тяжелая пауза. Никто не хотел брать на себя неприятную роль гонца с дурными вестями. Даже с поправкой на то, что для довольно-таки широкого круга посвященных никакие это уже были не новости, а неосведомленность Яллира – лишь следствие его полуотшельнического образа жизни. Как и следовало ожидать, «гонцом» стал толстокожий Лиммах. Он сощурил левый глаз, потеребил дорожку черных турмалиновых колец в своем ухе и просипел:
– Морские монахи.
Яллир ничего не ответил, вопреки ожиданиям всех троих. Он продолжал стоять как вкопанный, переводя взгляд с одной фигуры на другую. Он будто бы ждал, что ну вот сейчас… сейчас кто-нибудь первый сломается, не выдержит и засмеется в голос. Да так заразительно, что и остальные без промедления подхватят. А уж потом и он, провалившись в мягкий пух перины облегчения, непременно поддержит их своим искренним хохотом. А пока заслуженный пилигрим определенно не намерен демонстрировать, что поверил легендам этого сатирического ансамбля. Притихли-то как! Ох и потеря для факультета художественного мастерства! Какие таланты, оказывается, прозябают в стенах Черторга и Университета! Да, именно так он бы потом им и сказал. Думают, его так легко провести? Не дождутся!
Часовик отмерил своими цветными счетами еще одну минуту затянувшегося молчания, ставшего откровенно неловким.
Никто так и не засмеялся.
Лиммах прикусил язык и исподлобья взирал на эффект, вызванный словосочетанием, только что растревожившим безмятежную утреннюю лазурь окраины Нуа.
Морские монахи.
«Нет, – продолжал мысленно сопротивляться Яллир, – это не более чем издержки фантазии театральных драматургов Нуа, объединенных склонностью к мистификации и жаждущих освежить классику жанра противоестественными образами из своих дурных снов. Или, что более вероятно, плод порочной связи событийного вакуума столицы и темного фольклора, дотянувшегося сюда своим нечистым языком из самой глухомани Вига. Он, видимо, преодолел высокий барьер образования, науки, культа знаний, отрицания иррациональных материй и каким-то непостижимым образом заполз в эо жителей Нуа, чтобы постепенно отравлять восемь жидкостей их внутренних сосудов. Дожили. Браво, Университет! Низкий поклон тебе, Черторг! Вот уж правда стоило впервые за долгое время покинуть родной дом, чтобы воочию узреть, как этот язык обвил интеллектуальный и торговый цвет Нуа. Как с ними дальше работать – ума не приложу: совсем ведь спятили! С огненной земли, что ли, сюда суеверий и портовых трактирных баек недобрым течением занесло?» Набегая одна на другую, волны гнева шипели, путая обычно размеренные мысли Яллира.
Общее ритуальное молчание было громче дружного хора разъяснений и доказательств.
Верить этому молчанию или нет, Яллир пока не знал. Что бы там ни происходило за пределами его домашнего очага, он определенно был не тем вига, который в порыве бездумного энтузиазма импульсивно хватается за брошенный ему канат, туго сплетенный из материалов неизвестной природы. Что, если его пеньковые волокна пропитаны не смолой, а ядом? Долгая, насыщенная событиями жизнь дала Яллиру ценный урок: не устремлять свое эо в темные воды, особенно по воле других. У тех других, вполне может статься, на обратной стороне языка пришиты собственные мотивы, личная заинтересованность в выдаче тебе проклятых координат. Когда бросишь якорь в мрачную бездну этих вод, поддавшись чужому влиянию, – поздно будет осмыслять, да и жалеть о чем-либо. Поминай как звали! Если бы он, Яллир, не соблюдал свой собственный завет, возможно, не развевались бы сейчас волны его волос здесь, в мире живых… Вполне вероятно, что они уже давно были бы рассеяны жестоким суховеем по выгоревшей земле одного из хархских Пепелищ.
«Нет, по всему выходит, что призвание не торопится отпускать меня на покой. Не желает, чтобы я нашел умиротворение и утешение за жемчужными плитами своего дома. И никак не хочет принять обратно мою мантию с секретами огненной земли, чтобы передать ее новому поколению торговых пилигримов», – рассуждал про себя Яллир, всеми силами пытаясь стряхнуть липкие обрывки «фольклорных» историй, долетевших теперь и до его ушей из забытого искусниками подводного захолустья.
«Вот он, новый вызов. И теперь моя обязанность в другом. Нынче она не в том, чтобы любой ценой доставить на Вига необходимые товары. На сей раз задача моя гораздо сложнее. Я должен, обязан любой ценой защищать себя, свое эо, свой пока еще не замутненный разум от плодов извращенного воображения провинциальных бездельников! Это вовсе не удивительно, что те, кто оставил пустыми седьмой и восьмой фрагменты своего сосуда и бросил свое призвание на произвол судьбы, теперь заполняют их чем попало. Кто пестованием своих пороков, кто распущенностью бескостного языка, а кто и чудовищными образами, являющимися им в сгустках переработанного лихриана27. Да так оно и есть, чтоб меня! Вот что значит вернуться в русло логики! Вот чему я должен обучить Елуама, пока остальные отдают дань новой моде воскрешения фольклорных рудиментов! Пусть делают что хотят, а я не для того всю свою жизнь – и в минуты внутреннего штиля, и на гребне искушений – как заправский эквилибрист, удерживал баланс своего эо, чтобы сейчас бездарно расплескать его! Не дождутся!»
Отбросив призраков из глухоманей Вига на безопасное для своего разума расстояние, Яллир снова взял себя в руки.
– Юмор, однако, у вас, друзья… – с напускной небрежностью проговорил он. – Друг на друге в столичных кругах, небось, уже давно эту хохму опробовали, а теперь вот она и до меня добралась. Остро, остро… Признаться, я чуть было в нее не поверил. Но все же, друзья, – окончательно вернувшись к своей назидательной интонации, купец легонько пригрозил пальцем собеседникам, – будьте осторожней с подобными шутками. Не мне вам рассказывать, как в Обители относятся к заигрыванию с мифами и перевиранию древних преданий. Да и оказаться заподозренными в следах лихриана на плавниках – а откуда еще взяться подобным бредням? – я бы вам тоже не желал.
Елуам, Офлиан и Лиммах, словно связанные круговой порукой заговора, все так же стояли тремя окаменевшими безъязыкими фигурами. Каждый из них по-своему жалел о необдуманном словосочетании, слетевшем с губ Лиммаха. Больше всех жалел сам виновник нежданной смуты: проводник караванов крепко отругал себя за врожденную несдержанность, которая чуть было не рассорила их с консервативным Яллиром – закоренелым противником любых «варварских верований». Достаточно одного взгляда на старого пилигрима, чтобы раз и навсегда это уразуметь. Еле сдерживаемый праведный гнев на его лице, раздраженное передергивание плечами, менторский тон – все это указывало на глубокое отвращение старика к «россказням» и «небылицам». В особенности к тем из них, что подразумевали проникновение в воды Вига. Хватит с Яллира и Расщелины – этого «уродливого, но одновременно необходимого шрама на благородном теле нашего государства», как говорил о ней седой торговец.
«Этот шрам истязает Вига смрадом своего черного гноя, но нельзя отрицать, что это справедливая цена за возможность следовать нашему призванию», – обязательно добавил бы кто-нибудь из купеческих пилигримов старой закалки.
«И как ты, старина Ял, не кривись, а все же в эту цену включены еще и тысячи жизней вига, спасенных вселекарем», – напомнил бы ему еще кто-нибудь из собратьев. И, пожалуй, на этом бы не остановился: «А скажи на милость, это иноземное лекарство попало бы в наши воды, коли бы не этот самый «шрам»? Ну да, да, косвенно. Разумеется, косвенно! Какой же ты иногда сноб и зануда! Никто здесь не умаляет твоих караванных подвигов, красноречия и легендарной дипломатии; тебе чуть ли не сам Ингэ в ноги кланяется, о великий доставщик вселекаря! Но ты бы все же не забывал, откуда растут корни этих твоих подвигов. Мудрость, которую ты так превозносишь над прочими качествами, – это синоним целостности как жидкостей эо, так и оценки происходящего. А в твоей картине позорной прорехой зияет пресловутая Расщелина, которую ты, дружище, видишь только одним глазом, а раскрыть второй упрямо не желаешь. Удивительное ты создание!»
Оборвавшийся на «монахах» светский диалог Яллира и Офлиана безнадежно разошелся по швам. А вместе с ним испортился и внутренний настрой, который старый торговец мастерски наладил в себе перед встречей с собратьями. Результат кропотливой духовной работы разбился вдребезги о противоестественные призрачные видения, которые якобы рвутся материализоваться в подводной цитадели разума и логики.
Нервно порывшись в карманах мантии, Яллир резким движением извлек крошечную колбу с часовиком. О великие искусники! Ее прозрачные грани уже переливались зеленым цветом. И вовсе не тем неуверенным оттенком, свойственным молодому первотравью, а насыщенной глубиной изумруда. Прекрасно – еще и задержка с отправкой! По расчетам Яллира, их купеческий отряд должен был уже вовсю держать курс на границу миров, подпирая бока друг друга в эластичном желудке фицци. Ну вот, они еще и опаздывают. Неизвестно теперь, как встретят их там. Может, конечно, гурилии их и не ждут вовсе. А если ждут?
Все определенно пошло не по плану, скрупулезно вычерченному в уме бывалого пилигрима. И если схемы этого плана и содержали в себе ряд погрешностей и допущений, то подобная непунктуальность в них уж точно не значилась. «До чего же банально!» – злился на себя и всех вокруг Яллир. Обыденная издержка общей безответственности – «извечного проклятия любых коллективных деяний», как еще во времена лихой молодости окрестил он ее про себя. Потому и любил уединенные вояжи на огненную землю в компании, ограниченной проводником караванов и встречными рыбьими стаями. Тем паче что такой расклад исключал необходимость делить потом с кем-либо пьянящий нектар почестей. Беря на себя все риски и всю ответственность, Ял по возвращении на Вига до одури упивался славой. Вопреки предостережениям и увещеваниям Черторга.
А может, даже и назло.
Что ни говори, а это действительно было счастливое время. И, увы, оно безвозвратно ушло, прихватив с собой былые победы и наслаждения. Теперь же все – абсолютно все! – шло не так: и пустые никчемные глухоманные сплетни, и этот защитник бедных исчезающих фицци (или кораблеплавов, как втайне от Офлиана зовут их в Черторге). И, наконец… хотя нет, это, пожалуй, самое главное: неслыханное в торгово-караванной практике Яллира нарушение его личного фирменного этикета: они опаздывают!
Не успев покинуть окраину Нуа, не успев забраться в фицци, они уже опаздывают!
Седой купец старательно скрывал склонность верить в приметы, которая при всей своей противоречивости прекрасно соседствовала в его эо со здравомыслием и рациональностью. Яллир глубоко вздохнул: опоздать еще до начала пути всегда было дурным знаком – проверенным на опыте, доказанным многочисленными примерами.
Еще один тяжкий вздох, последний горький взгляд в сторону теперь уже ярко подсвеченных дневными лучами очертаний родного города. И вот он – первый шаг Яллира в сторону прозрачных стен аквариума, где уже готовится к дальней дороге устрашающе огромная фицци.
Ее зовут Ахха. И в ее круглых бордовых глазах будто бы тоже застыл ужас – глубокий и непостижимый.
Глава 8 Огненный корабль
Силуэты принца Бадирта и жрицы Йанги растворились в проеме высоких каменных арок, слившись с полумраком Святилища. Массивные створки дверей очень медленно, словно блюдя предписанную торжественность, сошлись, чтобы отделить мир сакрального от греховной сферы мирских страстей. Окайра не спешила покидать некогда горделиво поблескивающую сусальным золотом, а теперь начисто протертую хитонами брусчатку входа в храм Огненного бога.
Королеве было мучительно больно в который раз отпускать руку своего сына именно в тот момент, когда он вот-вот был готов снова стать ее. Ведь юный Бадирт – королева могла поклясться! – уже хотел опуститься перед ней на колени и в незамысловатой детской исповеди вручить ей ключ от секретных каморок своей души. Вот и сейчас в по-прежнему раскрытой ладони Окайры еще хранилось тепло сыновьей руки, но ее обостренное материнское восприятие уже улавливало малейшие движения воздуха, беззастенчиво расхищавшие это бесценное сокровище.
Ничего удивительного в том, что разгоревшееся с новой силой беспокойство королевы заставляло ее раздражаться даже на ветер – «эхо благого дыхания Огненного бога». Осталось лишь добавить щедрую порцию самобичевания за такие кощунственные мысли в котел закипающих эмоций. Как следует перемешать. Приправить щепоткой жгучей ревности к верховной жрице. И на поверхности этого кипящего варева проступят перекошенные черты королевы, от которых с отвращением отпрянет она сама.
Затуманенный взгляд Окайры, уже потерявший фигуры Бадирта и Йанги, неподвижно застыл на филигранном барельефе воссоединенных дверей-близнецов, что пару мгновений назад закрылись за ними. Эти превосходные образцы художественного литья обычно не только эстетически восхищали монархиню, но и вызывали в ней благоговейный трепет. Поднимаясь по широким ступеням к Святилищу, она, по обыкновению, еще издалека силилась разглядеть исполинское звездное тело, покоящееся на самом верху громадных дверных створок. Его выпуклое изображение, искусно покрытое красным золотом и узорами из цитриновой пудры, было симметрично впаяно в гладкий иссиня-черный мрамор храмовых дверей. В зависимости от угла падения лучей сияло оно всегда по-разному: то грозно и воинственно, то умиротворенно и безмятежно. В любом случае Окайра всегда чувствовала – нет, она знала, – что рукотворная Матерь звезд приветствует ее и показывает, что готова озарять своим священным светом духовный путь королевы.
Теперь же Окайре казалось, что светило, к которому она изо дня в день безустанно устремляла тонкие энергии своих молитв, отвернулось от своей смиренной подданной. Багряные отблески красного золота, отмечающие место встречи величественного изваяния с лучами настоящей Матери звезд, вдруг изменились. Греющие душу язычки пламени уступили место равнодушным кровавым всполохам. Как неотвратимость предзнаменования. Как заходящий с почерневшего морского горизонта зловещий вихрь смерча. Как дьявольский сухой скрежет Скарабея по небесному своду.
Соединенные половинки металлической Матери звезд на дверных створках и взметнувшиеся алебарды воинов личной армии верховной жрицы, казалось, непоправимо разделили мать и сына.
Окайру предал даже ветер. В этот раз «благое дыхание» не дотянулось до входа в храм, хотя его норовистые игры нередко разрежали клубы жреческих благовоний. Ветер замер, словно затаил обиду – так же как и Бадирт. По левому виску Окайры пробежала ледяная капля пота, а по тонкой змейке пересохших губ – мелкая нервическая дрожь. Лицо королевы потеряло одухотворенность, проступили мимические свидетельства страдания и беспомощности.
Бронзовая Матерь звезд – вещественный образ ее безусловной веры – с обжигающей жестокостью и ядовитым презрением смотрит прямо в слезящиеся глаза Окайры.
Мир заволокло серыми клочьями слепой, подрагивающей пелены, даже ярость и отчаяние притупились, обточенные ее колыханием. Эти волны заволокли кипенно-белой пеной даже металлическое кровавое мерцание Матери звезд. Они растворили в себе и овальные купола Святилища.
Окайре стало дурно, она с тихим стоном медленно сползла по шершавой храмовой колонне на нагретые плиты с полинялой от времени позолотой.
Этого не видели и не слышали королевские стражники, которым в преддверии важного разговора было строго приказано «сохранять расстояние в пятнадцать шагов и держаться за пределами внутреннего двора Святилища».
Начальник стражи замка-горы Рубб хоть накануне и отметил некую эксцентричность требования обычно скромной Окайры, но все же не нашел веских доводов для возражения. «В любом случае храмовые стены – едва ли не самое безопасное место на всем Харх, – мысленно рассудил он. – Пусть себе общаются без посторонних глаз и ушей. Все-таки Бадирт входит в интересный возраст… А Святилище – вполне подходящее место для духовно-воспитательных бесед. Своих-то солдат уж я сам как-нибудь воспитаю, а здесь мать и сын – совсем другое дело. Нужно понимать. Да и когда я отказывал нашей святой королеве, которая денно и нощно молится о грешных душах своих подданных?»
Именно поэтому четверо стражников, сопровождавших Окайру, со всей ответственностью продолжали выполнять приказ Рубба, выдерживая указанную дистанцию. Дистанцию, которой, разумеется, оказалось достаточно, чтобы сквозь их шлемы не просочился ее тихий стон. Стражники горделиво сохраняли свою помпезную стойку за воротами Святилища, любуясь живописным морским пейзажем и мечтая каждый о своем.
А вот воины в черных доспехах, отмеченных нагрудными золотыми треугольниками, воины, что грозно возвышались напротив храмовых дверей, не были королевскими стражниками. Они не относились ни к одной из многочисленных воинских частей острова Харх.
Сквозь узкие прорези забрал они прекрасно видели, что случилось с подлинной королевой, законной женой короля Каффа. Долетел до их ушей и приглушенный страдальческий вздох.
Ни один страж не пошевелился.
Бадирт пребывал в прекрасном расположении духа. Во всяком случае, с того самого момента, как, пересчитывая фигурки на цитриновой чаше во время беседы с матерью, услышал за спиной знакомый голос. В его хрипловатых вибрациях принц уловил целую симфонию значений и смыслов. Он уверенно выхватил из ее ритмического рисунка важные для себя ноты: сдержанное жрицей слово об их уединенной встрече, особое к нему, Бадирту, отношение и, конечно, почтение к его королевской особе. А самое главное – в этой музыке отчетливо слышалось обещание избавить принца от скучных и утомительных бесед с матушкой.
Определенно никакой иной голос – скажем, Убраха, строгого наставника в боевых искусствах, или Шиффи, старой няни принца, или даже звучный бас Каффа – не заключал подобной силы. Заслышав любой из них, королева уж точно не прервала бы свою родительскую проповедь.
Но на каждое правило находится свое исключение, и Йанги прекрасно справлялась с этой ролью.
«Как все удачно сложилось, – не переставал ликовать про себя Бадирт. – Р-раз – и все! Один ее кивок – и я свободен как ветер. Таким я и хочу быть: знай себе носись по Харх, смотри, кто как живет и кто чем занимается… Заглядывай в окна к разным привлекательным особам во время их вечерней ванны, например. Кто знает, может жрица однажды и превратит меня в свирепый такой, страшный ураган! Ну хотя бы на денек… – Щеки принца порозовели от приятных мыслей. – Но только тогда я бы первым делом заглянул к ней самой. Просто узнать, нет ли где на ее теле еще одной треугольной татуировки. Ну, такой же, как на лбу. Вот бы и мне такую же! Хотя как бы я проник в ее обиталище, если оно находится в храмовом подземелье? Под землей же нет ветра, так ведь не бывает. Или все-таки есть? Хе-хе-хе! – Развеселившийся вдали от матери Бадирт чуть не рассмеялся в голос. – А вот возьму сейчас и задам вопрос об этом Йанги! А что… Почему бы и нет? Готов поспорить, она ни за что не догадается, зачем я спрашиваю!»
Безмерно довольный своим остроумием и изобретательностью, а главное, запрятанным в кулаке скрытым смыслом, юный принц поднял к высокорослой жрице свое хитро улыбающееся лицо:
– Сиятельная, тебе же известно обо всем на Сфере?
За спиной принца, словно вместо ответа, с приглушенным стуком затворились двери, ведущие в Святилище. С этого момента дневной свет проникал только через крошечные круглые окошки, высеченные в многочисленных куполах храма. Его недостаток с лихвой восполняли широкие черные свечи: своими зажженными фитилями они вырисовывали сложный узор светотени. От легкого сквозняка, успевшего просочиться внутрь еще до закрытия дверей, сотни огоньков плавно подергивались. Будто подчиняясь чьей-то воле, они танцевали на своих восковых подмостках. Разыгравшееся воображение принца мгновенно сообщило ему романтическую фантазию о пламенеющем золотом корабле, который мерно покачивается на волнах ночи, унося их с Йанги очень далеко из Святилища. Туда, где Огненный бог вдыхает звездную пыль и космическую вечность, а выдыхает ветер. Тот самый, о котором и грезил Бадирт.
– Сфероустройство ведомо мне ровно в той мере, которую мудро отсчитал мне Огненный бог, – ответствовала жрица, бесстрастно вглядываясь вглубь свечного хоровода. – Для каждого эта мера своя. А значит, я, как и любой хархи, знаю о Сфере все…
– Так я и думал! – восторженно перебил жрицу принц. – Именно так! Тогда позволь мне спросить…
– …и ничего, – закончила Йанги свой хитросплетенный софизм – излюбленное средство общения с верующими.
Эти слова могли смутить, да что там – напрочь сбить с толку простолюдинов. Ровным счетом ничего не поняв из пространного высказывания, они тем не менее с проворностью пчел растащили бы его пыльцу по Подгорью. А заезжие торговцы, представители иноземных гильдий и кочевые племена врахайи28 потрудились бы осуществить перекрестное опыление всей необъятной территории Харх новой мудростью.
Но так уж вышло, что Бадирт не был простолюдином, а к витиеватым изречениям он силами Йанги и Окайры был привычен с детских лет. К тому же, как ему казалось, со временем он научился отличать нейтральные высказывания воспитательно-религиозного толка от попыток манипулировать им.
«Ну уж нет, милая Йан, ты не будешь обращаться со мной как с ребенком, – заговорил в Бадирте детский протест. – Хватит с меня матушки!» Он поднял на жрицу взгляд своих сощуренных лимонно-зеленых глаз – отчетливый признак зарождающейся обиды – и заявил:
– Это ответ не для подлинного принца огненной земли, моя духовная матерь.
Бадирт тщился подкрепить впечатление, произведенное на Йанги, стараясь извлечь самые низкие ноты из диапазона своего ломающегося голоса. Управлять им, особенно в минуты волнения, принцу было не легче, чем взнуздать непокорного жеребца из диких восточных степей Харх. Он чувствовал это и от бессилия раздражался еще сильнее.
Йанги, храня поразительное – на грани безразличия – хладнокровие, лишь чуть заметно улыбнулась. Одними изящными губами, изгибом напоминающими натянутый лук.
Бадирт уже пожалел о том, что позволил себе вольность, которая, безусловно, сошла бы ему с рук в замке-горе, но здесь, в Святилище, была более чем неуместна. Запертый в ловушке собственной дерзости, принц при всем при том понимал: он должен завершить неудачно начатую мысль.
– Я хотел сказать, – почти кротко молвил он, – что мне бы искренне хотелось озарить свой беспокойный разум хоть слабым отблеском пламени истины, что ты щедро несешь всем нам, Сиятельная. – Буквально физически ощутив на языке убедительную мощь этой лести, Бадирт остался доволен.
Даже строптивый тембр голоса на время стал с ним заодно: столь любимые принцем низкие ноты возобладали над ненавистными писклявыми обертонами. Все это придало юному оратору уверенности в себе, и он поспешил окончательно реабилитироваться:
– Меня, как будущего правителя огненной земли, с недавнего времени стали занимать универсальные вопросы сфероустройства, а непросвещенные обитатели замка-горы не в силах удовлетворить даже самые простые из них. – Одна хитрая мысль по цепочке передавала эстафету другой так быстро, что принц даже не был уверен, успевает ли за ними. – Поэтому, стоя здесь, я скромно взываю к простейшим истинам и законам природы, знаниями о которых благословил тебя Огненный бог. Могу я рассчитывать на их мельчайшую крупицу, о Сиятельная? – Для усиления эффекта Бадирт придал взгляду столько смирения, сколько в его глазах никогда не находила родная мать.
Как ни крути, а семилетний опыт участия в заседаниях совета и других официальных мероприятиях, куда регулярно брал сына дальновидный Кафф, не прошел даром. Получилось-таки выйти из щекотливого положения! И, надо сказать, потребовалось для этого не так уж много: покорность, восхищение, чуть-чуть лести… Не без удовольствия Бадирт открыл для себя, что в некоторых аспектах верховная жрица немногим отличается от обычных женщин-хархи. Вон как его словесная уловка переменила ее лицо! Принц хорошо знал эту улыбку – за ней крылись одобрение и благодушие. Именно то, чего он хотел.
«Кто знает, Йан, – мечтательно взглянул Бадирт на свою «духовную матерь», – может, однажды я тоже научусь управлять другими. Или даже тобой…»
Свечей в храмовом мраке будто бы прибавилось, и вокруг Йанги и Бадирта заполыхал круг развевающихся огненных парусов. Парусов корабля, который уносил их все дальше от обыденности и предрешенности островной жизни, заключенной в вечную мантру звездных циклов. Мимо с невероятной скоростью проносились созвездия. Они казались принцу мириадами пузырьков с доисторическими насекомыми, закованными в янтарный саркофаг размером с небо.
Жрица медленным движением взяла длинную лучину с полочки из черного оникса, высеченной в широком ободке гигантского алтаря с плавучими свечами – старшего брата того, что встречал посетителей в колоннаде у входа. Затем еще медленнее коснулась этой лучиной макушки Бадирта, слегка поиграв его редкими черно-рыжими прядями. В ответ на прикосновение принц почувствовал легкое дуновение нагретого звездными лучами ветра.
Ветра? Ах, о нем же Бадирт и хотел расспросить Сиятельную в самом начале их немногословной, но столь многозначительной беседы. Так что же именно он желал узнать о свойствах этого природного явления? Может быть, умеет ли ветер говорить? Или, скажем, понимает ли Йанги его воздушную каллиграфию? Приносит ли он ей вести из других земель – оттуда, где огонь вовсе не божественная стихия для всеобщего поклонения, а мир живет по совершенно иным законам?
Стоп. Откуда у него, Бадирта, вообще эти мысли? Никто ведь не посвящал принца в подобные еретические откровения. Островное разнотравье сказаний, легенд и перевранных поколениями пророчеств, рожденное необузданной фантазией жителей Харх, все же не оставляло свободы для подобного вольнодумия. Кто же тогда вдохновитель столь смелых рассуждений? Старая няня принца – Шиффи? Вряд ли. Ее сказки были вообще отрывками из Семи наставлений, переложенными на басенный лад, дабы легче усвоил их неокрепший разум маленького Бадирта. Быть может, старшая сестра Рувва? Отнюдь нет. Сюжеты древних мифов, которые в далеком детстве принца она оживляла по вечерам, лежали в той же морально-религиозной колее.
По всему выходит, что образы иных миров сами зародились под монархическим опаловым венцом. Совершенно очевидно, что они – не результат воспитания матушки, няни, жрицы и множества других наставников будущего наследника огненного трона Харх. Это плод его, только лишь его собственных мыслей, снов и диалогов с самим собой во время уединенных прогулок в королевском саду камней и вдоль морского берега, на достаточном расстоянии от бдительных воинов Рубба.
Может, пришло время поделиться ими с Йанги? В любом случае принцу не приходится выбирать доверенное лицо. Его секрет узнает Йан или не узнает никто. Решено! Это будет их маленькая тайна – драгоценная жемчужина, бережно извлеченная из подсознания принца и нашедшая свой новый дом здесь, в Святилище. Она будет вечно жить за надежно сомкнутыми створками из черного мрамора, и охранять ее будут суровые молчаливые стражники.
Как ту, другую тайну… из далекого прошлого, лишенного воспоминаний.
«Лучше не придумаешь! – возликовал про себя Бадирт. – Определенно, стоило выждать время и проявить должное терпение, чтобы найти самое лучшее убежище для моего секрета на всем Харх! Вернее, – подумав, поправил себя он, – их будет целых два: своды Святилища и сама верховная жрица. Стены храма вберут в себя мою тайну, и она будет жить в их камне, покуда угодно Огненному богу. Ну а став частью души его подлинной посланницы, образы из моих потаенных мыслей обретут заслуженное бессмертие. Всесильная Йанги поделится этим даром с моей тайной, я уверен!»
Шабаш растущих на глазах свечных огней, извивающихся в разнузданной пляске и пожирающих своими языками сакральный полумрак Святилища, будто бы подталкивал принца к признанию. Храм плотно окутало дурманное мускусное соцветие. На его ложе слились в одно целое шафран, бальзамический дым ладана, дразнящий флердоранжевый нектар и животная землистая амбра, чтобы бережно запеленать Бадирта слоями сложного аромата. Они бесшумно расползались по его сознанию, чтобы раздобыть – а если не получится, то выкрасть – таящийся в его недрах секрет. Чтобы незаметно вложить этот вожделенный кристалл в откровенную речь принца перед верховной жрицей, дабы он наконец раскрыл ей свои видения.
Йанги, не отрываясь, смотрела. Не на Бадирта, а внутрь него. Словно она свободно и беспрепятственно плыла по течению его внутреннего мира, плыла без карты и компаса, ориентируясь вслепую и на ощупь находя нужные ей излучины.
Бадирт явственно почувствовал, что говорить ничего не нужно. Это будет глупо и неестественно. Это все испортит. Нельзя снова показать себя незрелым мальчишкой, умилительным в своей восторженности и детской наивности. Нужно учиться выдержанности. Той, что позволит больше не краснеть перед Йанги, не выдавать эмоций окружающим.
Тем более зачем говорить, если она и так все знает.
«Все…» – повторил мысленно принц.
– …и ничего, – закончила Йанги. Не иначе как выхватила начало фразы прямо из-под его опалового венца, мерцающего теплыми оранжевыми переливами на темных волосах Бадирта. – Вижу, ты прекрасно усвоил истину, которая для иных так и остается недоступной, покуда на Пепелище они не откроют дверь в вечность, – благосклонно молвила жрица.
Загадочно-отрешенная улыбка озарила бледное лицо Йанги. Ее высокие скулы еще рельефней обозначились над узкими впадинами щек. Лик верховной жрицы дышал торжеством.
В иллюминирующих чертогах Огненного бога вновь воцарилась божественная гармония. Идеальная симметрия звезд, вписанных в сложный рисунок многоугольников на потолке, была в нужной пропорции разбавлена отражениями свечных огоньков, которые, если посмотреть снизу, тоже напоминали щедрую звездную россыпь. Их хаотический танец, более не возбуждаемый игривыми движениями ветра, стих, оставив в храмовом пространстве лишь бледную тень былого буйства.
Воображаемый Бадиртом корабль причалил к спокойной гавани неги и поистине космической безмятежности. Он благоразумно оставил за бортом излишнюю суету – крест, который обречены всю жизнь влачить непосвященные, проклятые богами за глухоту к высоким духовным материям. Лишь гордость причастности к благословенной когорте избранных едва заметно покачивала этот корабль. Веки принца начали тяжелеть, а мысли накрыло пряными волокнами густого тумана благовоний. Все другое, оставшееся где-то там, далеко за мраморными стенами, обесценилось и потеряло свои краски. Там попросту ничего нет. Весь мир, вся его суть, истина и соль сейчас перед ним.
Так приятно раствориться… и остаться в них навсегда…
Вдруг какая-то внешняя сила грубо выдернула Бадирта из необъятной таинственной бездны. Поток свежего морского воздуха и проворные дорожки дневного света вновь проникли в Святилище.
Почему сейчас? Что им нужно?
Эти непрошеные гости бесцеремонно заявились прямиком из разомкнутых створок высоких входных дверей. Некоторые свечи мгновенно потухли, значительно усилив дымную ноту ароматического многообразия. Прямолинейные звездные лучи выбеливали сложную игру теней, сводя на нет попытки принца удержать образы волн и огненных кораблей.
Одно лишь великолепие Йанги оставалось неоспоримой константой посреди этого внезапного варварского вторжения.
Слепящая глаза продолговатая дорожка света легла меж открывшихся черных мраморных дверей и по-хозяйски рассекла Святилище пополам, мгновенно дотянувшись до ног Бадирта и Йанги. Принц зажмурил глаза, не выдержав резкого светового контраста, рассеявшего сумеречные странствия его разума. Жрица не изменила позы и выражения лица. Когда Бадирт разомкнул веки, то отчетливо увидел пять фигур, неторопливо движущихся по световой дорожке – к ним с Йанги.
Принцу не потребовалось много времени, чтобы узнать в фигурах горбуна Эббиха – он гордо возглавлял процессию, – а также двух молодых представителей королевской стражи. Замыкала шествие четверка воинов из Снопа искр – личной армии Йанги.
Эббих пружинил по каменной плитке, волоча полы черной подпоясанной рясы: та явно была ему не по размеру. Каждое движение приближенного верховной жрицы удивительным образом сочетало гордость и смирение. Нешуточная схватка противоречивых чувств читалась в мимике горбуна, калейдоскопными картинками отражая весь диапазон переживаний. Причем по мере приближения к Йанги вращение трубки калейдоскопа стремительно ускорялось. Хищно прищуренные глазки мгновенно гасли, смиренно прикрытые веками; попытки держаться лихо подбоченясь уступали место нарочито уродливой сутулости; триумфальная полуулыбка сползала с пересохших болотно-табачных губ – и на лице проступала маска обреченной покорности. Бесконечная игра лицевых мышц переходила в откровенно отталкивающие кривляние.
Бадирт по привычке, которую так и не смог побороть, невольно отпрянул в сторону, силясь справиться с отвращением и следами детского страха перед придворным «юродивым». Нет, безусловно, подлинный наследник огненного опалового венца не боится блаженного хромого карлика. Просто тот слишком резко появился на пороге Святилища. Просто в неподходящий момент. Ведь обычно в замке-горе он за сотню шагов дребезжит своими золотыми бубенцами, словно предостерегая о возможной встрече. Что ж поделать, если это шутовское облачение неуместно для священных узорчатых сводов, куда Эббих некстати приволокся в час уединения принца с Сиятельной. «Все дело в звоне, – упрямо твердил себе Бадирт. – Сегодня не было слышно звона. Я не успел подготовиться. Или убежать».
Дальше – хуже.
Продолжая улыбаться, Йанги простерла свои длинные тонкие руки навстречу хромающему к ней убожеству. Она сделала шаг ему навстречу. Бадирт остался за ее изящной спиной – созерцать, как бордовая туника послушно повторяет царственные движения, как пепел ее прямых волос своим холодным цветом усмиряет яркость ткани и обрамляет фигуру жрицы потоками чистых горных ручьев. Все это великолепие теперь было устремлено к парадоксально безобразному во всех своих проявлениях созданию.
Жрица, не удостоив выстроившихся за карликом воинов даже беглым взглядом, наклонилась к нему и непринужденно погладила кончиками пальцев завороженного Эббиха по лысой, изъеденной коростами голове. С каждым ее движением, полным щедрой благосклонности, разыгравшаяся мимика горбуна постепенно утихала. Картинки калейдоскопа сглаживались, теряя остроту контрастов и сливаясь в единое выражение смирения и покоя. И в то же время каждое прикосновение длинных пальцев Йанги к шершавой татуированной голове горбуна неизменно отдавалось тупыми гулкими ударами в самой глубине сердца Бадирта. Эти поглаживания неприятно скребли его чувство собственности, стирая всю прелесть, всю исключительность особой связи принца с верховной жрицей. Ведь одно дело – делить ее с обезличенной массой восхищенных почитателей на проповедях и праздниках, и совсем другое – с презренным уродливым прислужником. Странно, что его вообще не поразила молния и не разразил гром за нахальное злоупотребление благосклонностью Сиятельной. Он должен, обязан был со всем доступным его низкой натуре смирением застенчиво увернуться от великодушного жеста ее руки, дабы не осквернить жрицу прикосновением к себе – олицетворению всех смертных грехов. Но нет, уродец, судя по всему, возомнил себя достойным этих рук. Достойным этой щедрости.
Достойным ее.
Что ж, ни заблуждение, ни помутнение рассудка не станут ему верными союзниками, когда придет время платить по счетам. А оно придет. Остается лишь наблюдать, как на этой ярмарке терпимости горбун нагребает себе духовных сокровищ не по карману.
Распрямляясь во весь свой рост, Йанги обратилась к карлику:
– Эббих, благодарю за своевременное служение во благо священного пламени и его смиренной паствы в лице всех нас.
Тот в ответ лишь быстро закивал, вернее, затряс головой, опоясанной серебряным обручем из мелких треугольников. Обруч сполз ему на глаза, но одурманенный Эббих не спешил его поправлять.
Йанги невозмутимо продолжила:
– Мы с молодым принцем ожидали тебя здесь, равно как и защитников королевского покоя.
Бесстрастный взгляд жрицы скользнул по глазевшим на нее юношам в доспехах с эмблемой замка-горы. Это были разоруженные при входе Умм и Дримгур. Затаившие дыхание и мысленно приготовившиеся к худшему. У первого в голенище туго зашнурованного сапога были предусмотрительно спрятаны короткие кожаные ножны – разумеется, не пустые. Второй накануне тоже подумывал о подобных мерах потенциальной самозащиты, но в итоге так и не решился на них: а что, если прегрешение раскроется?
Йанги знала об этом. Знала еще до того, как перед Уммом открылись храмовые двери и он явил ей свой лик, полный недоверчивого напряжения и страха перед будущим.
Однако вместо того, чтобы обрушить гнев на головы стражников, Йанги с гостеприимством доброй хозяйки простерла к ним руки и проникновенно изрекла:
– Не бойтесь, доблестные защитники нашего подлинного короля и его благоденствующей семьи. Огненный бог, как вы знаете, столь же грозен, сколь и справедлив. Если корни ваших проступков не достигли отравленной почвы пятигрешия – многоглавого змея, которого молитвами Матери звезд сразил в смертельной схватке Огненный бог, – то расплата не будет ни кровавой, ни мучительной.
Дримгур вздохнул с облегчением. Как выяснилось, рановато.
– Но если кто-то из вас переступил хоть слово из Семи наставлений – в деяниях ваших или силой лукавого умысла, – голос Йанги пронзил храмовую тишину всеми оттенками грозового раската, – священное пламя отплатит вам тем же.
Умм дал этому раскату пройти через себя. Он готов был поклясться, что почувствовал, как жреческий голос рассекает его грудную клетку, будто нож масло. Детство и отрочество пронеслись перед ним обрывками снов и воспоминаний. Главный грех Умма – отступничество от судьбы, родных и корней – вдруг отделился от него и воспарил грозным черным призраком.
Он все понял: она знает, бежать некуда, а уповать на помощь небес – глупо и бессмысленно.
Глава 9 Благословение отчаянием
Сердце Илари ускоряло ритм по мере приближения девушки к ядру государства Вига – Университету Нуа. Кора наук и мантия искусств облекали это ядро столь тесно, что порой у подводных обитателей рождался резонный вопрос: а выдержат ли эту ношу стены древних башен? Не рухнут ли они однажды под тяжестью знаний, открытий, архивов и манускриптов? Однако – то ли назло сомневающимся, то ли восславляя своих именитых архитекторов – уже много светооборотов Университет незыблемо господствовал на старом месте. Это самое высокое в столице здание – выше даже Обители хранителя – заносчиво вздымало свои семь разноцветных башен над прочими городскими строениями, словно стремясь пронзить ими «небесный свод» водорослей круах. Видимая из любой точки города и его окрестностей, академическая твердыня казалась выдутой из толстого матового стекла. Причем, учитывая ее размеры, не слишком уж надуманным выглядело предположение, что сделано это было в гигантской тигельной печи силами какого-то мифического великана.
Так все и виделось Илари. И было отчасти правдой.
Эпоха дерзкого реформатора Золиатта, ознаменованная масштабными архитектурными реконструкциями, которые резвыми протоками разбежались из истока в Нуа по территории Вига, оставила значительный след и на образе Университета. Его старое здание, возведенное в I световехе из гладких камней семпау29 и еще не успевшее потерять внешнего достоинства, снесли, чтобы освободить место для смелой зодческой задумки нового архитектурного поколения. К тому времени алхимическая кафедра факультета тонких материй только-только принесла на алтарь наук Вига очередной дар – жидкое стекло. Мастера зодческого ремесла поспешили дополнить открытие целым букетом вариантов применения нового свойства старого материала. Светокруги напряженной совместной работы лучших представителей обоих факультетов, изолировавших себя на этот срок от внешнего мира неприступными стенами Лабораториума, принесли грандиозный результат.
На него с глубинным трепетом и взирала Илари, осторожно ступая по широким перламутровым плитам – по дороге, что сообщала между собой строгую симметрию зданий Ученого круга.
«Все эти серо-розовые змеи будто бы тоже жаждут знаний, как и я, – мимолетно проскочила в голове шестнадцатилетней мечтательницы совершенно типичная для ее воображения аллегория. – Вот они и ползут все в одном направлении – к Университету. Глупые, вас же могут выпотрошить и отправить на эксперименты в Лабораториум…» Илари слегка улыбнулась собственной шутке, силясь остудить ею закипающие в глубине горла переживания. Да, не страхи, а всего лишь вполне понятные переживания. Будущий мастер лекарского дела может переживать за исход своей практики, но бояться он не должен. Не имеет права.
Словно некий священный манускрипт, Илари прижимала потертые мембранные переплеты пособий по элементарному врачеванию к своей груди, едва обозначившейся под длинным свободным платьем из плотного черного шелка. Это было единственное светское платье ее матери, сохранившееся с прежних времен. Илари платья не полагались. Да и в самом деле, разве эти изящные предметы женского гардероба пришлись бы кстати ей – неугодной высшему обществу обитательнице Зачерновичья? Ведь даже этот приют для безнадежных вига, разменявших свое имя и призвание на звон опустевших сосудов с эо, так и не стал для них с матерью надежным убежищем… С тех пор как не стало отца.
Ваумар Эну был талантливым живописцем, достойным выходцем с факультета художественного мастерства. И хоть для юной Илари всегда оставалось загадкой, почему отца не влекла академическая стезя со всеми ее наградами и привилегиями, тем не менее ему удалось за свою недолгую для вига жизнь оставить достойный след в творческой среде Нуа. Из-под его кисти выходили столь реалистичные образы фантастических пейзажей, созданий и событий, что иные консервативные ценители искусства даже присылали жалобы, пышущие искренним возмущением, напрямую в Университет. Точнее, в его сиреневую башню, под сводами которой мастера-«художественники» издревле обрабатывали и ограняли алмазные самородки талантов, прибывавшие каждый светооборот со всех концов Вига. Содержание жалоб сводилось к одному: «Образцы академической живописи, являемые уважаемой столичной публике выпускником вашей университетской мастерской Ваумаром Эну, представляют собой противоестественный симбиоз разгоряченной фантазии и прислуживающей ей руки с кистью. Даже с учетом нашей открытости новейшим течениям в изобразительном искусстве и полной непредвзятости их восприятия, все же мы находим содержание полотен указанного лица оскорбляющим классическое мировидение вига и противоречащим теории об эо. Взываем к вашему чувству прекрасного, которым всегда управляли поражающая достоверность и восхитительный реализм, и уповаем, что оно само подскажет руководству факультета уместные меры защиты столичных ценителей искусства от подобных издержек традиционного художественного образования».
Эти жалобы приводили на порог родного дома Илари (тогда он еще находился в кольце спиралей престижного Ученого круга) хмурых университетских мастеров. Обычно они, не здороваясь ни с ней, ни с матерью, сразу поднимались к отцу и закрывались в его мастерской под самой крышей. Илари не знала, да и в силу возраста не очень-то интересовалась, о чем он вел с ними многочасовые беседы. Однако их отзвуков из-за покрытой коралловой крошкой двери было достаточно, чтобы распознать в беседах ожесточенную схватку непримиримых спорщиков. Тон отца в таких случаях всегда оставался спокойным – по крайней мере, вначале. Лишь иногда, когда басовитые порывы увещеваний, переходящие в угрозы, начинали отзываться дребезжанием фигурных оконных стекол, отец твердо парировал им. Да, она боялась. Всегда боялась, что однажды эти угрюмые старцы в тяжелых бархатных мантиях все же заберут с собой отца. Пятилетняя малышка не могла сформулировать, куда и за что, но при этом постоянно ощущала нависшую над домом опасность. И все же, дрожа от страха под одеялом, она поддавалась приливам необъяснимого восторга, когда отец своим умиротворяющим тембром унимал разгулявшийся по дому ураганный шквал. И они – хмурые старцы из ее детских воспоминаний – всегда уходили.
«Снова ушли ни с чем!» – торжествовало искреннее детское сердце.
«Слава искусникам и нашим покровителям, что мы все еще жители Виртуозного круга», – облегченно выдыхала шепотом мать.
Отец же обычно не выражал видимых эмоций, закрывая двери за посланниками мира академического искусства. Не говоря ни слова, он стремительно возвращался к себе под крышу. Там его ждали разноцветные мембранные холсты, колбы с растворителями и целая коллекция инструментов для каллиграфии, которым не терпелось оживить легенды, затаившиеся в глубинах Вигари. И те, что на словоохотливых языках купеческих пилигримов приплывали к ним с огненного Харх.
Илари все с той же опаской, воровато озираясь по сторонам, продолжала свой путь по некогда родным ей улицам Виртуозного круга. Серо-розовые гладкие плиты с безразличием холодного камня вели девушку по дороге детских воспоминаний.
Прошло больше десяти светооборотов с тех пор, как они с матерью, не помня себя от отчаяния, словно в каком-то бреду, покинули тихую обитель ее детства – пятый дом седьмого пояса. Покинули вдвоем, окропив слезами свежую могилу на загородном кладбище для работников Черновика. К несчастью, среди противников отца было слишком много влиятельных государственных лиц. Они с присущей им педантичностью позаботились о том, чтобы Ваумар не оскорбил почивших деятелей искусств Вига своим недостойным соседством. Они добились запрета захоронения «изменника» Ваумара на почетном городском кладбище Нуа. Второй фронт работы поборников классического искусства развернулся вокруг дома скоропостижно ушедшего художника. И так как борьба велась, по сути, против вдовы и ребенка, триумфальная победа, разумеется, не заставила себя ждать. Поверженная сторона, даже не успев толком собрать вещи, до которых пока не дотянулись руки художественной инквизиции, отступила за черту города – на самую окраину Чернового круга. Иного пристанища Наида и Илари себе позволить не могли. Особенно после того, как их дом в ночь после похорон с ног на голову перевернули служащие Обители. Они сновали по комнатам, словно выдрессированные ищейки, пока мать прижимала девочку к себе, оберегая от холодного подвального течения…
Оттуда-то и начался отсчет черных страниц жизни Илари.
Десять светооборотов, долгих, как эпоха под гнетом царствующего самодура, они с матерью оставались изгнанницами Виртуозного круга. Скоропостижная кончина отца, развязавшая руки его врагам, вместе со скорбной печатью утраты оставила на осиротевших Наиде и Илари пожизненное клеймо отверженных. Непреодолимый барьер пролег между вдовой с ребенком на руках и их родным домом, к которому они привыкли и который любили всем сердцем.
«А ведь мы были готовы работать, чтобы вернуть себе место здесь. Работать целыми светокругами, не помня себя, забыв про сон и отдых…» – вспоминала девушка первые годы без отца, прокладывая себе путь вглубь кварталов, состоящих из высоких изящных домов.
Знакомые места, будто бы вырвавшиеся из ее ностальгических снов, вместе с расколдованной гордостью пробудили и стаи беспокойных мыслей. Это они не давали малышке Илари, обессиленной тяжелым рабочим днем в Черновике, провалиться в живительную негу сна. Они устрашающим клубком из горечи, непонимания и острого чувства несправедливости путались в ее головке, прильнувшей к грубой мешковине покрывала. Мысли, которыми не с кем было поделиться… Илари старалась не донимать лишними вопросами мать, спавшую рядом с ней на одной лежанке в тесной каменной лачуге, приткнувшейся к опушке бурого ленточного леса за самым Черновиком.
Зачерновичье. Их новый дом. Дом, к которому волей-неволей пришлось привыкнуть за эти светообороты обездоленных скитаний по равнодушным узорам бесконечных спиралей Нуа. Сменить респектабельное жилье на соседство с работягами Черновика, кичащимися друг перед другом неприглядным веером нажитых годами вредных привычек. Архитектурную изысканность – на беспорядок убогих домишек, словно чьим-то порывистым пьяным движением рассыпанных по пригороду. Избыток прозрачных кристаллов кислородных пузырьков – на докучливые клочья охристой тины, которые брезгливо стряхивал с себя обступающий Зачерновичье лес. И самое главное – безупречная лазурная чистота подводной атмосферы Ученого круга сменилась мглистостью мутных вод, ревностно оберегаемой чадящим горнилом Черновика.
К новому дому Илари и Наида привыкли. Но не полюбили его.
И хоть в этом чувстве неприятия мать и дочь без лишних слов ощущали единство, все же между ними с течением времени пролегла незримая граница. Что помогло прочертить ее? Разница в возрасте? По-разному наполненные сосуды эо? Это, к сожалению – а быть может, и к счастью, – Илари было неведомо. Тем не менее незнание причины не отменяло сути: мать отдалилась.
Наида, сломленная необъятным горем и не сумевшая ничем заменить исчезнувшую опору, оказалась внизу – под шершавым росчерком этой границы. Там, где прозябают в беспощадных потоках поперечного течения те, кто своими руками оборвал веревочные лестницы, сброшенные сверху милосердной надеждой. Именно это малодушное преступление позволила себе мать Илари. От ее надежды на будущее осталась крошечная тень, послушно подставляющая свою согбенную спину под злорадную плеть бессилия. На этой спине уже не осталось живого места, а Наида, окончательно укоренившись в среде Зачерновичья, приняла этот поворот их судьбы с обреченностью прокаженного.
Она подрабатывала в алхимических мастерских Черновика, изготовляющих лекарские эликсиры и снадобья, используя остатки знаний и умений, полученных когда-то – не в прошлой ли жизни? – в стенах Университета, куда определил ее покойный муж. Но чаще она пропадала. На несколько светокругов исчезала, растворившись в глубине леса бурых водорослей, разверзнувшего свои недра прямо за их низкой лачугой. Ох, напрасно, бывало что до глубокой ночи, ждала ее Илари!.. Возвращалась мать обычно в ранние утренние часы, предвосхищая игру первых лучей в хороводе отмерших обрывков лесной тины. Всегда будто бы постаревшая. И это было не из тех возвращений отчаявшихся женщин, вынужденных переступить моральные принципы «во благо ни в чем не виновных детей». О нет, Наида возвращалась не из таких мест. Хотя бы потому, что не выкладывала на кое-как сколоченный из белесых коряг стол никакого материального или хотя бы съестного вознаграждения. И, в отличие от этих самых «отчаявшихся благодетельниц», никоим образом не пыталась выторговать у дочери хоть толику понимания и прощения. Не заигрывала с незрелым сознанием своего чада, стараясь развеять сгустившийся сумрак вокруг своего образа. Не бросалась восполнять пробелы, неизменно возникавшие в домашнем хозяйстве в ее отсутствие.
Она просто приходила. Просто ложилась на свою половину лежанки лицом к стене. Илари смирилась. И совсем перестала задавать вопросы.
«Идти! – одними дрожащими от волнения губами приказывала себе девушка. – Неуклонно двигаться вперед. Назло прошлому. Прямо по коже этих дорожек-змей, что вьются под ногами, плюясь в лицо воспоминаниями. Не дать… ни в коем случае не дать им сбить себя! Решение принято». На миг лицо Илари примерило непривычную маску дерзкого своеволия. Ее большие глаза – два нежно-голубых топаза – блеснули лезвием остро заточенного ножа. Неведомо откуда взявшимся хладным, неуютным светом. Бледные продолговатые пальцы с сине-зелеными прожилками вен рефлексивно стиснули драгоценные переплеты, скользнув по их гладкой защитной поверхности и от этого чуть не выронив их. Прямо в пасть «змеям», переливающимся под эфимирным светом.
К льдистым искоркам в глазах добавился едва ощутимый призрак гордости. За отца, которого повзрослевшая Илари уже едва помнила, за мятежную силу его таланта, за унаследованную от него смелость. За подлинность истории, которую несли в себе его полотна. Во всяком случае, Илари их подлинность считала неоспоримой. Девушке пришелся по вкусу этот призрак собственного достоинства, так кстати пробудившийся в обстановке полузабытого прошлого.
Встречные вига не узнавали повзрослевшую Илари. «Может, оно и к лучшему, – продолжала она успокаивать себя. – Пусть будет так. Пусть себе степенно проплывают мимо и не пытаются разглядеть в моем лице черты Ваумара Эну. Кто знает, может, среди именно вот этой группы, беседующей о новых направлениях искусства, затерялись потомки врагов отца? Ведь если в нашей цивилизации осталось хоть сколько-нибудь справедливости, сами они должны были тоже кануть в небытие! Участь этих стервятников должна быть предрешена с того самого момента, как они ворвались в наш осиротевший дом. Да хоть бы даже не они сами, а те вышколенные ищейки из Обители, вооруженные их приказом!»
Илари метнула гневный взгляд в сторону небольшого собрания, стихийно образовавшегося у одного из домов ее родного круга. «Ничего здесь не изменилось, – констатировала девушка. – Что ж, следовало это предвидеть». Оживленная группка в буквальном смысле светилась: это жемчужное благородство гладкой кожи, изящные, незнакомые с тяжелой работой руки, покрытые серебристой фамильной вязью… Угодливо подсвеченная эфимирами, она подчеркивала врожденный аристократизм своих обладателей. Издалека ее хитросплетения до того сливались с их почти белой кожей, что какой-нибудь простофиля из Южного водораздолья (да хоть бы и из ее центра – Яфтунии!) мог запросто вообразить себе какую-нибудь небывальщину, чтобы щеголять ею у себя на родине.
«А ручки этих высокородных ученых господ, доложу я вам, эфимиров свет в себя с утра пораньше вбирают, чтобы потом он целый день их подсвечивал, – докладывал бы у себя дома такой заезжий наблюдатель. – Серебряная вязь – это вам не наши синюшные отметины, по которым иной раз не поймешь – то ли это история рода, то ли вены от работы вздулись. Только чтоб на теле-то своем такую красоту носить, так это надо было, чтоб аж еще прапрапрадеды твои с высокородными токмо шашни крутили! Чтоб ни единого разочка с такой деревенщиной, как мы, и рядом замечены не были. Вот тогда, глядишь, и мы б с тобой ходили лучерукими. Сияли бы – смех да и только! – на всю нашу Яфтунию!» В конце своей вдохновенной речи рассказчик бы, как водится, горестно вздыхал: «Ну а теперь что, брат, попишешь… Остается нам пенять лишь на неразборчивых пращуров, чтоб им в ноллах30 перевернуться! Понаставили нам этих сизых гадюк, словно синяков на всем теле. Тьфу ты!»
Илари, разумеется, не верила этим басням ни на грош. Может, она и росла большую часть своей сознательной жизни подобно сорной траве, ютившейся жалостливыми островками крапивы-сонницы31 по дорожным обочинам, однако ее здравомыслия это нисколько не умаляло. Да, она не украсила – пока! – свой лоб горделивым венцом университетского образования; да, на ее худеньких пальцах еще нет чернильных знаков ученых отличий… Зато в ней есть кое-что другое: природное любопытство и пытливость ума – хорошие помощники по части снятия ржавчины невежества. Во всяком случае, неприкрытую чушь насчет способности фамильной вязи вбирать в себя «эфимиров свет» эти качества пресекали на корню.
Девушка исподволь бросила короткий взгляд на свои собственные руки и непроизвольно потянула вниз широкие черные рукава старомодного платья. Дело было не в пальцах, загрубевших раньше времени от тяжелой работы (этими пальцами она соскабливала с алхимических столов Черновика едкие следы пролитых эликсиров и полуядов). И дело было не в бугорках мозолей, унизывавших розоватыми бусами узкие, еще детские ладони Илари.
Любой мало-мальски зрелый вига, не будучи корифеем естественных наук или ясновидящим, мог бы прочесть по этим рукам подлинную историю рода Илари.
Вот с худого предплечья спускаются тончайшие ветви густо-фиолетовой лозы – наследный дар от матери. Они по-змеиному извиваются, переплетаясь страстными морскими узлами в своем сложном статическом танце. Эти «синяки», как их прозвали в народе, беспощадно клеймят своих хозяев неистребимой печатью плебейства. В них с летописной точностью занесены все порочные связи даже самых дальних пращуров с простолюдинами, исторгнутыми невежественной гнилой утробой водораздолья. Притом уникальная архитектоника, строение этой вязи – на весь Вига нет ни одного повтора – нисколько не исправляет ситуацию. Все дело в цвете. Истинный аристократ Вига имеет нежно-серебристый кожный рисунок; полная же его противоположность – темно-синий цвет, словно вобравший в себя тьму глухоманной непросвещенности. Узорчатые следы этой тьмы разбегались мрачным вихрем аж до самых острых локтей Илари, хоть нынче они и были предусмотрительно прикрыты длинными рукавами платья. Однако где-то чуть ниже локтевого сгиба этому темно-лиловому вихрю начинали вторить робкие пепельные штрихи, встраиваясь тонкими ручейками в темные водовороты безродной вязи. Спускаясь вдоль веточек-вен прямиком к запястьям девушки, змеиные клубки верхней части рисунка мало-помалу распутывались, обретали признаки симметрии и гармонии. Как же идет этой благородной упорядоченности мерцающий молочным светом серебристый оттенок, почти победивший в ожесточенной схватке с ядовитыми чернильно-фиолетовыми ужами! Это изысканное лилейное сияние напоминало Илари отца, руки которого всегда отражали сонную игру подводных лучей!
О да! Ваумар Эну был воистину чистокровным лучеруким вига! Такими же, согласно священной традиции, переходящей из поколения в поколение, должны были стать и его дети. Что за ослепляющая сила любви заставила его разорвать древнюю цепь идеальной аристократической фамильной вязи своего поцелованного талантом рода? Как посмел он столь изощренно надругаться над ней, соединив свою жизнь и судьбу с неизвестно откуда явившейся в Нуа девкой, акцент которой выдавал восточноводное происхождение? Нельзя сказать, что причиной всему было покоряющее совершенство черт ее лица или пленительные изгибы фигуры: экзотический облик юной Наиды не мог предъявить ни того ни другого. Единственным неоспоримым ее достоинством был неукротимый водопад иссиня-черных вьющихся волос, ниспадающий своенравными волнами до самой поясницы. Куда бы ни пошла молодая Наида, эти волны развевались за ней, следуя прихотливым порывам глубинных течений. Словно траурная фата. Именно так и поговаривали свободные от суеверий родственники влюбленного Ваумара, в конечном счете все как один отрекшиеся от «гнилого звена» своей высокородной цепи.
Сбылось нечаянное пророчество. И роскошные волосы – тайная гордость Наиды – окутали ее мрачной вдовьей вуалью. И рыдали безутешные пращуры Ваумара, когда в день похорон воочию узрели претворение в жизнь своей искусной ворожбы. Сквозь дымку слез черная фата спутанных волос невестки казалась им жестоким беззвездным небом, легшим всей тяжестью свода на ее поникшие плечи. Да только никто не обнял Наиду, чтобы облегчить этот непомерный груз и унять липкий страх за будущее – не за свое, за будущее маленькой, ничего толком не понимающей Илари…
Здесь, увы, тем более не следовало надеяться на внезапную милость лучеруких сородичей. Да, определенно смерть оступившегося на жизненном пути сына размягчила, а затем и вовсе расплавила серебряный панцирь их сердец. Она искупила порчу горделиво сияющей цепи поколений Эну. Ваумар – сын, брат, внук – был посмертно принят в лоно своей семьи: стихли громкие осуждения, порицания, укоры. И даже новоприобретенный обычай обмениваться тяжкими вздохами при упоминании его имени постепенно сошел на нет. Избирательная память родственников оставила в своих потертых складках только достойные черты и качества рано ушедшего представителя рода. Никто не смел даже косвенно, даже в свете настроений в обществе, выступать с опровержением его таланта как бесценного наследия пращуров. Что касается области применения этого таланта – непостижимые сюжеты картин Ваумара, – эта тема отныне стала закрытой. Зачем ворошить пыльные темные свитки прошлого? У кого их нет? Что принесут едкие клубы этой пыли, кроме горького привкуса на губах и землисто-прелых миазмов разрытой могилы? Тем паче что причина художественных фантазий кроется не в помутившемся разуме «сына-брата-внука». Нет, разумеется, все были не его идеи.
Семье лучше знать. Семье виднее. Она в едином скорбящем порыве направила указательные персты на «восточноводное отродье» – Наиду.
«Она, она – кость, застрявшая в нашем горле», – шипели со всех сторон проницательные родственники.
«Вот где затаились корни дурновкусия моего любимого впечатлительного Ваумара – у нее под юбкой!» – чуть ли не со злорадной прозорливостью выплескивала мать свою боль.
Бабушка и дедушка несколько мягче, но в той же смысловой тональности вторили безутешным детям: «Бедный мальчик! Дать увести не только себя, но и свой талант в такие сумрачные дебри! Одно к одному!»
«Как есть, все одно к одному!» – спешно вершился рефреном семейный суд.
«Кость в горле» взяла на себя больше, чем могло показаться на первый взгляд. На ее плечи (словно мало было рухнувшего на них небесного свода) лег свинцовый панцирь вымышленной вины. Семья, та, что «лучше знает», поспешно водрузила его на не смевшую перечить им Наиду. Молодая вдова даже не подозревала, какое божественное облегчение испытали родственники, в одночасье избавившись от душевного груза.
Она приняла всю его тяжесть безропотно. Не то чтобы с достоинством – у нее не осталось моральных сил на подобные аристократические излишества; не сказать, что с покаянием, – она его не испытывала. Только лишь с отпечатком осознанной, а потому глубокой обреченности, залегшей в первых морщинах и трагически искривленных синеватых губах. Вот и все свидетельства внутренних ощущений, что явила вдова благородным родственникам своего мужа, безвозвратно ушедшего по неверной дорожке воображения.
Илари, словно живой упрек всему роду Эну, то самое его «гнилое звено», попросту предпочли не замечать. То есть, по сути, ничего не изменилось с самого ее рождения. Вся соль рационализма подводной цивилизации Вига с зеркальной точностью отразилась в отношении семейства Ваумара к его единственному чаду. «Не вижу тебя – следовательно, ты не существуешь», – эта мантра служила им верой и правдой все те пять светооборотов, что Илари «не существовала» под сводами круах.
И до поры до времени этот прием успешно работал.
По счастью, пятилетнее существо, согласно задумке мудрой природы, еще не обладало достаточной смышленостью, чтобы осознать, кем приходится ей скорбящая толпа с посеребренными кожными рисунками, что окружила траурный нолл (спящего?) отца. Она, природа, восполнила недостаток семейного тепла, части которого малышка была лишена, и своими руками укрыла ее от страшной правды.
Так что новоявленные сородичи иронией судьбы оказались для Илари столь же незнакомыми безликими созданиями, каковой являлась для них она сама. Тогда ей все это было неважно. Ее заботило всего несколько вещей: почему обычно жизнерадостная мать вдруг стала такой мрачной и неразговорчивой, почему отец улегся спать в огромную двустворчатую раковину и, самое главное, когда же ее наконец покормят? Ведь она не ела со вчерашнего дня. Мать зачем-то заперлась в комнате отца и не пригласила ее к ужину. «Вот отец проснется, и я сразу пожалуюсь ему!» – с затаенной обидой утешала себя Илари.
Как же могла она тогда знать, что пожаловаться уже некому. Да и безрадостное будущее, недобро выглядывающее из-за черной каймы погребального нолла, еще не могло попасть в фокус зрения девочки. Оно довольствовалось Наидой.
Илари, которую теперь некому стало защищать, хоть она этого еще не осознавала, стала сама себе защитницей. И это положило начало ее новым привычкам. Привычкам новой, сильной Илари. Которые, если она будет им верна, непременно станут ей надежными доспехами.
Они ей очень пригодятся.
Никто из встречной толпы не перехватил прямой взгляд девушки. Эти знатные вига были сосредоточены на чем-то своем. Можно было заметить, что многие из них, как Илари, сжимали в руках тяжелые фолианты, скупо посверкивавшие старым золотом сквозь прозрачные защитные мембраны, похожие на плоских медуз. Некоторые лучерукие деловито поправляли связки объемистых свитков, норовивших выскользнуть из подмышек. Кто-то со значительным видом поглядывал на миниатюрный часовик из филигранного стекла с заключенным в него орнаментом из едва видимых белоснежных нитей. Когда эта диковинная колба встречалась с подводными «братьями» звездных лучей, то причудливое кружево ее стекла смотрелось особенно изысканно на фоне того цвета, который правил бал на Вига в данное время суток.
Илари замедлила шаг, непроизвольно попав под чары явственно осязаемой ауры благородства и утонченности, столь непривычной для нее – зачерновичьего отщепенца. И это при том, что на моральную подготовку ушло два светооборота, в течение которых девушка с завидным упорством методично взращивала в себе зерна уверенности и достоинства.
В редкие минуты отдыха, во время работы и даже сквозь сон она день за днем твердила себе, что может – нет, обязана! – отвоевать у злой судьбы свое будущее! Сплошь серо-черные картинки детских воспоминаний, отравленные горечью тоски по отцу и прежней жизни, уже никак не выскоблишь из архивов памяти – с этим Илари смирилась давно. Но это была единственная уступка, на которую она пошла.
«Будущее. У меня впереди есть будущее!» – настойчиво твердила она. Делиться этими мыслями с отрешенной матерью было бесполезно, поэтому всякий раз девочка обращалась к самой себе: «Оно где-то там, впереди. Оно еще не случилось! Вот прошлое случилось, но его уже нет, оно – лишь клочки отмерших водорослей! Кому оно теперь нужно?..» Всякий раз эти фразы разгорались в ее юном эо все более уверенным светом. «А будущее, – убеждала себя Илари, – это мой дар. Моя прекрасная манящая загадка. Моя возможность исполнить мечту, подняться по течению знаний и разума над затхлостью Зачерновичья. Стать мастером, нет, искусником лекарского дела! Доказать, что милосердие сильнее жестокости. Стать той, кем так и не стала мать, не поддаться искушениям, забравшим у меня отца. Да, Илари, это будущее, за которое стоит побороться!»
Те, кому нечего терять, как ни странно, в решающей схватке обнаруживают в себе неожиданное преимущество, зачастую определяющее исход поединка. Благословение и одновременно проклятие отчаянностью. Дар отверженных, изгнанных, до неузнаваемости искалеченных судьбой. Тех, кого не брали в расчет. Тех, у кого отняли все, и в особенности прерогативу выбора: продолжать драться или сложить оружие; идти проторенной дорогой или обходными путями; решиться сейчас или взять паузу; потратить монету или приберечь ее до лучших времен. Выбор, надо отдать должное, – тоже своего рода благословение, возможность хоть на йоту ощутить на себе величественное дыхание богов. Но он развращает. Заискивающе подмигивает в сторону отступления в момент опасности или даже временного затруднения, как бы напоминая: тебе есть что терять. И когда все зашло в тупик и сама возможность будущего висит на волоске, перевес будет в пользу благословленных отчаянностью. Когда ее слепая ярость наудачу наносит смертельный удар прямо в сердце противника, каждого отверженного и изгнанного озаряет понимание: это именно благословение.
Илари совершенно нечего было терять, и да, она готова к великолепию коренных обитателей престижнейшего круга. Но, как известно, одно дело – быть готовым в своем привычном, хоть и набившем оскомину окружении, и совсем другое – попав в эпицентр отнятой родины и столкнувшись лицом к лицу с ее обитателями. Из круга которых она была грубо вышвырнута.
Нельзя отрицать, что часть ростков, проклюнувшихся из тех самых зерен самовнушения, была иссушена резким контрастом внешнего вида лучеруких с самой Илари. И нельзя не заметить, что выглядела она на их фоне по большей мере младшей служанкой. Это случилось. И чуть было не начало предательски закипать обыкновенной обидой в худенькой груди девушки. Обидой, грозившей развенчать все ее моральные усилия.
Знатная толпа и не подозревала о буре эмоций, которую вызвала в завороженной Илари. Степенно эта компания прошагала мимо нее, обдав легкой волной течения. Оно колыхнуло густые светлые волосы Илари, заставив их плавно взметнуться за спиной, чтобы затем послушно лечь на темный шелк платья. К встречному течению примешались поднятые с плит жемчужные крупинки и обрывки путевой беседы:
– Маллиа, почему ты так долго собиралась? Разве ты не помнишь, что даже научное звание твоего отца не позволит тебе безнаказанно опаздывать на экзамен?!
– Я никак не могла отыскать эту хархскую булавку с рубинами, чтобы подколоть мантию, как учила меня Саэ.
– Тебе бы стоило поменьше крутиться перед зеркалом в день поступления и тщательнее повторять уроки, которые давали тебе твои наставники.
– Снова будешь ставить мне в пример Онибба? Усыновили бы уже его, если он вам так нравится!
– Кажется, забыли свиток с текстом для декламации!
– Где, искусники их побери, твои алхимические формулы?
– Ай! Булавка уколола меня в плечо! Так и знала, что не надо ее брать!
