Сон в руку бесплатное чтение
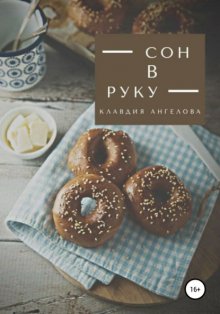
– Да брешешь ты, Клавдея! Голова собачья на ноге выросла – не может быть такого! – Ольга Михайловна замахала на соседку руками. Поджала губы, обиделась вроде как на такую несусветицу, – Ты, соседушка, иди-тко домой. Устала поди, вот и несёшь околесицу.
Женщина тяжело приподнялась со старенькой, кряхтящей табуреточки, приобняла Клавдию Петровну за худенькие плечики и до сеней выпроводила аккуратненько. Старушка не противилась:
– Олюшка, я к тебе тогда заутра зайду побалакать ещё?
– Нет, Клавдия Петровна, я утром в центр собираюсь. Говорила ж тебе: Аля моя завтра приезжает, – Ольга Михайловна поглубже запахнула ватную телогреечку, – Иди домой, холодает к вечеру.
Ольга Михайловна закрыла за соседкой крепкую деревянную дверь.
Сколько можно ерунду городить? Ещё бы столько времени лишнего найти, чтоб всё это выслушать.
Да и странная эта Клавдея, что говорить? Даром, что дружат давно, а что-то в ней не так. Сидит, бывало, у окошка в платочке ситцевом – до самого лба его опустит, уголочки подвернёт по-старушечьи. Волосы густущие, седые, как лунь, и толстая коса из-под платка по плечу до пояса.
Халатик на ней цветастый фланелевый с округлым маленьким воротничком.
Улыбается, кивает прохожим – святая простота.
А как заговоришь с ней – слово не даст тебе сказать. Затараторит – не остановишь. Да громко так, всё с чувством, с огоньком в черных, как угольки, глазах… Откуда только силы берутся?!
И это еще ладно. Все разговоры сводит Клавдия Петровна к одному – к мистическому.
Байки старушечьи заведёт-зашепчет. Такого страху иногда напустит, что уж какая б ни была Ольга Михайловна серьезная образованная женщина – и то, бывает, испугается так, что всю ночь свет в комнате не гасит.
Вот и сегодня так получилось.
– Ну, к чему она про голову собачью-то? – ворчала Ольга Михайловна, – Как хорошо да спокойно было в кои-то веки! Чай пили с баранками – мягкими, как пух. Каждая о своём молчала. Нет, на тебе: откель ты, Олюшка, свечи привезла? Вот, привязалась, старая!
Раскручивается тревожный разговор в памяти Ольги Михайловны…
– Откуда-откуда? Из города привезла. В храм ходила, купила свечей да масла для лампадки. Что ж ты, Клавдей, свечей церковных не видела никогда?
– В церкву, говоришь, ходила? – прищурилась старая соседка, – И что там, в церкви-то?
– Будто ты сама не знаешь? Давай чай пить: вера – дело личное, – отрезала Ольга Михайловна и пододвинула Клавдии Петровке блюдце с баранками.
– Ишь, как заговорила: личное дело! Зря тебя мать-покойница в город учиться отдала. Зря. Слов гордых нахваталась, а чутьё нутряное потеряла совсем! Тьфу на тебя, Олька!
– А ты на меня, Клавдея, не плюйся. Чего раскочегарилась?! Какое такое «нутряное чутьё»?
– Такое, что правду от ложного всегда отличать помогало. Тебе уже не поможет – это как пить дать. Даже вот под носом твоим очкастым что случится, не заметишь. А заметишь – не поверишь. А поверишь – не поймешь, – уперла руки в боки Клавдия Петровна, брови седые к переносице сдвинула. Злой нахохлившийся воробышек. Даже тарелочку с баранками обратно отодвинула.
– А ты не кипятись давай. Ух, горячая какая! По порядку расскажи, если хочешь, чтоб поняла я тебя, – Ольга Михайловна вновь легонько направила баранки ближе к старушке.
– А я тебе возьму, да и расскажу сейчас. Только страшно мне, Ольга, – обещала я эту историю никому не рассказывать… Да уж ладно: столько лет после неё утекло – в живых окромя меня никого не осталось поди. Слушай и не перебивай, пока не окончу.
***
Сябитовку чай не помнишь уже? Куда тебе! А это большое село раньше было: с церквой, со школой, с двумя магазинами. Мы в Сябитовку всей гурьбой из нашего Малого Колыханова ходили: соберемся ребятнёй от мала до велика, придем к Маланьиному магазину, что на самой окраине стоял, и давай смотреть, что они торговать из города навезли.
Это сейчас телевизоры да компьютеры – мы такого не видали. Мы до чудес охочи были. А Маланьин-то магазин – самое чудесное место. Чего они только с мужем ни привозили! Легкие шелковые платки, сахар разноцветный и приправы заморские… А куклы, Оля! Нигде я таких кукол за все свои девяносто лет больше не видела.
Так вот.
Сядем мы на лавку супротив магазина. Семечки лузгаем и смотрим, как Маланья за прилавком суетится. В магазин я и не помню, чтоб мы когда заходили: строгая баба была Малаха. Крапивой непрошенного гостя ошпарит – не посмотрит, что он ей и до пояса не дорос. Да и мужик-то ейный тоже не отстает: так, бывало, на нас гаркнет, что звон в ушах до самого дома стоит.
Вот таким порядком и сидим однажды: я, сестра моя Устинья да две наши подруги – Анна и Лизаветка. Мне лет шесть тогда было. Устише и Анне – по восемь. А Лизка самая старшая у нас была: четырнадцать лет осенью той ей бы исполнилось. Без неё нас в Сябитовку не пускали. Говорили: ведьма в Сябитовке живет. Столько страхов про неё рассказывали! Мол, мужей не раз из семьи уводила, а затем пропадали они невесть куда.
Старика одного в козла оборотила: днём скакал он козлом у неё во дворе выше ворот, а ночами блеял да человечьим голосом жену свою покойную звал. Так и помер, о ворота разбившись.
Много мы о ней слыхали, да не видали никогда…
Что ж я сбиваюсь-то всё не туда?! Эх, старый ум стал – дырявый, что твоё решето…
Слушай, что дальше было.
Сидим мы, значит, болтаем ногами на лавке, да языком треплем. Так за болтовнёй и не заметили, как возле нашей лавки бабёнка появилась незнакомая. Пришлая какая-то, не наша. Мы своих со всей округи знали: кто где живет, да у кого какие щи на ужин сварены. На то мы и девки, чтоб всё про всех знать.
А эту бабу первый раз увидели. Да и странной она нам показалась: стоит, глаза вытаращила.
Лизка вперед к ней вышла, как старшая среди нас:
– Тётенька, вы чего это так глядите?
А бабёнка молчит. Только глядит теперь во все глаза на одну Лизавету.
– У нас родители в магазин за пряниками пошли: сейчас выйдут, спросят, кто вы такая, – продолжает Лиза. А сама шаг назад сделала, да нас троих спиной своей прикрыла.
Баба эта – шаг вперед, и руку к нам протягивает. Тянет всё, тянет руку – будто конца этой руки нет. А мне что-то холодно стало, и подруги, смотрю, дрожат. Прижались мы друг к дружке, трясёмся, а с места двинуться не можем.
Лизаветка опять:
– Я сейчас старших позову. Они в магазин пошли к тетке Маланье, а мы их на лавке ждём. Слышите, что ли? Вы тут стойте, а мы сбегаем за ними.
Стала она отступать от страшной тётки, и нас своей спиной в сторону толкает.
А баба эта как схватит Лизу за локоть, как зашипит! Глаза таращит, зубы сжала, слюна у ей с губ каплет…
А Лиза-то, Лиза! Как закричит жалобно и громко! Как закрутится! Пытается что есть сил из хватки смертельной вырваться, а не может никак.
Устишка с Анной убежали сразу к магазину – взрослых звать. А я стою, как громом пораженная, да вдруг как брошусь на них, как бабе этой зубами вцеплюсь в руку, которой она Лизу мучает…
Помню потом только, как бежит к нам тёть Маланьин муж с палкой, кричит:
– Эй, ты, собачья мать! Уйди от девчонок! – и хвать её палкой-то по голове.
А потом – пустота.
Боль помню адскую во рту: неделями потом кровь из десен шла.
Но это еще ничего. Повезло мне, прямо говоря, а остальным-то не очень.
Маланьин муж тётку эту в сарае запер, а сам за председателем побежал.
Маланья Лизу и меня в дом завела – он у них к магазиновой стеночке пристроен был. Потом полотенце ледяной водой смочила и мне прикусить дала – так я до мамки и сидела. Сидела да смотрела, как Лиза страдает.
Маланья уложила Лизу на свою кровать, одеялами укрыла, мокрую тряпицу на лоб повязала. Да не помогало это всё: плакала, кричала Лизонька, а к вечеру и померла совсем. За нас пострадала, мученица…
А через неделю суд над бабой этой страшной назначили: почитай, вся наша деревня на этот суд ходила. И мамка моя была, и Маланья с мужем и председатель – много кого.
Так вот рассказывают, что, когда баба эта Маланьиного мужика увидала, проклятьями сыпать пошла. Ты, говорит, меня собачьей матерью звал – пущай с тобой всегда собака будет! Не далече, как на тебе самом!
Много чего, говорят, грозила. А как суд закончился, увезли её куда-то на выселки в Сибирь: знаемо дело – ребенка убила…
А муж Маланьин таки испортился. Начала у него на ноге – на самом бедре – голова собачья расти. Сморщенная, страшная-страшная. Я сама не видала, но фельдшерица наша мамке моей рассказывала, когда пришла к нам Устишу лечить.
Когда он еще в силах был и выходил на улицу – рядом с ним всегда собачий вой до скулёж слышался. Росла и росла эта собачья голова, а как выросла в полную силу, так Маланьин муж жизни себя и лишил. Хотел топором башку собачью отрубить, но сам от потери крови и помер, бедный.
А Маланья и вовсе уехала вскоре после его смерти…
Время какое-то прошло, а потом я узнала, что в церкву Божью войти не могу. Некрещенные мы с Лизонькой были, Олюшка, – вот и перепало нам ведьмино проклятье.
Устишу мою и Аню бабушка – Авдотья Андреевна – втайне покрестила. А мы без веры жили. Запрещено тогда было в Бога-то верить.
Мало этого: стала мне ведьма по ночам сниться. Будто стоит она за окошком и зовет меня к себе. Я медленно-медленно к окошку подхожу, смотрю: а рядом с ней будто Лиза стоит, рукой меня к себе манит. Манит-манит так ласково, а потом как закричит:
– Убегай, Клавушка!..
И сон этот каждую ночь повторялся. Такие дела…
Рассказала я об этом бабушке Авдотье, а она говорит:
– Прокляли тебя, Клава. Ведьма Сябитовская тебя прокляла. Время ей пришло помирать, вот и искала, кому демона своего передать. Их ведь, ведьмаков-то, на тот свет не пускают, пока душа их демонам отдана. Ты не смотри, что она молодая была. Она к нам тридцать лет назад ровно такая же в село пришла. Ведьма – что скажешь. И ты теперь помрешь, как Лизавета, – часть боли её на себя взяла. А не хочешь помереть, так ни рассказывай этот сон никогда и никому. Как не было ничего, а потом может и забудется всё, как страшный сон.
Вот, я и не рассказывала, а потом мне и сниться такое перестало. Первой тебе говорю, потому как никогошеньки из тех, кто историю эту помнит, в живых не осталось…
Веришь ли мне, Оля? Или уж не отличаешь былое от вымысла городским своим умом?
***
Прокрутила в памяти соседкин рассказ Ольга Михайловна, перекрестила комнатку свою, лампадку у образов зажгла, да и спать легла растревоженная: вон как засиделась – ночь на дворе!
Только голову на подушку опустила, слышит – вроде зовёт её кто:
– Оля! Олюшка, выдь ко мне…
Встала Ольга Михайловна. Шерстяной платок на сорочку накинула и, отогнув занавеску в узком окошке, выглянула во двор.
Темно. Только свет фонаря у председателева дома чуть достает до калитки.
А у калитки, позади сиреневого куста Клавдия Петровна стоит. Руки за спину увела и на оконце смотрит.
Увидела соседка Ольгу Михайловну, улыбнулась, а у самой – слезы из глаз:
– Рано я тебе, Оленька, историю свою рассказала. Нельзя мне было говорить. Прощай теперь, Оля, коли хочешь – помолись обо мне. Да, никому о нашей встрече, смотри, не рассказывай.
Сказала так, развернулась, рук не расцепив, и пошла прочь от дома в ту сторону, где две тени смутные стояли: женская, черная-пречерная, и девичья прозрачная, как лунный свет…
***
– Баба Оля! Бабушка!
Ольга Михайловна резко проснулась: в самое лицо кричала ей внучка Аля.
Еле найдя слова и голос, пожилая женщина прохрипела:
– Алечка, ты ж только к обеду из города приедешь?
– Бабушка, ты чего?! Вечер уже – половина девятого. Я тебя в Большом Колыханово на остановке два часа прождала, а потом на попутке приехала. В дверь стучала – все руки отбила. Стучу к тебе, стучу, а мимо председатель ваш бежит.
Кричит мне:
– Алька, ночью Клавдия Петровна преставилась. Передай бабушке своей – дружили они…
Как я испугалась, бабушка! В сенях у тебя окошко разбила и влезла через него. Холод невыносимый дома, и сама ты – как лёд. Лежишь, словно спишь, только слезы из глаз текут у тебя, не переставая. Я тебя бужу-бужу битый час, а ты не слышишь! Что с тобой, баб Оль? – плакала Аля.
Ольга Михайловна приподнялась с подушки и обняла внучку:
– Ничего, Алечка. Просто сон дурной приснился…
