Та, которая шкаф бесплатное чтение
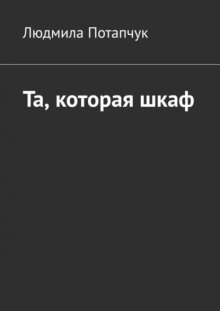
© Потапчук Л. С., 2020
© Филиппов Е. П., иллюстрации, 2024
© ИД «Городец», 2025
Капуста, яблоко и тряпка
– Смотрите, как она жуёт!
Шура замирает, перестаёт двигать челюстями. Во рту у Шуры тёплая недожёванная тушёная капуста. Вкусная. То есть уже не очень.
– Стесняется, ути-пути! Ну пожуй, пожуй ещё. Девки, ловите момент, такой прикол.
– Хватит, Мормыш, задолбала, – лениво говорит Лысиха, накалывая на вилку серую сосиску. – Дай девочке покушинькать.
– Кюшай, девотька, сюси-пуси! – пищит Мормыш.
Шура сглатывает. Тёплый капустный комок ощущается в пищеводе, отказывается опускаться вниз.
– Сейчас подавится из-за вас. – Бабий встряхивает своими солнечными волосами, лениво улыбается.
Шура отпивает из стакана тёплого безвкусного чая. Комок внутри растворяется.
Мормыш роется в сумке. Лысиха шепчется с Исхаковой.
Мне из-за вас не есть совсем, что ли?
Шура отправляет в рот очередную порцию капусты. Побольше, чтобы тарелка быстрее опустела.
– Ха! – выстреливает Мормыш. – Ха! Ха! Вот оно!
В руках у неё телефон, а в телефоне – злобный глаз камеры, и смотрит этот глаз на жующую Шуру.
– И правда уродски жуёт, – удивляется Лысиха. – Может, у неё челюсть сгнила?
– Да всё у неё сгнило! – ржёт Бабуся.
– Очень смешно. – Иванова дёргает полным плечом. Смотрит на Шуру, смотрит – и вдруг начинает хихикать.
– Оборжаться! – захлёбывается писком Мормыш. – Выложу… все оборжутся!
– Выржутся и уржутся, – кивает Лысиха.
– Перержутся и недоржутся, – резюмирует Иванова.
Мормыш, Оля Мышкина. Очень маленькая и очень миленькая. В начале сентября Шура была у неё в гостях. Уроки закончились, и Шуре в тот день не надо было в эстрадную студию, и она, пиная оранжево-розовые кленовые листья, медленно шла по школьному двору, и её нагнала запыхавшаяся Мормыш, и спросила: «А ты куда, Шур? Ты петь, да? А можно я с тобой?» И, выяснив, что Шура идёт не петь, а домой, пригласила в гости – вот так вдруг. И они пошли вместе, а потом побежали, и бежать с Олей было ужасно весело, хотя Шуре скоро стало тяжело дышать, и она с трудом успевала за Олей, которая на бегу ухитрялась ещё и разговаривать. «А вот в этом подъезде живёт Курушина! – звенела Оля. – А вот там новый дом – там Сёмин и Костичкин! А Лысихе хорошо, она вообще рядом со школой!»
А дома у Оли на них прикрикнула Олина старшая сестра, а Оля ей не ответила вообще ничего, и это было настолько восхитительно дерзко, что Шура замерла от восторга. Попробовала бы она, Шура, вот так со своей сестрой! «Глухая, что ли?» – заорала Олина сестра. «Сама глухотня!» – лихо парировала Оля. И они с Шурой закрылись на ключ в комнате Олиных родителей, которые всё равно были на работе, и накрасили помадой Олиной мамы губы и щёки, отчего стали похожи на телеведущих (так сказала Оля), и включили компьютер Олиного папы («А он мне разрешает!»), и стали по очереди петь караоке.
– Ты хорошо поёшь, – говорила Оля. – Очень хорошо. Это тебя в твоей студии научили? А меня научи, а? Пожалуйста-пожалуйста-препожалуйста!
Учить Олю оказалось непросто. Точнее, совсем невозможно. «Я по-ю, – выводила Шура по нисходящей, как учила Нона Петросовна во время распевок. – Повторяй за мной, это просто: я по-ю». Оля делала трагическое лицо, разевала накрашенный ротик, словно аквариумная красавица-рыбка, и очень старалась выводить то же самое, но звуки у неё выходили то детски-писклявые, то мультяшно-басовитые, то вообще какие-то хрипучие. «Ве-ет ветер, – пела Шура. – Ве-ет ве-те-рок». – «Ве! Ет! Ветер!» – отчаянно, безнадёжно ревела маленькая Оля, сморщив кукольный беленький лобик. Тогда Шура решила попробовать свою самую любимую, самую дивную распевку. «Сейчас точно получится, – пообещала она. – Пой со мной: bella rosa, rosa, rosa!» – «Бэлля? – вытаращив голубые глазки, переспросила Оля. – Бэлля роза? Бэлля?» И вдруг начала хохотать, и повалилась на диван, и дрыгала ногами. «Бэлля! – вопила она в потолок. – Ой, оборжаться!» И Шура хохотала вместе с ней, хотя было ей совсем не смешно, а досадно было, и немного противно, и ещё скучно.
– Оборжаться, – счастливо всхлипывает Мормыш, пряча телефон.
– Ссылку потом пришли, – командует Исхакова. Такой уж у неё голос – она, что ни скажет, всегда как будто командует.
– Шестой класс, – по-взрослому вздыхает Бабий. – А как дети. Тебе зачем? Перед сном смотреть?
– Перепощу, – объясняет Исхакова. – У меня много подписчиков.
– Ой, наша звезда, сюси-пуси! – верещит Мормыш. – Ой, наша фотомодель, у неё подписчики! – И тут же, без паузы, другим тоном: – Пришлю, конечно.
– Надо ж так челюстями работать, – задирает Лысиха свои еле заметные брови под рваную чёлку. – Жвачное.
– А ты жуй-жуй! – регочет Бабуся. – Песня такая раньше была. Старинная. А ты жуй-жуй!
– И мне тоже ссылку, – поднимает глаза от телефона Верникова.
Ссылку. На запись, как я жую. А как я жую? Да нормально. Все, если всмотреться и вдуматься, жуют немного смешно. Но эти ржут именно надо мной. А вскоре ржать будут не только они, но и подписчики красотки Исхаковой, и друзья Верниковой, и вообще.
– И мне ссылку, – безмятежно улыбается Иванова.
Анжела Иванова, большая кудрявая отличница. Весь первый класс она сидела у Шуры за спиной, и Шура при каждом удобном случае оборачивалась к ней, чтобы похихикать. С Анжелой можно было меняться карандашами, конфетами и весёлыми призовыми ластиками из супермаркетов. Как-то поздней весной – это был уже второй класс – они после школы вместе пускали по лужам плотики из листьев подорожника, а потом придумали сажать на них божьих коровок. Коровки неспешно разгуливали по зелёным плотикам, раскладывали напополам коробочные лакированные спинки, высвобождая мятые, нежные, полупрозрачные крылышки, но почему-то не улетали. «Они думают, что по морю плавают», – сказала Анжела. И Шура вспомнила старую бабушкину песню – «Славное море, священный Байкал», и они вместе пели её, и Анжела называла коровок омулёвыми бочками. «Эй ты, омулёвая бочка, – говорила она ласково, подпихивая коровку прутиком к земле. – Слезай давай, приехала уже».
Шура, глядя в пустоту прямо перед собой, молча перемалывает во рту мягкую капусту. В такт жеванию Шура проговаривает про себя несложную самодельную мантру – по слогам. Один жевок – один слог.
ОТ
ВА
ЛИ
ТЕ
ОТ
МЕ
НЯ
И – пустой слог, пауза. Всего получается восемь слогов. Восемь четвертных нот. Два такта по четыре четверти.
Шура знает, что если мантру повторять раз за разом, то она сработает.
И мантра срабатывает, как всегда. Они от неё отстают. Верникова снова утыкается в телефон. Мелкая Мормыш закидывает в себя капусту (и жуёт, и над ней не ржут). Бабий поправляет солнечные волосы, что-то говорит Ивановой, та мудро кивает. И всё как будто нормально. Все как будто нормальные.
Шура втыкает вилку в сосиску, откусывает сморщившийся сосисочный краешек.
– Вкусная писька? Грачёва ест письку! Грачёва, эй ты! Вкусная писька?
Это от другого стола, где мальчишки, подскакивает Сёмин.
– Очень смешно, – говорит тяжёлая Иванова.
– Сёмин, а тебя что-нибудь выше пояса интересует? – учительским голосом спрашивает Бабий. По её волосам неспешно перекатываются рыжие солнечные зайчики.
Мормыш давится капустой, хихикает, выплёвывает непрожёванное на тарелку (и никто над ней не ржёт).
– Шкафура – каннибал, – выхихикивает она. – У кого оторвала, Шкафура?
– Лучше нам не знать, – качает головой Лысиха.
– Это тоже нужно заснять, – командует Исхакова.
В ушах у Шуры начинает звенеть. Она отчаянно откусывает от сосиски ещё кусок. Всплеск звона. Она кладёт сосиску на тарелку, вынимает из неё вилку, вилкой отламывает от сосиски кусок. Ещё один всплеск. Она кладёт вилку рядом с тарелкой. Снова звенит, взрывается в голове, плещется вокруг макушки оглушительный хохот.
Сёмин, Егор Сёмин. Они с Костичкиным Васей появились в их классе в начале этого учебного года – поселились в новостройке и перевелись из других школ. И один был, в общем-то, Костичкин и Костичкин, ничего особенного, а другой – такой, что… ух. Он был немножко похож на героя фильма, который любила пересматривать Шурина сестра: типа вампир, но хороший. И ещё был похож на Шуриного темноволосого куклёнка, в которого Шура, конечно, уже не играла, но хранила в потайной коробочке в письменном столе и иногда доставала – просто так. И ещё был похож на анимешного персонажа с глазищами. В общем, Шура так на него и вытаращилась. А он посмотрел в ответ и улыбнулся. И потом они иногда переглядывались на уроках, и он удивительно хорошо улыбался. А то, что он, Сёмин, время от времени кидался на уроках жёваными бумажками, выкрикивал тупые шутки и мычал у доски какую-то ерундень – он же всё-таки мальчишка, им положено. А то засмеют, как Масолкина. Подобное только Чердаку с Сенковским прощается, на то они и Чердак с Сенковским.
Потом, когда всё началось, Сёмин, видимо, решил, что Шура – не та, с кем в этом классе имеет смысл обмениваться улыбками. И стал улыбаться Исхаковой. Но был ещё один раз, зимой, под Новый год, когда Шура шла по голубеющему сумеречному снегу в свою студию. Её несильно ударило в спину, и она обернулась. И увидела Сёмина с Костичкиным. И Костичкин, слепив из своего круглого лица зверскую морду, сосредоточенно похлопывал варежкой свеженький тёмно-белый снежок, а Сёмин – тот смотрел прямо на Шуру и улыбался так, что Шуре захотелось сощуриться, словно от солнечного света.
– Отвернись, Грачёва, а то в лицо попадём! – крикнул Сёмин. И замахнулся.
И Шура молча отвернулась, и пошла вперёд, как будто ничего не происходило, и мимо неё пролетел снежок. «Это он бросил», – подумала Шура. И ещё тут же подумала: «Это он нарочно промазал». И ещё: «Он сказал – “Грачёва”, а не как обычно». Грачёвой её в школе не называли вот уже два месяца.
Шура шла по синей тропинке и улыбалась.
Шура старается не смотреть на остаток сосиски. Пытается заново начать мантру про «отвалите», но не выходит. На мантру нужны силы. А у Шуры они, кажется, все вышли. Вытекли через глаза, через уши, через поры. Шура обессиленная, Шура пустая. Шуры нет.
По-хорошему надо встать, оставив сосиску на тарелке (всё равно доесть уже не получится), и отправиться в класс. Пройти по школьному коридору без вот этого вот привычного уже вонючего шлейфа в виде милых одноклассников и их внимания. Но Шуре никак не встаётся. Под низкое ржание Бабуси, под гаденький щебет Мормыш, под снисходительные замечания Бабий и Ивановой Шура сидит за столом, и молчит, и смотрит, смотрит в воздушную точку, пока точка не начинает плавать и подмигивать.
В Шурино плечо стукает тяжёлым и мокрым. Огрызок яблока. Шура вздрагивает, оглядывается. Из-за мальчишеского стола на неё весело и нагло таращится Абдулычев.
– Подними и покушай, – тоненько тянет Мормыш. – Раз угощают.
На рукаве у Шуры расцветает мокрая клякса. Шура бессмысленно трёт её пальцами. Клякса становится бледнее, но больше.
– Ты что, на огрызок нарочно плевал, Абдулычев? – кричит Лысиха.
– Ага, – скалится Абдулычев.
Девчачий стол вразнобой тянет многоголосое «фу-у-у».
– Кто до Шкафуры дотронется, в того Абдулычев плюнул! – вопит Мормыш, перекрывая фуканье. – Шкафура – параша!
В класс Шура идёт, заключённая в невидимый пузырь. У пузыря прозрачные, но вполне отчётливые границы. Никто не смеет эти границы нарушить. Кому охота запачкаться.
Кирилл Абдулычев, Кир. Белокожий, белобрысый, писклявый. Весь третий класс Шура сидела с ним за одной партой. И в общем-то, если честно, он был так себе сосед – то толкался под столом ногами, то выпрашивал откусить яблоко и откусывал чуть ли не половину, то, изогнувшись немыслимым кренделем, совал нос в её, Шурину, тетрадь. Но всё это можно было ему простить за уроки пения.
В третьем классе были ещё уроки пения, а не вот эта непонятная душная музыка – «Открываем тетради, записываем годы жизни композитора». На уроки пения нужно было ходить в актовый зал и там рассаживаться кто где хочет. Но Кир почему-то садился рядом с Шурой. И каждый раз они на ходу придумывали смешные вариации надоевших до оскомины песен, и пели своё, и переглядывались, и смеялись, когда ТатьянПетровна отворачивалась. Пел Абдулычев звонко и чистенько, голоса у них с Шурой красиво сливались. «Снова мак расцветает на клёне!» – выводили они в унисон вместо «Снова май расцветает зелёный». «Унитаз водяной, дверь вонючая!» – это в песне про Зиму, которая солила снежки в избушке. И ещё: «Сапоги, сапоги, едут, едут по Берлину наши сапоги!»
Как же было здорово. Как здорово.
В классе холодно – только что проветрили. Шура садится за свою четвёртую парту, которая не у окна, а у стенки. Рядом плюхается лохматая Курушина, достаёт тетрадь с учебником, пенал, грохает всё это на столешницу. И учебник, и тетрадь, и пенал, и даже ручки с карандашами у Курушиной какие-то лохматые. И края рукавов у неё лохматые. И из косы торчат волоски, и ещё такие крендельки из волосков. Девчонки говорят, Курушина заплетает косу раз в неделю. И это похоже на правду, потому что в понедельник Курушина приходит в класс почти как нормальная, из косы ничего не торчит. Но сегодня четверг, и коса у Курушиной – как старая мочалка.
Курушина молча берёт одну из своих лохматых ручек и обновляет полоску посредине парты. Она нарисовала эту полоску после Дня учителя, когда Шуру, с которой все отказались сидеть, пересадили к ней от Исхаковой. С Курушиной тоже никто не хотел сидеть, и она была одна за партой. Шуре Курушина не обрадовалась. Весь их первый соседский урок – биологию – она, сдвинув брови к переносице, рисовала ручкой полоску, разделяющую четвёртую парту пополам. Рисовала, закрашивала, подравнивала. А на перемене сказала, тыча в черту шершавеньким пальцем, глядя на эту черту, а не на Шуру: «Чтобы сидела на своей половине, поняла. Сиди на своей половине, ко мне не лезь. Поняла, да».
Шура сказала ей, что и так не собиралась никуда лезть. Курушина не ответила.
Курушина Настя. В прошлом году, в пятом классе, ставили «Золушку», и Шура была доброй феей, а Курушину назначили королевой. И все тогда смеялись: королева у нас будет из помойки! Тем более что королём был Масолкин. Масолкин очень не хотел быть королём, но его заставили. На репетициях он всё время как будто собирался сам себе засунуть голову в подмышку. Курушина сидела рядом с ним, мрачная и нахохлившаяся, как зимний воробей. А на само представление пришла такая, что все ахнули, и даже Исхакова сказала изумлённо: «Ну ты, Курушина, вообще!» – и даже Масолкин уставился на Курушину так, будто с неба сошла луна и рядом с ним села. На Курушиной было длинное тёмно-красное платье со шнуровкой на поясе и низким узким вырезом, и все, конечно, заметили, что у мешковатой Курушиной есть на самом деле талия, а кожа на шее и груди нежная, как мороженое. Волосы у неё были гладко причёсаны и уложены в такую сетку, прозрачную, а наверху к волосам заколками-невидимками крепилась маленькая корона из золотой фольги. И все стали спрашивать Курушину, кто её так причесал, а она, засмущавшись, ответила: тётя. И это было понятно, что тётя, а не мама, потому что мама у Курушиной, это все знали, никогда не бывает трезвой, а папы у Курушиной вообще никакого нет. И Шуре так захотелось сделать Курушиной приятное, и она подошла к ней в своём волшебно-звёздном платье и сказала: «Настя, ты сегодня настоящая королева, такая красивая». И Настя ей гордо, по-королевски улыбнулась.
Шура достаёт учебник со вложенной в него тетрадью, кладёт на свою половину парты, подальше от курушинской черты. Сейчас будет русский, но учительницы пока нет.
– Кому с доски вытирать? – орёт Мормыш.
– Ну дежурная-то я, положим, – это Исхакова.
– Ну и поторопилась бы, – советует ей Лысиха. – Звонок вот-вот уже.
Исхакова, хищно улыбаясь, направляется своим танцующим шагом к доске. Берёт тряпку, мочит в раковине под краном, комкает, выжимая, – и вдруг, развернувшись чёрной пантерой, швыряет этот мокрый серый комок прямо на четвёртую парту, которая не у окна, а у стенки. Прямо в Шуру, прямо в Шурину грудь. Тряпка вяло отскакивает, шмякается на парту. Тряпка пахнет подвалом, червяками, смертью.
– А сейчас одна тряпка возьмёт другую и вытрет с доски, – командует Исхакова.
– Я не пойду, – бурчит Курушина.
– Кто тебя просит-то, Курушина? – удивляется Исхакова. – Сиди себе, посиживай. А тряпка пусть поторопится.
Шура смотрит, как по её груди расплывается серое тряпочное пятно. Сговорились они сегодня, что ли, кидаться? Шура вдыхает тряпочный запах.
– Шкафуре помочь, что ли, я не поняла? – гудит Бабуся.
– Её ж трогать нельзя, она – параша, – напоминает Абдулычев. – Я зачморил, а Мормыш объявила.
– Мормыш! – командует Исхакова.
– Чур-чур не считается, всё отменяется! – орёт Мормыш.
– Давай, Бабусь, – разрешает Исхакова.
«Меняздесьнет, меняздесьнет, меняздесьнет!» – быстро-быстро проговаривает про себя Шура, вцепившись в край парты. Но поздно, надо было раньше. Так просто теперь не исчезнуть.
Её выволакивают из-за парты, тащат к доске. За одно плечо тащит Бабуся, за другое – Исхакова. Шура молча упирается.
– Шевелись, ты, Шкаф, – басит Бабуся.
Кто-то пинает Шуру ниже спины. Шура оглядывается.
Это Верникова. Тощая Верникова с кошачьими глазами, большими коленками, обкусанными ногтями.
– Шкаф с ножками, – радостно шипит Верникова. – Шкаф ходит-ходит.
Шуру волокут к доске. Верникова хихикает.
Карина Верникова, соседка. Шура – из третьего подъезда, Карина – из второго. Родились с разницей в один день. Этим летом каждое утро ходили друг к дружке в гости: один день – к Карине, другой – к Шуре. Играли в принцесс, раскрашивались аквагримом. Рубились в видеоигры, рисовали комиксы про Соника и покемонов. Бегали и прятались от Карининого брата, Максика. А давно, когда обе были совсем маленькие, мама Карины разрешала им немножко повозить коляску с Максиком, таким крошечным, что коляска была ему как большая кровать. Карина, которая терпеливо учила Шуру отбивать мяч по-волейбольному, когда их на физре поставили в пару; под конец у Шуры получалось почти хорошо. Карина, которая в это воскресенье должна прийти к Шуре в гости вместе с родителями и Максиком.
– Тряпку! – командует Исхакова.
– Хватит, может? – равнодушно спрашивает Бабий.
Мормыш в три прыжка подскакивает к шурино-курушинской парте, подхватывает с неё тряпку, швыряет в Шуру. Тряпка повисает дохлой серой птицей на Шурином лице. Шура трясёт головой, тряпка падает.
– А ну подняла, – беззлобно рычит Бабуся.
Шура пытается вырваться.
– Так, а это что ещё за безобразие?
Анита Владимировна в дверном проёме – как памятник самой себе.
Исхакова с Бабусей одновременно отпускают Шуру.
– Мы просто хотели, чтобы она умылась, – невинным, совсем не командным голоском объясняет Исхакова. – А то Настя с ней сидеть боится.
Анита Владимировна сверкает очками на Курушину, потом на Шуру.
– Методы у вас, конечно, странные, – чеканит она. – Но ты, Грачёва, ты почему ходишь по школе в таком виде? Ты же всё-таки девочка. Давай-ка умойся.
И тут звенит звонок.
– Быстрее, – говорит Анита Владимировна. – И по местам все, по местам. У нас новая тема. Кто дежурный, почему доска грязная?
Исхакова молча поднимает тряпку, возит по доске. Шура идёт к раковине, кладёт руку на её край. Из надраковинного зеркала на неё смотрит мокрое тряпочное лицо. Под лицом, на кофточке, большое тряпочное пятно. На рукаве – пятно маленькое, яблочно-слюнявое.
Анита Владимировна говорит про наречие – неизменяемую часть речи, которая.
А они все сидят и пишут в тетрадках, как будто никто никуда Шуру не тащил, не швырялся в Шуру тряпкой. Как будто Шуры нет.
Пишет Эля Исхакова, красивая троечница с резким хищным профилем, которой Шура когда-то исправляла в домашке ошибки. Пишет Лысиха, Алиса Лысых, главная спортсменка класса, однажды заступившаяся на физре за Шуру – мол, ну и что, что медленно бегает, не всем же бегать быстро. Пишет Бабуся – Катя Савина, грубоватая, но на самом деле добрая, Шура точно знает, что добрая. Пишет солнечная Бабий – честная Яна Бабий, неделю назад заявившая Шуре, что вообще-то за неё и будет с ней разговаривать, но только когда никто не видит. «Ты не говори никому, пожалуйста, меня не поймут».
Пишет язвительный Олег Сенковский, олимпиадник, одиночка, дружащий с Масолкиным, потому что больше не с кем. Пишет рядом с ним Масолкин Матвей, длинный, большерукий, бестолковый, тихий. Пишет вспыльчивый Артем Егоров, единственный, кто пытался Шуру защищать, когда всё началось. Пишет маленький Миша Чердак – тогда, перед «Золушкой», он помог Шуре донести на четвёртый этаж пакет с костюмом доброй феи.
И пишет он, Ненашев, бывший друг, а теперь никто. Хуже, чем никто.
Почему по отдельности все они, в общем-то, нормальные, а собравшись вместе, превращаются в злобное, многоротое, многоликое, многорукое и многоногое зубатое чудовище? В коллективную жестокую гадину. В живое пыточное устройство.
Шура плещет в лицо холодной водой. Шура держится двумя руками за край раковины.
Шура закрывает глаза и уходит отсюда.
Шуры нет.
Печальная ведьма
Всё началось после того Дня учителя.
На самом деле нет. Всё началось после тех репетиций. После той песни, в которую Шура влюбилась. Учебный год только начался, а вместе с ним – занятия в эстрадной студии «Вагант», в центре детского творчества. Шура бегала туда со второго класса.
Вообще-то тогда, во втором классе, студия «Вагант» ещё была Шуре не по возрасту, и, когда бабушка привела Шуру записываться, тётка, по-царски восседающая в холле за письменным столом, только трясла на Шуру с бабушкой выцветшим старомодным начёсом, нависающим над сухим морщинистым лбом, и однообразно скрипела: «С десяти лет. Рано. Приходите через два года». Но тут в холле возник вихрь, а в вихре появилась она – пылающая, острая, быстрая, тонкая и чудесная, погромыхивающая обильными деревянными бусами, звенящая серьгами, и заявила на весь холл, что вот эту девочку она бы послушала, и царская тётка, ворча и бурча, ей подчинилась. Пылающую звали Нона Петросовна. Она повела Шуру и бабушку по коридорам и наверх. Ну как повела – просто пошла впереди, чеканя шаг, как диковинный гвардеец, который зачем-то надел юбку и каблуки, а Шура и бабушка за ней побежали. Нона Петросовна будто и не торопилась, но получалось так стремительно, что за ней приходилось бежать. Она привела их в какой-то кабинетик, где было пианино, и повелела Шуре петь, и слушала от каждой песни всего по куплету. Потом Шура повторяла за Ноной Петросовной смешные маленькие недопесни и даже отдельные звуки, отстукивала какие-то ритмы, и, отвернувшись, угадывала, что за клавиши та нажимает на пианино, и всё угадала. И тогда Нона Петросовна сказала, что Шура может приходить к ней в «Вагант» на занятия уже завтра, но пусть она, Шура, усвоит, что на этих занятиях придётся работать, работать и работать. «У меня всё всерьёз, – это Нона Петросовна сказала уже Шуриной бабушке. – Многие со мной не соглашаются, но я стараюсь детям давать знания по максимуму».
Максимум у Ноны Петросовны был необъятный. На Шуриных глазах в эстрадную студию приходили те, кто не удержался в музыкальной школе и решил «просто попеть»; через два-три занятия такие обычно говорили «ну на фиг» и уходили «из этого дурдома». У Ноны Петросовны «просто попеть» было нельзя. Она терзала своих вагантов нотной грамотой, изнуряла вокальным мастерством, учила играть на гитаре акустической и гитаре электронной, сажала за фортепиано, рассказывала биографии композиторов, давала слушать классику и взрывалась бешеным гейзером, если кто-то путал Бетховена с Брамсом. Декламировала ученикам стихи. Водила на концерты музыкантов, заезжавших из больших городов в их маленький Дом культуры. Возила на электричке в картинную галерею и проводила там пламенные экскурсии. Казалось, она знает и умеет вообще всё – и намерена впихивать эти знания и умения в своих студийцев, пока те не лопнут.
«Делает из нас возрожденческих возрожденцев», – шутил Денис Хайруллин, студийный саксофонист.
Много кто бежал от Ноны Петросовны. Либо в никуда, либо в «Лучики» – кружок пения всё в том же центре детского творчества. «Лучики» вела вялая ЮльБорисовна. «Лучики» были как раз для «просто попеть». Пели, правда, в «Лучиках» такие песни, про которые Шурина бабушка после одного отчётного концерта сказала вполголоса Шуриной маме, что они у неё вот уже пятьдесят лет как сидят в печёнках. Нона Петросовна в своём «Ваганте» песен из бабушкиных печёнок не признавала. Те, кто от неё не убежал, устраивали на сцене, как она сама выражалась, адский напалм.
Те, кто от неё не убежал, её обожали. И Шура тоже.
Учебный год тогда только начался, но план выступлений «Ваганта» на ближайшее время у Ноны Петросовны был уже готов. Первое – в День города – на сцене парка культуры и отдыха, благо будет ещё тепло. Потом – на День учителя – здесь, в центре детского творчества. И самое прикольное – в художественной школе, на Хеллоуин.
– С этими, из художки, уже договорилась! – звенела Нона Петросовна, аккомпанируя себе кольчатыми браслетами. – У них как раз будет выставка тематических рисунков. И тут мы как придём, как выступим! Заодно все и перезнакомимся.
– А разве Хеллоуин – не бесовский праздник? – неловко спросила клавишница Алёна Голованова. – У нас в гимназии говорили…
– Ерунду у вас в гимназии говорили! – вскинулась Нона Петросовна. – Чем им там, в вашей школе, не угодил канун Дня Всех Святых? Кельты им не нравятся? Чужие культуры? «Бесовский»! Это всё, – Нона Петросовна вскинула в потолок окольцованный серебром палец, – от недостатка знаний и от ксенофобии. Свои Святки вон праздновать не умеют, так и чужой Хеллоуин не хотят. Кстати, Святки! Вот уж хоррор так хоррор. Давайте и на Святки где-нибудь выступим! Я договорюсь.
– Какие Святки? – азартно спросил гитарист Владик Ненашев. – При чём тут хоррор?
– О боги, о земля! – вскричала Нона Петросовна. – И это мои дети! Чужое веселье вам, значит, ругают, а о своём не рассказывают? Так, чтобы через неделю все мне перечитали Гоголя, «Ночь перед Рождеством». Буду спрашивать.
«Ночь перед Рождеством» Шура помнила плохо: вроде какая-то занудная сказка. Начала перечитывать – и проглотила за два вечера. Две ночи ей снились летающие вареники в сметане, летающие кузнецы на чертях и развесёлые толпы колядующих. В выходные они с бабушкой посмотрели старый-престарый фильм, в котором Оксана была какая-то глупая, а кузнец Вакула щеголял с дурацкой стрижкой, но зато так здорово пели, что Шура четыре раза перематывала назад сцену с колядованием, пока бабушка не взбунтовалась и не потребовала смотреть нормально дальше.
Шура поклялась самой себе, что убедит Нону Петросовну выучить к Святкам именно эту колядку, из фильма, – можно же её достать, есть ведь она где-то, такая волшебная. Но оказалось, что, во-первых, в бесчисленных пухлых папках у Ноны Петросовны этих самых колядок – завались, и одна другой красочнее и чудеснее. А во-вторых…
– Я для Хеллоуина сочинила стихи, – как бы извиняясь, сказала вокалистка Аня Туманова. Она всегда так говорила – будто просила прощения. – Нона Петросовна, может, я их на выступлении прочитаю?
Шура так и вытаращилась на Аню, и все вытаращились.
– Показывай, – велела Нона Петросовна. – Интересно.
Шура ожидала от этих стихов чего-то жуткого и страшного, про монстров и горящие тыквы. Или чего-то ржачного – про тех же монстров с тыквами. А стихи, которые, глядя в бумажку, прочитала Аня, были тихие, как сама Аня, немножко непонятные, как почти все стихи, и, если честно, не очень хеллоуинские. И всё равно такие… вообще умереть, вот какие.
– Ну… – сказала Нона Петросовна.
– Не годится? – жалобно спросила Аня.
– Прикольненько так, – неуверенно выдал Ненашев.
– Как бы тебе сказать, Аня… – неопределённо протянула Нона Петросовна.
– А можно? – Шура протянула руку за Аниной бумажкой. – Пожалуйста.
И взяла бумажку, и стала жадно читать строки, а потом неожиданно для себя запела их, и спела две строки, и замолчала.
Все как-то сразу замерли.
– А вот это уже… – тихо сказала Нона Петросовна. И тут же: – А ну давай дальше.
И Шура пела дальше, и Владик Ненашев подбирал на гитаре аккомпанемент, сначала простенький, потом замысловатый, и Макс Красносельский ему подыгрывал, и Васька Пульман тоже подключилась со своей басухой, и Ник Зубаткин отбивал что-то лихое на ударных, а под конец Денис Хайруллин, их студийная звезда, сбежавший из музыкалки саксофонист, выдал такое соло, что Аня восхищённо ахнула и хлопнула в ладоши, как детсадовская крошечка на утреннике.
И Нона Петросовна велела повторить всё ещё раз, и показала Алёне Головановой, как можно подыграть на фортепиано, а потом выудила из очередной пухлой папки чистые нотные листы и посадила Шуру с Аней записывать мелодию, и объясняла, как разложить её на два голоса. И Шуре, конечно же, велено было учить именно второй голос, а Ане – первый, и Шуре было совсем, почти совсем не обидно, потому что нижний голос – это фундамент, и его петь сложнее, и такое не каждому доверят, и вообще, но верхний голос она на всякий случай тоже запомнила. И слова тоже запомнила, но всё-таки переписала на листочек, и, когда шла, счастливая, домой, пела – то про себя, то почти что вслух – именно первую партию. Пела и прямо вот всем телом, и даже чем-то таким вокруг тела чувствовала, как влюбляется в эту новую песню.
Дома песню не то чтобы не одобрили – скорее были озадачены.
– Это что же за слова такие? – хмурясь, спросила мама. – Это теперь во дворцах пионеров такое учат?
– Нет, мама, в каких дворцах, это у нас в «Ваганте», – терпеливо разъясняла Шура, вытягивая из маминых пальцев листок с Аниными стихами. – Это мы выступим на Хеллоуин, я буду петь второй голос, а Аня – первый. Это Аня сочинила стихи, а музыка моя.
– Сопли какие-то розовые, – резюмировала сестра Лера, красавица, вредина и первокурсница.
– Петь, значит, будете, – уточнил папа.
– Ну мы с Аней будем петь, а остальные – играть и подпевать.
– Что ж, – сказал папа. – В пенье сноснее вздор.
– Рифмы банальные, образы неинтересные, – скучным голосом сказала бабушка. – И что это за котлы с кипящей медью? У неё металл плавится в котлах? Она ведьма-кузнец? И любовь там лишняя.
Шура была согласна с бабушкой, что любовь в этих Аниных стихах лишняя и без неё вполне можно бы обойтись. С другой стороны, Аню можно было понять – всё-таки пятнадцать лет, ей уже положено думать о таких, почти-взрослых, глупостях. С третьей стороны, любовь придавала стихам ещё больше загадочности.
– А мелодию ты же сама сочинила, правда? – спросила мама. – Споёшь?
Шура вынула из чехла гитару, уселась на табуретку и спела, аккомпанируя себе по минимуму, безо всяких ненашевских выкрутасов. Первый голос, конечно. Взрослые помолчали.
– А что, молоток, – сказал папа. – Душевно.
– Да, ничего так, – удивилась сестра Лера. – Сойдёт для сельской местности.
– Шурка, а я и не знала, что ты так петь умеешь, – сказала мама, как будто ни разу не была на Шуриных студийских выступлениях и ей не хлопала.
Но самая главная похвала Шуре досталась от бабушки.
– А знаешь, – сказала бабушка. – Это ведь настоящая музыка.
«Настоящая музыка, – звенело, шептало, шелестело в голове у Шуры во время репетиций. – Это настоящая музыка. Моя музыка». И Шура напитывалась от этих слов важным и тёплым. Становилась значительной и тоже настоящей. Проходя по центровскому коридору, Шура слышала, как репетируют «Лучики» своё бесконечное ежегодное «Наши руки не для скуки, для любви сердца» – и победно улыбалась: давайте-давайте, пойте, всё равно на концерте в честь Дня города вы выйдете на сцену в самом начале, на разогрев, потому что, если вас выпустить в середине, все разбегутся раньше времени. А под конец, на десерт, на сцену пригласят нас.
На День города, конечно, никакую хеллоуинскую песню ваганты не исполняли – во-первых, потому, что не успели как следует выучить, а во-вторых, она сюда ну никак не подходила. Впрочем, та вещь, которую они исполнили, не подходила ещё больше. Не подходила она вообще никуда – из-за своей, как говорил саксофонист Хайруллин, невыносимой прекрасности.
Это был «Мельник и ручей» Шуберта в рок-обработке.
Шура знала, что обработку делал взрослый сын Ноны Петросовны, который настоящий музыкант, композитор и живёт теперь в Германии. Шура знала, что эту версию Шуберта никто до их «Ваганта» не исполнял. Ещё Шура знала, что директор их центра был очень даже против исполнения этой композиции на празднике, да и вообще где бы то ни было.
Директор ознакомился с «Мельником» ещё в мае – студийцы только-только закончили его разучивать. Вагантиков в тот раз даже не гоняли в концертный зал – директор самолично явился в студию, улыбался, велел не стесняться, уселся у стены, лихо закинул ногу на ногу, послушал немного, как студийцы с Ноной Петросовной повторяют старое, а потом, блеснув лысиной из-под трёх застенчиво прикрывающих её прядок, попросил: «А ну-ка гряньте, братцы, плясовую, что-нибудь новенькое и зажигательное».
И Нона Петросовна энергично кивнула, и Денис Хайруллин отложил саксофон – в «Мельнике» он выступал как вокалист, и Шура с Аней заняли рядом с ним свои места бэк-вокалисток. И было роскошное соло Ненашева на электрогитаре, и нежные клавишные волны Алёны, и деликатные ударные Ника Зубаткина, и было всё, как казалось Шуре, очень хорошо, – но когда они закончили, директор замер, как восковая фигура, на своём стуле, а потом спросил:
– Это что?
– Это рок-баллада! – выкрикнул радостно Макс Красносельский и описал гитарным грифом восьмёрку.
– Вы бы ещё рэп прочли, – бесцветным голосом сказал директор. – Вместо Шуберта.
– Иван Арнольдович, – сказала Нона Петросовна.
– Нона Петросовна, – сказал Иван Арнольдович. – Ко мне загляните, когда времечко найдётся.
И он ушёл, и Нона Петросовна велела всем быстренько повторять «Гаудеамус», а сама учеканила каблуками по коридору. И Красносельский, выждав, пока затихнет каблучный шаг, выскочил за дверь и куда-то ускакал, и минут через десять вернулся в студию, где, конечно, никто не повторял «Гаудеамус». «Ну что-что, – бросил Макс, усаживаясь на стол Ноны Петросовны. – Орал, почему мы уродуем классику. И почему мы поём по-немецки. И чтобы он больше этого не слышал. Блин, учили этот чёртов текст, учили!» И Шуре стало немножко жалко Макса: он сам мечтал солировать в «Мельнике», как Хайруллин, и запоминал наизусть диковинные немецкие слова, и слушал на ютубе специальные ролики, чтобы поставить произношение, но поломавшийся голос у него всё никак окончательно не установится, скачет от сиплых верхов к неизведанным низам, а Хайруллин уже поёт как взрослый.
