Пятое разделение бесплатное чтение
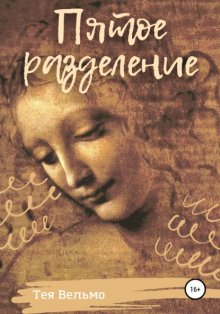
Пролог
Тупик-Главный гордится своей пылью, ямами и серой архитектурой. Где-то в его окрестностях расположился Малый Заиндень – поселок, в котором Университет, кварталы мастеров и племя Игры притягивают к себе тех, кто готов искать и создавать во Времени и Пространстве. Однажды обнаруживается, что в кодах Игры начали пропадать целые куски данных о Прошлом, что приводит к разрушению Настоящего и Будущего. Прожорливая Моль выгрызает огромные дыры в ткани Жизни, но главное, что она истончает основную связующую людей нить – доверие. Сила изменений в Игре приводит к тому, что и в реальном мире начинаются разрушения, а пыльца моли, смешиваясь с пылью Тупика покрывает все большее пространство. Ткань времени рвется, в мир приходит Пятое Разделение, нарушающее баланс извечных четырех разделенностей года и стремительно превращающее мир в пыль и прах, ведущее все в тупик, где уже не будет выбора между добром и злом, а будет вечная предопределенность. Мастера, ученые, Фрау Фауст, Учитель, вождь племени Игры Юрге, хозяин постоялого двора Борода, молочник Тевье, предводитель Армады Белого Паруса Рагнар, собирательница обид Клавдия, писатель Митрий и художник Микель, создающие Текст жизни, Ангел и Демон, безлетная старуха Савросья и Лешуня – обитатели Заинденя, которые решаются придумать Будущее, ради которого будет смысл существования Прошлого и Настоящего, восстановить ткань времен. Но даже их волшебных сил может не хватить. И Заиндень зовет на помощь Леонардо…
Герои
Борода – хозяин Постоялого двора у дороги. Перед Постоялым двором – Торжок и остановка транспорта из Тупика и Большого Заинденя в неведомые дали. Ему хорошо за 60.
Патрик – смотритель Яблоневого сада с воротами, перед которым стоит Чаша Сия.
Клавдия – женщина, замечающая все несовершенства мира. Пожила.
Огородницы – три подруги: Тетушка Кабачок, Тыковка и Топинамбур, занятые земными заботами. Основательны и непоколебимы, оптимистичны несмотря ни на что. Возраст – почти пенсионный. Или пенсионный.
Василий – бывший сановник. До сих пор знает, как управлять людьми, но совершенно не знает, как управлять процессами. Дружит с огородницами.
Степановна – хлопотливая и сострадательная женщина без возраста.
Тевье и Таисья – молочник и его жена. У них взрослые дети, внуки и большое хозяйство. Варят вкусный сыр. Гостеприимны и щедры.
Марта и Мельник – мельник, как и было сказано, и его жена, которая печет хлебцы дня и прочую сдобу. Очень добры.
Кузнец – обычный немногословный герой-интроверт. Конечно, не юн.
Гончар – мастер, делает руны, обжигает горшки.
Плотник – необходимый мастер, скрепляет мир.
Три сестры – Елка, Ольга и Алена. Ткут нити и перерезают их. Живут на Горе. Празднуют Вальпургиеву ночь. Ведьмы.
Писатель Митрий – гений слова, видит текст жизни. Шумен, изобилен, снисходителен к простым смертным.
Художник Микель – гений цвета, видит образное и безобразное. Любит Ангела.
Ангел – прекрасная девушка, неосторожно полюбившая демона. Дарит сердечки и красивые подарки.
Демон – просто демон. Он должен быть. Его любит Ангел, видя в нем то, что было до падения.
Ректор – главный человек в университете. Умен и саркастичен. Управляет знаниями. Способен придумать 141 сценарий игры в будущее.
Рагнар – бывший полководец, брутален, прям и победоносен. Создал Школу Белого паруса. Мальчишка лет пятидесяти. Влюблен.
Татьяна Борисовна – женщина-математик, единственная, кто может разумно общаться со всеми. Следит за Миром, ведет записи времен.
Фрау Фауст – женщина средних лет, не переносящая скуку и постоянно развлекающая свой ум. Замужем неодолимо. Любит логические диалоги с Юрге.
Фаустов Муж – если он поверит в себя, то у него все получится. Но он предпочитает действовать.
Женщины прошлого и будущего – женщины, которые видят каждая свое, незаменимы в надеждах и воспоминаниях. В настоящем их нет.
Юрге и племя игры – молодой эстет. Парадоксален, гениален, обворожителен. Создает коды и наслаждается гармонией. Эгоистичен, а потому не терпит несправедливости и непредсказуемости. Руководит племенем, которое в цифровой реальности видит единственную реальность.
Учитель и Александра Андреевна – прекрасная пара, ежедневно врачуюшая мир и открывающая ему новые горизонты. Детей – много.
Савросья – безлетная старуха, причина и исток.
Лешуня – весьма ехиден и бурлив. Знает все, но предпочитает не помнить. Вечный спутник Савросьи.
Сводьи – небесные шаловливые жилички, создающие мнения и иллюзии.
Зеленые эльфы – незримая охрана Бора
Боевые эльфы Ордена Крапивы и Лопуха – дружина Заинденя.
Друиды – хранители омел и тайн, старцы, любящие уединение. Живут за рямом.
Алхимики – ненаучные руководители всяких гипотез.
Растрепа – мать младенца. Любит Заиндень. Придумывает людей.
Леонардо – лукавая надежа и опора. Перепридумывает все, что занимает его воображение. Создает будущее. Всеми возможными способами. Необходим. Несущ.
Глава 1. Во времени и пространстве
Этим утром Малый Заиндень был особенно тщательно прорисован: голые ветви, уже набравшие зелень в коре, но еще не брызнувшие листвою с ее клейкой горечью, чертили на голубом небе карты судеб. Над некоторыми линиями пролетали птицы, за другие по пути на солнечные кухоньки цеплялись краем кружевного наскоро наброшенного пледа растрепанные сводьи – капризные, кокетливые и взбалмошные небесные жилички, иногда занятые музыкой, рисованием и танцами, но все больше снующие без толку, сплетничая и обсуждая чепуховины. Ниже линий начинались явь, правь и навь, у каждого двора своя.
На границе моей земли правь слегка искривлялась и заходила боком к Савросье – безлетной старухе, которая жила в Заиндене вечно, а за Савросьиным пределом начинался уже Другой Бор. В Другой Бор, говорят, со стороны нам невидимой вела одна дорога, но с нашей стороны Бор вытекал на Заиндень сотней тропинок, назначение которых было неясно: никто по ним из Бора не выходил, а те, кто хотел зайти, мыкались, выбирая свою, да так и не выбрав, обещались прийти завтра, и обещание выполняли, но все напрасно – опять мыкались, выбирали, обещались. Впрочем, этих тропиночных было немного, в основном случайно прибывшие с какой-нибудь попуткой, в которой болтливый перевозчик рассказал им байку про то, что в Другом Бору можно найти путь обратно и все вернуть, чтоб стало, как было и больше не ошибиться выбором. Новые попутки приходили нечасто, а уехать в них из Заинденя было невозможно: отсюда уж никто не брал ни в ту, ни в другую сторону. Большинство из тропиночных вскоре махали рукой на свою забаву и начинали обосновываться в Заиндене, здесь и сейчас, раз уж все равно вернуть ничего нельзя и другого выхода нет. Но Заиндень принимал не всех, а лишь тех, кого не хватало, остальные уходили тропой в Заиндень Большой, бравший всех без разбору и уже скоро готовящийся стать то ли малым городом, то ли поселком городского типа, в общем, чем-то подростковым, с выпирающими во все стороны возможностями и неосознанной ответственностью. Большой Заиндень мечтал когда-нибудь стать настоящей столицей чего-нибудь, но, поскольку столица требовала оседлости и основательности, а тропиночные люди в большинстве своем все время были в пути, то Большой Заиндень был шумным и бестолковым перевалочным пунктом, в котором одни только приехали, а другие вот-вот уедут.
Большой Заиндень был неблизко и идти в него надо было с осмотрительностью, петляя и на семи перекрестках меняя направление, поскольку от главной дороги прямой путь давно перекопали и засеяли синим чертополохом, чтоб никто из Большого Заинденя сюда по своей воле не добрался. Что касается попуток, то ни одна из них в Большой Заиндень не шла, а сворачивали все на краю дальнего луга в сторону Того Бора и так, по-над бором, еще какое-то время то пылили, то пуржили и – пропадали с глаз.
Так и оставалось в Малом Заиндене дворов всего под сотню и постоялый двор на повороте дороги, у которого притормаживали попутки, перевозчики набирали себе пирогов с ягодой, бросали монетку в чашу фонтана, чтоб вернуться и уезжали. Чаша свою мытарскую работу выполняла исправно, за год собиралось достаточно, чтоб внести в казну Большого Заинденя плату за продление подписки в стратегическом проекте Дороги дОроги. Большой Заиндень когда-то добился в каких-то парламентских или кабинетных сражениях специальных полномочий на «дорожную карту концептуального планирования организации условий проектирования строительства дороги Тупик-Тупик». Дорогу гордо именовали Объездом, то Северным, то Южным, то Восточным, смотря в какую сторону в этот день глядел петушок мэра, Западного Объезда не было, с запада в Тупик заходила прямая стрела магистрали и безнадежно вязла. Эпохальные сражения за полномочия, выигранные Большим Заинденем были весьма похожи на кучу-малу, поскольку Тупик только и мечтал делегировать кому-нибудь все, что только возможно, оставляя себе только нерушимое право распределять деньги и ездить в Центральную Столицу с докладом о достижениях, которые, конечно, опережают уже все мировые, но для сохранения лидерства необходимо дополнительное финансирование. С истошным криком «это не наши полномочия!» главный юрист Тупика впихнула распоряжение о передаче ответственности Большому Заинденю, а Центральная Столица от Тупика отмахивалась, поскольку пока Тупик собирал свою докладную делегацию в Центральную Столицу, – шумно и со сварою, интригуя и пускаясь на подкупы, и был даже случай одного похищения, которое оказалось, конечно, не совсем похищением, просто загостился мужик то ли в рыбачьем домике, то ли у пасечницы, сейчас уж никто не помнит, но шуму было – он терял то план дороги, то деньги, то время.
Все были довольны распределением ролей, игра в дорогу продолжалась уже лет восемьдесят, и никто уже всерьез не думал о самой дороге, просто отправляли монетки в щель этого игрового автомата, чтобы игра продолжалась. Если бы Тупик отвлекся от этой игры, он бы вдруг мог придумать новую забаву, которая еще неизвестно чем бы обернулась, а так Тупик был занят, Большой Заиндень был уполномочен, а Малый оставался труднодоступным, а потому, слава богу, вспоминали о нем лишь во время планов и отчетов, которые Заиндень исправно высылал по запросу.
Так и получалось, что за предел известного мира известных дорог в Другой Бор ниоткуда не было, местные же в него ходили по одной тропинке, которая начиналась от нашего с Савросьей древа, а значит, попасть на нее можно было или от меня, или от Савросьи и никак иначе. Впрочем, правильней говорить, конечно, не «от меня», а от Лешуни, который пустил меня жить в свою избу прошлой осенью, когда я все бросив купила билет на поезд «куда хватит», а хватило как раз до станции Тупик-Главный, где я попыталась пожить, но не смогла полюбить местные достопримечательности, которые туристам хорошо, а живущему – смерть, на мой взгляд.
Тупик-Главный привлекал туристов со всего мира скучной и серой архитектурой с элементами аутентичной обшарпанности фасадов, ямами и провалами на дорогах, которые каждый сезон исправно подновляли, делая их еще более непредсказуемыми и коварными, чтоб не терялся азарт прохождения квестов у туристов, ну и знаменитым погружением в дополненную реальность «Пыль и Непыль», которое и приносило половину денег Тупику. Вторую половину приносили ямы, СТО и больницы, в которых приводили в порядок туристов после посещения ими ям или любимого адреналинщиками аттракциона обрушения фасадов, который стоил дорого, но, говорят, он того стоил. Стоимость медицинских услуг входила в стоимость тура. Тупик-Главный жил туризмом, жил неплохо, в нем даже были свои конструкторские бюро и научные лаборатории, инновационные центры и опытные заводы, которые специализировались на совершенствовании ям, пыли, снега и направленных самообрушений, были дизайнеры, коучи, сувенирщики, сказочники, рестораторы, уличные артисты, шла бойко торговля непритязательным, поддерживая тщательно оберегаемую аутентичность Тупика.
В общем, у меня случился, как любят сейчас говорить, культурный конфликт (вслед за экзистенциальным кризисом, заставившем меня бросить все) и я, опасаясь слишком глубокого погружения в зону комфорта Тупика, вышла из нее на трассу, какого-то нереального значения, остановила попутку, заплатила перевозчику монетку и оказалась в Малом Заиндене, где не было никаких квестов, аутентичности и экзистенции, а были правь, явь, навь, Савросья и тропинки в Другой Бор.
Оказалась я тут случайно, поскольку билет у меня был не до Заинденя, а до остановки «Конечная», но меня так увлекла чаша фонтана с надписью «Чаша Сия», что пока я рассматривала мозаичные летописи над слоями монеток и старалась угадать, а что там спрятано за деньгами, перевозчик мой уехал и я, откусив от пирожка и выпив из бутылька, отправилась искать «угол», набрела на Лешуню, который и поселил меня в дальней комнате своей избы, выходящей окнами на Савросьин двор и на Другой Бор, который просыпался этим утром как-то по особенному вычерчивая узоры карты судеб на голубом небе и наполнял воздух щебетом птиц и ожиданием близкого мая. Полгода я уже здесь. Или полкруга. Это смотря каким календарем мерять.
…
Лешуня, в общем-то, был мужик основательный. Изба его, в отличие от Савросьиной стояла не кособоко, а горделиво, задирая к небу островерхий конек светелки, на котором разместилась квадрига, управляемая Хорстом. Был там конь бел с единым рогом, конь-огонь искупанный, ой ты конь мой вороной с казаком и серый в яблоках Март. Квадрига неслась к краю крыши, а Хорст в повозке одной рукой прижимал к себе деву в венке с улыбкой то ли порочной, то ли стыдливой. Савросья все грозилась сковырнуть непотребство с крыши, но Лешуня кричал ей через забор, что уничтожение памятника культуры, во-первых, карается, а во-вторых, никакое уничтожение квадриги не сотрет в памяти народной жизнь Савросьи, которая и запечатлена в скульптурной композиции, охраняемой государством под номером в реестре. Савросья подбирала свои бессчетные юбки, показывая узкую щиколотку в тренировочных штанах, украшенную ажурным кружевом на самой границе с модной в этом сезоне крокс-галошей цвета баклажан и проделывала этой самой галошей движение «плюнуть и растереть», после чего гордо шествовала на свои хозяйственные задворки.
В Заиндене все знали, что ритуал этот Лешуня и Савросья проделывают четыре раза в году, в дни солнцеворотов и без этого не будет в Заиндене ни снега, ни урожая, ни ветра.
Светелка венчала третьим этажом Лешунин терем, который был расшит деревянным кружевом и домовой росписью. То же буйство ждало гостя и в горнице: Лешуня как-то специально выписал из заброшенных деревень русского севера сундуки, скамьи, дверцы и разместил их под беленым, украшенным цветами потолком. Предположить, что жил здесь мужик-бобыль было трудновато, особенно мешали этому кружевные скатерти и занавески. Но гостиная была обманкой, как и все очевидное в Лешунином пределе.
…
Утро это случилось за год до того, как в Большой Заиндень пришла Разделенность и стало понятно, что, собственно, этому миру всегда будут нужны только врачи, духовники и похоронных дел мастера, а то, вокруг чего крутились все мысли, все эти салоны работы над телом от фитнеса до цирюльни, все изысканные хлеба и удивляющие зрелища, весь транспорт и путешествия от нечего делать вдруг стали в Разделенности неважными, съежились, схлопнулись и обратились в воспоминания.
В этой Разделенности музейщики – бабы и мужики, шарящие по Большому Заинденю в поисках достойных артефактов прошлого – находили иногда неплохие экземпляры скукоженных, впавших в анабиоз спортзалов или кинозалов, кофеен, еще сохранивших запах в своей раковине, театров, сложившихся до размеров музыкальной табакерки, и утаскивали их себе в хранилища, чтобы рассматривать, описывать, сохранять до того дня, когда придет Время После, но время это не торопилось. Впрочем, у музейщиков работы было много и иногда казалось, что Разделенность не закончится, пока наконец все собранное не будет описано, обдумано, отсортировано для попадания в Будущее или на склад истории.
Будущего, по словам говорящих, не стало, и его надо было изобретать заново.
Но это все случится еще через год после того, как проснулась я в Лешуниной избе, выглянула в окно и посмотрела на сегодняшний Малый Заиндень, а Заиндень посмотрел на сегодняшнюю меня.
…
В Заиндене все было просто: было сегодня и всегда. Во Всегда были слиты воедино Прошлое и Будущее, которые иногда – в Дни Разделенности – отделяли друг от друга, но в основном времени они были едины и составляли то самое Всегда, которое и было временем Заинденя. Дней Разделенности в году было четыре, хотя когда-то (утверждал Лешуня) их было всего два, а после добавилась еще пара, и бытовало поверие, что, возможно, время дойдет, будет их шесть и восемь и даже более, но обязательно четно, поскольку Разделенность сохраняла равновесие мира и не могла быть непарной, а обязательно противопоставленной и уравновешивающей, чтобы мир не завалился в одну сторону и не покатился кубарем в одну из сторон, в которой уже и не будет выбора, а одна лишь неизбежность. Даже неизбежность счастья в Заиндене считалась бы наказанием. Четыре дня – День До Майской ночи, Канун Летописей, выпадающий на солнцестояние, Золовки, согревающие первую изморозь и Темные времена, на которые выпадали Авторские Хтони были Днями Разделенности, когда надлежало разъять Прошлое и Будущее, проверить их целостность и снова смешать Во Всегда.
Малый Заиндень, наверное, ничем не отличался от других поселков, встречающихся то здесь, то там по сторонам больших дорог, по которым спешили из пунктов А в пункты Б автомобили, над которыми пролетали самолеты и даже иногда космические корабли, дороги иногда пересекали железнодорожные пути, по которым грохотали поезда и стучали колесами электрички, переполненные дачниками, иные из которых были чумазы и сосредоточены, другие же радостны и беспечны, чумазые читали ветхие сразу от появления в типографии листки «как обустроить дачный туалет и вырастить небывалый урожай», беспечные пели песни и трепетали яркими косынками на ветру, прижимали к себе корзинки с мелкими собачками, и те и другие смотрели в окно, говорили «какая красота» вслед мелькающим лесам и лугам, на фоне которых – то там, то здесь – появлялись и исчезали поселки, похожие на Малый Заиндень.
Вездесущие гис-картографы тщательно прорисовывали эти поселки взглядом из космоса и получалось, что в поселках этих есть какие-то улицы, площади и границы, за которыми опять были леса, луга и так до новых окраин, которые тянулись друг к другу, а иногда смыкались, образуя городки, а потом и города, лепя из ярких разноцветных шариков пластилина один невообразимо бурый сгусток, одним из которых и стал когда-то Тупик-Главный и, чтобы уж совсем не пропасть в этой бурой, утратившей чистый цвет, смеси, он придумывал названия своим проспектам, площадям и присутственным местам, называя их красными, белыми, золотыми…
На космической карте Малый Заиндень представал неровным следом кого-то живого, кто ступил на берег реки, придя за водой, да так и отпечатал свое присутствие посреди боров и лугов. Из космоса в Заиндене были видны три улицы, три площади и несколько переулков, пересекаемых мелкими тропками.
На самом пересечении с дорогой, которая шла от Тупика и уходила потом в Большой Заиндень, а дальше терялась в перекрестках и шла куда угодно, встречаясь с другими дорогами, сворачивая на них, петляя, пересекая нарисованные границы городов и стран и, скорее всего, возвращаясь потом через множество поворотов опять к Тупику, стоял постоялый двор с чашей. У постоялого двора располагался небольшой торжок, где можно было взять пирогов и совершить множество случайных покупок, чтобы потом, разбирая сумку в далеком доме, вертеть в руках какую-нибудь глиняную птичку-верещалку или носки с оленями, удивленными тем, что они оказались неизвестно где, и самому себе задавать вопрос зачем, где и при каких обстоятельствах это случилось со мной?
Сразу за постоялым двором были ворота в старый яблоневый сад. И сами ворота и сад были действительно старыми и казалось, что их случайно выгрузили здесь, а на самом деле везли в какое-нибудь прекрасное место, где всегда тепло и солнечно, на горизонте плещет и жмурится под солнцем море, где лавандовые поля и виноградники и даль, в которую можно смотреть вечно и звучат песни и льется вино и девушки с босыми ногами и даже колокол на храме звучит так, что и в страшный час никого не пугает, а лишь напоминает, что мгновение это пройдет и снова будет жизнь и смех, и море и неторопливая радость от того, что ты живой, и ты живешь и все вокруг – сама жизнь.
И ворота, и сад Заинденя были именно такими – сама жизнь. По кованным стрелам плелись лозы винограда, эмалью в них блестели птичьи перья, где-то над аркой смыкались радугой луна и солнце, а когда ключник Патрик открывал ворота, то вместо привычного скрипа они каждый раз звучали новой мелодией из встроенного ящичка с полустертой надписью «Музыка сфер». Иногда по праздникам ключник вспоминал, что когда-то он был диджеем, миксовал все эти мелодии в невообразимый трек и всю ночь в саду танцевали, падая от усталости прямо под яблони, даже если была зима и падать бы полагалось под елку, украшенную огоньками, но елки в саду не было. Много раз Патрику говорили, что неплохо было бы завести в саду хоть одну ель, но Патрик отмахивался и говорил, что не ему решать, чему расти в этом саду, хватит и того, что он следит за воротами. Ключника звали Патриком потому, что прибыв в Заиндень он много дней провел в трактирчике постоялого двора, рассказывая всем про настоящие ирландские пабы, которые он посетил во множестве и что неплохо было бы и здесь сделать паб и тогда начнут приезжать сюда туристы и Заиндень начнет стремительно развиваться и даже отмечать день святого Патрика как во всем цивилизованном мире. Дней через девять Бороде, который держал постоялый двор, все это надоело, он вручил Патрику ключ от ворот и указал ему на сторожку при саде, велев жить в ней, следить за садом, держать ворота в исправности, а если Патрик будет справляться, то Борода его будет кормить, поить и даже иногда слушать.
– Не успеваю я и по двору, и по торжку, и по саду. Ключник мне нужен. Ворота открывать, за садом следить, за площадью у Домины и за самим Доминой.
Доминой в Заиндене называли большой каменный дом на площади за садом, в котором посменно надлежало заседать каждому из жителей, управляя жизнью поселка. Управление в основном сводилось к тому, что надо было заводить часы на башне Домины, проветривать комнаты, переворачивать лист календаря, проверять, хорошо ли работает механизм водонапорной башни и генератора, дающего электричество, принимать от Бороды дневную выручку Чаши Сией, записывать доход и складывать его в казну, расположенную в одном из подвалов. Потом надо было проверить закрома, в которых хранились запасы на черный день, принять экскурсантов, которые невесть как попадали сюда, но попадали каждый день, записать в домовую книгу тех, кто захотел остаться в Заиндене или тропиночных, проводить остающихся в термы, передать их банщику, проводить праздных, обойти все комнаты в Домине и выключить свет, позвать Патрика, запереть парадную дверь и сдать ключ.
Иногда, впрочем, бывали и дни суеты, когда заинденцам вдруг приходило в голову обращаться в присутствие со своими просьбами и проблемами. Чаще других приходила Клава-плакальщица, баба тучная, небрежно одетая, все собирающаяся умереть, но тщательно следящая за своим здоровьем.
Клавдия жила у самой площади, на улице, ведущей в Мастера. Ее домик, стоящий чуть в глубине от Правой улицы, был скрыт разросшейся вишней, пыльные оконца еле-еле пропускали свет в захламленное помещение, где в основном были книги, которые Клавдия выписывала по почте, и неисчислимые залежи всяческих продуктов, из которых Клавдия готовила себе раз по двадцать каждый день по рецептам из книги о здоровой пище, однако, присаливая, как на длительное хранение, заливая маслом и майонезом. Ела она, как правило, посматривая занятия йогой, после чего мерила давление, признавала себя чахлой и ложилась в гнездо из пледов, чтобы посмотреть фильм, полистать ленту группы ужасных новостей, на которую Клавдия была подписана и почитать.
Справедливости ради нужно сказать, что Клава была очень доброй и сострадательной женщиной, и только поэтому все время искала поводы, чтобы о чем-то тревожиться или кому-то сопереживать. Ей необходимо было обижаться. Иногда она сама от себя уставала, садилась писать стихи о красоте и радости, иногда расписывала тарелки и платки, которые приносили ей из гончарной и швейной мастерских. В свободное от сострадания и рисунков время Клава работала переводчиком, что тоже каждый день приносило огорчения, поскольку этот глобальный мир научился пользоваться всеми языками через цифровые адаптеры и превратился в «чисто Вавилон», как говорили ее приятельницы, которые жили на другой стороне площади, солили огурцы со своего огорода, квасили капусту, которую им поставлял сосед Василий – бывший то ли мэр, то ли губернатор, то ли депутат государственной думы, променявший все на капусту – и докучали своей ближайшей соседке Степановне, которая с утра до вечера всем помогала, а с вечера до утра готовилась всем помогать. Три огородницы жили слухами, сплетнями и большой любовью к своему коту Армагеддону. Клавдия их очень не любила, но приятельствовать приходилось, поскольку новости группы ужасных новостей обсуждать было больше не с кем.
Раз в три или четыре дня Клавдия появлялась в Домине с очередной жалобой на несовершенство мира, на шум постоялого двора, на то, что большая семья Учителя, живущая как на грех так, что ее не обойти, живущая шумно, сварно, песенно, так и норовит расширить свои владения и скоро уж никакого житья и уединения Клавдии не будет, на грубость заезжих молодцев, на надменность торговцев. В общем, все, что было в мире неуютного тут же обрушивалось на Клавдию, стоило ей только открыть глаза, оторваться от книги, фильма, интернета или кастрюль. С этим она и шла в Домину, чтобы найти, какой закон может ее защитить. Дежуривший в Домине должен был в ответ на обращение Клавдии надеть на себя мантию, парик судьи, взять огромную книгу и листать ее страница за страницей, ища в книге пример, как можно помочь несчастной.
В те дни, когда доводилось дежурить молочнику Тевье, он любил, найдя нужный абзац, сказать «отсюда учим», за что всегда получал от Клавдии фырканье и демонстрацию ее полного презрения к пошлости, до которой докатился молочник, пользуясь случайным совпадением своего дела и ошибки паспортистки, которая впопыхах при регистрации записала его банальное Тельев именем с театральной программки спектакля, на который она очень торопилась, поскольку Анатолий Александрович, заведующий паспортным столом, мужчина правильный во всех отношениях, решил именно в этот день разнообразить их досуг театром, по какой причине до сих пор не известно: театра больше ни до ни после того случая в их жизни не было, хоть и прожили они вместе лет сорок, и детей вырастили, и дети разъехались, и Анатолий Александрович успел и свою жену – паспортистку похоронить и жениться вторично на бывшем бухгалтере какого-то торгового дома, но и с ней в театр ни разу не сходил, все мучали то артрит, то поджелудочная, то недостаток белой рубахи, то понос, то золотуха.
Тевье так и отправился в жизнь с фамилией с театральной программки, долго мыкался, крутился то туда, то сюда, эмигрировал даже в Канаду, но после одумался, вернулся, осел в Питере, и однажды там на какой-то ярмарке познакомился с Таисьей, которая держала коров где-то под Вологдой, делала масло, сыры, творог и поглядела на Тевье такими синими глазами, что вынырнул он из тумана своих грез и дум, женился, стал молочником, а чуть погодя, захотев вдруг каких-то перемен, перевез семью в Малый Заиндень.
Семья Тевье и сама была сбитая, крепкая, бело-золотистая. Три дочери и пять сыновей приехали вместе с родителями сюда, принялись за дело, встали отдельным хутором на окраине Заинденя, но жизни общинной никогда не чурались, наоборот везде и всегда были слышны их песни и побасенки, а вскоре трое из детей и сами нашли своих суженых-ряженых в семье учителя, которая понемногу, принимая в себя молодежь всех дворов, стала самой большой семьей Заинденя, детей в ней рождалось иногда по три человека за год.
От площади, с заднего двора Домины, где располагались те самые термы, в центре которых был большой бассейн, наполнявшийся водой из подземной реки, которая бежала откуда-то из глубин Бора, скапливалась в колодце на лужайке между домами Лешуни и Савросьи, а дальше опять уходила под землю до самого бассейна, в нем терялась, вспелискивала когда-то в Чаше сией, а от нее терялась уж окончательно, начинались две главные улицы Заинденя – Правая и Левая.
Правая, та самая, на которой жила Клавдия и которая в Мастерах расширялась Ярмарочной площадью – майданом, как называли ее тогда, когда в дальнем Киеве не забрали у всех майданов имя это только себе, и означало ее имя только принадлежность маю и первому торгу и более ничего, а после майдана доходила как раз до хутора Тевье. В Мастерах стояли мельница, кузня, плотня и гончарная мастерская, а при них домики тех, кто занимался простым и понятным делом: хлебом, деревом, глиной, железом.
Чуть поодаль в глубине липовой аллеи, отходящей от майдана вглубь Заинденя, жили три сестры, каждая в своем, но под одну мерку сделанном домике: белостенных, с кустами роз, чабушниками, жимолостью и девичьим виноградом, с палисадниками, полными цветов и аптекарскими огородиками с чабрецом, мятой и душицей, с альпийскими горками чуть поодаль домиков, вспыхивающими вересками и камнеломками, с прудиками, в которых танцевали летом на тонких стеблях кувшинки и лотосы, со скамьями в тени плакучих ив, с беседками, укромно спрятанными в сиренях и черемухах. Все, что шилось, ткалось, прялось, вышивалось, вязалось и валялось в Заиндене, все мыла и душистые воды, все кремы и притирки, многие из которых уходили в далекие страны, все для уюта, красоты и неги делалось в этом тридворье.
То ли матери, то ли отцы были у сестер разные: одна была рыжей, смешливой с россыпью веснушек и полной грудью, вторая – брюнеткой с цыганской волной волос, гибкой, исчезающей на изломе талией и голубыми глазами, третья – с длинной русой косой, прямая в спине и строгая во взгляде. Совсем было бы хорошо, если бы звали их Верой, Надеждой и Любовью, но, видимо, родители не ожидали троих дочерей или были забывчивы, давая имя, но звали их Елена, Алена и Олена, а потому, конечно, в Заиндене это место называлось сначала Ленинскими горками, а потом, по склонности языка к упрощениям стало просто Горками, а потом и вовсе Горой. Нездешнему человеку трудно было догадаться, о какой горе идет речь в совершенно ровном Заиндене, но местные с самого малолетства знали: на Горе – это у Лен. Сами они друг друга называли Олей, Елкой и Алей, замужем никогда не были, хотя к Елке захаживал плотник Андрей, делал ей коклюшки для кружевной работы, повторял ее плетение в дереве, а вместе они делали какие-то удивительной красоты и легкости убранства для храмов, невзирая на конфессии: кружево и дерево одинаково ценилось везде.
У Али был долгий, растрепанный и уже малосюжетный роман с писателем с Левой улицы. Писателя звали Митрий, писатель он был гениальный, парадоксальный, писал и прозу и стихи, выступал с обличениями и суждениями, был чтим и популярен, но пару лет назад его хватанул инсульт прямо в дороге меж очередными городами и он притормозил свое вращение, купил зачем-то керосиновую лампу и с нею прибыл в Заиндень как раз на стыке лета и осени в какой-то легкомысленной рубашонке и с пиджаком через плечо для писательского антуража и пришлось его обшивать, обмеривать, так как-то и закрутилось, сшилось, слепилось и теперь писатель вновь набирая обороты читал Але новые главы романов, стихи и речи перед тем, как выложить их в интернет, в местной школе преподавал литературу, а временами и языки, переписывался с несколькими мировыми классиками и даже пару раз зазывал их в гости, но ровным счетом никакой дачи писателя из этого не выходило и он наскучив всеми снова запирался в своем кабинете и выходил пить чай только после трех, когда нужные десять страниц были написаны. Аля ему нравилась, он включил ее в пару романов, называл своею отрадою и утехою, но руку и сердце держал при себе, что, впрочем, Алю вполне устраивало: шитье требовало сосредоточенности, а писателя иногда было слишком много. Так и строчили они на пару каждый свое, один полотно вечности, вторая – все, что нужно человеку от пеленок до саванов, от мантий до халатов, от театральных занавесов до носовых платков. Спрос на платки был особенно велик после выхода какого-нибудь эпохального романа писателя и критикам в знак признательности Аля отсылала книги писателя с авторскими обложками и закладками, что у них меж собой называлось соавторством и каждая такая отправленная посылка сопровождалась обязательным званым ужином.
Олю прочили за одного из еще холостых сыновей Тевье, на хутор которого она ходила за шерстью для пряжи и валяния, но она все отнекивалась и говорила, что любую девушку с козочкой ждет участь Сольвейг, а она не готова. Готова или нет, но тайком сестры уже шили ей подвенечное платье и плели фату, поскольку были уверены, что в любом непонятном случае лучше иметь платье, чем его не иметь.
Левая улица, покидая площадь Домины вела к университету, который объединял в себе и университет с лабораториями и кафедрами, и театр, и школу, и библиотеку, и галерею изящных искусств, и видеомастерскую, и маленький планетарий с таким же крохотным естественно-научным музеем.
Пространство перед университетом представляло собой карту мира, представленного в миниатюрах, но содержащую все главные города и достопримечательности. Прошлым летом египетские пирамиды облюбовали муравьи и пришлось сыпать сахарный песок, заманивая муравьев в Париж и в Лондон, но песок быстро кончился, а потому пирамиды продолжали расти и деловито снующие муравьи стаскивали в них все, что удавалось раздобыть на просторах Европы, Америки и даже из России перетаскивали по кирпичику кремлевские стены.
Ректор университета быстро объявил все происходящее демонстрационной площадкой нового мирового порядка и теперь слушатели выполняли лабораторные работы по макроэкономике и социологии внимательно наблюдая жизнь муравьев, маркируя их разными цветами из флакончиков с красками и строя математические модели сценариев изменений в трендах происходящего на их глазах крушения цивилизаций. В начале этого мая пал Нотр-Дам, летом по какой-то нелепой случайности случился пожар в лесах Сибири, что привело к таянью ледников в Южном полушарии и необходимости реконструировать добрую часть карты.
Впрочем, карта мира была скорее развлечением, основная работа происходила все-таки в стенах самого университета, который назывался кафедральным, потому что его основой и были кафедры самых разных направлений, на которых сотрудничали лучшие представители разных наук со всех университетов мира, выполняя факультативные исследования тем, на которые не находилось грантов в рамках привычного финансирования наук, а любопытство настоящих ученых было невозможно ограничить ни грантами, ни привычными догмами, а потому большим спросом пользовались коллоквиумы, на которых обсуждались варианты будущего.
Новые лекарства, новые технологии, новые механизмы, новые коммуникации, новое поведение – всякая гипотеза была востребована, обсуждалась с точки зрения всех наук, отметалась или принималась и университетское издательство уже готовило первый том издания «Ассортиментная матрица будущего», единственная задержка состояла в иллюстрациях, поскольку университетский художник влюбился, что, как известно, гораздо хуже всех бед и казней египетских. Он забросил свои проекты, закрыл на этот год арт-резиденцию, заперся в мастерской и каждый день рисовал по одному портрету ангела, сопровождая его коротким лирическим парустишьем.
Ангел, который явился форс-мажором для издательского проекта, к сожалению, существовал на самом деле и более того, жил непосредственно здесь же, в Заиндене. Года два назад Ангел с огромным чемоданом, с зонтиком и в прозрачных туфельках – то есть со всеми атрибутами волшебных существ девичьего воплощения – выгрузилась из кабины разбитой дорогами фуры, вошла в бар постоялого двора и с порога заявила, что намерена поселиться здесь навсегда и, желательно, в каком-нибудь особенном месте.
Борода посмотрел на нее с усмешкой, налил чашку очень горячего латте и погремев в ящике под кассой выудил оттуда старый ключ с брелоком в виде белых крыльев.
– Единственное место, которое может тебе подойти, – сказал Борода. – Прямо, направо, мимо Горы и по тропинке до Старого Тополя. Лестницу сама найдешь, это легко.
И занялся своими делами.
Старый тополь стоял на самом краю Заинденя. Вернее, он начинался за краем, а потом, видимо, то падая, то поднимаясь, отрастал новыми корнями и понемногу вполз на территорию деревушки, выпрямился над сплетениями своих стволов и корней и метрах в двух над землей вдруг раскрылся круглой площадкой как раз по размеру маленького домика в одну комнату и кухоньку. Домик был построен, но тополь продолжал расти и немного подумав, домик начал расти вместе с ним. Теперь в междустволье тополя стояла трехэтажная башенка, которая каким-то чудом не падала, кренясь сразу во все стороны, а находила опору в неровностях коры и сучьях дерева. Последние лет пять в башенке жило только приведение, и это, несомненно, было самое особенное место. Окна в ней были без стекол, половицы скрипели, крыша кое-где текла, а сама лестница в башню не досчитывала нескольких ступеней. В самой башне, впрочем, тоже.
С тех пор многое изменилось. Башенка сверкала цветными витражами стекол, стены были отшлифованы до зеркального блеска, крыша покрыта черепицей, а на самом верхнем этаже башенки был пристроен балкончик с витыми перильцами, рисунком повторяющие ворота яблоневого сада. В домике Ангела всегда горел огонь: если было слишком жарко для камина, то горели свечи, но чаще – и камин и свечи вместе, подушки, пледы, накидки, половики все было пушистым и воздушным, в самых нежных цветах, на кухне стоял аромат кофе и выпечки, а в прихожей гостей встречала белая пушистая собака, напоминающая июльское облако. Звучала музыка, звенели ветровые колокольчики, зеркала отражали всякое движение и сонно шелестела листва тополя. Борода как-то сказал, что это место покоя, которое должно быть обязательно в каждом мире.
Ангел чаще всего сидела на балкончике третьего этажа, то уткнувшись в свой планшет, то читая книгу, то заворачивая подарки, которая она отправляла во все концы вселенной, то распаковывая подарки, которые приходили ей в ответ.
Безмятежность была обманчива: в Заиндене все знали, что Ангел полюбила демона. Он прилетал к ней на балкон и часами рассказывал ей про то, где он был и про то, что он совершал, и про свои желания, и про свои будущие подвиги, а Ангел слушала, поила его кофе, кормила плюшками, обнимала его за кудлатую голову, прочесывала его черные крылья, жила им и все, что было помимо было лишь ожиданием встречи.
А художник любил Ангела.
И, конечно, ректор университета имел полное право объяснять срыв сроков выхода издания демоническими кознями, так оно по сути и было.
Кроме художника и ректора при университете жили писатель Митрий, бывший полководец Рагнар и женщина-математик Татьяна Борисовна, которая собственно и построила карту мира в миниатюре по воспоминаниям о своих путешествиях именно для того, чтобы было удобнее оттачивать математические модели. Татьяна Борисовна была из длинного, теряющегося в веках и народах, рода ученых. Ее предки занимались наукой со времен алхимии и в ее доме хранились письма и рукописи, передаваемые из поколения в поколение вперемешку с любовными письмами, которых было не меньше, чем открытий, поскольку женились, венчались и разводились в роду безостановочно и многократно в каждом отдельном своем представителе, детей рожали так же энтропично, что, согласно закону замкнутого пространства приводило лишь к увеличению браков, детей, любовей, писем, открытий и архивов. Библиотекарь университета шутил, что если хорошенечко поискать, то, наверное, можно найти и письма Аристотеля, на что Татьяна Борисовна хмурилась и советовала библиотекарю хорошенечко подумать, прежде чем вообще что-нибудь искать в ее доме.
Дружила Татьяна Борисовна с Фрау Фауст, пожилой барышней неопределенных лет, которая все время жаловалась на скуку и была замужем за каким-то несуразным мужичонкой, которого она похоже забыла вытащить из чемодана при переезде в Заиндень, он так и прижился в отдельном флигелечке ее дома, начесывал по субботам усы и шел в гости к огородницам, солившим огурцы и капусту. Иногда он встречался там с Клавдией, с которой у них доходило чуть не до драк, поскольку каждый хотел выглядеть более несчастным, а пальму первенства никто отдавать не хотел. Но чаще, к его удовольствию, вечера проходили без Клавдии, а с дальнего двора, который совсем уже смотрел окнами в Тот Бор, приходил на субботний чай сосед Василий – тот самый бывший то ли мэр, то ли губернатор, то ли депутат государственной думы – который отказывался даже от дежурства в Домине, а уж тем более отверг предложение занять ее навсегда и управлять, поскольку у него опыт. «У меня капуста!» – сказал он и даже, говорят, бросил трубку телефона на рычаг, это было так давно, что у телефонов еще были рычаги, провода и колесико для набора номера. Капусту он поставлял огородницам, сотрудничество их процветало и порой даже дамы наряжались в блузы с камеями, отскребали черные ногти и пятки и пели под караоке романсы, стреляя глазами то в Василия, то в Фаустова мужа. Василий от этого быстро уходил огородами, Фаустов муж пышнел усами и ел все больше пирогов, свечи воняли дешевым парафином и оплывали, в окно струился запах компоста, романтика была растворена в воздухе.
Самая громкая из огородниц – Тетушка Кабачок, крепкая, грудастая, с кулаками, которые отлично справлялись и с вилами, и с засолкой капусты, когда-то давно была помолвлена с тихим парнем, жившим по соседству в ее деревне, но надо же было так случиться, что у парня в тот год отлично удались кабачки, а тетушка, которая тогда была еще не тетушкой, конечно, но уже очень хозяйственной особой, испытывала острую нехватку кабачков для закрутки икры на зиму. Свои уже все были перемолоты, а соседские радовали глаз перспективой. Рассудив, что помолвка – практически одна семья, тетушка Кабачок перелезла через забор и набрала полный подол вожделенных плодов. В тот самый миг, когда кабачки уже были переправлены на ее сторону, а сама она болталась на заборе самой аппетитной своей частью обратясь к дому суженого, суженый выглянул в окно и увидел лютое непотребство. Будучи человеком хозяйственным и скаредным, он искренне считал, что помолвка помолвкой, а кабачки – врозь. Он выскочил в огород, хватанул на бегу крапивы и горячо приложился к данному ему судьбой заду. Попранная невинность была возмущена и уже рухнув на свою сторону, из пожухлой ботвы, тетушка расторгла помолвку, голося на весь околоток, что лучше быть женой кабачка, чем такой жадобы и абьюзера. На абьюзера парень разозлился окончательно, вернул тетушке данное ею слово, а себе предложенные ей руку и сердце и твердо ступая пятками по пыльной траве, удалился в задний сад горевать под дулей. Вслед ему полетели кабачки раздора и тетушкино победное улюлюканье. При таких обстоятельствах и явилась миру тетушка Кабачок. Когда, уже спустя много лет, она прибыла в Заиндень, имя так приноровилось к ней, что ничего другого не оставалось, как вписать в домовую, а потом уж и в городовую книгу «тетушка Кабачок». Две ее приятельницы, прибывшие каждая в свое время, возможно и имели какие-нибудь обыкновенные имена, но вскоре стали Тыковкой и Топинамбуром: одна была маленькая и звонкая, вторая длинная и сухая до шелеста, целыми днями возились они на своих грядах, приятельствовали с Василием и Фаустовым мужем, иногда по вечерам пили настойки и тогда пели и танцевали, но большей частью выращивали, удобряли, консервировали, вкусно угощали, просто жалели, сурово одергивали и не горевали.
Из окон мезонина Фрау Фауст был виден небольшой домик двух женщин, живших уединенно, без особого общения, без времени и пространства. Одна из них была дочерью, вторая матерью, но какая кем уже сказать было невозможно, так перемешало время все их годы и события. Они жили в каком-то коротком промежутке между вчера и завтра, как две птички на жердочке, повернутые каждая в свою сторону: одна накрепко застряла в том, что было давно и ей чудилось, что она маленькая девочка или молодая девушка в самом начале еще не прожитой жизни, вторая старательно складывала в эту непрожитую жизнь все, что могло бы пригодиться и сегодня, но, сегодня было слишком маленьким, а завтра таким безграничным, что хотелось обустроить его хорошенько. В непрожитой жизни первой в завтра было ничего не понятно, оно лишь таинственно и радостно звало, в завтра второй все было добротно: здесь были и прогулки под луной с любимым, и неторопливые беседы с подругами, и цветочный сад, и веселая собака, и красивое платье. Все это когда-то было отложено, припрятано до лучших времен. Времена шли, они были то лучше, то хуже, но в сегодняшнем дне ничего не менялось: две женщины жили на пороге завтра, одна по забывчивости, вторая по привычке.
Иногда к ним приходил со стороны Бора Серега – рыбак и охотник, который приносил диковинные гостинцы: то золотую рыбку, то колонка-игрунчика, то ежика, то ящерку. Каждый ноябрь он приносил большой мешок мяса и рыбы и они втроем долго лепили и морозили пельмени. Когда-то Серега приходил «с прицелом», потом прицел сбился, кураж ушел, осталась привычка приходить иногда и заготавливать все впрок, на завтра. Этим маленьким домиком с двумя женщинами-птичками и заканчивалась Левая улица, дальше уже была околица, луг и неизвестность. Где-то в неизвестности было затеряно старое кладбище, но на него уже давно не ходили: в Заиндене последняя смерть была лет пятнадцать назад, когда умер старый Ефим, поперхнувшись водой из Чаши Сией.
Надо сказать, что было еще: чуть в стороне у мельницы стояли непокоевы хоромы. В старые времена здесь была общинная палата, где собирались по праздникам и подумать, но Заиндень рос, места на общий сбор требовалось меньше и Хоромы, постояв какое-то время сиротливым памятником, вдруг пару лет назад впустили по разрешению Бороды в себя пришлое племя геймеров. Племя назвало хоромы коливингом с коворкингом и целыми днями сидело, уставившись в свои компьютеры, лишь летом по вечерам выходя на мощеный дворик пожечь костер и поболтать. Холостое сжигание дров в Заиндене не приветствовали, огородницы даже ходили в этот коливинг с предсказаниями ядерной зимы, на что им были продемонстрированы солнечные батареи, какие-то энергосберегатели, экотехнологии, из которых тетки ничего не поняли, поскольку говорилось в основном на языке нечеловеческом, хотя и вежливо.
Племя жило игрой, что и дало новое название Хоромам. Игра тоже подвергалась сначала нареканию, но поскольку ее надлежало сначала придумать, а потом создать, общим Заинденским сходом занятие было признано достойным, а когда оказалось, что общинных налогов эти игроки платили изрядно, да еще и где-то что-то нафандрайзив и накраудвандив – что, конечно, звучало, как пиратство, но оказалось делом легитимным – в прошлом году замостили все улицы и тропинки, чтобы можно было ездить на велосипедах и поставили высоченный столб неподалеку от Заинденя, благодаря чему у всех теперь появился 5G, что это и зачем он появился было не понятно, но интернет у всех начал работать со скоростью мысли, особенно довольны этим были в университете и мастера, поскольку это помогало им работать и торговать, а их доход давал доход и в казну Домины, а потому понемногу от игроков отстали, хотя время показало, что, может быть, разумнее было бы, наплевав на их доходность и текущую производительность, заставить их или тщательнее контролировать все коды и алгоритмы игры, или выгнать их всех из-за компьютеров на улицу, чтоб не множить сущности без необходимости, заставить мести улицы, рубить дрова, варить кашу и приносить другую очевидную и понятную пользу, которая бы длила и длила настоящее, не грозила бы никакой Разделенностью и не оборачивалась бы надобой будущего.
Но время показало это далеко не в тот день, когда я выглянула утром на улицу, посмотрела на Заиндень, а Заиндень посмотрел на меня.
В тот день просто все началось.
Глава 2. Прекрасное начало будущего
Утром следовало забежать к Марте-булочнице. Они с мужем Кириллом держали мельницу с хлебной лавкой. Честнее было бы сказать, что к их пекарне просто была пристроена красивая мельничка для атмосферности и красоты, никто муку здесь уже, конечно, в хозяйственных нуждах не молол, все привозили с большого мелькомбината, но мельничка тем не менее работала и можно было, засыпав горсть зерен получить себе холщовый мешочек с вышитой надписью «все перемелется». В давние времена – еще даже до шальной былинной молодости Савросьи – в Заиндене мельница была, и съезжались на нее с зерном в положенную пору семьи и мельник сам был мужик зажиточный и основательный, поставивший в Заиндене кроме дома и мельницы непокоевы хоромы с каменным подклетом – чуть поодаль, на взгорке, откуда видны были окрестности до самой туманной сини закругленного края земли.
Окрестности, надо сказать, были устроены здесь щедро и гармонично: боры перемежались лугами, немного поодаль начиналась степь с озерами, в которых вода была трех видов: соленая, щелочная и пресная, в одном бору были болота с ягодником, на краю другого бил горячий ключ, на который ходили стирать и купаться летом, а зимой – попросту любоваться.
Местный врач – Александра Андреевна, жена учителя и, собственно, мать этого большого семейства, уже договорилась с плотником Андреем о красивом срубе с купальней, в которой можно будет делать «воды и ванны», но Тевье, очередь которого была листать книгу законов в Домине в тот день прошлой осенью, когда Александра Андреевна пришла узнать, как получить на все государевы разрешение и одобрение, посоветовал ей не ввязываться ни в какие волокиты, потому что скорее умрешь, чем получишь все бумаги, а идти к Савросье и сговорить ее на партнерское ведьмовство по самозанятости. Александра Андреевна поначалу со смехом отвергла даже идею совместного дела с Савросьей, с которой у них было множество расхождений по врачеванию, но, взвесив все, прихватила свою рябиновку и постучала к Савросье во двор. О чем они говорили в тот вечер уже не так важно, но ранней зорькой (осенней зорькой, часов в десять) обе они уже стояли на Горе с какими-то исписанными листами в руках, а Лены в шесть рук накрывали стол к утреннему чаю в общем парадном флигеле.
Лешуня, встречая у колодца Савросью после того бабьего сговора проворчал, что мол, понятно, зачем пять баб на одну думку, две запутывают, одна распутывает, одна раздумывает, одна передумывает, но отдал ей самодельный чертежик ряма, к ключу примыкающего, на котором было отмечено, где можно копать, где нельзя, чтобы не повредить по незнанию ничего.
– Мое это хозяйство болотное, а ты не зашла, не спросила!
– Да будет тебе, Лешуня, – непривычно тихо сказала ему Савросья, – как я без тебя на болото зайду? Просто хотели сначала сами все понять, а потом уж у тебя разрешения просить…
Тут Савросья за спиной Лешуни заметила тетку Катышеху, одну из тропиночных, еще не определившихся в бытовании, а потому не совсем своих, ковылявшую домой с сумкой на колесиках из магазинчика на торжке, и внезапно повысив голос препротивно закончила: «Все тебе, чудище оглоедное, мало куражится, весь забор на ту сторону завалил, подымай теперь силою своею богатырскою, тока не надорвися!» – и ухватив за ремешок потащила Лешуню прочь с чужих глаз в ограду к дереву, договаривать.
С тех пор многие были включены в задумку Александры Андреевны, дело двигалось и только Фаустов Муж громко и со значением говорил, что ничего, конечно, не получится, потому что взялись неправильно, так не делается и ни у кого еще не получалось и никогда не получится. Огородницы его поддерживали, а Василий, достав каких-то альбомом из своих монарших архивов, отнес их Андрею и долго они еще, пригласив Тевье, Учителя и даже Бороду что-то чертили, считали, писали, переписывали и наконец чистый вариант отдали Учителю, а тот подбросил его на столик своей жене, сказав, что дети в школе проект делали, вдруг пригодится.
Остатки старой мельницы стояли неподалеку от горячего ключа, определяя границу между степью и бором. На степи ветер как раз успевал разогнаться для кружения лопастей, но тех, которые были давно, уже даже и в воспоминаниях Савросьи не было, а лопасти новой мельнички у пекарни радовали алым цветом и крутились хоть и медленно, но исправно, заманивая новых любопытствующих перемолоть все, что есть в муку.
Марта каждый день выпекала хлебцы со вкусом сегодняшнего дня – на три сотни жителей самого Заинденя и пару сотен для заезжих, для которых хлебцы относились на торжок, в постоялый двор и немного оставалось на самой мельничке для гостей. В маленькой кофейне при пекарне всегда были и пряники печатные, и пироги, и пирожные, и сухарики сахарные и соленые, а вот сами хлебцы Марта держала только в лотках пекарни, да и не за чем их было в кофейню выкладывать, их разбирали уже к девяти утра, всем хотелось поскорее узнать, что же им судьба сегодня приготовила.
Тесто для хлебцев Марта делала на воде их колодца, добавляя в нее отвары трав и ягод, в муку намешивала добавок из бесчисленных мешочков, заготовленных в пекарне после сушки на солнце и ветру ростков и кореньев, в них намолотых, принимала от птичницы яиц, от молочницы масло, творог и пахту и замешивала тесто, которому давала подняться три раза прежде, чем разделить его на пятьсот хлебцев. А потом уже в каждый добавляла по своему видению то соли, то сахара, то перца, то всего вместе щедрой горстью, а иные оставляла пресными, чтобы мог человек подумать, а чего же ему на самом деле хочется.
Туристы каждый раз советовали добавлять к хлебцам бумажные ленточки с текстами предсказаний, но Марта говорила, что умному и без слов понятно, а дураку говори, не говори – все без толку.
В конце года к Марте всегда заходил повечерять Борода и они смотрели записи, которые вела Марта каждый день на каждый хлебец, и Марта все говорила, что вот бы настало время, когда можно будет всем только радости в каждый день добавлять, но Борода не соглашался с нею, говоря, что радость тоже приедается и перестаешь ее чувствовать и тогда она не радость, а обыденность, а потому всего надо понемногу, чтоб не приелось и не обрыдло.
Слово было угловатое, гремучее и пакостное и Марта соглашалась, что уж лучше с солью и перцем, чем обрыдло, и показывала Бороде задумки на следующий год.
Кирилл их посиделки не разрушал, уходил на это время к Андрею или в кузню к Григорию, а то и собирал их вместе на своей мельничке и они обсуждали новые жернова и вороты и собирали маленькие мельнички с вертящимися лопастями на праздник летающих мельниц, который каждый май собирал в Заиндене сотни приезжих, а местные команды соревновались друг с другом в высоте и красоте полета своих мельничек, которые строили втайне друг от друга, придумывая все новые удивления. Кирилл с друзьями мельнички собирал для забавы и сувенирной лавки, они участвовать в соревнованиях не могли по причине своего мастерства в этом деле, а были много лет судьями.
Я забежала к Марте уже в начале десятого, когда большинство хлебцев уже было разобрано.
– Кофе дашь? – спросила с порога и начала стаскивать галоши.
– А доброе утро, ты видать, по дороге растрясла, – рассмеялась Марта, заводя кофеварку.
Мартуля-красотуля была смешливая и кругленькая, с блестящими глазами и торчащими в разные стороны кудрями, полненькая, аппетитная, звонкая – сдобная, как и положено быть…
– Мартуля, а ты пекарка или пекаричка или пекарунья?
– Если хочешь я буду пекаруньо, пекарилло, пекароччо, пикорино, сути это не меняет!
Кирилл, высокий, широкоплечий, с темными глазами и огромными ладонями, на которые, казалось бы, и Марта могла поместиться, заглянул в пекарню, поцеловал жену в макушку, сказал, что двойнят в школу проводил, а сам пойдет на старую мельницу и вернется только к ужину. – В мельничке Славка сегодня с дальнего переулка, ему на гаджет какой-то не хватает.
В мельничке у Кирилла работали по надобности все, кому нужно было заработать на какую-нибудь прихоть. Болезнями, нуждой и ремонтами в Заиндене казна ведала, на жизнь каждый сам зарабатывал, а вот на шалости и малости особенно молодым путь в мельничку Кирилла был всегда открыт.
– Хороший мальчик, – сказала Марта, быстро поцеловала мужа, собрала ему попутно каких-то пирогов с молоком и выпроводила, приобняв его широкую спину, шепотком заговорив вернуться здоровым и радостным домой.
– Ты его ли Славку хорошим мальчиком назвала? – рассмеялась я.
– А, оба хорошие, мне не жалко.
Я откусила от своего хлебца дня и в недоумении замолчала. Вкус был неопределимым. Ничего из того, что я знала, он не напоминал. В нем не было ни ноты чабреца, укропа, не чувствовались соль или мед…
– Что ты туда положила?
– Откуда же я знаю? Я сею-вею-рассыпаю, а как оно ляжет, не от меня зависит.
– Но я совершенно не могу понять, что это?
– Это просто вкус будущего. Оно сегодня начинается.
–Да ну тебя, оно всегда сегодня начинается!
– Не скажи. Иногда сегодня просто заканчивает то, что было вчера. Иногда сегодня – это сегодня. Иногда – это вообще передышка в движении. А иногда, как вот теперь – начало будущего.
– И что там? – спросила я дожевывая хлебец.
– Ну, судя по всему, что-то очень аппетитное, – улыбнулась Марта и начала убирать со стойки.
Время посиделок истекло, пора было отправляться дальше.
Дальше – это дойти до Бороды и помочь ему с эскизами новых комнат постоялого двора. У меня при тщательном рассмотрении обнаружилось пространственное мышление, которое не годилось для создания художественных шедевров, но вполне годилось для интерьеров и перепланировок. Борода звал меня каждый раз, когда обновлял свои чертоги, а между делом я помогала в заказах мастерам, стараясь встраивать в пространства их изделия, и местным хозяйкам, когда им приходила блажь переустройства. Много работы было в школе и в музее, театр требовал моего присутствия при каждой постановке, и ректор в один из дней предложил мне полностью им заняться. Теперь я подбирала спектакли, приглашала труппы с гастролями, организовывала фестивали и даже взялась за то, чтобы создать собственный поселковый театр. Ректор спросил не смущает ли меня то, что театр будет Заиндеевским, но я сказала, что он вполне может быть просто Малым, на том мы и сошлись.
В моем Малом театре уже была труппа человек тридцать из местных жителей и мы готовили сразу два спектакля: «Двенадцать месяцев» и комедию абсурда по мотивам современных французских пьес. Благодаря одновременной подготовке «Двенадцать месяцев» тоже приобрели абсурдные черты, но только выигрывали от этого.
Писатель Митрий несколько раз побывав на репетиции, решил, что текст нужно переделать, сделать его более актуальным и теперь каждую репетицию мы развлекались новыми сценами.
Выйдя из пекарни, я немного постояла на перекрестке, решая, как мне лучше пойти: через майдан или мимо усадьбы учителя и решила выбрать все-таки майдан.
Усадьба учителя утром была слишком хлопотливым местом. Учитель, когда еще только приехал в Заиндень, был невысоким, щупленьким юношей, у которого за душой была только какая-то необъяснимая любовь к детям. Он умел их слушать и умел им рассказывать, он умел видеть их особые дары и помогать преодолевать препятствия, он никогда их не баловал, был строг и требователен, но умел поощрить и похвалить так, что ребенок действительно на глазах вырастал и становился крылатым.
Приехал учитель в конце августа, зашел в постоялый двор, чтобы снять комнату на первое время, рассказал Бороде о том, как не глядя выбрал Заиндень, потому что ничто нигде его не держало, представился Александром Андреевичем, отчество при этом как-то особенно натужно втащил, как непривычный дорожный ларь, который невесть как пристроился по пути и не бросишь его теперь, и попросил на завтрак приготовить ему кашу.
– Кашу не обещаю, тут как Тевье с молоком успеет, если до шести встаешь, то будет яичница.
– Ну что вы, до шести разве ж я встану?! – изумился Александр Андреевич и начал подниматься на второй этаж, когда Борода его окликнул:
– Я тебе другую комнату дам. Тут до тебя с попуткой тоже приехала Александра Андреевна. Врачевать у нас собирается. Тоже каши на завтрак просила. Но она ранняя птичка, к шести уже обещала встать. Вот я чтоб вас по всему двору не собирать к завтраку, в левом крыле поселю, там в зальчике и накрою.
Так и началось у них с того завтрака с кашею: оба молодые, бесприютные, он учитель, она врач, оба с каким-то особенным беспокойством о людях и верой в любовь и милосердие.
– Вас к ранам прикладывать обоих можно заместо мази целебной, – проворчала Савросья, пришедшая в то утро к Бороде с Таисьей. Савросье нужно было для каких-то надобностей трехчасового творога, но, когда она зашла к Таисье, та уже ушла к постояльцам, пришлось догонять, да и задержаться на завтрак у Бороды, он все равно никого так не отпускал.
Александры смущенно потупились на замечание Савросьи, но та уже и смотреть на них перестала, увлекла Таисью в холод творог мерить. Да и что смотреть-то, когда и так все ясно.
Прожили молодые переселенцы у Бороды месяца три, пока дом ставили. Хотели на окраинке, ближе к Университету, но Борода сказал, что дальше смотреть надо. Удобно всем, когда врач и учитель в самом центре, а самим удобно между Мастерами и Университетом – совмещать практику с теорией, да и что на равном расстоянии между Бородой и Савросьей – тоже немалая польза.
– Так что ставьте усадьбу прямо в центре, для вас, видать, там круг и хранился.
Так и поставили – между двумя полукольцами Правой и Левой улицы, меж майданом и площадью мира. Сначала дом, а потом уж возле появилась больница, детский сад, начальная школа – старшая уже при университете занималась, спортивный зал с хоккейной коробкой и футбольным полем, паркуры, скалодромы, квесты, игровые площадки, кино под открытым небом, здесь же мелкий зверинец с собаками, кошками, шиншиллами, хомяками и одомашненными лисами, рыбы, аксолотли, черепахи, попугаи, лошади, пони, олень, два черных ворона и разноцветные голуби.
Сам дом постепенно разрастался этажами и внутренним двором, банями, беседками, флигелями и стало понятно, что круг, внутри которого поставили первый дом и который казался раньше огромным, не так уж и велик, а как раз в меру семье, в которой было уже три поколения: своих шесть детей, к ним супруги, приехавшие погостить и оставшиеся племянники и кузены, дети детей, некоторые уже и сами родители. 23 человека было в то утро в учительской семье и скоро могла появиться еще пара малышей. Их мир был построен и обустроен для детей, каждому здесь было место и занятие и другие дети Заинденя, которых было не больше, чем родных учительских тоже дневали, а иногда и ночевали здесь, готовили праздники, ходили в походы, соревновались, учили сразу все языки и науки и были вечно заняты. Учитель придерживался веры в то, что каждый ребенок талантлив, надо лишь ему помочь определить главный талант, а за ним и остальные умения подтянутся и вырастет самостоятельный, уверенный и надежный человек, умеющий рассчитывать на себя и помогать другим. Жена учителя верила в то, что каждый человек здоров, главное помочь ему это сохранить, и верою этой они жили и помогали жить другим.
Ссорились они редко и как-то очень смешно, так что самим становилось весело от этой ссоры, которая и показывала-то лишь одно: жизнь продолжается, она еще очень даже непредсказуема.
Хорошее было это место – усадьба учителя, но утром туда лучше было не подходить: пока детвора успокоится на своих занятиях ор там будет стоять до небес. Конечно, Клава справедливо жаловалась на шум, но попробуй заставь ее переехать на окраину, ни за что не переедет: во-первых, слишком тихо, во-вторых, жаловаться не на что.
На майдане утром было немноголюдно. Только семейство Тевье и птичница Глаша открыли свои лавочки, огородницы привезли корзины ранней редиски и зелени, да из нескольких дворов собирали общий короб с рассадой, чтобы отправить ее в Большой Заиндень и в Тупик. Большой заиндеевский питомник растений для городских теплиц работал уже второй год и заказы в него шли со всего мира. Питомник был «умным», вырос из университетской лаборатории, там же расположил первый свой корпус, а дальше прирастал понемногу и уже в этом году дошел одной стороной до Василия, а второй до огородниц и Фаустов муж все ждал, когда теплица дойдет и до их двора, чтобы зимней галереей было бы удобно ходить в гости на романсы с камеями. Хозяин питомника предлагал Фаустовому мужу начать строить со своей стороны и даже обещал саженцами и аппаратами помочь, но Фаустов муж сказал, что лично он никуда не торопится и вообще все сделал бы по-другому, а так не очень эффективно, поэтому ему сейчас недосуг.
В общем, питомник давал Заинденю тоже прибыль неплохую, что по хозяйственности своей заиндеевцы очень ценили. Несколько квелых мужичков из тропиночных повадились было подворовывать кто огурцы, кто электричество, но были быстро пойманы и спеленуты зелеными эльфами.
Все в Заиндене знали, что зеленые эльфы – это зеленые эльфы. Живут в бору, берегут природу, не допускают вреда. Но года три назад, когда этих же тропиночных поймали у огородниц и шуму было до небес и даже пришлось вызывать из Тупика полицию, зачем никто уж не вспомнит, видимо тетки так орали, что все ополоумели и вызвали, пришлось признавать эльфов официально. Как дошло до объяснения с полицией и вскрылись эти самые зеленые эльфы, то даже тропиночные смекнули, что говорить про лесной народец рискованно, и пришлось всем Заинденем врать про Вольное общество охраны леса и даже подписывать торжественно соглашение о сотрудничестве с МЧС, и регистрировать какую-то некоммерческую организацию, и всем скопом туда вступать, и исполнять статистику, и заявки на гранты писать и их выигрывать, и развивать гражданское общество, и получать какие-то грамоты, и даже один из тропиночных получил какую-то награду как руководитель этого самого Общества, поскольку фамилию надо было при беседе с полицейским назвать, его и назвали. В общем, все как-то устроилось: зеленые эльфы делали свое дело, статистика тупиковская свое, жить никто друг другу не мешал, а на полученные гранты обустроили экологическую тропу в бору и водили по ней экскурсии для юных егерей.
Короб с рассадой уже был практически полон и майдан потихоньку пустел, давая возможность мастерам подготовиться к дневной торговле.
Уже выходя с майдана, я увидела, что в гончарной лавка открыта дверь и не удержалась, зашла. У самого входа в лавке висел мешочек с рунами, в который каждый мог засунуть руку, вытащить наугад руну и получить ответ на вопрос.
Я быстренько нырнула в мешок, выхватила теплый прямоугольничек и вытащила пустую руну.
– Ну, конечно, – проворчала я, – как же иначе!
Положив монетку на гончарный круг, я отправилась дальше.
В Заиндене все знали, что за все лучше платить сразу, не накапливая долги и благодарности. Никому в голову не пришло бы брать предсказание рун в долг, разве что в подарок.
В общем, к Бороде я прибыла с полной неизвестностью и неопределенностью. Хотела было посетовать ему на это, но вспомнила, как сам Борода относится к всевозможным планам на будущее и решила не отвлекать его, тем более, что комнаты для новой отделки были уже подготовлены.
Постоялый двор когда-то начинался с трех комнат в домике у дороги, а сейчас в нем было не меньше тридцати комнат, некоторые отдельными домиками и пристройками, некоторые с общими залами: двор прирастал постепенно, без задумки и целевых показателей. Трактирчик, лавка, большая кухня для самостоятельной готовки, мастерские для малой починки машин, все было построено, пристроено, прилеплено друг к другу и можно было бы подумать, что здесь вовсе не было никакой задумки в этом хаосе, но задума была: найти каждой вещи свое место. Появлялась вещь, появлялось место. Прибывал человек, появлялась комната. Вернее, у Бороды последовательность была несколько обратная: появлялась комната, появлялся человек, но это только потому, что Борода знал, что человек уже в пути и пока он придет, комната должна быть готова.
– Кого ждем? Мальчика или девочку? – спросила я у Бороды
– Мальчика. Но вещей у него больше, чем у иной девочки, имей в виду!
– Что, шкафы, комоды, маникюрные комнаты?
– Столы, библиотека, кровать. Ну и стеллажи. И ящики какие-нибудь для хранения чего-нибудь.
– А он надолго?
– Сюда – на пару месяцев, а кому и навсегда… Ну, да жизнь покажет, еще неизвестно, как звезды встанут…
Борода ушел на кухню, а я принялась осматривать комнату для будущего мальчика. Когда человек появляется в мир, очень важно, чтобы ему понравилось то, куда он попал. Тогда есть шанс, что он останется здесь надолго.
– Борода, – закричала я в открытое окно, – а это хороший мальчик?
Борода вышел на веранду, посмотрел в мою сторону, вытер руки о фартук, достал орешки из кармана, закинул парочку в рот, пожевал и протянул
– Нууу, как сказать. Хороший? Пожалуй, что нет. Интересный, это да.
– Он хотя бы не ест младенцев? – посуровела я.
– Младенцев он просто не замечает. Он, ты знаешь, такой… избирательный. Младенцы ему не интересны. Нет, он их не ест. Он вообще не обижает людей. Впрочем, и животных тоже.
– Так чем же он не хорош?
– Мало не есть младенцев, чтобы быть хорошими. Это всего лишь признак того, что ты не плохой.
И чтобы я не докучала ему больше, развернулся и ушел обратно в кухню и даже двери за собой прикрыл, показывая, что разговор окончен.
– Ну, ладно. Мальчик, не замечающий младенцев… Так и запишем, – сказала я сама себе и села рисовать эскиз комнаты.
Эскиз комнаты рисовать просто, нужно всего лишь представить того, кто будет в ней жить, что он будет делать, чем он будет занят, что он любит, чего боится, как он встает по утрам, любит ли он читать в постели, часто ли у него меняются женщины, есть ли у него собака и как давно он перестал пить коньяк по утрам.
Судя по тому, что я нарисовала, мой парень даже и не думал прекращать пить коньяк. Он вообще об этом не думал, как не думал о еде, одежде, удобном кресле… Если была еда, он ел, если был коньяк, он пил, не было еды – не ел и не особенно этим тяготился. Он даже спал как-то странно, когда уже невмоготу было не спать. Такое ощущение, что к нам ехал человек без…тела. Хотя, нет, некоторые признаки тела у него все-таки были. Руки, да, он очень берег свои руки и умел ими делать все, что приходило ему в голову. И еще… Да, еще этот парень был очень даже молодец в постели… Но, это пожалуй все, что случалось с его телом…
Я спустилась в трактирчик и села за свой любимый столик. Время уже было далеко за полдень, начали прибывать, племянницы Бороды еле успевали разносить еду. Я ковыряла вилкой салат и все всматривалась в собственный эскиз, пытаясь понять, что же не так с этим парнем…
– Ну, тебе он нравится? – спросил шепотом Борода внезапно появившись из-за плеча.
– Не знаю, он какой-то странный. Он все время занят чем-то вне реальности. Он нормальный?
– Нет, – сказал Борода, – он не нормальный. Тебе точно понравится!
И поставил передо мной стакан молока с печеньем.
– Вроде не Рождество, – буркнула я.
– Это, как посмотреть, – коварно сверкнул глазами Борода и растворился в глубинах своего двора.
Ничего не скажешь, удачный день, прекрасное начало будущего: все как мы любим, ничего не понятно и все возможно.
Глава 3. Что движет солнце и светила?
Татьяна Борисовна неторопливо прогуливалась по своей карте мира. То здесь, то там нужно было подправить границы, проверить, хорошо ли взошли ливневые леса в Южном полушарии и как себя чувствует тайга, осмотреть заботливо сложенные руины и завести часы на Биг Бене. Каждый день до полудня она приводила в порядок планету, а потом шла в свой кабинет, готовить очередной факультатив по математике для нематематиков.
Сегодня должны были приехать из дальнего Дома Совы друзья-биологи с новыми рассказами об орхидеях и грибах, их следовало записать в видеостудии, чтобы потом запись передать в школу для уроков ботаники. Учитель в школе был всего один, но все преподаватели университета вели свои предметы и в младшей, и в старшей школах. Там повелось издавна, когда ректор сказал, что самыми добрыми воспоминаниями для него являются те уроки в школах, которые вели академики и преподаватели университета в далеком сибирском научном городке.
– У ребенка и у настоящего ученого голова устроена одинаково: они уверены, что все возможно и лишь ищут взаимосвязи между явлениями. Самое страшное в образовании – это выкопать узкий тоннель правильности чужой мысли, отвергая все другие варианты. Миром движут самоучки!
Поначалу в школу Заинденя и даже в Университет приезжали какие-то методические комиссии, которые падали в обморок от того, что на уроке математики вдруг начинали говорить про религию, а история вдруг прирастала альтернативными вариантами. Методические тетушки открывали свои тетради и тыча в них пальцем, доказывали учителю и ректору, что в их рекомендациях этого нет и совершенно непонятно, как дети будут сдавать единый экзамен при таком подходе и требовали привести все в соответствие.
– В соответствие чему? – спрашивал ректор.
– В соответствии нашим рекомендациям!
– Почему я должен это делать?
– Потому, что эти рекомендации утверждены!
– Утверждены кем?
– Вы что, издеваетесь? – кричали методисты и писали какие-то жалобы куда-то, но жалобы терялись, или на них отвечали таким языком, что совершенно невозможно было понять, кто и в чем виноват, но, конечно, неизбежно всех расстреляют, если не будет нужного балла.
– Меня не интересует ваш балл и даже ваш вариант истины, – говорил учитель. – Меня интересует только то, чтобы в людях сохранялось желание изучать, исследовать, думать и творить. И применять все знания, которые накопило до них человечество. Понимаете? Все! А не только те, которые вы рекомендуете!
– Вы так договоритесь до того, что земля плоская!
– Если дети смогут это доказать, то почему бы и нет? – говорил учитель.
– Да как вы смеете?!
– Понимаете ли, уважаемые, – говорил учитель и даже наливал методисткам крепкий чай, – я уверен в своих детях. Они знают достаточно для того, чтобы доказать только обратное. Доказать, что земля плоская может человек лишь ограниченный в знаниях какой-нибудь утвержденной кем-то методикой. Ровно, как и то, что Солнце вертится вокруг Земли. Вы какой точки зрения придерживаетесь в своих рекомендациях?
Методисты ошарашенно замолкали, часть из них говорила, что, конечно, Земля, другие отвечали, что, конечно, Солнце, потом все лезли в справочник правильных ответов и находили нужный, рекомендованный на сегодня.
– Ну, а не будь у вас этого справочника, вы бы как это доказали?
Тетки молча разводили руками, не в силах понять, почему у этого сумасшедшего всегда самые высокие результаты контрольных работ, шли беседовать с родителями, с учениками, пару раз заходили даже к Бороде, но тот лишь отмахивался от них, собирал им гостинцев в дорогу и побыстрее выпроваживал, не предлагая никогда остаться.
– Методички у них, – ворчал Борода. – Тут с заповедями не можешь разобраться, а они со своими методичками.
Потом присылать проверяющих и вовсе перестали, школу признали новаторской, предложили ей даже стать кванториумом, но учитель сказал, что он ничего не понимает в кванториумах и предпочитает учить по старинке, благо, университет совсем рядом и в него постоянно приезжают и ученые, и артисты.
– Да уж, артисты. Литераторы, художники, философы. Вы что, не понимаете, что они вам своей гуманитарщиной все показатели разрывают, – кричал в телефон кто-то из Москвы прямо в ухо ректору. – Уберите гуманитариев и вы сможете попасть в проект!
– Спасибо, говорил ректор, – я совершенно не могу представить университета без философов, языковедов, литераторов, музыкантов и художников. Это будет не университет совсем, а что-то однобокое. А ничто однобокое университетом называться не может, вы бы сами это знали, если бы знали значение слова «университет». Но, я так понимаю, что значение слов вас не очень интересует?
– Меня интересует значение показателей, – устало говорили в трубке, а потом добавляли тихим и скукоженным голосом, – как же я хочу к вам, господи, как я хочу к вам!
– Приезжайте, – говорил ректор и клал трубку, зная, что, конечно, никто из министерства сюда никогда не приедет, да и хорошо.
Он был ректором уже 10 лет. С Александром Андреевичем они дружили крепко, иногда спорили, иногда даже устраивали потешные научные бои, вовлекая в них чуть не все население Заинденя, и заинденцы неделями разгадывали гипотезу Пуанкаре или переводили берестяные грамоты на санскрит и обратно, или искали подтверждение теории струн или впадали в генетические исследования. Обычно учитель и ректор устраивали эти игры в ноябре, в самый тоскливый, беспросветный и бессмысленный месяц года, и ноябрь пролетал незаметно, ярко и весело.
Татьяна Борисовна принимала во всех этих затеях самое деятельное участие, единственное, что просила, не проводить эксперименты на ее карте мира и на живых людях.
– И мир, и люди итак уже изрядно устали от всех неожиданностей, оставьте их в покое. Могу вас задобрить, предложив реконструкции исторических битв с альтернативными тактиками!
Ректор с восторгом соглашался, бежал к бывшему полководцу, и долго, иногда по неделе, уговаривал его, привлекал себе в помощь учителя, они раскладывали на полу в зале полководца карты и энциклопедии, маршировали, трубили, ползли и прыгали – в общем, дурили.
После недельного заскока, как его называли и Александра Андреевна, и Татьяна Борисовна, почтенные мужи договаривались о том, какой эпизод истории подлежит реконструкции и шли сдаваться на милость Татьяне Борисовне и мне, чтобы театрализованная реконструкция прошла как надо, а не абы как.
После чего формировался штаб подготовки, полководец устанавливал в торце стола дубовый стул с резной спинкой, звали художника, писателя, швею, кузнеца, гончара, плотника, историков, географов – битва требовала нешуточной подготовки. Если бы все это происходило не в Заиндене, то фамилия у полководца могла бы быть какой угодно, но, поскольку Заиндень не терпел полутонов, то, конечно, фамилия его была Рагнар.
Рагнар догнал Татьяну Борисовну где-то на границе Чада и Алжира. Контуры обеих стран сползли вслед за растаявшим снегом, вобрав в себя часть Нигерии и теперь Татьяна Борисовна вычерчивала новую линию, стремясь соблюсти справедливость.
– Как легко у вас получается мир поправлять, – издалека, практически из Марокко сказал полководец.
– В этом и состоит задача человека: каждый день подправлять мир, который немного разбалтывается и раскручивается.
– Вас послушать, так все нужно сохранять в первозданном виде, не пытаясь ничего изменить?
– Что вы можете изменить своим кавалерийским наскоком, ввергая в него тысячи судеб!
– Не скажите! Армия только с виду оружие разрушения. А если присмотреться, то мы самый что ни на есть действенный способ сближения народов?
– Вот как? – скептически бросила Татьяна Борисовна, однако же поправила и шляпку, и садовые перчатки, и даже лопатку убрала в корзинку, чтобы ничего не отвлекало от беседы с Рагнаром. А беседовать, судя по всему, он собирался основательно.
– Вот так вот! Как бы мы с вами узнали и Египет, и Китай, и Индию? Как бы Скандинавия послала своих правителей в Париж и Британию, если бы не армии?
– Торговцами, конечно, было бы не обойтись?
– Никак не обойтись. Ведь полководец делит добычу между всеми воинами, и все, что получено в войне попадает в самые простые семьи и там начинается новая жизнь старого. А торговец что? Заломит цену такую, что вам, к примеру, не купить и остались вы без карты звездного неба, нарисованной персами! Ни за какие сокровища персы нам бы ее не продали. А так, пришел, увидел, победил!
– Правда в ваших словах, Рагнар, есть. Но как же быть с убитым Архимедом?
– Недоработка по идеологической части произошла, готов бы понести наказание, но уж этого не исправишь!
– После вас очень долго приходится все исправлять, уважаемый Рагнар! Вы иногда бываете неудержимы и ненасытны! Вот скажите на милость, почему ваш великий Александр все никак не мог остановиться?
– Азарт, мадмуазель, азарт!
– Не думаю! Скорее, недостаток любви и вечное желание заслужить похвалу матери. Олимпиада была, наверное, страшной женщиной, она не желала счастья своему мальчику, желала ему лишь успеха и славы!
– Еще скажите, что жизнь без побед у мужчины может быть счастливой!
– Еще как может, Рагнар. Вот посмотрите на наших мастеров: им незачем воевать, чтобы быть счастливыми.
– Но ведь им тоже нужно, чтобы их труд был кому-нибудь нужен? Я даже не говорю про оружие, но армия разрушает старое и приходится строить новое. И требуются гончары, плотники, кузнецы, чтобы построить мир заново. Если бы ничего не разрушалось, то ничего бы и не создавалось!
– Вас послушать, так вы просто спасение!
– Я часть той силы, что желает зла, но вечно совершает благо!
– Это Вам к Фрау Фауст, Рагнар!
– Но я вовсе не стремлюсь к Фрау Фауст, Татьяна Борисовна! Исключительно к Вам!
– Милый мой полководец, – Рагнар с Татьяной Борисовной уже дошли до ажурной скамейки в пределах Европы и она решила отдохнуть. – Я же понимаю, что вами движет или корысть или любовь к родине, как всяким воякой, даже если вы стремитесь ко мне. Так и что же в этот раз?
– Исключительно любовь!
– Так ли?
– Ну, сами подумайте, какая мне в Вас корысть окромя головной боли? Любовь к истине и верному расчету вела меня к Вам и вот я здесь у ваших ног! Мне нужна катапульта!
– И при чем здесь я?
– В том чертеже, который мне нашел в библиотеке ректор какие-то ошибки или неизвестные формулы. Учитель сказал, что преобразование одного запутанного явления в другое непонятное явление – это к вам. Ну, собственно, предлог был найден, и я им воспользовался.
Рагнар достал из планшета сложенную схему и развернул ее на коленях. Татьяна Борисовна достала из атласного с вышивкой футлярчика складные очки, произвела необходимые манипуляции и водрузила невесомую конструкцию на кончик носа.
Схема была известная и легко узнаваемая.
– Рагнар, что вы морочите мне голову, это катапульта Леонардо, мы давно уже с ней разобрались и даже делаем на уроках труда в четвертом классе копии!
– Ну, я знал, что так просто вас не проведешь! Татьяна Борисовна, я не за катапультой. Просто день солнечный, погулять хочется, а прогулка без причины очень уж непривычное дело. Вы бы еще решили, что мне май вскружил голову!
– А нет? Не вскружил?
– Совершенно на месте!
– Это очень печально, Рагнар! Это очень печально, если женщина уже не способна вскружить голову даже на пару с весной!
И она посмотрела на Рагнара вопросительно и немного печально.
– Вы, Рагнар, сколько лет еще будете искать поводы, чтобы просто прийти, поесть борща, послушать музыку, почитать книжку и спокойно лечь спать?
– А что, так можно было?
– Это Вы, Рагнар, невозможны. Преобразуетесь, приходите есть борщ. Сегодня уже, пожалуй, борща не получится, так что можете завтра.
– Я и без борща могу… лечь спать…
– Да ну? – Татьяна Борисовна рассмеялась. – Без борща это прямо дерзость, штурм и нахальство! Неужто можете?
Рагнар смешался, попытался что-то ответить, но слова все выскочили из строя и никак не собирались обратно. Он махнул рукой, встал, как-то в воздух погрозил пальцем и пошел сердитым широким шагом прочь.
– Схема, Рагнар! Вы забыли катапульту Леонардо!
– Не забыл, а оставил на хранение! К вам никакой враг не подойдет, вы вся из ежей противотанковых! Но нас это не остановит, Татьяна Борисовна!
И уже веселее пошел к выходу с площади.
Татьяна Борисовна посидела еще немного на скамейке, полюбовалась на начинавшие цвести крокусы и достала из корзинки планшет.
– Ну, что ж. Наверное, пора, действительно, начать преобразования. Но для начала нужно, все-таки написать Леонардо.
Никого в Малом Заиндене не могло бы удивить, что Татьяна Борисовна переписывается с Леонардо. Во-первых, она знала итальянский, что уже достаточно для переписки, а во-вторых, еще во времена своего знакомства с Паскалем, она очень привязалась к этому странному человеку, который с одинаковой страстью изобретал и жизнь и смерть.
«Caro Leonardo, spero che la mia lettera ti arrivi in un momento in cui non avrai assolutamente nulla da fare. Sulla base dei miei calcoli, avremo presto bisogno di un nuovo futuro. Tutti i modelli calcolati indicano che i vettori convergono in un punto, dal quale potremmo non uscire con azioni progressive. Nuovi scenari hanno già iniziato ad essere introdotti nel gioco, ma falliscono anche, le persone hanno smesso di agire in modo lineare. Naturalmente analizzeremo questi casi al prossimo colloquio, ma temo che non ci daranno una soluzione. Potremmo aver bisogno di te molto presto, quindi preparati ad andare. Barba prepara la tua ul, ti dovrebbe piacere (Дорогой Леонардо, надеюсь, мое письмо попадет к тебе в тот период, когда тебе будет совершенно нечем заняться. Судя по моим расчетам нам скоро понадобится новое будущее. Все рассчитанные модели говорят о том, что векторы сходятся к одной точке, из которой обычными действиями мы можем и не выбраться. В Игре уже начали вводить новые сценарии, но они тоже дают сбой, люди перестали действовать линейно. Мы, конечно, разберем эти случаи на ближайшем коллоквиуме, но, боюсь, они не дадут нам решения. Ты нам можешь понадобиться довольно скоро, так что уже собирайся в путь. Борода готовит тебе комнату, тебе должно понравиться)».
Татьяна Борисовна немного подумала о том, стоит ли писать подробнее про то, что расчеты показывают на вероятность самопроизводного возникновения новой Разделенности, поскольку что-то изменилось в сущности, но решила не торопиться с тем, что надлежало еще проверить.
Нажала кнопку «отправить», сняла очки, аккуратно сложила их в футлярчик и направилась к дому Фрау Фауст.
Если тебе нужно поломать голову над какой-нибудь загадкой, то лучшее место – это кабинет Фрау Фауст. Конечно, если там в это время не будет обретаться Фаустов Муж. Но здесь все просто, надо просто попросить огородниц достать свои камеи и затеять вечер романса.
Глава 4. Мир утрачивает бинарность
У Фрау Фауст царил небывалый кавардак. Еще вчера она начала разбирать архивы с записями лучших ядов и удобрений, но наткнувшись на отдельный растрепанный том без обложки и со скрученными страницами, села его приводить в порядок и забыла про все остальное. Кошки Фрау Фауст уже устали нападать и прятаться среди обрывков знаний и ушли в сад караулить дроздов. Фрау Фауст читала, не отрываясь и уже была примерно на пятисотой странице, если, конечно, считать их по порядку. В беспорядке это могла быть какая угодно страница. Алхимики расположились по привычке в самом уголочке стола под лампой. Если не знать, что они здесь, их можно было бы и не заметить, настолько гомеопатическими человечками они были. Но их было ровно столько, сколько положено – 118. Они прибавлялись примерно по одному человечку в пару лет и на ближайшее столетие места под лампой Фрау Фауст им вполне хватало.
Алхимики были заняты поиском философского камня – эта игра им не наскучила за последнее тысячелетие, а Фрау Фауст нумеровала химическим карандашом абзацы, ее губы были характерного синего цвета.
– Фроня, у тебя тут первобытный хаос! – воскликнула с порога Татьяна Борисовна.
– Все, как и положено, зато не скучно! Через пару минут должна прийти Клавдия, она вычитала что-то интересное в новой книге какого-то британца.
– Ох, уж эти британцы, никак не могут держать язык за зубами, за последние пару сотен лет они разболтали практически все наши секреты.
Татьяна Борисовна достала из своей корзинки пирог с малиной, сливочник, три ажурные кофейные чашки и накрахмаленную скатерть с анютиными глазками по углам.
– Еще немного и ты достанешь оттуда гостиный гарнитур! – фыркнула Фрау Фауст.
– А не помешало бы, приличные дамы должны пить кофе в приличном месте!
– Сливочник, видимо, к Таисье?
– А почему бы нет: если придет Клавдия, то и Таисия не помешает.
Клавдия появилась следующим образом: сначала громкий голос в паре дворов вниз по улице, потом сосредоточенное пыхтение, потом «ох!», а потом, наконец и сама Клавдия. В этот раз она была в шерстяном балахоне с кистями и в лихой клетчатой кепке.
– Шотландцы в городе, – объявила она с порога и заговорщицки поинтересовалась: – Чужих нет?
– Отзыв: чужие здесь не ходят! – в тон ей ответила Фрау Фауст и оторвалась, наконец, от своей книги.
Как и было предсказано, вскоре пришла Таисия и, как не было предсказано вовсе, заглянула птичница Глаша.
– Ну, вот: элемент неожиданности соблюден, можно пить кофе, – объявила Татьяна Борисовна и достала из корзинки еще пару чашек, примус и медный котелок.
– Когда ты уже, наконец, нормальным кофейником обзаведешься? – увидев старого друга проворчала Клавдия. – У меня вот и кофейник, и джезва, и турка, и кофеварка. Рекомендуют к каждому кофе свой подход, я читала.
– Ну, ты пока дочитывай весь список, а мы с котелком будем кофе варить по старинке, – незлобливо ответила Татьяна Борисовна и завела примус. Кошки Фрау Фауст переглянулись и начали о чем-то советоваться.
– Даже и не думайте, – прикрикнула на них хозяйка, – никаких грибоедовых у меня сегодня в планах не было!
И, наконец, сели пить кофе.
За этим я их и застала, зайдя по дороге от Бороды домой. Время было еще раннее, и я справедливо рассудила, что лучше зайти к кому-нибудь на минутку-другую, чем слушать перебранку Савросьи с Лешуней. Они еще с утра затеяли плести годовой наговор и тренировались изо всех сил – через пару дней должна была состояться майская ночь, Лены на Горе уже готовили большой котел по этому случаю, огородницы поторапливали ландыши успеть расцвести. Попадать под язык ни Лешуне, ни Савросье не хотелось, а потому я сначала зашла к Клавдии, потом к Татьяне Борисовне, а не обнаружив ни ту, ни другую поняла, что единственный верный путь мой лежит к Фрау Фауст. Так и прибыла.
Татьяна Борисовна снова полезла в свою сумку и выудила оттуда еще оду чашку и горсть сушеных фиалок.
– Странно, – сказала она, – вроде бы австрийских принцесс не ожидается.
– Ожидается парень, который научил австрийскую принцессу пить кофе с фиалками, когда писал ее портрет, – сказала я неожиданно для самой себя.
Клавдия недовольно подобрала крошки от пирога с тарелочки и сказала, что вечно у некоторых одни парни на уме, а толку и проку от этого никакого.
– Ну, не скажи, – сказала Татьяна Борисовна. – От парней бывает очень даже неплохой прок
– И с ними точно не скучно, – добавила Фрау Фауст.
– Что ж ты своего мужа во флигель отселила, развлекалась бы безостановочно, – фыркнула Клавдия.
– Ну, иногда сепарация дает совершенно удивительный эффект, – мягким голосом вступила Таисья. – Когда все смешано в одну субстанцию, трудно определить во что больше готово превратиться молоко, все варианты одинаково возможны, но вероятнее всего или сливки или простокваша. Два варианта. А вот разделение – это магия. Вариантов сразу становится намного больше и очень важно успеть из всех частей получить пользу.
– Разделение – это магия, да, – задумчиво проговорила Татьяна Борисовна. – Но магия хороша, если она управляема. Самостоятельная магия как правило тяготеет к Прекращению. А добывать пользу из Прекращения…
– Я что заглянула-то, Фрау Фауст, – перебила ее птичница Глафира, – У меня второй день в каждом яйце по три желтка.
– И в утиных? – уточнила Фрау Фауст.
– И даже в лебединых. Все как сговорились!
– Интересно, очень интересно. Чтобы уточка да три мира несла, такого не бывало…
Женщины склонились над лукошком с яйцами и стали на свет просматривать их одно за одним. Фрау Фауст обернулась к лампе и окликнула занятых своими беседами алхимиков:
