Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда бесплатное чтение
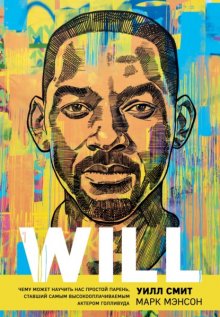
© Кваша Е., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022
Стена
Наружная стена в мастерской моего отца давно начала осыпаться, и когда мне было одиннадцать, он решил, что пора ее перестроить. Стена была большой: метра три с половиной в высоту и шесть в ширину. Отец все делал своими руками. Но в тот раз он решил, что эта работа пойдет на пользу мне и моему младшему брату Гарри.
Сносом папуля занимался сам. Помню, как я посмотрел на огромную зияющую дыру и не поверил своим глазам. Я был твердо уверен, что на этом месте больше никогда не будет стены.
Почти каждый день в течение года мы с братом после школы отправлялись в мастерскую и строили стену. Мы все делали сами — закапывали опоры, таскали ведра, смешивали раствор. До сих пор помню состав: две части цемента, одна часть песка, одна часть извести. Мы намешивали раствор лопатами прямо на тротуаре, заполняли им семилитровые ведерки и укладывали кирпичи. Мы не пользовались арматурой или деревянными рамками, у нас был только обыкновенный уровень — тот, что с пузырьком воздуха в середине.
Если вы хоть что-то смыслите в стройке, то знаете, что так делают только полные чудаки. Чисто между нами — это был чуть ли не каторжный труд. В наше время за такое и службу защиты детей можно было бы вызвать. Такая нудная и бессмысленно долгая работа заняла у двух детей почти весь год, хотя команда взрослых мужиков справилась бы за пару дней.
Мы с братом пахали на выходных, в праздники и каникулы. В тот год мы потратили на это весь летний отдых. Все это было не важно — отец никогда не брал выходных, поэтому и нам было нельзя. Я все время смотрел на дыру в полном отчаянии — она казалась невозможно огромной. Думал, что этому не будет ни конца, ни края. Казалось, что мы строим Великую Западно-Филадельфийскую стену — миллиарды красных кирпичиков бесконечно тянулись в далекую пустоту. Я был уверен, что состарюсь и помру, так и мешая цемент и таская ведра, иначе просто и быть не могло.
Но папуля не давал нам продыху. Каждый день мы должны были приходить, мешать цемент, таскать ведра, класть кирпичи. Хоть дождь, хоть адская жара, даже если я был не в настроении, даже если я заболел, даже если завтра была контрольная — отговорок он не принимал. Мы с братом жаловались и протестовали, но папуле было наплевать. Он взял нас в оборот. Эта стена была нашей константой, нашей неизменной. Сменялись времена года, друзья появлялись и пропадали, учителя выходили на пенсию, но стена оставалась. Во веки веков, стена была всегда.
Однажды мы с Гарри были в особенно паршивом настроении. Мы тянули резину и ныли себе под нос, «невозможно то-се», «ужасно пятое-десятое».
— На кой нам вообще сдалась эта стена? Это невыносимо. Мы ее никогда не достроим.
Папуля нас услышал, бросил свои инструменты и направился к нам, демонстративно топая ногами. Он выхватил кирпич у меня из рук и выставил его перед нами на вытянутой руке.
— Да забудьте вы про эту чертову стену! — сказал он. — Нет никакой стены. Есть только кирпичи. Ваша работа — идеально уложить вот этот кирпич. Затем следующий кирпич. Затем еще один. Вы не строите стену. Вы кладете кирпичи, один за другим.
Он вернулся в мастерскую. Мы с Гарри переглянулись, помотали головой — старик совсем спятил — и продолжили мешать.
Самые важные жизненные уроки я усваивал вопреки самому себе. Я им сопротивлялся, отрицал, но в конце концов от тяжелой правды было не увернуться. Кирпичная стена моего отца была одним из этих уроков.
Тянулись дни, и я начал понимать, что он имел ввиду, хоть мне и не хотелось себе в этом признаваться. Когда я думал о стене, работа казалась невозможной. Нескончаемой. Но когда я думал об одном кирпиче, все становилось просто — я знал, что уж один чертов кирпич я смогу уложить…
Шли недели, кирпичи укладывались, и дыра становилась чуточку меньше. Я начал понимать, что разница между выполнимой и невыполнимой задачей — только в том, как ты к ней относишься. Что перед тобой — стена или кирпич? Блестяще сдать выпускные экзамены и поступить в колледж, стать одной из первых мировых звезд хип-хопа, построить одну из самых успешных карьер в истории Голливуда — во всех случаях, казалось бы, невозможную цель можно было разбить на несколько небольших выполнимых задач. Все непреодолимые стены состоят из простых и понятных кирпичиков.
Всю свою карьеру я не переставал вкалывать. Я принципиально выкладывался на все сто. А весь секрет моего успеха сводится к простой и скучной истине: я прихожу и укладываю следующий кирпич. Все бесит? Кладу кирпич. Низкие кассовые сборы? Кладу кирпич. Альбом плохо продается? Иду и кладу кирпич. Проблемы в браке? Кладу кирпич.
За последние тридцать лет я, как любой другой человек, сталкивался с провалами, потерями, унижением, разводом и смертью. Моей жизни угрожали, мои деньги отнимали, в мою личную жизнь вторгались, моя семья разваливалась — и каждый божий день я поднимался, мешал цемент и укладывал следующий кирпич. Через что бы ты ни проходил, перед тобой всегда есть следующий кирпич, который нужно уложить. Вопрос лишь в том, будешь ли ты его укладывать.
Я слышал, что имя ребенка может влиять на его характер. Мое имя мне дал отец — он назвал меня в свою честь, и этим наделил меня самым важным качеством: способностью выдерживать невзгоды.
Он дал мне волю.
Помню холодный пасмурный день, примерно через год с начала нашей с братом работы. К тому времени строительство стены стало такой постоянной частью моей жизни, что мысли о ее завершении казались бредом. Будто даже если бы мы ее достроили, за ней немедленно появится новая дыра, которую снова придется чинить. Но тем прохладным сентябрьским утром мы намешали последнюю порцию раствора, наполнили последнее ведро и уложили последний кирпич.
Папуля стоял и следил, как последние кирпичики ложились на свое место. С сигаретой в руке он тихо любовался нашей работой. Мы с Гарри уложили и выровняли последний кирпич, затем наступила тишина. Гарри слегка пожал плечами — и что нам теперь делать? Прыгать, кричать, праздновать? Мы робко отошли от стены и встали по обе стороны от папули.
Мы втроем внимательно осматривали нашу новую стену.
Папуля бросил сигарету на землю, раздавил ее ботинком, выдохнул последний клуб дыма и, не отрывая взгляда от стены, сказал:
— Чтоб больше мне не говорили, что вы чего-то не можете.
Затем он вернулся в мастерскую и продолжил работать.
Глава 1
Страх
Я всегда считал себя трусом. Большая часть моих детских воспоминаний так или иначе связана со страхом — я боялся других детей, боялся покалечиться или опозориться, боялся, что меня будут считать слабаком.
Но сильнее всего я боялся своего отца.
Когда мне было девять, я увидел, как он ударил маму по голове с такой силой, что она потеряла сознание. Я видел, как кровь пошла у нее изо рта. Именно этот момент моей жизни сильнее всего повлиял на то, каким человеком я стал.
Во все, что я делал с тех пор — церемонии награждений, интервью, публичные выступления, персонажи и шутки — во все я пытался вложить извинения перед мамой за то, что в тот день я ничего не сделал. За то, что подвел ее в тот момент. За то, что не смог дать отпор отцу.
За то, что был трусом.
«Уилл Смит», которого вы себе представляете, — уничтожающий инопланетян рэпер, знаменитый киноактер — это, по большей части, конструкт — тщательно созданный и отточенный мной персонаж, существующий, чтобы я мог себя защитить. Спрятаться от мира. Скрыть труса.
Отец был моим героем.
Его звали Уиллард Кэрролл Смит, но мы все называли его «папулей».
Папуля родился и вырос на суровых грязных улицах Северной Филадельфии в 1940-е. Папулин отец, мой дед, владел небольшим рыбным рынком. Каждый день ему приходилось работать с четырех утра до поздней ночи. Бабушка была медсестрой и часто работала в больнице в ночную смену. Поэтому папуля большую часть детства провел без присмотра и в одиночестве. Жизнь на улицах Северного Филли делала человека жестче. Ты либо превращался в злобного подонка, либо погибал. Папуля начал курить в одиннадцать, а пить в четырнадцать. Так в нем зародились дерзость и агрессия, преследовавшие его до конца жизни.
Когда ему было четырнадцать, бабушка с дедушкой, боясь за жизнь сына, скопили денег, чтобы отправить его в сельскохозяйственный интернат на просторах Пенсильвании, где детей учили фермерству и ручной работе. Место было строгое и старомодное, поэтому они надеялись, что там он научится дисциплине и ответственности.
Но моему отцу никто был не указ. Иногда он возился с двигателями в тракторах, но в основном ему было совершенно наплевать на всю эту, как он выражался, «херню для деревенщин». Он прогуливал уроки, курил и продолжал пить.
В шестнадцать лет папуля решил — хватит с него школы, он поедет домой. Он хотел сделать так, чтобы его исключили. Он начал срывать уроки, игнорировать правила, огрызаться на учителей. Но когда его попытались отправить восвояси, бабушка с дедушкой отказались его забирать.
— Мы заплатили вам за целый год, — сказали они. — Вам заплатили, чтобы вы с ним разбирались, вот и разбирайтесь.
Папуля оказался в ловушке.
Но он был парень не промах — в свой семнадцатый день рождения он улизнул из кампуса, прошел пешком восемь километров до ближайшего призывного пункта и записался в Военно-воздушные силы США. В этом был весь папуля — настолько ему хотелось досадить родителям и школьному управлению, что он выпрыгнул из огня сельскохозяйственного интерната в полымя армии США. Так он сам пришел к дисциплине и ответственности, которым его хотели научить бабушка с дедом.
Как ни странно, папуля был в восторге от армии. Именно там он познал всю силу организованности и дисциплинированности, двух качеств, которые стали опорой, защищавшей его от его же худших качеств. Встаешь в четыре утра, все утро зарядка, весь день работа, всю ночь учеба — так он влился в струю. Он обнаружил, что может превзойти любого, и очень этим гордился. И в этом тоже проявлялась его дерзость. Его никто не смог бы обойти, потому что он был впереди планеты всей.
С его трудолюбием, необузданной энергией и острым умом он мог бы быстро подняться в звании. Но тут возникали две сложности.
Во-первых, у него был вспыльчивый характер, и если кто-то был неправ, он этого не терпел, даже если этот кто-то был старше по званию.
Во-вторых, пьянка. Уж поверьте, отец был одним из умнейших людей, которых я знал, но если он был зол или пьян, он превращался в идиота. Он нарушал свои же правила, срывал планы, портил свою жизнь.
После двух лет в армии его тяга к саморазрушению взяла свое и положила конец его военной карьере.
Однажды ночью они с парнями из взвода перекидывались в кости. Папуля это дело очень любил. Мужики продули ему почти тысячу баксов. После игры он припрятал выигрыш в своем шкафчике и отправился что-нибудь съесть, но, когда он вернулся из столовой, оказалось, что парни украли свои деньги обратно. В ярости папуля напился до чертиков, взял пистолет и устроил пальбу в казармах. К счастью, никто не пострадал, но для воздушных сил и это было достаточной причиной, чтобы его вытурить. Повезло, что его не отправили под трибунал — а просто уволили, посадили на автобус и велели никогда не возвращаться.
Таков был внутренний конфликт, пронизывавший всю его жизнь — он требовал безупречности от себя и людей вокруг, но стоило ему перебрать с выпивкой, и он сам был готов сжечь все дотла.
Папуля вернулся в Филли. Недолго думая, он нашел работу на металлургическом комбинате, а по ночам стал ходить на вечерние курсы. Он изучал инженерное дело, начал увлекаться электропроводкой и холодильной техникой. Однажды, когда он в третий или четвертый раз не получил повышение на комбинате из-за своей расы, он просто ушел оттуда и больше не вернулся. Он умел работать с холодильниками, поэтому решил открыть свое дело.
Папуля был гением. Я, как и многие дети, обожал своего отца, но в то же время он вселял в меня ужас. Он был моим благословением и одним из моих величайших источников боли.
Моя мама — Кэролайн Элейн Брайт. Она из Питтсбурга, родилась и выросла в Хоумвуде, преимущественно чернокожем районе на востоке города.
Мама, она же «мамуля», красноречивая и утонченная. Она невысокая, с длинными, тонкими пальцами пианистки, идеально подходящими для роскошного исполнения «К Элизе». Она была отличницей в Академии Вестингауза и одной из первых черных женщин в Университете Карнеги-Меллона. Мамуля часто говорила, что знания — единственное, чего жизнь не сможет у тебя отнять. И волновали ее в жизни лишь три вещи: образование, образование и образование.
Она интересовалась бизнесом — банковским делом, финансами, продажами, контрактами. У мамули всегда были свои деньги.
Мамина жизнь пролетала быстро, как это часто бывало в те времена. Впервые она вышла замуж в двадцать лет, родила дочь и развелась меньше трех лет спустя. К двадцати пяти годам она, бедная мать-одиночка, была одной из самых образованных афроамериканских женщин во всем Питтсбурге и при этом работала в местах, которые ее не стоили. Чувствуя себя загнанной и желая от жизни большего, она собрала вещи и уехала с ребенком к моей бабушке Джиджи в Филадельфию.
Мои родители познакомились летом 1964-го. Мамуля работала нотариусом в банке «Фиделити». Однажды она с подружками пошла на танцы, и одна из них предложила ей познакомиться с парнем. Парня звали Уилл Смит.
Во многом мамуля была полной противоположностью отца. Папуля был громким, харизматичным центром внимания, а мамуля — тихой и сдержанной. Не потому, что она была скромной или запуганной, просто она предпочитала говорить только тогда, когда не стоило молчать. Она любит слова и выбирает их очень тщательно — мамуля красноречива, как профессор. Папуля, в свою очередь, базарил как последний гопник и упивался своей матерной поэтичностью. Однажды я слышал, как он назвал человека «падлой херопроскотской».
А вот мамуля никогда непечатно не выражалась.
Тут важно заметить, что папуля в свое время был парень видный. Ростом под метр девяносто, умный, красавец, да еще и гордый владелец кабриолета «Понтиак», красного, как пожарная машина. Он шутил, пел и играл на гитаре. Люди к нему тянулись. На любой вечеринке он был душой компании со стаканом в одной руке и сигаретой в другой, травя байки и развлекая гостей.
Когда мамуля в первый раз увидела папулю, он напомнил ей высокого Марвина Гэя. Он был смышленым и умел найти подход к людям. Он мог любого уломать пустить его на вечеринку, налить за счет заведения и усадить за столик поближе к сцене. Папуля держался так, будто все под контролем и все будет хорошо. Маму это привлекало.
Мамины воспоминания о начале их отношений — это размытая череда ресторанов и клубов, пронизанная бесконечными шутками и смехом. Мамуля обожала его чувство юмора, но еще важнее для нее была его амбициозность. У него было свое дело. У него были работники. Он хотел работать в белых кварталах и нанимать белых людей.
Папуля имел виды на жизнь.
Мой папа не привык общаться с такими образованными женщинами, как мама — охренеть, какая сообразительная цыпа, думал он. Папуля набирался знаний на улице. Мамуля — из книжек.
Но и общего у моих родителей было много. Они оба питали страсть к музыке. Они любили джаз, блюз, а позже фанк и R&B. Они жили в эпоху Мотауна — первого лейбла звукозаписи, созданного афроамериканцем — и большую часть ее танцевали вместе на душных подвальных концертах и в джаз-клубах.
Были и загадочные совпадения — такие, которым поражаешься и думаешь: наверное, их свел Господь. Матери обоих моих родителей работали медсестрами в ночную смену (одну звали Хелен, вторую — Эллен). У обоих были недолговечные браки в юности, от которых у каждого осталось по дочери. И, наверное, по самому удивительному совпадению, они оба дали своим дочерям имя Пэм.
Родители поженились без особого шума на Ниагарском водопаде в 1966 году. Немного погодя, папуля переехал в дом моей бабушки Джиджи на северной Пятьдесят четвертой улице в Западной Филадельфии. Очень скоро они объединили свои сильные качества и таланты и стали умелой командой. Мамуля управляла папулиной конторой: зарплаты, контракты, налоги, бухгалтерия, лицензии. А у папули появилась возможность делать то, что у него получалось лучше всего: трудиться и зарабатывать.
Позже оба моих родителя с теплотой отзывались о тех ранних годах. Они были молоды, влюблены, целеустремленны, и их жизнь шла в гору.
Мое полное имя — Уиллард Кэррол Смит-второй. Не младший. Папуля всегда поправлял людей: «никакой он, нахрен, не младший». Он считал, что называть меня «младшим» было бы унизительно для нас обоих.
Я родился 25 сентября 1968 года. Мама рассказывает, что я был болтуном с самого момента моего рождения — все улыбался, агукал и лепетал, стремясь наделать шуму.
Джиджи работала в ночь в больнице Джефферсона в Центр-Сити, поэтому по утрам она присматривала за мной, пока родители были на работе. У ее дома было огромное крыльцо, где я в первом ряду смотрел спектакль Пятьдесят четвертой улицы, имея возможность в любой момент выйти на сцену и присоединиться к представлению. Даже в том раннем возрасте я обожал играть на публику.
Младшие близнецы Гарри и Эллен родились 5 мая 1971 года. Вместе с мамулиной дочерью Пэм нас стало шесть человек под одной крышей.
К счастью, предприимчивость папули была по-прежнему на высоте. От простого ремонта холодильников он перешел к установке и техническому обслуживанию промышленных холодильников и морозильных камер в супермаркетах. Бизнес взлетел — он стал расширяться за пределы Филли в соседние пригороды. Он завел целый автопарк и нанял команду мастеров и электриков, а еще арендовал небольшое здание под головной офис.
Папуля всегда был ушлым. Помню, одной особенно холодной зимой, когда с деньгами стало туго, он научился ремонтировать керосиновые обогреватели — в те времена такими топили все дома в Филли. Он расклеил объявления по городу, и народ побежал к нему со своими сломанными обогревателями. Папуля придумал, что отремонтированный обогреватель нужно было «проверять» пару дней, чтобы удостовериться, что все работает. Так у нас в доме всегда было десять-двенадцать обогревателей, которые он «проверял на качество». С таким количеством легко можно было обогреть целый дом даже в самую холодную зиму, поэтому папуля отказался от отопления, держа при этом всю свою семью в тепле, да еще и получая за это деньги.
К тому времени, как мне исполнилось два, папулин бизнес шел так хорошо, что он смог купить собственный дом всего в паре километров от дома Джиджи, в приличном районе Западного Филли под названием Уиннфилд.
Я вырос в доме 5943 на Вудкрест-авеню, засаженной деревьями улице примерно с тридцатью домами из серовато-красного кирпича, стоящими вплотную друг к другу. Тесно кучкующиеся дома объединяли и людей (а еще это значило, что если у соседей завелись тараканы, то и у вас, скорее всего, тоже). Все друг друга знали. Молодой черной семье в 1970-е годы было не подобраться еще ближе к исполнению американской мечты.
Через дорогу от нас была средняя школа Бибер с великолепной детской площадкой. Там можно было играть в баскетбол и бейсбол. Девчонки прыгали на скакалке, мальчишки мутузили друг друга. А уж когда наступало лето, кто-нибудь тут же врубал пожарный гидрант. В нашем районе было полно детей, и мы все время играли на улице. На сто метров вокруг моего дома жило почти сорок ребят моего возраста: Стейси, Дэвид, Риси, Шери, Майкл, Тедди, Шон, Омар — всех не упомнишь, и это еще не считая их братьев и сестер, или детей с соседних улиц. (Стейси Брукс — моя самая старая подруга, мы познакомились, когда моя семья переехала на Вудкрест. Мне было два года, ей три. Наши мамы подвезли нас друг к другу в колясках и познакомили. В семь лет я был в нее влюблен, а она была влюблена в Дэвида Брэндона, которому было девять.)
Хорошие были времена, и люди в постели явно не сдерживались.
То, что я рос в достатке, часто было поводом для критики, когда я только начинал свою карьеру рэпера. Я не состоял в банде, не продавал наркотики. Я вырос в хорошем районе в полной семье. Я до четырнадцати лет учился в католической школе с преимущественно белыми детьми. У мамы было высшее образование. И, что про него ни говори, отец всегда о нас заботился и скорее сам бы умер, чем бросил своих детей.
Моя история сильно отличалась от историй молодых чернокожих ребят, которые стали основоположниками хип-хопа. Для них я почему-то не имел права на творчество. Меня называли «тупым», «отстойным», «банальным», «пустышкой», и это меня ужасно злило. Сейчас я понимаю, что придавал этим выпадам слишком много значения. Они, сами того не зная, задевали меня за живое — я считал себя трусом и стыдился этого.
Папуля мерил мир понятиями командующих и миссий. Военный склад ума пронизывал все стороны его жизни. Он управлял нашей семьей, как взводом на поле боя, а дом на Вудкрест был нашим гарнизоном. Он не просил нас прибраться в комнате или заправить постель — он командовал:
— За уборку!
В его мире не существовало «мелочей». Выполнение домашнего задания было миссией. Уборка в туалете — миссия. Поход за продуктами в супермаркет — миссия. А мытье пола? Оно никогда не было простым мытьем пола. Это была проверка твоей способности слушаться приказов, проявлять дисциплину и добиваться идеального результата. Он очень любил повторять: «Девяносто девять процентов — это все равно что ноль».
Если солдат проваливал одну из своих миссий, он или она должен был повторять ее, пока не добьется совершенства. А невыполнение приказа отправляло тебя под трибунал, который обычно приговаривал к ремню по голой заднице (он говорил: «Снимай штаны, я не собираюсь бить одежду, которую сам купил»).
Отец все считал вопросом жизни и смерти. Он готовил детей к выживанию в суровых условиях — в мире, который казался ему беспорядочным и жестоким. Насаждение страха было — и во многом остается — культурной тактикой воспитания детей в чернокожем сообществе. Страх считается необходимым для выживания. Многие уверены, что для того чтобы защитить черных ребятишек, нужно заставить их бояться родительского авторитета. Насаждение страха считается проявлением любви.
13 мая 1985 года папуля зашел к нам в комнаты и велел ложиться на пол. В паре миль к югу от Вудкрест-авеню полиция Филадельфии только что сбросила пару фунтовых бомб на жилой квартал. Нам было слышно приглушенное тра-та-та-а-а-тра-та-та-а автоматных очередей. В тот день в бомбардировке радикальной организации MOVE погибли пять детей и шестеро взрослых. Целых два городских квартала — шестьдесят один дом — были сожжены дотла.
Новости, казалось, всегда подкрепляли папулину точку зрения. Идеология папули основывалась на том, чтобы умственно и физически натренировать нас для противостояния в неизбежных столкновениях с врагом. Однако он невольно создал вокруг нас атмосферу постоянного напряжения и тревоги.
Помню, как однажды вечером воскресенья папуля взял редкий выходной и сидел в гостиной, глядя телевизор. Он окликнул меня:
— Слышь, Уилл?
Я тут же отозвался:
— Да, пап?
— Сбегай-ка к мистеру Брайанту да притащи мне сигарет.
— Есть, сэр!
Он протянул мне пять долларов, и я отправился в магазинчик на углу. Тогда мне было, может, лет десять, но дело было в 1970-е, и родители могли посылать детей за сигаретами.
Я помчался по улице прямо к мистеру Брайанту, без остановок. Совершенно запыхавшийся — идеальный солдатик.
— Здрасте, мистер Брайант, папа послал меня к вам за сигаретами.
— Здравствуй, Уилл, — сказал мистер Брайант. — Их сегодня не завезли. Передай папуле, что они будут завтра. Я отложу для него блок.
— Хорошо, спасибо, мистер Брайант. Я передам.
И как хороший солдатик, я отправился домой. На обратом пути я встретил Дэвида и Дэнни Брэндонов, которые как раз раздобыли новую странную игрушку — мячик «Нерф». Это был мячик, но мягкий.
Тут бы любой солдат остановился.
Игрушка была обалденная — меня потрясла изобретательность этого невероятного предмета. Им можно было играть зимой, и пальцам не будет больно, если поймаешь! Его можно упустить, он прилетит тебе в лицо, и ничего! Одна минута превратилась в пять, пять — в десять, десять — в двадцать… Внезапно Дэвид и Дэнни остолбенели. Они неотрывно смотрели мне куда-то через плечо.
Я обернулся и похолодел. По центру улицы прямо на меня рассерженно шагал папуля в расстегнутой рубашке.
— ТЫ ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ?
Дэвида и Дэнни как ветром сдуло. Я принялся оправдываться:
— Папа, мистер Брайант сказал, что сигареты не завезли…
— ЧТО Я ВЕЛЕЛ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ?
— Папа, я знаю, но…
— КТО ГЛАВНЕЕ?
— В каком смысле?..
— КТО ГЛАВНЕЕ?! ТЫ? ИЛИ Я?
Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди, голос дрожал:
— Ты, папа…
— ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ГЛАВНЫХ ДВОЕ, ПОГИБНУТ ВСЕ! ТАК ЧТО, ЕСЛИ ТЫ ГЛАВНЫЙ, НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТОБЫ Я С ТОБОЙ СЧИТАЛСЯ!
Его ноздри трепетали, жилка на левом виске бешено пульсировала, взгляд прожигал мое хрупкое десятилетнее тельце насквозь.
— Когда я отправляю тебя на задание, вариантов всего два. Первый — ты выполняешь задание. Или второй — ТЫ УМЕР. Понял меня?
— Да, папа.
Папуля схватил меня за шкирку и потащил домой.
Я считал, что не заслуживал порки. Я считал, что не заслуживал большую часть порок в моем детстве — мне казалось, что это несправедливо. Я не был таким ребенком, которого надо было пороть. Я изначально старался угодить. Дэвида Брэндона надо было пороть. Мэтта Брауна надо было пороть. Но если я бедокурил, то обычно по рассеянности — забывал что-нибудь или витал в облаках. Я думаю, телесные наказания в детстве лишь убедили меня в том, что я плохой.
Постоянный страх на протяжении всего детства отточил мою чувствительность к каждой детали моего окружения. С очень раннего возраста я выработал острейшую интуицию, способность ощущать любую эмоцию вокруг меня. Я научился чувствовать гнев, предсказывать радость и понимать печаль на гораздо более глубоком уровне, чем большинство других детей.
Умение распознавать эти эмоции было совершенно необходимо для моей личной безопасности: угрожающие нотки в папулином голосе, язвительный мамин вопрос, недовольный прищур сестры. Я обрабатывал все это быстро и основательно, иначе косой взгляд или неудачное слово могли быстро превратиться в ремень на моей заднице или в кулак у маминого лица.
На поясе с инструментами папуля носил черную кожаную ключницу где-то с тремя десятками ключей. Это была моя сигнализация. Как только он заходил в двери, я слышал звон ключей, которые он складывал обратно в чехол. Я приноровился определять его настроение по ритму и силе, с которой он возился с ключами. Моя спальня находилась наверху лестницы, прямо напротив входной двери. Если он был в хорошем настроении, ключи тоненько звякали, как будто были легче обычного. Если же он был раздражен, я слышал, как он встряхивает их, вешая обратно на пояс.
А если он был пьян, ключи не имели значения.
Эта эмоциональная осознанность осталась со мной на всю жизнь. Как ни парадоксально, она сослужила мне добрую службу как актеру и музыканту. Я мог легко распознавать, понимать и имитировать сложные эмоции задолго до того, как люди стали мне за это платить.
Мой отец родился на исходе Великой депрессии. Он был нищим черным пареньком с улиц Северного Филли в 1940-е. По сути, он отучился всего десять классов. Однако за свою жизнь он построил бизнес с десятком наемных работников и семью грузовиками, который продавал тридцать тысяч фунтов льда в день в продуктовые магазины и супермаркеты в трех штатах. Он работал неделями без выходных, десятками лет без отпуска. Моя мама помнит, как папуля среди ночи приходил домой из мастерской, вываливал тысячи долларов наличными на кровать, командовал: «Пересчитай», а затем немедленно уходил обратно в ночь, продолжать работу.
Отец был моим мучителем. Еще он был одним из величайших людей, которых я знал. Мой отец был жестоким, но, кроме того, он являлся на все мои матчи, спектакли и концерты. Он был алкоголиком, но трезвым приходил на каждую премьеру всех моих фильмов — всех до единого. Он переслушал все мои альбомы. Он посетил каждую из моих студий. Тот же невероятный перфекционизм, который третировал его семью, каждый день моей жизни приносил еду к нашему столу. Множество моих друзей выросли, либо вообще не зная своих отцов, либо никогда с ними не видясь. Но папуля всегда меня поддерживал и никогда не покидал свой пост, ни единого раза.
Как бы мы ни страдали от милитаристских взглядов папули на любовь и семью, мама страдала сильнее всех. Когда главных двое, погибают все. Это значило, что моя мама не могла быть главной.
Проблема заключалась в том, что мама не была такой женщиной, которой можно командовать. Она была образованной, гордой и упрямой, и как бы мы ни упрашивали ее молчать, она не слушалась.
Однажды, когда папуля дал ей пощечину, она стала его подначивать:
— Поглядите-ка, мужик нашелся! Думаешь, раз бьешь женщину, значит, ты мужик, а?
Он снова ударил ее, сбив с ног.
Она тут же поднялась, посмотрела ему в глаза и спокойно сказала:
— Бей сколько хочешь, но больно ты мне не сделаешь.
Я запомнил это на всю жизнь. Значит, он мог бить ее тело сколько угодно, но она каким-то образом контролировала то, что «делало ей больно»? Мне захотелось стать таким же сильным.
В моем доме все были борцами.
Кроме меня.
Моя старшая сестра была сильной, как мама. Она была старше меня на шесть лет и поэтому служила мне телохранителем. Она могла заступиться за меня в любой момент, перед кем угодно. Множество раз кто-нибудь отнимал у меня деньги, или меня задирали так, что я приходил домой в слезах. Тогда Пэм брала меня за руку, выводила на улицу и кричала:
— КТО ЭТО СДЕЛАЛ? Покажи пальцем, Уилл!
А потом она спокойно надирала задницу тому незадачливому ребенку, на которого я указывал. Я очень расстроился, когда она уехала в колледж.
Гарри тоже был сильным. Я-то изо всех сил старался угодить отцу, как только мог. Гарри же подражал маме. Он с самого юного возраста предпочитал просто стоять и терпеть побои. Однажды он накричал на отца:
— Бей сколько хочешь, но я не заплачу. [Шлеп] Я не плачу! [Шлеп] Я не плачу!
Наконец, поняв, что его не сломить, папуля совсем отстал от Гарри. И все это время храбрость Гарри только подкрепляла мой стыд — мой младший брат мог противостоять «монстру». В семье борцов я был слабаком. Я был трусом.
Когда играешь роль, необходимо понимать, чего боится персонаж, чтобы проникнуть в его или ее душу. Страхи порождают желания, а желания подпитывают действия. Эти повторяющиеся поступки и предсказуемые реакции служат строительными кирпичиками для великих персонажей в кино.
В реальной жизни все примерно так же. С нами происходит что-то плохое, и мы решаем, что никогда больше этого не допустим. Но, чтобы это предотвратить, нам надо что-то сделать. Мы выбираем поступки, которые, как нам кажется, принесут безопасность, стабильность и любовь. И повторяем их снова и снова. В кино это называется персонажем. В реальной жизни— личностью.
То, как мы решаем реагировать на свой страх, делает нас тем человеком, которым мы становимся.
Я решил быть смешным.
Все мои братья и сестры помнят ту ночь, когда папа избил маму. Мы все были ужасно напуганы, но каждый отреагировал по-своему, и эти реакции определили то, кем мы будем большую часть нашей жизни.
Несмотря на то что ему было всего шесть лет, Гарри попытался вмешаться и защитить нашу маму — он будет делать это еще много раз в последующие годы, иногда даже успешно. Но в ту ночь папуля только оттолкнул его в сторону.
Мой брат интуитивно усвоил мамин урок о боли. Гарри нашел внутри себя неприкосновенное место, где его можно было бить, сколько хочешь, но ему никогда не будет больно. Я помню, как однажды он крикнул отцу:
— Тебе придется убить меня, чтобы остановить!
В ту же ночь моя сестра Эллен убежала к себе в комнату, спряталась под кровать, заткнула уши и заплакала. Позже она вспомнила, как папуля проходил мимо ее комнаты и, услышав ее рыдания, равнодушно спросил:
— А ты-то чего ревешь?
Эллен решила отрешиться. Не только от папули, но и от всей остальной семьи. Через много лет ее отрешенность превратится в самый настоящий бунт. Она будет ночи напролет пить и курить, и даже не побеспокоится о том, чтобы позвонить и сказать, где она.
Если реакция Гарри была «бей», то Эллен выбрала «беги», а я стал угодником. Все детство мы с братьями и сестрами осуждали друг друга за наши противоположные реакции, и это осуждение переросло в ненависть. Эллен думала, что мы с Гарри ее не поддерживаем. Гарри считал, что я, как старший брат, должен был быть сильнее и что-нибудь предпринять. А мне казалось, что их реакция только подливала масла в огонь и делала нам всем хуже. Я хотел, чтобы все закрыли рты и делали по-моему.
Мне хотелось угождать и потакать папуле, ведь я думал, что, пока он смеется и улыбается, мы в безопасности. Я отвечал в семье за развлечения. Я хотел, чтобы всем было легко, весело и радостно. И хотя позже эта психологическая реакция принесет творческие и финансовые плоды, это также значило, что мой маленький девятилетний мозг считал, что я виноват в папулиных приступах агрессии.
Я должен был успокоить отца. Я должен был защитить маму. Я должен был сделать семью стабильной и счастливой. Я должен был все исправить.
Навязчивое желание постоянно угождать другим, всегда смешить и веселить их, отвлекать их от плохих вещей на что-то радостное и прекрасное, породило настоящего артиста.
Но в ту ночь я стоял в дверях комнаты и смотрел, как мой отец осыпает ударами женщину, которую я любил больше всего на свете. Я смотрел, как она беспомощно падает на пол — и не мог пошевелиться.
Все детство мне было страшно, но это был первый раз, когда я осознал свою беспомощность. Я был старшим сыном моей мамы. Я был от нее меньше, чем в десяти метрах. Ей мог помочь только я.
Но я ничего не сделал.
В тот момент эта детская беспомощность стала частью моей личности. И, независимо от моих поступков, от моего успеха, от заработанных денег, записанных хитов и побитых рекордов в кинопрокате, в глубине души я всегда слышал эту маленькую тихую мыслишку: я трус, я все профукал, мамочка, прости, прости меня, пожалуйста.
Знаешь, что бывает, когда главных двое? Когда главных двое, погибают все!
В ту ночь, когда мне было всего девять лет и я смотрел, как разваливается моя семья, и моя мама падает на пол, — в тот момент я дал молчаливую клятву. Своей матери, своей семье, себе.
Однажды я стану главным.
И этого больше никогда, никогда не повторится.
Глава 2
Фантазия
Вы-то все явно думали, что я начну книгу со слов «Я-я-я-я родился и вырос в Западной Филадельфии…», а не с рассказов о домашнем насилии и страданиях.
И у меня, правда, было такое искушение — я ведь притворщик. И не простой какой-нибудь притворщик, я — легенда, плохой парень, человек в черном: я кинозвезда. Мне постоянно хочется разобрать реальность на части, перестроить ее и поменять на то, что мне больше нравится. Или, скорее, что нравится вам: я ведь любимец публики. Это буквально моя профессия. «Правда» — это то, во что я решил заставить вас поверить, и я заставлю вас в это поверить. Такая уж у меня работа.
Мне хотелось подчистить правду, навести глянец, чтобы она засверкала. Я — мастер рассказывать истории. У меня было искушение показать вам безупречный бриллиант, несгибаемого парня. Продемонстрировать вам фантастический образ успешного человека. Мне всегда хочется сделать вид, что все хорошо. Я живу в постоянной войне с реальностью.
Конечно, существует и тот «Уилл Смит», что расхаживает по красной ковровой дорожке, летает на аэромобиле, носит пацанскую стрижку, бьет рекорды в кинопрокате, женится на красотке, подтягивается как в фильме «Я — легенда». Крутой «Уилл Смит».
А есть я. Эта книга обо мне.
- Я родился и вырос в Западной Филадельфии,
- Целыми днями торчал на спортивной площадке,
- Зависал, тусовался, круто отрывался,
- А каждый день после школы мне давали люлей хулиганы…
Вот как должно было петься в той песне. Ну ладно… признаю, я был чудаковатым пареньком. Тощим, бестолковым, с очень странными предпочтениями в одежде. Еще мне не повезло родиться с выдающейся парой ушей, похожих на ручки трофейного кубка, как однажды подметил Дэвид Брэндон.
Наверное, я бы и сам над собой насмехался. В добавок ко всему, я еще и загонялся по физике с математикой. Наверное, я люблю математику за ее точность. Мне нравится, когда все складывается. Числа не играют в игры, у них нет настроений или мнений.
Еще я много болтал — наверное, даже слишком. Но, самое главное, у меня было буйное и живое воображение, целая жизнь в фантазиях, которые были намного масштабнее и длились намного дольше, чем у большинства детей. Пока другие дети возились с пластмассовыми солдатиками, мячиками и игрушечными пистолетиками, я конструировал замысловатые фантастические сценарии и погружался в них без памяти.
Когда мне было восемь или девять, мамуля отправила нас с Пэм в летний лагерь Сэйр-Моррис в Юго-Западной Филадельфии. Лагерь был самый обычный: игровая, бассейн, мастерская. После первого дня я вернулся домой и прибежал на кухню, где сидела мама с нашей соседкой мисс Фредой.
— Привет, малыш. Как тебе лагерь? — спросила мамуля.
— Ох, мам, мне так понравилось. Там был большой джазовый оркестр с трубами и скрипками, с певцами и барабанами, и у них еще были такие штуки, — я изобразил игру на тромбоне.
— А еще был конкурс танцев, и человек пятьдесят танцевали одновременно…
Мисс Фреда посмотрела на мою маму — Джазовый оркестр? Пятьдесят обученных танцоров? В детском лагере?
Мисс Фреде было невдомек, что она попала под перекрестный огонь нашей с мамой веселой игры, которая продолжается и по сей день. По правилам этой игры, я описываю самую яркую, захватывающую, невероятную сцену, которую только могу представить, перемешиваю ее с тем, что случилось со мной на самом деле, а мамулина задача — определить, что из этого правда и в каком случае ей нужно что-то предпринять.
Мама замолчала и близко наклонилась ко мне. Ее взгляд работал как старинный детектор лжи, действующий на материнской мудрости. Он выискивал малейшие прорехи в моей невероятной истории. Я не повел и бровью.
Но она увидела достаточно.
— Уиллард, не шути так. В лагере Сэйр не было никакого джазового оркестра.
— Нет, мама, я точно говорю — это было обалденно.
Сбитая с толку мисс Фреда сказала:
— Но Кэролайн, он ведь даже не знает, как называется тромбон — значит, наверное, правда видел его?
— Нет. Он все время такое проделывает.
Ровно в этот момент в кухню зашла Пэм, и мама спросила:
— Пэм, сегодня в лагере правда был большой джазовый оркестр, конкурс танцев и тромбон?
Пэм закатила глаза.
— Чего?! Нет, конечно. Это был музыкальный автомат, мам. Уилл целый день стоял там и слушал музыку — даже в бассейн не пошел.
Мамуля посмотрела на мисс Фреду.
— Я же говорила.
Я расхохотался — мамуля выиграла этот раунд, но я хотя бы победил мисс Фреду.
Мое воображение — это дар, а когда он совмещается с моим умением работать, с неба начинает идти дождь из денег.
Мамуля всегда больше всего во мне любила мое воображение (и то, что я хорошо учился). У нее ко мне немного странное отношение. Она любит то, как я валяю дурака, но требует, чтобы я был умным.
Когда-то в жизни она решила, что может говорить только о важном: об образовательной реформе, инвестициях в будущее, недобросовестных законах в сфере здравоохранения. Она «не терпит глупости». Они с папулей вечно спорили обо всем на свете.
— Интеграция — это худшее, что происходило с черными, — категорически заявлял папуля.
— Я тебе не верю, Уилл, — ты просто пытаешься меня позлить, — отмахивалась мамуля.
— Нет, ты послушай, Кэролайн! До интеграции у нас все было свое. Черный бизнес процветал, потому что ниггерам приходилось покупать у ниггеров. Химчистка, ресторан, мастерская — все были нужны друг другу. Но как только черным разрешили есть в Макдоналдсе, вся наша экономическая инфраструктура пошла коту под хвост.
— Так ты считаешь, что лучше было бы растить детей в рабстве или сегрегации? — говорила мамуля.
— Я считаю, что, если бы фонтан принадлежал ниггерам, то ниггеров нанимали бы его чинить.
Мамуля никогда бы так не сказала папуле в лицо, но нам она всегда повторяла:
— Никогда не спорь с дураком, потому что со стороны не поймешь, кто из вас дурак.
Если она прекращала с тобой спорить, сразу было ясно, что она думает о твоей точке зрения.
Когда я выдумываю глупости, груз ее забот о мире становится легче. Но ей нужно, чтобы я говорил и умные вещи. Она считает, что я смогу выжить, только если буду умным. Ей нравится, когда соотношение ума и глупости составляет где-то 60 к 40. Она — моя лучшая зрительница. Есть в ней какая-то неведомая ей самой часть, которая меня все время подначивает.
Ну же, Уилл, глупее, умнее, глупее, умнее…
Мне нравится закинуть ей с виду ужасную глупость с умным зерном внутри и ждать, клюнет ли она. Мой любимый момент — выражение ее лица, когда она замечает умную вещь в дурацкой обертке.
Юмор — это продолжение ума. Трудно быть по-настоящему смешным, если ты не очень умен. А смех — это мамулино лекарство. В каком-то смысле я — ее маленький доктор, и чем больше она смеется, тем нелепее, умнее и грандиознее то, что я придумываю.
В детстве я пропадал в своем воображении. Я мог грезить бесконечно — для меня не было лучшего развлечения, чем миры моих фантазий. В лагере и впрямь был джазовый оркестр. Я слышал трубы, видел тромбон, штаны с подтяжками и соломенные шляпы, танцоров на сцене. Миры, которые мой разум создавал и населял, были для меня так же реальны, как «явь», а иногда даже реальнее.
Этот постоянный поток образов, цветов, идей и глупостей стал моим пристанищем. А потом возможность разделить с кем-то это пространство, перенести кого-нибудь туда, стала наивысшей формой счастья. Мне нравится полностью завладевать вниманием людей, сажать их на аттракцион эмоций, гармонирующих с порождением моих фантазий.
Для меня грань между фантазией и реальностью всегда была тонкой и прозрачной, и я мог легко пересекать ее туда и обратно.
Беда в том, что фантазия одного человека — это ложь для другого. У себя в околотке я прослыл заядлым вруном. Друзья никогда не верили моим словам.
Эта странная причуда осталась со мной и по сей день. Она стала вечным поводом для шуток в дружеском и семейном кругу: мои истории надо всегда делить на два или на три, чтобы понять, что случилось на самом деле. Иногда я рассказываю историю, а приятель смотрит на Джаду и спрашивает:
— Так, а что было на самом деле?
Но тогда другие дети не понимали, что я не врал о своих ощущениях — это мои ощущения врали мне. Я терялся и с трудом отличал реальность от вымысла. Это стало моим защитным механизмом — мой разум даже не задумывался о правде. Я думал: что надо сказать, чтобы всем стало лучше?
Но мамуля меня понимала — ей нравились мои странности. Она позволяла мне вдоволь дурачиться и творить.
Например, большую часть детства у меня был воображаемый друг по имени Маджикер. Многие дети проходят через фазу воображаемых друзей — обычно в возрасте от четырех до шести лет. Эти воображаемые друзья — аморфные личности, у которых обычно нет какой-то конкретной формы или характерных черт. Воображаемый друг хочет того же, что и ребенок, не любит того же, что и ребенок, и так далее. Он создан, чтобы акцентировать внимание на желаниях и чувствах ребенка.
Но Маджикер был не таким. Даже сейчас, когда я пишу эту книгу, воспоминания о Маджикере остаются такими же яркими и явственными, как и любые другие переживания моего детства. Он был полноценной личностью.
Маджикер был маленьким белым мальчиком с рыжими волосами, светлой кожей и веснушками. Он всегда носил голубой костюмчик из полиэстера с ослепительно-алым галстуком-бабочкой. Его брючки всегда были подтянуты чуточку высоко, и из-под них выглядывали несуразные белые носки.
Большинству детей воображаемые друзья служат проекцией и подтверждением их чувств, но у Маджикера были конкретные предпочтения и мнения о том, во что нам следует играть, куда идти и что делать. Иногда он со мной не соглашался. Иногда заставлял меня выйти на улицу, когда мне этого не хотелось. У него было твердое мнение о некоторых блюдах и людях. Даже сейчас я сижу, вспоминая наши отношения, и думаю: Черт побери, Маджикер, это же я тебя выдумал!
Маджикер был такой важной частью моего детства, что мама иногда накрывала ему на стол вместе с нами. А если со мной нельзя было договориться, она обращалась к Маджикеру:
— Так, Маджикер, а ты готов идти спать?
К счастью, тут мы с Маджикером всегда были единодушны — мы никогда не были готовы идти спать.
Побочным эффектом моего блуждания в фантазиях было множество странных идей о том, что считалось крутым, модным или смешным. Например, я не знаю, откуда это взялось, но как-то раз у меня началась спорная, но страстная фаза любви к ковбойским сапогам. Господи, как же я обожал ковбойские сапоги. Я отказывался обувать что-либо еще. Я носил их со спортивным костюмом. Я носил их с джинсами.
Да даже с шортами, черт возьми.
Но в Западной Филадельфии черный паренек, обутый в ковбойские сапоги, мог с тем же успехом просто прицепить себе на спину мишень. Ребята безжалостно насмехались и издевались надо мной, но я не понимал, почему. Сапоги ведь были просто отпадные.
Чем больше они смеялись, тем сильнее я привязывался к сапогам.
Я всегда был чудаковатым. То, что казалось мне нормальным, для окружающих выглядело странным, а то, чему другие радовались, порой меня нисколько не вдохновляло.
Тогда на пике моды были велосипеды Хаффи, все дети о таком мечтали. И как-то раз в Рождество все мои друзья из нашего квартала собрались и договорились попросить у родителей Хаффи. План был таков: мы все поедем на наших одинаковых велосипедах в Мерион-парк — он как раз был достаточно далеко от нашего района, чтобы вышло настоящее приключение.
Рождество наступило, и Санта расщедрился на десять новеньких одинаковых Хаффи. Наступил полдень, и все высыпали на улицу.
Все, кроме меня.
Видите, ли, я не стал просить Хаффи. Хаффи — это для сосунков! Я должен был всем показать, как выглядит настоящий велосипед. Все попросили типовой, стандартный, заурядный «Хаффи», а мне не хотелось быть частью стада. Поэтому я попросил… ярко-красный «Роли-Чоппер». Чопперы были такими заниженными велосипедами с большим колесом сзади и малюсеньким спереди, с рулем, который торчал высоко в воздухе, тройной передачей и гоночным седлом, в просторечии величавшимся «бананом». В мире детских велосипедов это был «Харли-Дэвидсон». На нем ты чувствовал себя как на мотоцикле. Это был безоговорочно самый крутой велик на свете.
Всю ночь накануне я не мог уснуть, воображая свое появление. Я продумал все до мелочей: когда все соберутся у меня перед домом, я выкачусь из-за дома, чтобы никто не ожидал. Я даже сочинил и отрепетировал речь, которую произнесу, когда они увидят меня на моем «Чоппере».
— Какие дела, сосунки, чего ждете? Погнали!
И промчусь мимо, чтобы им пришлось меня догонять: Уилл Смит, вожак стаи, король улицы.
Наконец, долгожданный момент настал. Я наблюдал за ними из-за занавесок в гостиной. Они ждали и гадали: ну и где Уилл? И тогда я выкатился из-за дома, царапая рулем небеса, гладко накручивая педали своими ковбойскими сапогами — «Роли-Чоппер» на первой скорости шел как по маслу.
Я был крут.
Я качусь мимо, все на меня смотрят. Я киваю и добиваю их словами:
— Какие дела, сосунки, чего ждете? Погнали!
Несколько секунд было тихо. Я решил, что потряс их до глубины души.
А потом меня чуть не сшибло с «Чоппера» волной смеха, раздавшейся из-за моей спины. Тедди Эллисон буквально валялся на земле от хохота.
Сквозь слезы он едва смог выдавить:
— Это че за драндулет?
Я ударил по тормозам и обернулся, чтобы посмотреть — это только Тедди угорает, или остальные с ним солидарны.
— Чувак, ты в байкеры ударился? — спросил Дэнни Брэндон. — Тебе же из-за руля ничего не видать!
Майкл Барр тихо сказал:
— Чему их только учат в белых школах.
Но их мнение не имело значения, потому что сам себя я считал красавчиком. Это одна из особенностей гиперактивного воображения: я мог заставить себя поверить во что угодно. Я был уверенным в себе на грани помешательства.
И хотя такое несколько искаженное восприятие себя в детстве часто приводило к насмешкам или побоям, потом оно не раз становилось моей суперсилой. Если ты не знаешь, что чего-то не можешь, то ты это просто делаешь. Когда родители сказали, что мне нельзя становиться рэпером, потому что хип-хоп — это не работа, меня это не смутило. Я знал: родители просто ничего не понимают. Когда телепродюсеры спросили, умею ли я играть на камеру, я ответил: «Конечно», хотя в жизни не снимался. Я подумал: да что тут уметь? Когда продюсер киностудии заявил, что не может нанять меня, потому что зрители за рубежом не пойдут на фильм с черным в главной роли, я не то чтобы оскорбился — просто не понял, как такого тупоголового оленя могли взять в продюсеры. Тупость удручала меня даже больше, чем расизм. Люди указывали мне, как я должен себя вести, и это была полная чушь. Я знал, что их правила на меня не распространяются.
Жизнь в собственном мирке с собственными правилами иногда бывает на пользу, но надо быть осторожным. Нельзя полностью терять связь с реальностью. Иначе будут последствия.
Мое сознание было бескрайней площадкой для игр, которую я с удовольствием исследовал.
Но когда я был маленьким, фантастические иллюзии еще не приносили мне никакой пользы, зато последствий было хоть отбавляй. Терпимость и понимание бывали редкостью в школах Западной Филадельфии. Дети бывают жестоки. И чем сильнее ты выделяешься, тем меньше тебе пощады.
Детская площадка — это место охоты, где каждый маленький мальчик испытывает на прочность границы собственной расцветающей мужественности, пытается красоваться и доминировать, постоянно поддразнивая и подстрекая других мальчишек, сравнивая себя с ними и наказывая тех, кто слабее.
Я был тощим и исключительно неспортивным. Мои конечности совершенно не дружили с туловищем. Кроме того, у меня было гиперактивное воображение — иными словами, для других ребят я был патологическим лжецом. Все это значило, что остальные мальчишки видели во мне легкую и оправданную мишень для демонстрации своих преимуществ. Меня третировали, звали в игры последним, били и оплевывали — что ни назови, я собрал все.
Однажды, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, наша компашка играла в баскетбол на школьном дворе. Я был особенно хорош в ярко-зеленых шортах и моих любимых ковбойских сапогах. У себя в голове я был Мэджиком Джонсоном, но на настоящем корте я скорее напоминал фигуриста — ковбойские сапоги не так хорошо обеспечивают сцепление с поверхностью или поддержку голени, как обычные баскетбольные кроссовки.
Короче говоря, я все время спотыкался.
В какой-то момент начался обычный баскетбольный выпендреж: все рисовались, подражая движениям своих любимых игроков. Один парень кричал: «Карим!», забрасывая «небесный хук». Другой вопил: «Бёрд!», бросая трехочковый. Но дело было в Филадельфии в начале 80-х — как посмели они проявить неуважение к улицам своего города? Тут можно кричать только одно имя: доктор Джей, Джулиус Ирвинг.
Поэтому я воскликнул:
— Берегитесь! Док идет! С дороги, сейчас я забью мяч в корзину с прыжка!
Мэтт Браун расхохотался:
— Чувак, тебе не судьба забить слэм-данк.
И впрямь, я никогда еще не забивал данк, но стоило мне это произнести, как я поверил своим словам. Отходя к центру площадки, я облизнул пальцы и обтер их о подошву своих ковбойских сапог для сцепления. Готовясь к разбегу, клянусь Богом, я не сомневался, что попаду в корзину.
Пока я разминался, парни начали делать ставки.
— Ставлю три доллара, что у тебя ничего не выйдет, Уилл!
— Идет! — отозвался я. — Готовь мои денежки!
— Я ставлю пять, — сказал кто-то.
— Все останетесь с пустыми карманами! Делайте ставки!
И я на все соглашался, потому что у меня в голове мяч уже был в корзине. Парни расступились. Они выжидали, и их бормотание сошло на нет, пока я принимал стойку. А потом — бум! Я припустил через корт. У меня перед глазами Джулиус Ирвинг делал свой победный бросок в разгромном финальном матче с «Лэйкерс» в 1983 году. Топая сапогами и вихляя ногами, я отбил мяч в последний раз. Присел, подпрыгнул, полетел, замелькали вспышки фотоаппаратов, толпа неистово взревела.
А потом… тишина.
Я почему-то падаю. На спину? Что-то пошло не так.
БАМ! — реальность врезала мне своим асфальтовым кулаком со всей силы.
Я не Джулиус Ирвинг.
Я отрубился.
Чем больше фантазия, в которой ты живешь, тем больнее неизбежное столкновение с реальностью. Если ты изо всех сил убеждаешь себя в том, что твой брак всегда будет счастливым и простым, то реальность разочарует тебя с той же силой. Если ты вообразил, что деньгами сможешь купить счастье, то Вселенная даст тебе оплеуху и спустит с небес на землю.
А если ты думаешь, что можешь забивать мячи как Джулиус Ирвинг в ковбойских сапогах, то гравитация тебя сурово покарает.
Перемотаем назад и посмотрим, что же произошло на самом деле:
Я протопал от центра площадки к кольцу. Все шло нормально, пока я бежал за линию фола. Я в последний раз отбил мяч от земли. Взлет был гладким — не идеальным, — но я поднялся достаточно высоко, чтобы ударить мячом по краю корзины. Удар полностью остановил импульс, поднимавший меня вверх, а мои ноги полетели дальше (конкретно эту ошибку на баскетбольном сленге называют «повеситься на кольце»). Сейчас мне кажется, что тяжелые ковбойские сапоги могли усугубить вращающий момент.
Я шлепнулся оземь, сильно ударившись затылком и шеей, и потерял сознание.
Когда я очнулся, надо мной стоял мой друг Омар. Я видел мерцающие огни скорой помощи, у меня в волосах запеклась кровь, и я понятия не имел, где мой левый ковбойский сапог.
Я услышал голос Омара.
— Он очнулся! Он пришел в себя!
Омар — мой самый давний друг, не считая Стейси Брукс. В малолетстве он был таким косолапым, что все время путался в ногах, падал и набивал шишки, пока мы играли. Родители решили, что ему нужно сделать операцию. Когда ему было пять лет, врачи сломали обе его ноги и пересобрали их заново. Омар все лето проходил в ортезах, но когда пришло время идти в школу, он вдруг стал самым быстрым бегуном в квартале и научился танцевать лучше всех. Нам всем тоже захотелось сделать волшебную операцию!
Мой взгляд медленно фокусировался на лице Омара. Я понял по его глазам, что, видимо, шлепнулся неудачно. Он не смеялся. Он был перепуган.
— Чувак, ты как, нормально?
Я быстренько оценил обстановку: руки двигаются, ноги тоже. Ничего не сломано. Я смог кивнуть ему в ответ.
Меня привязали к каталке, затолкали в скорую помощь, и я бросил последний взгляд на Омара:
— Эй, Ом! Я же попал?
Фантазии — это естественная часть психологического развития. Но с годами мы понемногу перестаем витать в облаках, потому что понимаем: жить в реальном мире важнее, чем забываться грезами. Нам нужно учиться иметь дело с другими людьми, добиваться успеха в школе и на работе, выживать в материальном мире. И это непросто, если не умеешь адекватно воспринимать реальность.
Поэтому нам всем приходится проводить черту между реальностью и фантазиями. Некоторым людям это так хорошо удается, что во взрослом возрасте, к сожалению, они теряют способность воспринимать что-либо еще, кроме материального мира.
Но по какой-то причине со мной этого не произошло. Может быть, я отказался через это пройти, ведь фантазии защищали меня от мира. Выбирая между бескрайней игровой площадкой моего воображения и реальностью, полной постоянных угроз, мой разум предпочел фантазию.
Мы все немного лжем себе о том, что нас пугает. Мы боимся, что нас не примут люди на работе, или в школе, или в твиттере, поэтому убеждаем себя, что они ханжи, невежды или гады. Мы создаем целые истории о жизни других людей, на самом деле не зная, что они чувствуют, думают или переживают. Мы выдумываем, чтобы защититься. Мы сочиняем множество фактов о себе или о мире — не потому, что увидели им подтверждение, а потому, что только это не дает нам погрязнуть в страхах.
Иногда нам проще закрыть глаза, чем трезво посмотреть на мир таким, какой он есть.
Проблема в том, что иллюзии работают как конфетка с ядом — вначале сладко, а потом становится плохо. Истории, которые мы себе рассказываем, чтобы защититься, — это те же истории, которые возводят стены между нами и тем, чего мы отчаянно желаем. Я придумал себе друга по имени Маджикер, чтобы мне было не так одиноко. Но отчасти из-за этой фантазии я не мог поддерживать отношения с другими ребятами из моего района. Позже я нафантазировал, что богатство и слава решат все остальные проблемы в моей жизни. Но попытки воплотить и удержать эту фантазию лишь отталкивали от меня людей, которых я любил.
В детстве я считал, что, если буду развлекать и смешить папулю, он не будет делать больно моей маме. Но эта фантазия лишь заставляла меня чувствовать себя трусом, никчемным сыном — несмотря на то что я не был ни в чем виноват.
Моя воображаемая жизнь, конечно, в чем-то защищала меня, но и заставляла чувствовать вину, стыд и ненависть к себе. Все фантазии однажды рушатся. Как ни бейся, правду не одолеть. Реальность остается абсолютным чемпионом.
За все мое детство папуля брал летний отпуск всего раз. Когда твоя семья торгует льдом, ты торчишь на работе с первой недели июня, когда заканчивается школа, до самого сентября, когда пора снова возвращаться на занятия.
Но летом 1976 года папуля решил взять отпуск на два месяца, арендовать фургон и прокатиться с семьей через всю страну. В Лос-Анджелесе намечалась семейная сходка со стороны Джиджи. Мы отправились туда северным маршрутом, а обратно в Филли — южным.
Я повидал все уголки и закоулки Соединенных Штатов Америки. Мы покинули Филли и направились на запад в Питтсбург, чтобы навестить мамулин дом детства. Ее отец — мы звали его дедулей — все еще жил там. Он был похож на очень старого папулю. Ходили слухи, что дедуля мог так сильно разозлиться, что у него шла кровь из носа — и ему для этого достаточно было просто посмотреть футбол.
Следующая остановка — Кливленд, повидаться с тетушкой Тути и дядей Уолтом. Дальше Чикаго и Великие озера, потом Миннеаполис и обе Дакоты. Мы видели луговых собачек, но я не понял, почему их так называют — они были похожи на хомячков, стоящих на задних ногах, как Тимон из «Короля Льва». Гарри получил барабан ручной работы от вождя племени сиу в Южной Дакоте. Он барабанил всю дорогу через гору Рашмор, Башню Дьявола и до самого национального парка Йеллоустоун. Мы посмотрели Старого Служаку — я не мог поверить, что можно с точностью до секунды предсказать, когда он начнет извергаться. Рейнджер показывал пальцем, и абракадабра! Огромные струи кипящей воды выстреливали из земли. Пахло гадко — папуля сказал, что это сера (и спасибо ему, а то я на секунду подумал, что это Эллен испортила воздух).
Мамуля разбудила нас на рассвете на вершине горы в Вайоминге. Мы ехали над облаками. Вот каково, должно быть, оказаться в раю. Но потом нам пришлось остановиться на час, потому что на дорогу вышел барибал — черный медведь — и направился прямо к нашему фургону. Правила парка требовали заглушить мотор, если медведь оказывался в радиусе пятидесяти метров от машины. Папуля захлопнул окошко обеими руками — это был единственный раз на моей памяти, когда он чего-то испугался.
Недели через две папуля стал говорить, что он никогда еще не проводил столько времени вдали от других черных людей (не считая, конечно, нас — мы-то тоже черные). Папуля так соскучился по чернокожим собратьям, что однажды в зоне отдыха на дороге в Вайоминге он увидел отъезжающую черную парочку, догнал их и заставил остановиться, просто чтобы поздороваться и пожать им руки. Их это очень позабавило.
Папуля доехал до национального монумента Лунные Кратеры в Айдахо — это место выглядит точь-в-точь, как лунная поверхность, и ты прямо чувствуешь себя так, будто улетел на Луну. Он очень устал, но мамуле не хотелось быть на Луне — ей там было неуютно — поэтому мы не стали заселяться в мотель, и мамуля отвезла нас на юг, в Солт-Лейк-Сити. Когда папуля проснулся, мы отправились к Большому Соленому озеру. Он рассказал нам, почему плавучесть в соленой воде лучше, чем в пресноводных Великих озерах, и показал, как на ней лежать. Он делал лед, поэтому знал о воде все.
Но самой невероятной вещью, которую я видел за все свое детство, был Большой каньон.
— Весь этот каньон проделала вода, — сказала мамуля.
Я был совершенно потрясен, но боялся подойти к краю. Я помнил, что Питер Брэйди в сериале «Семейка Брэйди» тоже поразился тому, что вода смогла прорезать такой каньон. «Вот это да!» — сказал он. — «Так вот почему родители заставляют нас закрывать кран покрепче».
И стоило мне подумать, что этот день уже не сможет стать лучше, как Гарри нечаянно уронил свой барабан в каньон. Казалось, он летел вниз целых три дня. Мне так осточертело слушать его стук, что я решил — это сам Господь внял моим молитвам.
Та поездка сильно расширила мое воображение. Каждый встречный казался новым и интересным персонажем. Каждое направление — страной чудес. Мне казалось, сама жизнь хотела, чтобы я фантазировал. Пейзаж Америки был разнообразным и прекрасным — в нем были горы и прерии, долины и реки с белой водой, песчаные пустыни и разноцветные холмы, зеленые и окаменелые леса, бескрайние кукурузные поля, секвойи или сосны — точно не знаю — до самого горизонта, на котором иногда было солнце, а иногда далекие торнадо, смешные облака или страшные тучи.
Это были лучшие восемь недель в моей жизни — все были счастливы.
Мы были идеальной семьей.
Где-то в квартале от Вудкрест, в глубине Грэхэм-стрит, жил известный извращенец. Все местные дети о нем знали, и родители строго-настрого запрещали нам приближаться к его дому. Мы редко его видели — он был словно призрак, городская легенда.
Однажды я увидел, как маленькая девочка взошла на крыльцо его дома — он стоял в открытых дверях, приглашая ее внутрь. Сердце заколотилось у меня в груди. Я хотел окликнуть ее, но не смог пошевелиться — она была слишком далеко, а я его увидел. Я был в ужасе.
Я прибежал домой, взлетел по лестнице к себе в комнату и захлопнул дверь. Никому нельзя было входить в тот дом. Это был дом Плохого человека. Он меня заметил? Теперь он за мной придет?
Чтобы спрятаться как можно дальше, я забился в шкаф, трясясь от страха. Я чувствовал, что Маджикер со мной.
Надо рассказать взрослым, Уилл.
— Но я не могу. Вдруг тот человек узнает, что это я наябедничал? Вдруг он захочет отомстить?
Уилл, сейчас же иди, расскажи родителям.
— Не могу… Не могу, не могу.
Уилл. А ну иди. Сейчас же.
Но я смог только сжаться в комок на полу шкафа и заплакать.
УИЛЛ! ВСТАВАЙ! Ты должен пойти и рассказать родителям!
Маджикер на меня разозлился. А он ведь никогда не злился.
Ты должен кому-то рассказать. Ты должен встать, СЕЙЧАС ЖЕ!
Я зажмурился и закрыл глаза руками.
— Не могу.
Я не мог противостоять отцу. Я не мог противостоять соседским хулиганам. Я не мог даже рассказать кому-то о том, что кого-то другого, возможно, сейчас обижают. Да что со мной такое? Почему мне всегда так страшно? Почему я такой трус?
Я лежал и дрожал. От стыда. От слабости. Шли минуты. Я убрал руки от лица и открыл глаза.
Маджикер исчез.
Иногда фантазии рассеиваются, а ты понимаешь, что ты — все еще ты. Воображаемый друг или мяч в корзине не избавят тебя от страха. Они помогают забыться на миг, но реальность остается нерушимой. К счастью, кто-то еще увидел, что девочка зашла в дом, и вмешался. А если бы этого не произошло?
С тех пор я больше никогда не видел Маджикера.
Глава 3
Выступление
Каждое воскресенье по утрам в Воскресенской баптистской церкви монотонный голос преподобного Клаудиуса Амакера эхом раздавался под скрипучим деревянным потолком, осыпая нас добрым словом Божьим.
Моя бабушка Джиджи всегда наряжалась в церковь. Прилично выйти в люди на воскресную службу для нее было очень важной возможностью показать свою преданность Господу. Она надевала свое лучшее церковное платье с цветочным узором, идеально подобранный жемчуг и шляпку с огромной атласной брошью в виде бутона. Во время проповеди она обмахивалась веером, прикрывала глаза и одобрительно потряхивала головой, иногда приговаривала: «Аминь, пастор!», или просто согласно хмыкала. Временами она поглядывала на меня, убеждаясь, что я не отвлекся.
Но мне было всего девять. Люди хлопали в ладоши, ерзали на месте, плакали и молились, а я все это время лишь думал, когда же эта служба наконец закончится.
Однако все менялось каждое третье воскресенье месяца, когда за кафедру вставал приезжающий пастор — преподобный Рональд Уэст.
Преподобный Амакер был нашим постоянным пастором, и когда он разглагольствовал о силе Господней, его голос у меня в голове звучал как «бууу-бу, бу-бу-бу». Преподобный Уэст же являл собой силу Господню. Он носил стильные красные очки марки Cazal и костюм-тройку под цвет им с белоснежным платком в нагрудном кармане. Ростом он был метр девяносто и весил девяносто пять килограммов господних.
А уж на пианино преподобный Уэст играл с таким рвением, что потом инструмент можно было отправлять на помойку.
Преподобный Уэст руководил хором. Сначала он садился за пианино, левой рукой начиная играть, а правой — дирижировать какую-нибудь медленную балладу в духе Махалии Джексон, чтобы расшевелить стариков.
Но это было лишь затишьем перед бурей.
Потихоньку он набирал обороты, позволяя музыке ввести его в транс. Глаза его начинали слезиться, на лбу выступал пот, он нервно вытаскивал свой платок, чтобы протереть запотевшие очки. Ударные, бас, вокал — по его команде все становилось громче, как будто взывая к Святому духу. Затем, как по часам, наступало восторженное крещендо, и… БУМ! Святой дух заполнял собой все помещение. Преподобный Уэст, словно одержимый, вскакивал на ноги, отпинывал стул, обе его руки благоговейно лупили по пианино. Затем он с гортанным ревом срывался через всю сцену к церковному электрооргану и, заставляя инструмент исполнять волю Божью, начинал выжимать из него оглушительные блаженные аккорды… Пот летел с преподобного во все стороны, прихожане запевали и пускались в пляс, старушки теряли сознание от экстаза, а он все продолжал дирижировать хором и оркестром, ни на секунду не теряя контроля… до тех пор, пока его тело не сдавалось и не падало в бессилии и блаженстве от великой любви Господней.
Когда музыка затихала, Джиджи садилась на свое место, утирала слезы с глаз, и мое сердечко начинало биться чаще, хоть я и не совсем понимал, что это была за приятная вибрация в моем теле. Одно я понимал точно — я тоже хочу быть ТАКИМ. Хочу тоже заставлять людей чувствовать себя ТАК.
- Когда я ночью спать ложусь,
- Я тихо Господу молюсь:
- Коль ото сна я не проснусь,
- Пусть с Ним на небо вознесусь.
Меня всегда забавляло, что первая молитва, которой бабушка меня научила, на самом деле была рэпом.
Джиджи была с Иисусом на одной волне. Я встречал многих людей, считавших себя религиозными, но никто из них не следовал слову Божию так, как моя бабуля. Она была настоящим воплощением учений Христа. Для нее это было не просто воскресное хобби, в этом была вся ее жизнь. Все, что она говорила, делала и думала, было в угоду Господу.
Она работала в больнице в ночную смену, поэтому могла присматривать за детьми днем, пока наши родители были заняты. В четыре года, когда я впервые услышал фразу «ночная смена», я представил себе такую картину: моя бабуля-супергероиня зарабатывает мне на пропитание, сражаясь с призраками, демонами и другими чудищами, пока я тут лежу в кроватке, укутанный в свой кремовый пушистый пледик.
Я умолял ее:
— Пожалуйста, Джиджи, не уходи! Останься со мной!
Я чувствовал себя ужасно виноватым. Мое впечатлительное сознание расценивало эту ситуацию как личную неудачу и слабость. Я думал — ну что за ребенок будет спокойно лежать в кровати, пока его бабушка сражается с монстрами под покровом ночи?
Мне казалось, что она рискует собственной жизнью ради меня. Конечно, в каком-то смысле так и было — жизнью она, может, и не рисковала, но ради детей и внуков жертвовала многим.
— Когда-нибудь и я о тебе позабочусь, Джиджи, — говорил ей я.
— Ой, ну спасибо тебе, голубчик, — так она меня называла.
Однажды мы с Джиджи сидели у нее на крыльце, и она вязала свитер (который позже меня заставят носить). И тут мимо нас прошла бездомная женщина в грязной одежде и с измученным лицом, темным то ли от загара, то ли от грязи. У нее не было передних зубов. И, хотя она была еще достаточно далеко, я уже чувствовал от нее резкий запах мочи. До этого я никогда не встречал бездомных людей. Она выглядела как ведьма, и я молился, чтобы она поскорее прошла мимо.
Но Джиджи ее остановила.
— Простите, мисс, как вас зовут?
Я был в ужасе. Я думал: «Джиджи, что ты творишь?! Отстань от нее!»
Женщина явно не привыкла, чтобы у нее спрашивали имя, уж точно не в последнее время. Ей словно пришлось вспоминать его.
После длинной паузы она смерила бабушку взглядом и сказала:
— Клара.
— Уилл, познакомься с мисс Кларой, — произнесла Джиджи так, словно они были давними подругами.
Затем она спустилась с крыльца и приобняла Клару.
— А меня зовут Хелен, — сказала она и пригласила ее в дом.
Мое сознание судорожно металось между отвращением и ужасом. Но дальше стало только хуже.
Первым делом они пошли на кухню. Джиджи не стала давать Кларе уже готовую еду из холодильника — нет, она приготовила ей свежее блюдо. Пока Клара ела, Джиджи принесла ей чистый халат, забрала всю ее одежду и постирала.
— Уилл? — позвала она.
Что же ей от меня понадобилось?
— Да, Джиджи?
— Набери для мисс Клары ванну.
Возможно, именно в тот момент я придумал свою коронную фразу из кино. «ДА ЧЕРТА С ДВА!», подумал я. Но ванну все-таки набрал.
Джиджи отвела Клару наверх, искупала ее своими руками, вымыла ей волосы и почистила зубы.
Я хотел закричать: «Джиджи, прекрати трогать эту грязную тетю! Она провоняет всю ванную!», но знал, что так говорить нельзя.
Они были примерно одинаково сложены, поэтому Джиджи отвела Клару к своему шкафу с одеждой, поставила перед зеркалом и стала прикладывать к ней вещи, чтобы выбрать, какие ей подойдут.
Мисс Клара благодарно вздыхала и повторяла сквозь слезы:
— Хелен, пожалуйста, это все лишнее… Пожалуйста, перестаньте. Я этого не заслуживаю.
Но Джиджи и слышать таких глупостей не хотела. Она взяла Клару за обе руки и легонько потрясла их, чтобы та посмотрела ей в глаза:
— Иисус любит тебя, и я тоже, — сказала она.
Других аргументов она не принимала.
Джиджи относилась к чужим бедам как к своим. Она искренне следовала слову Божьему и считала доброту и любовь к окружающим честью, а не обузой. Я ни разу не слышал, чтобы она жаловалась на работу в ночную смену. Она ни одного плохого слова не говорила об отце, хоть он и избивал ее дочь. Следуя заветам из Библии, она готова была принять не только нас, но и кого угодно. Все люди были ей братьями, и она с радостью защитила бы каждого.
Джиджи была моральным компасом, направлявшим меня по жизни. Она была моей связью с Богом. Если Джиджи была мной довольна, это значило, что и Бог мной доволен. Если же она была мной разочарована, то и Всевышний тоже. Говоря со мной, она будто передавала мне наставления прямо с небес. Поэтому ее одобрение для меня было не просто теплыми чувствами любящей бабушки, а самой настоящей милостью Господа.
Джиджи воплощала в себе мое понимание святости и божественности. По сей день, когда я думаю о том, что делает человека хорошим, я представляю свою бабушку. Когда я ребенком садился на жесткую деревянную скамейку в церкви, я не понимал, какой смысл в чтении проповедей и изучении Священного Писания. Но у меня была Джиджи. Она прожила свою жизнь так, как учил Иисус. Благодаря ей я познал и почувствовал любовь Господа. Эта любовь дала мне надежду. Джиджи была для меня светом, показывавшим, что жизнь бывает прекрасной.
Вспоминая свое детство, я представляю отца, маму и Джиджи как треугольник мировоззрений.
Отец — дисциплина. Он научил меня усердию и трудолюбию. «Лучше умереть, чем сдаться».
Мама — образование. Она верила, что знания — неизменный путь к счастливой жизни. Она желала мне расти, развиваться, быть умным и расширять границы своего познания. «Знай, о чем говоришь, или молчи».
Джиджи — любовь и Бог. Родителям я хотел угодить, чтобы мне не влетело, а Джиджи я угождал, чтобы почувствовать благоговение божественной любви.
Эти три концепции — дисциплина, образование и любовь — живут в моем сознании и по сей день.
Джиджи обожала бродвейскую пьесу из 1960-х авторства Осси Дэвиса под названием «Победоносец Пёрли», которую в 1970 году адаптировали в мюзикл «Пёрли». Это была история черного проповедника по имени Пёрли, который переехал в Джорджию, основал там церковь и стал спасать местных рабов от злого владельца плантации. Однажды Джиджи решила, что все дети из Воскресенской церкви должны поставить «Пёрли» на сцене. Все заучивали каждую реплику и каждую песню наизусть. Мы с братьями и сестрами репетировали в гостиной, включая пластинку с записью на полную громкость, подпевая и пританцовывая в ритм песням.
Сорок лет прошло, но я до сих пор помню и могу спеть любую песню из «Пёрли».
Джиджи всегда поддерживала мою тягу к выступлениям. Она вызвалась быть организатором особых мероприятий в церкви и самостоятельно каждый год устраивала пасхальные песнопения, рождественский вертеп, кухню для бедных на День благодарения, праздничные концерты, ужины в честь крещений и так далее — что ни назови, всем занималась она. Стоило нам с братьями и сестрами научиться говорить, как она тут же отправила нас в церковь зачитать что-нибудь из Библии перед прихожанами, чтобы те «порадовались».
Родители поддерживали и мое увлечение музыкой. Всех детей они заставляли учиться играть на пианино, поскольку мамуля сама играла. Мой брат Гарри играл на саксофоне (отвратительно), а я в средней школе ходил на уроки барабана. Одно время я даже издевался над малым барабаном в школьном оркестре — правда, к всеобщему облегчению, продлилось это недолго. Только пианино мне по-настоящему нравилось, и я ему, кажется, тоже.
Одна из самых знаменитых сцен «Принца из Беверли-Хиллз» — финал пилотного выпуска, где после нашего спора дядя Фил выходит из комнаты, и я сажусь на скамейку перед пианино. Продюсеры сначала хотели, чтобы я сел спиной к клавишам, чтобы камера могла драматично приблизиться к моему лицу, пока я раздумывал над глубиной сказанных дядей Филом слов. Но во время съемки я сел лицом к клавиатуре и заиграл мамулину любимую «К Элизе» Бетховена. Джеймс Эйвери, не ожидавший такого поворота событий, вышел из-за угла. Публика утихла, и в тот момент все поняли, что сериал станет чем-то особенным. Мораль всей сцены была в том, что никогда нельзя судить книгу по обложке. Продюсерам так понравилась моя импровизация, что сцену решили не переснимать, и она стала лейтмотивом всего нашего сериала.
Но мое лучшее выступление на пианино случилось на десять лет раньше.
Мне было одиннадцать, Джиджи тогда устроила детский конкурс талантов, за которым следовал поиск пасхальных яиц в церковном зале. Я репетировал на пианино песню Морриса Альберта Feelings в качестве домашнего задания. Джиджи требовала, чтобы я исполнял ее каждый день в течение месяца. А потом она меня ошарашила:
— Голубчик, я хочу, чтобы ты сыграл эту песню в церкви на Пасху.
В то время я умел играть только эту песню и никогда не играл на пианино перед публикой, не считая семьи.
— Погоди, Джиджи, я не могу, я не готов, — залепетал я. — Я все ноты перепутаю.
Она улыбнулась.
— Малыш, — произнесла она, нежно гладя меня по щеке. — Господу не важно, правильные ли ноты ты играешь.
У Джиджи была волшебная способность — никто не мог устоять перед ее энергией, хоть она никого ни к чему не принуждала.
Так и получилось, что через две недели я сидел за церковным пианино, наряженный в бежевый полосатый пасхальный костюм-тройку. Джиджи сияла за кулисами. Мои руки тряслись. На меня в предвкушении глядели две сотни лиц. Тишина. Мое сердце так сильно билось в груди, что казалось, оно хочет выпрыгнуть наружу. Джиджи кивнула.
Я глубоко вдохнул, каким-то образом нащупал клавишу «фа» и приступил.
Пианино на сцене стояло так, что мне все время было видно Джиджи. Композиция Морриса Альберта звенела на весь зал для двухсот человек, но я играл лишь для одной из них. Выражение ее лица в тот момент… я не могу описать словами. Слова «гордость» и «одобрение» не передают всех эмоций. Могу лишь сказать, что с тех самых пор я пытался добиться такого взгляда от всех женщин, которых когда-либо любил. Никогда я больше не был настолько уверен в том, что мной восхищаются. Вся моя карьера, все выступления, музыкальные альбомы — все было неустанной попыткой снова пережить ощущения, которые я чувствовал в тот день, когда играл в церкви для Джиджи.
Мне не нужно было быть кем-то другим или делать что-то другое. В тот момент мне было достаточно самого себя, пускай даже и с перепутанными нотами.
После этого я стал все время выступать.
Я придумывал сценки для родителей, разыгрывал моменты из фильмов с друзьями, пел песни в церкви — выступления на публику стали моим маленьким оазисом счастья. Они давали мне теплоту и любовь, но под защитой маски. Для меня это был идеальный расклад: я мог одновременно прятать самого себя и получать любовь окружающих, избавлялся от риска быть ранимым, но получал все остальное.
Я подсел.
Но пролетит еще сорок лет, пока до меня дойдет, что я все это время неправильно понимал важнейший урок, который мне преподала бабушка. Если бы я понял тогда, чему она меня пыталась научить, эта книга закончилась бы прямо здесь. Но, как видите, впереди еще девятнадцать глав.
В один рождественский сочельник, когда вся Воскресенская церковь была так украшена от входа до алтаря, что сам Иисус бы прифигел, Джиджи мирно покачивалась под хоровое исполнение гимна «Твердо я верю». Я словно под гипнозом наблюдал, как она качается из стороны в сторону и тихо подпевает. Она не то чтобы улыбалась, но слегка приподнятые уголки ее рта выдавали в ней полную безмятежность. Позднее я понял, что так выглядят люди, которые знают что-то, чего не знает большинство из нас.
Она заметила, что я смотрел на нее.
— Что такое, голубчик?
— Джиджи, почему ты всегда такая счастливая? — прошептал я.
Вот тогда она по-настоящему улыбнулась. На секунду она задумалась, словно садовник, который собирается сажать свои самые ценные семена. Затем она наклонилась и прошептала мне на ухо:
— Я верю в Бога. И я так благодарна ему за все хорошее в моей жизни. Я знаю, что каждый мой вздох — это дар. Когда ты благодарен, невозможно не быть счастливым. Он дал мне солнце и луну. Он дал мне тебя. И всю нашу семью. И за все эти дары я плачу ему лишь одним простым делом.
— Каким, Джиджи?
— Я люблю и забочусь обо всех его детях, — ответила она. — Где бы я ни была, я стараюсь сделать лучше все вокруг.
Затем она протянула руку и легонько потрогала меня за нос.
— Вот так. Понял?
В лицо меня за всю жизнь называли «ниггером» раз пять или шесть. Дважды это были полицейские, пару раз — какие-то незнакомцы на улице, один раз это был белокожий «друг». Ни разу меня так не называли те, кто считал меня умным или сильным человеком. В школе я однажды услышал, как белые дети «шутят» про день «поймай ниггера, убей ниггера» — известный «праздник» в их районах. В ранние 1900-е некоторые члены белых сообществ в Филли выбирали определенный день и нападали на любого черного, которому не посчастливилось оказаться в их районе. Семьдесят лет спустя некоторые мои одноклассники из католической школы все еще считали, что это смешная шутка. Но каждое мое столкновение с неприкрытым расизмом было с людьми, которые мне казались в лучшем случае слабаками. Они всегда были глупыми и злобными. Как по мне, их легко было перехитрить или заткнуть. Таким образом, неприкрытый расизм хоть и царил повсюду вокруг меня, но никогда не внушал мне чувства неполноценности.
Меня растили человеком, готовым справляться с любыми проблемами в жизни, включая расизм. Уравнение из дисциплины, образования и Бога помогало справиться с любой проблемой и победить любого врага. Единственной переменной было мое желание участвовать в борьбе.
Но с возрастом я стал замечать вокруг себя более тихие и коварные формы предвзятости. В школе за одни и те же проступки меня наказывали строже, чем белых одноклассников. Меня реже вызывали к доске, и я чувствовал, что учителя относятся ко мне с бо́льшим пренебрежением.
Все детство я метался и искал свой путь между двумя мирами: миром черной культуры дома и в округе, в Воскресенской баптистской церкви, в мастерской папули — и миром белых в школе, католической церкви и в подавляющей части Америки. Я ходил в церковь, где все были черными, жил на черной улице, рос вместе с другими черными детьми. В то же время я был одним из всего лишь трех черных детей в католической школе имени Богоматери Лурдской.
В школе невозможно было не чувствовать себя изгоем. Я одевался не так, как белые дети, не слушал Led Zeppelin или AC/DC, и понятия не имел, как играть в лакросс. Я попросту не вписывался. Но я не то, чтобы вписывался и в своем районе. Я разговаривал не так, как другие дети, не пользовался сленгом — дома мне мама даже не разрешала говорить слово «чё». Мамуля работала в школьном совете Филадельфии и всегда боролась за чистоту речи. Однажды она услышала, как я кричу друзьям:
— Чё, куда со школы пойдете?
Она от ужаса задергала головой, как та девчонка из фильма «Экзорцист».
— Надеюсь, со школы они слезут благополучно, — съязвила она.
В католической школе, как бы грамотно я ни разговаривал, я все равно оставался черным ребенком. А на своей улице, насколько бы я ни разбирался в последних музыкальных альбомах или веяниях моды, я всегда был «недостаточно черным». Я был первым исполнителем хип-хопа, который «подходил» для белой публики. Но черная публика считала меня «банальным», потому что я не читал рэп о тяжелой гангстерской жизни. Такая расовая дискриминация в том или ином виде преследует меня всю мою жизнь.
В школе, как и дома, моей защитой было чувство юмора и выступления на публику. В классе я был типичным клоуном, без конца шутил, издавал дурацкие звуки, во всем пытался быть нелепым. «Смешной пацан» для них переставал быть просто «черным пацаном».
Смех не различает цвета кожи. Юмор разряжает любые негативные эмоции. Физически невозможно быть рассерженным, злобным и жестоким, когда тебя от хохота скрутило пополам.
Но в какой-то момент я стал замечать, что некоторые шутки, которые пользовались большим успехом в школе, на моей улице вызывали лишь недоумевающие взгляды — и наоборот. Я понял, что белые и черные по-разному воспринимают мои шутки.
Белым друзьям больше нравилось, когда я прикидывался очаровательным болваном или двигался, как персонаж из мультика. Однажды кто-то из белых ребят в школьном туалете стал поджигать свои пуки. Мне казалось, что это перебор, но всем остальным было смешно. Им нравились дурацкие каламбуры, игра слов и саркастичные высказывания, а еще они всегда требовали хеппи-энд — в конце все обязательно должно было закончиться хорошо.
Черные друзья предпочитали юмор с долей правды, более жизненный и грубый, чтобы внутри у шутки всегда был стержень сурового реализма. Глупое поведение они расценивали как слабость — если бы я решил пернуть на зажигалку у себя в районе, такую дурь из меня бы тут же выбили. Они лучше реагировали, когда шутки показывали, какой я сильный — в ход шли оскорбления, унижения, ругательства, особенно хорошо срабатывало осадить какого-нибудь выскочку. Им нравилось, когда кто-нибудь получал по заслугам — кармическое возмездие — даже если этим «кто-нибудь» были они сами. Черные очень любят смеяться над самими собой. Когда можешь относиться с юмором к своим проблемам, страданиям и трагедиям, жизнь становится немного легче.
Я научился маневрировать между этими двумя мирами. Когда мне удавалось рассмешить окрестных ребят, я не получал по щам. Если я смешил белых детей из школы, во мне не видели ниггера. Если я смешил папулю, моя семья была под защитой. Я стал приравнивать смех к чувству безопасности.
Маленький ученый, живший у меня в голове, стал искать «ответ на все». «Ответ на все» был мифической идеальной шуткой, которая обезоружила бы всех, кто ее услышал, вне зависимости от расы, цвета кожи, возраста, профессии, национальной принадлежности или сексуальной ориентации — никто не спасется от мощи этой шутки. Всю свою карьеру — да что уж там, всю свою жизнь я был одержим этой идеей. Я вечно подбираю идеальные слова, тембр голоса, интонацию, позу, уровень выпендрежа — все это однажды сойдется в одном безупречном моменте комедийной нирваны и чистейшей человеческой гармонии.
Несмотря на мои высокие стремления, жизнь в школе Богоматери Лурдской становилась все тяжелее. Я никогда не торопился списывать мои обостряющиеся проблемы в школе на расизм. Скрытое неуважение, многочисленные отстранения от занятий в седьмом и восьмом классе, неприглашение на вечеринки и школьные мероприятия… Я чаще объяснял это тем, что я был баптистом в католической церкви, а вовсе не тем, что я был черным в мире белых. Школа даже уговаривала родителей покрестить меня в католики, но они отказались, несмотря на то что это скостило бы двадцать процентов с годовых взносов. Они знали, что по успеваемости это была лучшая школа в округе, поэтому настаивали, чтобы я терпел.
Но переломный момент наступил в середине восьмого класса. Я был членом школьной футбольной команды и к тому времени показал себя лучшим защитником — у меня было семнадцать перехватов за десять игр.
Каждый год футбольная команда устраивала банкет в честь окончания сезона для всех игроков, их родителей и тренеров. Дети, которым выдавали награды, должны были сидеть в переднем ряду и выходить на сцену для принятия поздравлений. Поскольку у меня было больше всего перехватов, я должен был получить награду «Лучший защитник года». За неделю до этого сестра Агнес сообщила мне, что из-за моего отстранения от занятий (которое было еще до начала футбольного сезона) мне не разрешается сидеть в переднем ряду и принимать награду на сцене. Я был разочарован, но решил, что это справедливо — правило есть правило, и ведь все равно все знали, что я заслужил приз.
Но в день самого банкета я увидел своего белого товарища Росса Демпси, сидящим в первом ряду, готовым получать свой трофей, хотя нас с ним отстраняли вместе.
Эта несправедливость меня разъярила. Я пошел к родителям и рассказал, что произошло. Не сказав ни слова, они переглянулись, встали, и мы вместе ушли. Это был редкий, но важный момент полного взаимопонимания.
Домой мы ехали в полной тишине. Пару дней спустя, за ужином, папуля, не отрываясь от своей тарелки, сказал «с этой школой покончено».
Вот и все.
Тем летом было очень жарко.
Бизнес процветал, деньги лились рекой, и папуля решил, что может позволить себе купить домашнюю 8-миллиметровую видеокамеру «Кодак» и проектор. Вот это было реально круто. У камеры была такая резиновая штука под глаз и кожаный ремешок на запястье, чтобы ты случайно не уронил дорогущий аппарат на асфальт.
Если бы папуля родился в другом месте в другое время, он бы точно пошел в искусство. В подростковом возрасте кто-то из учителей одолжил отцу фотоаппарат, и он был в восторге. Бегал по всей Северной Филадельфии, фотографируя все вокруг, а после научился и сам проявлять пленку.
Но когда это стало отнимать слишком много времени и внимания, родители и учителя напомнили ему, что в жизни нужно работать и зарабатывать деньги. Фотография была недешевым хобби. Когда его отправили в интернат, фотоаппарат пришлось вернуть. Его сердце было разбито, но любовь к фотографии так и не прошла.
Новая видеокамера сделала его «тем самым» папой, который приходит на семейные посиделки или дни рождения и бегает там с камерой за детьми, заставляя нас улыбаться и делать что-нибудь смешное. Поскольку камера не записывала звук, он настаивал, чтобы мы вели себя нарочито карикатурно, как Чарли Чаплин, чтобы можно было передать эмоции без звука.
Папуля с камерой отрывался. Когда нужно было работать, он был сама серьезность. Но когда включалась видеокамера, ему вдруг хотелось, чтобы я прыгал, бегал и дурачился. Я же на камеру реагировал только так — меня невозможно было прогнать из кадра, даже когда он пытался снять что-то другое (да-да, это я изобрел фотобомбинг).
После съемок папуля бежал в подвал, приделывал простыню на стену и осторожно заряжал пленку в проектор. После череды неудачных попыток и чертыханий простыня на стене внезапно начинала светиться… и вдруг на ней появлялись мы! То поездка за город, то чей-нибудь день рождения. Это были наши семейные воспоминания.
Папуля иногда и на гитаре играл. Стакан виски стоял на столике, длинная сигарета висела на губе, глаза щурились от летящего дыма, и тут он начинал подбирать аккорды к песне Энди Уильямса «Тень твоей улыбки» или пытался сыграть какой-нибудь замысловатый джазовый рифф, на который его усталые работящие руки были не способны. Иногда он даже что-нибудь пел. Это всегда было что-нибудь романтичное — песни о любви поднимали ему настроение. Да и маме тоже.
Музыка и домашнее видео приносили в наш дом мир и спокойствие. Мне кажется, эти видеозаписи отражали папулину мечту об идеальной, счастливой семье. И по какому-то странному волшебству, пока мы всей семьей смотрели записи в подвале нашего дома, счастье, которое мы видели на экране, становилось явью. Там не было ни страха, ни тревоги, ни жестокости. В те редкие моменты папулина жизнь наполнялась улыбками, смехом и пением.
Психологи много пишут о том, что отношения с родителями в детстве и юности создают в нашем сознании «карту», с помощью которой мы во взрослой жизни познаем любовь. Когда мы, будучи детьми, общаемся со своими родителями, какие-то реакции и модели поведения привлекают наше внимание и вызывают чувство привязанности, а другие, наоборот, заставляют нас чувствовать себя беззащитными, отверженными и нелюбимыми. То поведение, которое вызывает в нас привязанность, часто формирует наше восприятие и понимание любви.
Папуля любил, чтобы я усердно работал и выполнял его поручения быстро и точно. Он хвалил меня, когда я сдержанно и аккуратно укладывал кирпичи в стену. Мамуля любила, чтобы я пользовался мозгами — она хвалила меня, когда я демонстрировал ум и интеллект. Мама была моим примером для подражания: терпеливая и умная, грозная, но заботливая. Она предпочла бы делать что-нибудь вместе, но могла со всем справиться и сама. Мамуля готова взять на себя все твои дела, если тебе нужна передышка.
В том, как меня любила Джиджи, было нечто величественное и вдохновляющее. Выступая перед ней, я чувствовал, что нахожусь наедине с самой Вселенной, что я просто не могу проиграть. Она была мне солнцем. Если бы я мог заставить весь мир посмотреть на меня, как смотрела на меня она во время моего исполнения Feelings, это было бы моим величайшим достижением в жизни.
Концепции любви и выступления на публику в моем сознании переплелись. Любовь для меня стала чем-то, что ты получаешь, если делаешь правильные вещи. В моем сознании хорошее выступление давало мне любовь, а плохое делало меня брошенным и ненужным. Отличное выступление гарантировало мне привязанность других людей, но если я был плох, я был плох в полном одиночестве.
Я выступал, чтобы поднять настроение отцу. Я выступал, чтобы отвлечь мою семью от нарастающего чувства тревоги и напряженности. Я выступал, чтобы меня любили соседские дети. Таким образом я стал видеть счастье для себя и близких как одну из функций моих выступлений. Если я выступил хорошо, все будут счастливы и в безопасности. Если выступление провалилось, мы все в беде.
Папуля был любящим, когда у него в руках была камера или он сидел у проектора. Поэтому я всегда хотел стоять у него в кадре, и он хотел того же. В эти редкие моменты моего детства мы с ним были на одной волне. Я обожал сниматься у отца. Это нас сближало. И эта глубокая жажда его любви и одобрения несомненно сыграла большую роль в моем желании сниматься в кино, когда я стал старше.
В течение всей жизни меня мучило ужасное чувство, что я подвожу всех женщин, которых люблю. В романтических отношениях я все время чересчур старался. Нянчился, оберегал, отчаянно пытался угодить, даже когда всего этого не требовалось. Ненасытное желание ублажать других выработало во мне изнуряющую потребность в одобрении окружающих.
Любовь для меня была успешным выступлением. Если я не слышал аплодисментов, то думал, что потерпел неудачу. Чтобы чувствовать любовь, я должен был постоянно слышать овации близких людей. Спойлер: я неправильно понял принцип здоровых отношений.
Когда мне было тринадцать, отец ударил маму в последний раз. Ее терпение иссякло. На следующее утро она пошла на работу и не вернулась. Далеко она не ушла — всего за пару кварталов, домой к Джиджи — однако дала понять, что с нее хватит. Это был один из двух раз в моей жизни, когда я подумывал о самоубийстве. Я думал о таблетках. Думал о рельсах, на которых когда-то один ребенок остался без ног. Вспоминал, как по телевизору показывали, что можно перерезать вены в ванне. Но где-то в глубине сознания я помнил, как Джиджи говорила мне: самоубийство — это грех.
Папуля вернулся к военному распорядку. Он принял на себя верховное командование — отныне он все делает сам. На следующее утро он проснулся в четыре часа, чтобы приготовить завтрак. Он хотел показать, что мамуля ему была не нужна.
К половине шестого утра тарелки стояли на столе: половина яблока, яичница, кусок мясного рулета. По кувшину апельсинового сока и молока. Мамуля кувшины никогда не доставала.
К шести мы с Эллен сидели за столом. Гарри знал, что должен прийти ровно в шесть, но явился в 6:04 в качестве протеста. Папуля ему это простил, хотя в обычный день за такое неподчинение мой брат остался бы без завтрака. Еда стояла на столе уже полчаса, яйца успели остыть, а яблоки потемнели. Мы с Эллен молча принялись за еду.
— Яйца холодные, — сказал Гарри.
Папуля мыл посуду и не обратил на него внимания. Соблюдение чистоты было одним из его основных принципов, хоть в работе, хоть в готовке. Прибираться надо сразу, нельзя оставлять за собой гору грязи.
Гарри не унимался.
— Яблоко совсем потемнело.
Пожалуйста, Гарри, не лезь к нему…
— А это еще что за дрянь? — спросил он, тыкая пальцем в мясной рулет.
Не сказав ни слова, папуля выхватил Гарри из-за стола, отнес его к двери и выкинул наружу. Затем он протянул ему школьный рюкзак и захлопнул дверь.
Гарри в тот день не вернулся домой из школы. Он тоже ушел к Джиджи и маме.
Когда ушел он, мне было так же плохо, как когда ушла мама. Я тоже хотел к ней, но боялся уходить из дома. Этот момент утвердил мой самый главный страх. Больше я не мог отрицать: я был трусом.
Мамуля прожила у бабушки три года. Мы виделись с ней каждый день. Она приносила нам обеды, а мы заходили к Джиджи в гости, иногда даже с ночевкой. Наши дома были достаточно недалеко друг от друга, чтобы на публику сохранять иллюзию близости, но внутри наша семья была разрушена.
Именно в тот период жизни я начал избегать реальности при помощи телевидения. В идеально выверенных нарративах семейных комедиях я находил радость и утешение. «Счастливые дни», «Добрые времена», «Семейка Брэди», «Лаверна и Ширли», «Морк и Минди» — а уж Джек Триппер из сериала «Трое — это компания» был просто огонь. Я идеализировал семьи с телевидения. Они жили именно так, как я всегда мечтал. Случись какая-то проблема, мистер Каннингем был бы в ярости. Ричи бы испугался. На минутку ситуация казалась бы ужасной, но потом приходил Фонз, говорил что-нибудь смешное, включал музыкальный автомат, и все смеялись, и жили они долго и счастливо.
Вот именно. Не так уж это, блин, и сложно!
Я хотел бы быть беззаботным подростком, который всегда ладит с родителями. Я хотел бы отца и маму, которые любят друг друга. Я хотел бы жить в одном доме с двумя красотками вопреки правилам мистера Ропера. Как минимум я заслуживал своего собственного инопланетянина с планеты Орк, который помогал бы решать все мои проблемы.
Вместо этого я был загнан в хаос.
Моим самым большим увлечением в детстве был сериал «Даллас». Юинги были большой богатой семьей из Техаса, владеющей нефтедобывающей компанией, а Джей-Ар был главой семьи с железной хваткой. Он правил кланом Юингов в точности как папуля правил Смитами. Вот только Джей-Ар Юинг был нереально богат. Люди готовы прощать многое, когда в вашей семье даже у дома есть свое имя. Это просто взорвало мне мозг. У их дома есть имя! Это было гигантское ранчо на сто двадцать гектаров под названием «Саутфорк» на севере Техаса. И вся семья Юингов — братья, сестры, родители, бабушки, дедушки, тести, тещи, тети, дяди, племянники и племянницы — вообще все жили в Саутфорке. Мне хотелось, чтобы и моя семья так жила.
Никогда не забуду сцену, которая перевернула мое сознание с ног на голову. На самом деле в ней не было ничего особенного: обычный техасский солнечный день. Юинги как раз подтягивались к обязательному семейному завтраку. Следующим кадром показывали их роскошный особняк снаружи. Сью-Эллен, жена Джей-Ара, ехала на завтрак верхом на лошади. Мой детский мозг такого не выдержал. Она ехала из своего личного дома на их территории в семейный дом на территории верхом на лошади?! Саутфорк казался мне раем: местом, где все живут вместе, и моя жена ездит на завтрак верхом на долбаной лошади.
Тем временем в реальном мире я все сильнее прятал свои недостатки за выступлениями на публику. Я стал играть персону, которая неутомимо излучала радость, счастье и оптимизм. Я отвечал на жизненные передряги постоянной улыбкой. Только веселье, только позитив. У меня ничего плохого не случилось.
Однажды я стану главным, и все в жизни будет идеально. У нас появится огромный дом на гигантской территории, и все начнут жить вместе, и я обо всех позабочусь.
Я стану золотым ребенком. Спасу свою маму. Свергну отца с трона. Это будет выступлением века. И все следующие сорок лет я не выйду из образа. Ни на секунду.
Глава 4
Сила
У моего двоюродного брата Пола были проблемы. Он ввязывался в драки, где-то шатался по ночам, сбегал из дома в Нью-Йорк, где водился с «плохой компанией» — как-то раз мамуля сказала, что он даже врезал полицейскому. Ему было восемнадцать лет, и моя тетя Барбара с ним не справлялась. В отчаянии она позвонила единственному знакомому ей человеку, который был способен помочь: папуле.
Мы не видели Пола уже несколько лет. Все помнили его славным, но серьезным ребенком. Но когда он объявился в Филли летом 1983-го, оказалось, что это здоровенный мужик.
Пол стал высоким, широкоплечим и накачанным. Крепким, как скала. Костяшки его кулаков были покрыты царапинами, порезами и шрамами от ожогов, которые он явно заработал не у кухонной плиты. Он носил огромное афро с гребнем на макушке. Это был непростой гребень — на его рукоятке был вырезан символ мира. Если вам и этого мало, Пол везде ходил с дрессированной немецкой овчаркой по кличке Дюк.
Пол недавно получил черный пояс по кунг-фу и гордо расхаживал по Западному Филли, одетый в ги[1] и сандалии. Он был агрессивно увлечен движением за власть черных. Он был похож на реальную версию главного героя из фильма «Последний дракон», только без киношной мишуры.
Пол никогда не был болтливым, но если говорил, то исключительно вежливо — все время кланялся, как каратист, и обязательно добавлял: «Да, сэр» или «Нет, мэм». Он держался в сторонке и никогда не лез к людям, но стоило перейти ему дорогу, как он срывался… и не оставлял камня на камне.
К этому времени отцовский бизнес, ACRAC (кондиционеры, холодильники, компрессоры), шел в гору. Теперь это уже не был просто ремонт холодильников. Когда отец продавал клиентам новое холодильное оборудование, ему часто приплачивали, чтобы сбыть старое. Его мастерская стала чем-то вроде кладбища для холодильников и морозилок. Но вместо того чтобы отправить их на свалку, папуля день и ночь над ними колдовал. Не успел он оглянуться, как у него появилась возможность производить сотни килограммов льда каждый день на машинах, которые сплавили в утиль. Так и вышло, что теперь наша семья производила, упаковывала и доставляла мешки льда по всей Филадельфии, в Джерси и даже в Делавэр.
Проблема была в том, что упаковка сотен килограммов льда каждый день требовала рабочих рук. Очень много рук. А поскольку лед стоил дешево, руки тоже должны были быть дешевыми. В начале этим занимались я, Гарри, Эллен и обе мои сестры Пэм, а потом и все наши друзья. Вскоре папуля начал нанимать дальних родственников и всех их друзей. Детский труд тогда еще не был ограничен строгими законами, так что все ребятишки в округе стали упаковывать лед. Благодаря ACRAC дети не ввязывались в неприятности и за лето успевали подзаработать. Папуля стал покровителем детей из нашей округи. Со своим армейским складом ума он воспитывал в детях порядок и дисциплину, да еще и платил наличкой! Если ребенок опаздывал, его отправляли домой. Если кто-то ругался или затевал драку, его вытуривали. Родителям ребят это очень нравилось — их дети зарабатывали деньги и учились быть вежливыми и послушными. А папуля был в своей стихии.
Поэтому, когда Пол ступил на скользкий путь, тетя Барбара отправила его в Филли, надеясь, что порядок (и наличные) в ледяном цеху папули помогут ему изменить направление.
На этом мое направление в жизни навсегда изменилось.
Пол переехал к нам в конце мая, как раз к началу летнего спроса на лед. Мы с ним пошли гулять по району. Я показал ему магазин Брайанта и познакомил с друзьями — точнее, похвастался перед ними своим крутым двоюродным братом. Полу нравилось со мной тусоваться — я казался ему уморительным. Он начал показывать мне, как обращаться с Дюком, и даже научил меня секретным командам на немецком языке (немецкая овчарка, которая подчинялась немецким командам — это был просто блеск). И, самое крутое, — он обучал меня кунг-фу. В то лето у меня словно появился самый настоящий старший брат.
Как и дома, в ACRAC папуля был командиром. Он орал, выдавал разгневанные тирады и ругался. Мы все пугались и ходили на цыпочках, надеясь, что он на нас не сорвется. Но Пол был первым человеком на моей памяти, которому было совершенно начхать на папулин гнев и вспышки ярости. Когда папуля выходил из себя, Пол не дергался, не отводил глаз и сохранял абсолютное спокойствие. Его поза ясно давала понять: говори, что хочешь, старик, только не подходи. А если подойдешь… камня на камне не останется.
Я был в шоке — папуля с Полом идеально ладили. Кто бы мог подумать: кто-то способен выдержать отцовский гнев, удержать равновесие в урагане его ярости… и разоружить его одним взглядом да смешком? Я никогда не видывал такой силы. Боевые искусства научили Пола подчиняться чужому авторитету. Он уважал папулю, но не боялся, потому что знал — если понадобится, он сможет его убить.
И папуля тоже это знал.
Когда Пол появился у нас, я впервые почувствовал себя в безопасности в собственном доме. Он был сильным. Когда Пол был рядом, никто не смел тронуть меня и пальцем. Ни соседские дети. Ни белые мальчишки из школы. Ни собственный отец.
Я и так думал, что мой двоюродный брат запредельно крут. Но потом он открыл для меня мир хип-хопа.
В те времена хип-хоп был совсем не такой, как сейчас. Популярные исполнители уже существовали, но в целом движение оставалось подпольным. Эту музыку не продавали на пластинках, не крутили по радио, не показывали видеоклипы. Но всегда находился один парень, который знал другого парня, который мог достать для тебя запись с живого выступления в Нью-Йорке — эпицентра событий. Люди буквально стояли в толпе с магнитофоном над головой, чтобы записывать артистов. Так и появились микстейпы: люди приходили на вечеринку и держали над головой здоровенное радио целый час, а то и два, а потом копировали пленку и раздавали всем своим друзьям. Народ в Нью-Йорке доставал пленку с записями любимых хип-хоп-исполнителей, копировал, а потом вез друзьям в Бостон, отправлял почтой брату в Лос-Анджелес или включал своему маленькому кузену в Филли. Микстейпы выменивали, продавали, переписывали и снова меняли. Хип-хоп распространялся по всей стране из рук в руки с космической скоростью. Его сделали популярным обычные люди. Он разошелся как вирус еще до того, как придумали слово «завируситься». С улиц он попадал прямиком в сердца людей.
В 1970-е годы в черных районах Нью-Йорка были популярны уличные вечеринки. Въезд в квартал перекрывался, диск-жокей (так тогда называли диджеев) выносил вертушку с коробкой пластинок и играл на улице, а люди танцевали. Дело было в 1970-е, поэтому играли тогда в основном фанк и диско.
И в фанке, и в диско-песнях где-то в середине всегда шла инструментальная вставка. Размеренная музыка вдруг начинала нарастать, достигала пронзительного крещендо, когда все инструменты орали на полную громкость, а потом БУМ! Оставался только барабанщик. Этот момент стали называть «брейком». Брейкбиты специально писались особенно энергичными. Изначально они предназначались для того, чтобы исполнители вроде Джеймса Брауна могли показать свои шикарные танцевальные движения на сцене. Но в народе брейки стали считаться самой крутой частью песни, под которую все отжигали.
Поскольку всем ужасно нравилось танцевать под брейки, на одной уличной вечеринке в Бронксе парень по имени диджей Кул Герк придумал выносить две вертушки и одновременно включать две одинаковые пластинки. Так он мог переключаться между ними туда-сюда, играя бесконечный брейк. С двумя вертушками и микшером он мог на лету переставлять пластинки с Джеймса Брауна на Winstons и снова на Брауна, а потом на Слая и The Family Stone — брейк за брейком, брейк за брейком, по десять лучших секунд из всеми любимых песен. Так появился новый бешеный стиль танцевальных вечеринок и зародился современный диджеинг.
Из-за того, что у диджея теперь было две вертушки и микшер, появилась и еще одна инновация: скретчинг. Чтобы скретчить, пластинку двигали вперед-назад, и она издавала совершенно дикий новый звук. Одну пластинку можно было скретчить, пока другая играла брейк. Потом пластинку, которую скретчили, отпускали точно в ритм и проделывали всю последовательность заново, чтобы брейк мог продолжаться, пока людям не надоест.
Рэп был единственной переменной, которой не хватало в этом уравнении хип-хопа.
Теперь у диджеев было две вертушки и в два раза больше пластинок. Они больше не могли отвлекаться на развлечения публики. Поэтому они стали приглашать к микрофону своих братьев или друзей. Эти «мастера церемоний» — эмси — трепались с аудиторией, раззадоривали танцоров, нахваливали диджея и в целом отвечали за веселье:
— Дамочки, я вас не слышу!
— Одолжите соточку?
— Есть тут кто из Бруклина?
В конце концов самые талантливые эмси начали рифмовать под ритм брейкбитов — этот приемчик, позаимствованный у ямайских иммигрантов, назывался «рэпом».
Уличные вечеринки стали чумовыми. Особенно когда рифмы были умными, забавными, поэтичными, или — лучше всего — упоминали твой район.
Уравнение сложилось: диджей + эмси = хип-хоп.
Мир к такому был не готов.
«Плохая компания» Пола в Нью-Йорке помогала ему доставать самые крутые микстейпы. Он знал людей из Zulu Nation — одного из первых коллективов хардкорных поклонников хип-хопа, который базировался между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Пол мог достать мне любую кассету: Грандмастер Флэш, Мелл Мэл и Furious Five, Treacherous Three, баттл между Кул Мо Ди и Бизи Би Старски, и мои самые большие любимчики — Грандмастер Каз и Cold Crush Brothers.
Грандмастер Каз безоговорочно сильнее всех повлиял на мою карьеру в хип-хопе. Я придумал Принца с оглядкой на него. Он одним из первых людей в хип-хопе умел рассказать историю. Его талантливые и находчивые рифмы захватывали дух, и ты слушал их, затаив дыхание, до самой точки. А уж точку он умел поставить как никто другой — чувак был королем панчлайнов. Я хотел быть таким же, как Каз. Кстати говоря, мой первый хитовый сингл «От девчонок одни беды» был вдохновлен — нет, написан под влиянием… короче, я изучил каждую строчку с фристайл-микстейпа Грандмастера Каза, который назывался Yvette («Иветт»), а потом написал свою версию той же истории. Наверное, он мне так нравился, потому что со мной был похожий случай, но мне ни разу не приходило в голову зарифмовать об этом. В каком-то смысле Каз высвободил мою творческую сторону, которая, как мне изначально казалось, не была никому интересна. Он разрешил мне быть собой.
- Это было давно, но мне не забыть за сто лет,
- Как нас застукали в койке с той девчонкой, Иветт.
- Я перетрусил как черт, но смог убежать.
- И теперь могу вам обо всем рассказать…
- На баскетбольной площадке мы врубили музон,
- Народ сбежался слушать мой магнитофон.
- Эл, Эй и другие были там со мной,
- А потом я улизнул, чтоб позвонить ей домой.
- В том, что случилось, оправданий мне нет,
- Но на свою беду я позвонил Иветт.
ГРАНДМАСТЕР КАЗ, «ИВЕТТ»
Сходство очевидно, но я все-таки добавлю: мне всегда нравилось то, что Каз был на баскетбольной площадке, когда решил позвонить Иветт. Поэтому в заглавной песне «Принца из Беверли-Хиллз» я тоже поместил своего персонажа на баскетбольный корт — чтобы отдать дань легенде.
Точно не скажу, в какой момент я стал «рэпером». Тогда хип-хопом не занимались — мы им жили. Хип-хоп для нас был не только в музыке — он был в танцах, моде, стрит-арте, политике, отношениях между людьми. Он был повсюду. Он был жизнью. Он был нами. Непосвященные не считали, что это настоящий жанр музыки, которым стоит заниматься и доводить до совершенства, но мы даже не думали о нем в таком ключе. Это было что-то новое, классное, веселое и интересное, растущее внутри и вокруг нас. Никто не предполагал, что он захватит весь мир. Если бы кто-то спросил: «Что станет с хип-хопом через сорок лет?», я вряд ли ответил бы: «О, это будет одна из самых влиятельных форм музыки в истории человечества». Нам просто нравилось делать то, что мы делали.
Все еще помню свой первый стих. Я сочинил его в двенадцать лет.
- Когда мне был отроду год, я был в начале пути.
- Когда мне было два, все узнали, что я опупенный [чего?] эмси.
- Когда мне было три, стало ясно, что я не промах в любви,
- Прирожденный гений и музейный шедевр во плоти.
К счастью, потом я научился писать лучше. С микстейпами Пола и его поддержкой моя страсть только росла. Я и так уже не закрывал рта и все время выступал. Но теперь я еще целыми днями тихонько начитывал рэп себе под нос, придумывая новые рифмы, цитируя любимые строки, пытаясь фристайлить обо всем вокруг. Я купил тетрадку для сочинений, начал записывать туда рифмы и зачитывать их у себя в комнате перед зеркалом.
Мои фантазии выплескивались на эти страницы, иногда удивляя меня самого. Творческий поток выходил из берегов. Я жил и дышал рэпом.
И из кокона затюканного неловкого пацаненка на свет появился прирожденный эмси.
Старшая школа Овербрук находилась в каком-то километре от Богоматери Лурдской. Но с тем же успехом она могла быть на другой планете. Их окружение было диаметрально противоположным. Школа Богоматери примыкала к богатому белому району Нижний Мерион, а Овербрук стояла прямо в центре Хиллтопа — центром концентрации нищих черных околотков Западной Филадельфии.
Католическая школа Богоматери Лурдской была маленькой — в параллели училось всего по паре десятков детей, по большей части белых. Нас, черных ребят, там было всего трое-четверо.
Гигантская, громадная школа Овербрук носила прозвище «Замок на холме». Ее построили в 1924 году, когда в дело шли настоящие стройматериалы, а не то, что сейчас. Она занимала два квадратных городских квартала и нависала над окрестностями, как каменная крепость. До ее крыльца приходилось взбираться на тридцать ступеней, и тот, кто пережил подъем, лицезрел внутри где-то 1200 учеников. 99 % из них были чернокожими.
По коридорам длиной с квартал роились толпы детей. В Богоматери Лурдской все меня знали, но в школе Овербрук я был никем.
Мне было страшно до чертиков. Я был на грани нервного срыва. Сердце колотилось, руки тряслись, но к тому времени у меня уже была надежная стратегия преодоления страха: я начинал выступать. Если мне удастся их рассмешить, чувство опасности уйдет.
Не знаю, зачем я сделал то, что сделал. У меня внутри как будто включился защитный механизм, который перехватил управление моим языком.
Я заговорил, даже не успев подумать. Так и началась моя жизнь старшеклассника — пожалуй, с самой дурацкой моей выходки.
К 8 утра на линейку в огромной столовой собрались несколько сотен детей. Новенькие привыкали к окружению, получали распределение в классы и официально вступали в ряды учащихся старшей школы Овербрук. На входе в столовую у меня окончательно сдали нервы. Я вскинул руки вверх и завопил:
— Слушайте, слушайте, послушайте все меня!
Все притихли. Двести школьников разом повернулись и посмотрели в мою сторону.
— Он здесь, — сказал я, показывая на себя. — Можете не переживать, потому что он здесь… Не благодарите. Возвращайтесь к своим делам… Если что, я буду тут.
Тишина была странной — очевидно, такого с этими ребятами в школе еще не случалось. Несколько человек ухмыльнулись, но большинство продолжило заниматься своими делами как ни в чем не бывало. Не знаю, какой реакции я ожидал, но, по крайней мере, мне удалось снять напряжение.
Продвигаясь через толпу, я скользнул мимо парня, которого явно не впечатлил мой выпад. Не поднимая головы, он сказал:
— Чувак, да всем насрать на то, что ты здесь.
Не моргнув глазом, я ответил:
— Ты погоди десять минут, и твоей подружке будет не насрать.
У-у-у-у-у! Заревели голоса вокруг нас. Несколько человек даже похлопали.
Тот парень взглянул на меня, но ничего не сказал. Только медленно кивнул: «Мы с тобой еще не закончили».
Я победно двинулся дальше, думая, — может, эта школа не так уж плоха. В 8:31 линейка подошла к концу, и учеников отпустили бродить по коридорам, разыскивая свой кабинет.
Мне нужно было в 315 класс, и я как раз поднимался по лестнице со второго этажа на третий, когда краем глаза заметил парня из столовой — он направлялся ко мне. Сверкнула голубая вспышка, правую сторону головы пронзила острая боль… потом все потемнело.
Следующее, что я помню — это вкус крови, гул голосов, распухшую верхнюю губу, шатающиеся передние зубы и худшую головную боль в моей жизни. Тот парень взял железный кодовый замок с одного из шкафчиков, зажал в кулаке и просунул средний палец в стальную петлю — получился импровизированный кастет. Им-то он и ударил меня по голове. Я немедленно отключился и, падая, разбил рот о ступени. Кровь была повсюду, дети орали, учителя суетились, все пытались понять, жив я или нет.
Свет в кабинете директора выжигал мне глаза. Когда вошел папуля, я сидел, прижимая к разбитым губам полотенце. Вскоре явилась полиция, и я кое-как рассказал им все, что помнил. Папуля был в ярости. Полицейские с директором составляли протокол. У меня в голове все плыло, и я мог думать только: эй, ребята, придержите коней. Я ничего не понимаю.
Мне хотелось нажать на паузу и перемотать пленку. Мне хотелось все переделать. Мне не хотелось там быть. Я не хотел ни во что из этого верить.
— Вставай, — сказал папуля. — Идем.
Он поднял меня на ноги.
Коридоры опустели. Папуля был похож на хищника, который никак не мог найти себе жертву. Мы вышли через боковую дверь. Я пробыл в школе всего полтора часа. Уходить среди дня было непривычно. Через улицу был магазинчик «Шугар Боул». Я хотел воды со льдом и крендель, но мне показалось, что папуля не в настроении, так что я не стал его просить.
Когда мы отъезжали от школы, я увидел, как того парня выводят в наручниках и заталкивают в полицейскую машину. Так закончился его первый учебный день в старших классах. Позже его исключили, и я так и не узнал его имени.
Наступила ночь. Лунный свет отражался от моих распухших губ, щедро умащенных вазелином. Это был первый спокойный момент за целый безумный день. Лежа в своей постели (на левом боку), я думал: какого хрена произошло? Что со мной случилось?
Как раз в тот момент Джиджи зашла меня проведать. Она заменила ледяной компресс, взбила подушку и поправила бинты у меня на голове. Хорошо все-таки, когда бабушка — медсестра.
Я все ей рассказал. Она не стала меня отчитывать или ругать, а просто заметила:
— Если бы ты не был таким болтливым, тебе бы, может быть, поменьше доставалось.
Потом она поцеловала меня и ушла.
А я все думал о ее словах. Ведь она была права — я вечно трепался, вечно шутил, вообще не затыкался. И делал я это не потому, что хотел высказаться — просто мне было страшно. Тут-то я понял, что моя болтовня и бравада на самом деле были очередным, еще более коварным проявлением трусости.
Голова кипела от мыслей. Я вспомнил, как Джиджи нашла мою первую тетрадку с рэпом.
Как и большинство ребят, подражающих своим хип-хоп-идолам, я писал тексты, полные сложносочиненных ругательств и непристойностей. Тетрадку с ними я случайно оставил на кухне.
Джиджи ее нашла и прочитала. Она ничего мне не сказала, только написала на внутренней стороне обложки:
Дорогой Уиллард,
Умные люди так не выражаются. Господь наделил тебя даром слова. Используй его, чтобы воодушевлять других людей. Прошу тебя, покажи миру, что ты действительно умен.
С любовью, Джиджи
Лежа в постели, я сгорал со стыда. Использовал ли я свои слова, чтобы воодушевлять людей? Я задумался о том парне, который оказался за решеткой. Наверное, его бабушка очень переживает. Возможно, из-за моих слов он испортил себе всю жизнь. Доводить людей до такого я точно не хотел.
Стыд потихоньку сменился озарением о том, какой силой обладает слово. Я понимал, что сам виноват в том, что случилось в тот день. Впервые я не чувствовал себя слабым. Наоборот, я был невероятно силен — но не умел контролировать свою силу. Сколько возможностей я мог себе вообразить! Господь действительно наделил меня даром слова. И в ту ночь я впервые осознал, какой силой обладают мои слова: они могут изменять и формировать мою реальность.
А потом я спросил себя — разве я не должен использовать такую силу во имя добра? Слова могут влиять на самооценку и поступки людей, на их отношения с окружающим миром. Словом можно как создавать, так и разрушать. В ту ночь я решил, что хочу поддерживать людей своими словами, а не обижать их.
Больше я никогда не использовал брань в текстах. И меня много лет критиковали за этот выбор. Но любой авторитет меркнет перед авторитетом Джиджи.
Первые месяцы в старших классах были нелегкими, но я больше уж точно не был никем. Сила моих слов, которая чуть не уничтожила меня, теперь помогала реализовывать мечты.
К середине учебного года хип-хоп уже начал набирать популярность в Филли. Теперь у каждого был свой кузен Пол — знакомый из Нью-Йорка, который мог достать микстейпы. Успех песни Rapper’s Delight группы Sugarhill Gang начал протаптывать хип-хопу дорожку в мейнстрим. Она играла повсюду.
Школьные коридоры превратились в поле для музыкальных баталий. Хип-хоп не показывали по телевизору и не крутили по радио, но в школе Овербрук все читали рэп. Уже восемь месяцев я тайком писал тексты каждый день без передышки. Множество страниц были исписаны разными идеями, панчлайнами и историями. Я начал потихоньку заучивать их, чтобы быть готовым начать читать в любой момент. Я присоединялся к группкам рэпующих ребят и медленно зарабатывал репутацию неплохого рэпера.
Все как раз помешались на фристайле. Кто-нибудь начинал битбоксить — издавать губами и голосом звуки, похожие на барабанный ритм — а рэпер на ходу импровизировал о том, что видел: о чьих-нибудь прикольных ботах, о двойке по математике, о симпатичной девчонке — обо всем подряд.
Это всегда давалось мне лучше всего. Я и так по жизни шутил. Оставалось начать шутить в рифму, чтобы все протащились.
Лучшим битбоксером в школе был Клэренс Холмс — все звали его Клейт. Он не только издавал лучшие басы, но и изображал настоящие брейкбиты. Вдобавок ко всему, Клейт был мастером звуковых эффектов — он мог выдать такую натуральную трель, что люди начинали высматривать птицу. Под битбокс Клейта мои рифмы звучали намного лучше. Я находил его после уроков, подгребал и привычно здоровался:
— Здоров, Си, готов жечь?
— А то, — отвечал он.
Клейт всегда был готов жечь. Всегда. Так он и получил свое прозвище — Рэди-Рок Си.
Вскоре обычные фристайл-сессии — рифмовка, импровизация и попытки друг друга подколоть — превратились в так называемые баттлы. Я читал куплет, а другой парень пытался мне ответить. Он мог пошутить про мою прическу или одежду. Когда его куплет заканчивался, я должен был снова выйти вперед и сымпровизировать ответку. «Победителя» определяли в основном по реакции публики. Если толпа тебя любит, ты выигрываешь баттл.
Я был неуязвим — не оставлял камня на камне.
Некоторые ребята были остроумнее, ритмичнее или поэтичнее. Но я был самым смешным. Никто не мог развеселить толпу лучше, чем я. А юмор всегда побеждает. Можно сколько хочешь строить из себя крутого гангстера, можно рифмовать о бабках и телках. Но если кто-то заметит, что у тебя спадают штаны, и скажет:
- Думаешь, ты здесь — король хип-хопа,
- А у самого из штанов торчит голая жопа!
— и сорок человек хором заржут. Все, тебе конец. Ты продул.
Рэп изменил мой мир. Я впервые в жизни стал популярным. Мне уделяли внимание и оказывали уважение. Мы с Рэди-Роком были с одной улицы, а школа Овербрук находилась в Хиллтопе. Много раз на баттлах мы репрезентовали Уиннфилд, и те же окрестные ребята, которые раньше измывались надо мной, теперь радовались моему появлению. Я заводил новых друзей. Девчонки начали обращать на меня внимание. Мы с Си стали неразлучны.
А еще я не проиграл ни одного баттла, потому что вырос в доме папули — меня воспитали трудягой. Я практиковался до потери пульса. В отличие от других ребят, которые начали покуривать травку и прогуливать уроки, я каждый день по несколько часов корпел над рифмами. Потом вставал перед зеркалом и репетировал движения и выражение лица. Я доводил до совершенства интонации и тембр. На каждой перемене, а также до и после уроков я всегда искал какого-нибудь лошка, который пытался читать рэп. Я вступал в баттл со всеми желающими — в столовой, на парковке, на баскетбольной площадке или на школьном дворе. Я рифмовал с учителями на уроках, с родителями дома, с незнакомцами по телефону. Многие взрослые притворялись раздраженными, но я знал, что им это нравится.
Комбинация хип-хопа и юмора сделала меня неприкасаемым. Я нашел свой голос. Я выбирал слова остроумно и со вкусом. И впервые в жизни я чувствовал себя сильным. Учителя меня любили. Я мог опоздать на урок или забыть домашку, или попасться на кривлянии за задней партой, но меня не ругали, потому что я их веселил.
Я начал замечать, что меня никогда не наказывают. Одной из моих любимых учителей была мисс Браун. Она вела алгебру и тригонометрию. У нее была безупречная шоколадная кожа и большие спокойные карие глаза. Она была чуть выше 150 сантиметров ростом, но вела себя как двухметровая великанша. Она видела меня насквозь. Я перерос ее уже минимум на голову, но когда я что-нибудь вытворял, она подходила вплотную ко мне и говорила:
— А ну наклонись, нам надо поговорить.
Когда учителя тебя любят, учиться очень легко. Мисс Браун в шутку прозвала меня «Прекрасным принцем». Она саркастически комментировала:
— Вы гляньте, Прекрасный принц почтил нас домашним заданием. Какая честь.
Одноклассники смеялись, а я не возражал. Я только рад, когда все смеются.
В 80-е все хип-хоперы говорили «фреш» — в смысле, «шик». Все употребляли это слово к месту и не к месту, как «кайф» в 70-е и «класс» в 90-е. В 80-е если что-то было круто, надо было говорить: «Вот это фреш». Однажды я прибежал в класс к мисс Браун буквально через 45 секунд после звонка, и, поглядев на часы, она сказала:
— Его высочество Принц опоздал на 2 минуты…
Я быстро поправил ее:
— Да ладно, мисс Браун, мы оба знаем, что я задержался всего на полминутки. И, если вы не возражаете, с этих самых пор я требую обращаться ко мне Фреш Принц.
Весь класс расхохотался.
Имя прижилось.
Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, нужно, чтобы что-то придавало тебе уверенность и спокойствие. Мы все хотим к себе хорошо относиться, но многие не осознают, какой это труд.
Внутренняя сила и уверенность рождаются из проницательности и опыта. Когда ты что-то понимаешь, или что-то тебе хорошо дается, ты чувствуешь себя сильным и тебе хочется делиться этим с другими. Когда ты достаточно развил свои способности, тебе хочется применять их в окружающем мире. Я видел на примере Пола, что навыки помогают сохранять спокойствие в беде, зная, что ты справишься. Мне запала в душу одна цитата Брюса Ли. Однажды ученик спросил его:
— Учитель, вы всегда говорите с нами о мире, однако каждый день учите нас драться. Как вам удается примирить две эти противоречивые идеи?
Брюс Ли ответил:
— Лучше быть воином в саду, чем садовником на войне.
Рэп не просто помог мне завоевать одобрение сверстников, которого я так отчаянно хотел. Он дал мне ощущение силы. Но я знал, что оно скоротечно. Оно требовало моего постоянного внимания и трудов. Я был хорош, но знал, что должен вкалывать.
Успех не падает с неба. Его надо добиваться.
Я все время видел ее в коридорах — мне даже приснился сон о ней, но мы были из разных компаний. Теперь я был рэпером, поэтому тусил с крутыми ребятами. Она носила огромные очки, а все ее друзья учились в художественном классе и повсюду таскали с собой огромные папки с эскизами.
Но Мелани Паркер была прекрасна. Она заметила меня вскоре после печального инцидента с замком. Это была вьетнамская милашка — эдакая неуклюжая красотка-заучка, слегка неуверенная в себе и чудаковатая девчонка с невероятным художественным чутьем.
Мы присматривались друг к другу несколько недель, и я подозревал, что она слишком хорошо воспитана, чтобы заговорить первой. У нее были потрясающие карие глаза и лучезарная улыбка, под которой скрывалась глубокая печаль. Мелани была ангелом, упавшим с небес, и с первого взгляда мне захотелось стать ее защитником.
Короче, я к ней подкатил.
— Привет, красотка. Я Принц, — сказал я.
Она вежливо улыбнулась и спросила:
— А мама тебя как называет?
Я подумал — блин, мама-то зовет меня, как в документах написано.
— Ну, она называет меня Уиллард, — ответил я, — но ты можешь меня звать…
— Уиллард, — перебила она. — Приятно познакомиться, Уиллард. Я Мелани.
Она ни разу не назвала меня Уиллом или Принцем — разве что козлом пару раз обозвала. Но и по сей день она зовет меня Уиллардом.
— Слушай, какая здоровенная у тебя папка, — сказал я. — Помочь тебе донести ее до класса?
Мелани притихла. Я чувствовал, что понравился ей, но она хотела изобразить недотрогу. Она без слов вручила мне сумку и пошла в класс. Я пошел за ней, влюбленный по уши. Когда мы дошли до ее класса, я вернул сумку.
— Думаю, тебе и до дома ее надо помочь донести после уроков, — сказал я. — Чтобы у тебя руки отдохнули.
Я провожал Мелани домой из школы каждый день. Она была очень впечатлительной, и все вокруг казалось ей интересным. Она могла вдруг остановиться и рассматривать дерево битых десять минут. Мелани жила в противоположном направлении от улицы Вудкрест, поэтому я десять минут шел к ее дому — всю дорогу таща на себе ее огромную папку — и еще двадцать возвращался к себе — всю дорогу думая о ее глазах.
Мелани родилась и выросла в Миннеаполисе. В семье у нее все было трагично: ее мать убила мужа и отправилась за это в тюрьму. Из-за этого Мелани переехала в Филли, чтобы жить с тетей, глубоко религиозной мусульманкой, которая придерживалась очень строгих убеждений о том, как должна вести себя девочка-подросток.
Я так и не узнал всей истории, но один раз Мелани очень сильно повздорила с тетей, и та выгнала ее из дома. По закону, если у Мелани не было жилья, ее могли отправить обратно в Миннеаполис и поместить в приемную семью. Меня охватила паника. Я рассказал все маме и упросил ее позволить Мелани пожить у нас.
— Мам, это ненадолго, — сказал я. — Я найду работу, заработаю денег, и мы с Мелани снимем себе жилье. Я люблю ее, мам. Пожалуйста, пусть она пока поживет у нас?
От противоречивых чувств у мамули на глазах выступили слезы. С одной стороны, именно такого сына она надеялась вырастить — любящего, ответственного, преданного. Но, с другой стороны, она на личном опыте знала, как мимолетна юная любовь.
— Да черта с два! — сказал папуля. — Кэролайн, ты прекрасно знаешь, чем они будут заниматься.
Но я маме уже пообещал: никакого секса. Мелани будет жить в подвале. Я буду спать у себя в комнате на втором этаже. Это только временно. Папуля протестовал, но в этот раз мамуля победила.
Понятия не имею, зачем я сделал то, что сделал в ту ночь. Черт знает, о чем я только думал. Из всего, что я расскажу в этой книге, тот мой поступок я понимаю меньше всего.
Прежде, чем я объясню, что произошло, я хотел бы подчеркнуть, что был по уши влюблен в Мелани Паркер. Мы собирались пожениться и завести четверых прекрасных черно-филиппинских детей. Наша пара вошла бы в легенды в одном ряду с Ромео и Джульеттой, Тристаном и Изольдой, Тупаком и Дженет, ну или Эдди и Холли в «Бумеранге».
Но как-то раз в 4 утра, меньше, чем через 3 месяца после начала нашего незадачливого романа, мамуля, к сожалению, решила выпить чашку кофе. Не издав ни шороха в своих мягких тапочках, она подошла к порогу кухни. Невинная душа, она включила свет, как делала десятки тысяч раз. Но в тот раз ее взору предстали ее старший сын и его подружка в разгар безрассудного соития. Нет ничего больнее для юноши (ну, кроме настоящих побоев), чем ситуация, когда мама застукала тебя с подружкой на кухонном полу в позе «по-собачьи».
— УИЛЛАРД! — воскликнула мама, вырубая свет. Яростно протопав вверх по лестнице, она захлопнула дверь, как будто поставила восклицательный знак в конце этой позорной сцены.
Конечно, теперь-то она решила пошуметь!
Слава богу, за те несколько дней, которые Мелани провела у нас, ее тетя успокоилась и позволила ей вернуться домой. Мне было всего шестнадцать, но я не отступался — я как никогда хотел найти нам место, чтобы мы с Мелани могли построить совместную жизнь.
Я получил водительские права прямо на шестнадцатый день рождения. Мы с Рэди-Роком любили прокатиться по городу после школы в поисках баттлов. В те времена найти их было несложно. Где-нибудь на углу всегда стояла кружком толпа парней, качающих головой, и один из них держал руки сложенными вокруг рта — по этой позе всегда было легко узнать битбоксера.
Мы к ним подкатывали, выходили из тачки, вставали в крутую позу — так все и начиналось. У меня и минуты не уходило на то, чтобы уделать лохов. Я выдавал панчлайны направо и налево, публика ревела: «ОХРЕНЕТЬ! СЛЫХАЛИ, КАК ОН ЗАДВИНУЛ?» Парни поумнее сдавались сами, когда понимали, что толпа на моей стороне — потому что, когда толпа против тебя, что бы ты ни сказал, сделаешь только хуже. Но некоторые лошары не сдавались — они продолжали напирать, и тогда исход был один: не оставалось камня на камне.
В одиннадцатом классе я уже успел заработать репутацию в окрестностях Западного Филли. Я присоединился к группе парней постарше, и мы назывались «the Hypnotic MCs». Группа собралась с оглядкой на Грандмастера Каза и Cold Crush Brothers — у нас был один диджей и четверо эмси. Диджей Грув был на вертушках. Джейми Фреш, Шейки-Ди, мой друг Марк Форрест, он же Лорд Суприм, и я, Фреш Принц. Рэди-Рок иногда к нам заглядывал, но в целом ему эти чуваки не очень нравились.
Я очень серьезно относился к своей роли в Hypnotic MCs. Я подходил к делу с дисциплиной, вбитой в меня папулей. Но в то время я еще не усвоил, что большинство людей не так серьезно относится к работе, как я.
Я хотел репетировать каждый день в установленное время. Но остальные особенно не заморачивались: иногда опаздывали на репетиции, иногда совсем не являлись. Я хотел, чтобы мы выступали на всех уличных вечеринках и вместе копили деньги на новое оборудование, хотел раздавать флаеры и рекламировать группу, записывать кассеты. Поскольку я был самым молодым, надо мной смеялись и не принимали мои идеи всерьез. Однажды я все-таки убедил их скинуться по двести баксов на покупку новенького сэмплера SP-12. Я несколько недель пахал в отцовском цеху и заработал на свою долю. Теперь у нас был сэмплер, четыре микрофона, две вертушки и пластинок за глаза. Поскольку Грув был нашим диджеем, мы решили хранить оборудование у него дома.
За шесть месяцев мы несколько раз очень неплохо выступили, но в основном техника пылилась у Грува в подвале. Меня это начало подбешивать — никто не хотел стараться и выкладываться. Моя принципиальная позиция и неуемная требовательность стали раздражать группу. Наши отношения потихоньку испортились. Они обижались на меня, потому что я обламывал им то, что они считали просто веселым хобби. Я обижался, потому что они не давали группе развиваться и становиться лучше.
Помню, как на репетициях я огрызался на них с чисто папулиной интонацией:
— Девяносто девять процентов — это все равно, что ноль!
Мы стали спорить и ругаться по любому поводу: какую строчку вставить в текст, какие биты лучше подходили к каким мелодиям, кто должен был читать какой куплет — любое решение превращалось в мучение. Теперь я понимаю, что у нас не было шансов, но в то время я верил, что любую ситуацию можно исправить.
Однако после долгих месяцев без прогресса и записей я пришел домой к Груву и сказал парням, что ухожу. Для них я все равно был несносным пацаном, который ломал всем кайф. Они пожали плечами, похихикали между собой и пожелали мне катиться на все четыре стороны.
Я забрал свой микрофон и наушники, и в качестве примирения предложил купить у них сэмплер.
— Он не продается, — сказал Грув с незнакомым мне холодком в голосе.
— Да ладно, пацаны, вы им даже не пользуетесь, — сказал я. — Отец мне с бабками поможет…
Они проигнорировали меня и продолжили бубнить между собой. Дело было даже не в сэмплере и не в обидах. Дело было в силе — они проявили ко мне неуважение, потому что могли. Они знали, что я ничего не смогу сделать в ответ.
— Ну, как знаете, — сказал я. — Тогда верните мне мои двести баксов, и мы в расчете.
Они переглянулись с ухмылкой, и Грув ответил:
— Не-а.
Никаких споров и обсуждений. Просто нет.
Внешне я сохранял спокойствие, но внутри у меня все закипело. Я терпел издевательства и оскорбления все свое детство. Мое терпение лопнуло.
— Ладно, — спокойно ответил я. — Увидимся.
Уже уходя, я увидел, что сэмплер просто лежал без присмотра. Я подошел к нему, секунду подумал, затем схватил его, яростно выдернул вместе с проводами, поднял над головой кнопками вниз и БАХ! Разбил его о бетонный пол подвала. Сэмплер просто рассыпался — ручки, кнопки, крошки пластика, транзисторы и кусочки микросхем полетели во все стороны.
— Какого хера ты наделал?! — возопил Грув.
Но я уже уносил свою задницу вверх по подвальной лестнице. Сначала они за мной погнались, но я-то был моложе. Я опустил голову и бежал без оглядки восемь кварталов. Когда я, наконец, устал и оглянулся, за мной никого не было.
Отныне я был сам по себе.
Папулин новенький фургон «Шевроле» стоял с разбитыми стеклами, ни одного целого не осталось. Из машины пропало радио и все его рабочие инструменты.
Когда это случилось, фургон как раз был у Пола. Он извинялся перед папулей, чуть не рыдая, а тот пытался его успокоить:
— Ну всякое бывает, для этого у нас есть страховка.
Но для Пола эта ситуация была непростительной — фургон был под его присмотром и опекой. Я никогда не видел его в таком состоянии. Пол считал, что каким-то образом подвел и опозорил папулю. Папуля чувствовал, что это как-то связано с причиной, по которой Пол изначально оказался в Филли.
— Слушай, Пол, взгляни на меня, — сказал отец. — Знаешь, сколько раз какие-нибудь подонки вламывались ко мне и крали мое барахло?
— Я знаю, кто это сделал, дядя Уилл, — ответил Пол.
— Да ну их к черту, Пол, — сказал папуля. — У нас своей работы по горло. Забудь про них.
Но Пол не мог этого просто так оставить. Он тогда мутил с девчонкой по имени Шелли, которая, в свою очередь, мутила с бандюком по имени Блэк. Блэк держал Уиннфилд в кулаке. Он постоянно ошивался с бандой из семи-восьми человек на углу у магазина мистера Брайанта. Ростом он был под два метра и всегда ходил без футболки. Он вообще ничего не боялся — мог даже курить траву на улице среди бела дня.
Пол протиснулся прямо к Блэку через его свиту.
— Это ты обчистил фургон моего дяди? — спросил Пол.
Все на углу захохотали.
— Ага, это был я. И что ты будешь де…
ХРЯСЬ.
Нос Блэка был сломан, хоть он этого еще и не понял. Он поймет только потом, когда придет в сознание.
Такие драки я раньше видел только в фильмах. Пол всем навалял. Каждый чувак на том углу был либо в крови, либо в отключке, либо уносил ноги, пока не прилетело.
Пол не вернулся домой тем вечером. И на следующий день тоже. Он не послушался папули. Наверно, нервы сдали.
В следующий раз я встретил его только через тридцать пять лет.
Глава 5
Надежда
Мамуля с Гарри переехали обратно на Вудкрест. У нас в семье было не принято обсуждать проблемы, поэтому я не был в курсе, о чем они с договорились с отцом — я не спрашивал, а они не рассказывали. Что бы там ни было, больше он ее пальцем не тронул.
Я как раз оканчивал школу и получил результаты выпускных экзаменов — твердые четверки. Не идеал, но черному парню из общеобразовательной школы такие оценки могли дать очень хорошие возможности для поступления в колледж. Мамуля была на седьмом небе — она вприпрыжку побежала звонить всем своим друзьям из университетов Карнеги-Меллона и МТИ, как будто сама собиралась поступать.
Мама уже пристроила Пэм в Университет Хэмптона, и я был следующим на очереди. Ее заветная мечта сбывалась — детки получат высшее образование.
Мамуля командовала операцией «Уилл поступает в колледж». Внезапно ей стала очень близка идея о том, что если главных двое, погибают все.
Лучше всего мне давались математика и физика. К 1986 году во многих учебных заведениях уже начинали преподавать информатику и программирование. Мамуля развернула дома командный пункт с картой США, на которой ставила отметки по таким параметрам, как «факультеты программирования», «города и штаты, в которых у нас есть родственники», «стоимость жилья» и «расстояние от Филадельфии». Собрав всю необходимую информацию, она выбрала пять или шесть вариантов и рассортировала их от большей к меньшей вероятности поступления. Затем мама заполнила все анкеты, изучила все варианты жилья и рассчитала все затраты на перемещения и возможные льготы на обучение. В то время она работала в школьном совете Филадельфии, так что в вопросах образования ее организованность уделывала самого папулю.
В Висконсине у нас жили друзья семьи, поэтому мамуля внезапно решила отправиться к ним в гости. Глава их семьи, Уолтер Маккаллум (мы звали его дядя Мак-как-его-там), тесно общался с членом приемной комиссии из местного инженерного колледжа.
Как-то в пятницу моя подруга Джуди Стюарт устроила вечеринку в честь своего дня рождения. После школы я встретился с Рэди-Роком:
— Йоу, ты сегодня идешь к Джуди на тусу? — спросил он.
— Не, чувак, она меня обломала. Я два года ставил музыку на ее вечеринках, а тут она позвала какого-то левого чувака, и мне даже не сказала.
— Мужик, да там не какой-то левый чувак. Это Джаззи Джефф.
— Реально?! Про него столько болтают, но я ни разу не видел его живьем.
— Он просто бомба, — ответил Рэди. — Вот только он с юго-запада, а выступать будет у нас на районе. Мы такое стерпим?
Рэди-Рок всегда знал, как раззадорить меня на баттл. Да долгих уговоров и не требовалось.
— Йоу, как зовут его рэпера? — спросил я.
— Эмси Айс. Но до тебя ему далеко.
— До меня всем далеко.
Рэди любил, когда я выделывался, поэтому одобрительно стукнул меня по плечу. У меня в голове уже завертелись боевые рифмы для сегодняшней схватки.
— Да че уж там, пойдем на вечеринку, уделаем этих лохов, — сказал я. — Должны же мы репрезентоватьУиннфилд.
— Точняк! — ответил он. — Рэди-Рок Си и Фреш Принц против Джаззи Джеффа и эмси Айса! Тогда встретимся в восемь на месте.
— Точняк, договорились. Увидимся.
Джеффри Аллен Таунс вырос на Родман-стрит на юго-западе Филли, в семи километрах от Уиннфилда. Джефф рос в музыкальной семье. Его отец был эмси у легенды джаза Каунта Бейси. Старшие братья играли в фанк- и фьюжн-группах, а сестры исполняли песни Мотауна. Он был младшим ребенком и всю жизнь впитывал музыку как губка, постоянно находясь среди невероятно талантливых людей.
В пятнадцать лет у Джеффа нашли рак, неходжкинскую лимфому. После долгого и тяжелого лечения он поправился, но его мама, по понятным причинам, стала слишком трепетно его оберегать. Так Джефф начал проводить большую часть времени в подвале, окруженный тысячами блюзовых, джазовых и фанковых пластинок. Он слушал все подряд, от Джона Колтрейна и Чарли Мингуса до Стиви Уандера и Джеймса Брауна, замечая разницу в стилях, аранжировках и композиции.
Джефф начал диджеить в десять лет. Энциклопедические познания сделали его музыкальным гением. Его стали называть «Джазз» за то, что он без труда мог совмещать сложные джазовые композиции с ритмами современного фанка, диско и хип-хопа. В конце концов, прозвище превратилось в «Джаззи Джефф».
Сейчас ребята помоложе не знают, но в те времена диджеи были гораздо популярнее, чем эмси. Рэп еще был довольно примитивным, в нем не было ритмической и словесной изобретательности, которой славятся более современные артисты. Зато в мире диджеев постоянно изобретали что-нибудь новое, привлекая все внимание к себе.
Тем, кто не знаком со старомодными диджейскими техниками, будет сложно это понять, но невероятное умение Джеффа на лету скретчить и миксовать дорожки до сих пор мало кто смог переплюнуть. Подростком в своем подвале он изобретал техники и стили, которыми по сей день пользуются тысячи музыкантов по всему миру. Он манипулировал пластинками так, как никто даже не пытался. Он мог менять тональности, темп, даже сами звуки. Один из его фирменных звуков я позже назвал «Трансформер-скретч», потому что он напоминал мне звуковой эффект из мультика о Трансформерах. Он мог заставить вокальные партии из двух разных песен «разговаривать» друг с другом, создавая целые диалоги.
Я могу рассказывать о нем бесконечно, но остановлюсь вот на чем: не просто так даже сегодня, более тридцати лет спустя, Джеффа считают одним из величайших диджеев в мире хип-хопа. Я понимаю, что я тут — великая звезда кино, но в восьмидесятые настоящей звездой был Джаззи Джефф, а я был его подмогой.
Тем вечером я пришел к Джуди раньше времени. Своим появлением я привлек внимание: надел двухцветные джинсы марки «Lee», сзади черные, спереди белые, с ярко-красной надписью «Фреш Принц» на одной из штанин. К джинсам в комплект шла такая же двухцветная джинсовая куртка. Нашлепку с логотипом Lee я срезал со штанов и повесил на серебряную цепь вокруг шеи.
Я был почти слишком крут для этой вечеринки.
Когда я зашел в помещение, мне сразу вспомнился последний раз, когда я был у Джуди в подвале. Печальные события, описанные в моем первом сингле «От девчонок одни беды», случились именно там. Как-то вечером я был в том подвале с одной из подружек Джуди. На дворе было два часа ночи, когда папа Джуди внезапно проснулся от ни с чем не сравнимых звуков искусного занятия любовью (звуки, если что, издавал я, а не она). Я услышал, как он вскочил и понесся с верхнего этажа дома вниз по лестнице, крича:
— КТО ЭТО ТРАХАЕТСЯ В МОЕМ ДОМЕ?!
Недолго думая, я нагишом побежал через коридор до двери, которая вела на задний двор дома, но к своему ужасу обнаружил, что тот завален снегом по колено.
На улице был мороз, и передо мной стоял сложный выбор.
— Где он? ГДЕ ОН?! — вопил папа Джуди у меня за спиной.
Выбор был очевиден.
Я бежал по снегу с голой задницей целый квартал до своего дома. Потом я еще десять минут лепил снежки, пытаясь попасть ими в окно Гарри. В конце концов окно открылось, и из него показалось заспанное лицо брата.
Никогда в жизни я не слышал, чтобы он так смеялся, ни до этого случая, ни после.
А еще в подвале Джуди я впервые познакомился с Джеффом. Уж не знаю, что за странная магия творилась у Джуди в подвале в те времена. Могу лишь сказать, что мы с Джеффом обязаны этому подвалу своими карьерами. Спасибо, Джуди.
Когда я явился на вечеринку, Джефф все еще настраивал оборудование. Джуди нас познакомила.
— Здаров, чувак, я Джазз, — сказал он мне.
— Принц, — представился я, указывая на свою штанину.
Помню, в тот момент я думал: «Это что, и есть тот самый Джаззи Джефф?» На нем были здоровенные дедулины очки, а на одежде нигде не было написано его имени — и как же люди поймут, что он и есть Джаззи Джефф? На среднем пальце его левой руки был приклеен пластырь. Говорят, он так много скретчил пластинки, что у него палец навсегда изогнулся. Про этого чувака все столько рассказывали, но меня он на первый взгляд совсем не впечатлил. Если этот лох действительно был самым крутым диджеем в Филадельфии, мне было стыдно за наш город. В те времена многие известные диджеи устраивали целое шоу, делали сальто, прыгали вокруг своих вертушек, все в таком духе. Джефф же был тощим тихоней со слабым голоском и выглядел скорее как ботаник-заучка, но уж точно не как самурай диджейского пульта.
Пока Джефф возился со своей техникой, я пошел прохлаждаться. Всегда хорошо прийти пораньше перед баттлом, чтобы продумать материал на месте. Я придумал несколько панчлайнов про его очки и пластырь на пальце, хотя в основном собирался сразиться с Айсом. Через несколько минут я решил спросить:
— Йоу, Джазз, а где Айс?
Джефф даже не посмотрел на меня — похоже, это была больная тема.
— Мне и самому интересно. Я ему позвонил уже раз пять, он так и не ответил.
В те времена у нас не было мобильников — нельзя было просто так в любой момент достучаться до кого угодно. Гости подтягивались, но Рэди-Рока все не было. Вечеринка начиналась. Я видел, что Джуди нервничает, да и Джефф казался не в своей тарелке. Поэтому мой режим ублажения окружающих включился на полную.
— Давай я с тобой пожгу, пока Айс не явится, — сказал я.
Джефф с облегчением ответил:
— Было бы круто, спасибо. Ненавижу сам говорить в микрофон.
— Без проблем, — ответил я. — Я-то это дело обожаю.
Мы посмеялись. Джуди от радости запищала и захлопала в ладоши.
В жизни каждого артиста бывают редкие моменты, которым невозможно дать определение, их нельзя объяснить или воссоздать снова, сколько ни пытайся. Но каждый артист поймет, что я имею ввиду — те моменты божественного вдохновения, когда креативность льется из тебя словно сама по себе, безо всяких усилий, когда ты становишься лучше, чем мог себе представить.
В ту ночь во время выступления с Джеффом я впервые испытал это чувство — спортсмены называют его «зоной». Казалось, будто мы с ним всю жизнь были группой, просто сами еще этого не понимали. Это чувство было таким естественным и комфортным. Мы словно оказались на своем месте.
Джефф чувствовал мой стиль рифмовки. Он всегда знал, когда я выдам шутку, когда приглушить музыку, чтобы люди услышали мой панчлайн. А я всегда знал, какой он сделает скретч — для разных видов скретчей он использовал разные руки — и с помощью этого мог манипулировать вниманием публики. Он выбирал треки и подгонял их под нужный темп в зависимости от того, что лучше подходило к структуре моих текстов и рифм. А когда музыка достигала крещендо, я кидал свою самую крутую реплику и Джефф врубал самый огненный бит, который публика когда-либо слышала.
Ночь была безумная. Когда вечеринка подошла к концу, мы с Джеффом стояли на улице, переводя дыхание, все еще возбужденные.
— Йоу, когда ты поставил Truck Turner с эхом, был просто огонь, — сказал я.
— А твой флоу идеально ложится под ритм басовой партии Chic! — отвечал Джефф. — В следующий раз надо попробовать начать с Bounce, Rock, Skate, Roll и потом перейти на Chic…
— Точняк, точняк!
Мы сыпали названиями популярных песен, из которых можно было наделать сэмплы. Идеи лились рекой. Все, что он говорил, рождало во мне три новых мысли, от которых он хватался за голову и начинал ходить кругами.
Официально мы с ним никогда это не обговаривали, но в ту дикую ноябрьскую ночь на вечеринке у Джуди Стюарт Джефф стал моим диджеем, а я стал его рэпером. Так родился дуэт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Просто два парня из Филли — партнеры, друзья, братья.
И мы до сих пор ими остаемся.
Следующие несколько месяцев мы с Джеффом работали на полную. Репетировали каждый день, выступали каждые выходные. Он жил в подвале у своей мамы. Это было его пристанище, его волшебная мастерская. Когда ты туда заходил, казалось, что заглядываешь за кулисы магического представления.
Джефф был первым моим другом, который работал больше, чем я. Он не то, чтобы репетировал — просто он больше вообще ничего не делал. Его нельзя было застать на кухне или перед теликом, или возвращающимся домой из магазина. В магазин он не ходил — наверно, колдуны сами за продуктами не ходят. Джефф стоял за своими вертушками от четырнадцати до восемнадцати часов в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Я его даже представить себе не могу в других местах его же дома.
Джефф был чокнутым профессором — он обожал технологии. Постоянно ждал по почте очередной новый гаджет, который можно было достать только у подозрительного семидесятивосьмилетнего гитарного мастера из Вены. Потихоньку Джефф кроме диджеинга начал увлекаться звукозаписью и созданием своих битов. Он купил 4-дорожечный магнитофон TASCAM и начал пытаться записывать собственные песни. Теперь у него дома была мини-студия.
Джефф меня на три года старше, поэтому к тому времени он уже окончил школу, а вот мне все еще приходилось учиться и работать в цеху. Когда я в четыре часа дня приходил репетировать, Джефф уже десять часов как корпел над музыкой. Он давал мне пару треков, чтобы сочинять под них тексты. На следующий день я приходил с одним новым текстом, а он давал мне шесть новых треков. Так продолжалось первые несколько месяцев нашего партнерства. Диджей Джаззи Джефф был терминатором от мира хип-хопа. Он не ел, не спал и вообще никогда не останавливался.
Я пытался от него не отставать — сидел допоздна, пока мамуля или папуля меня не теряли. Те первые месяцы в подвале Джеффа были самыми креативными в моей жизни. Мы были на передовой, и все было новым и необычным, экспериментальным и вдохновляющим. Мне никогда не хотелось уходить. Мы искали наше звучание, но нашли самих себя.
Однажды вечером мы с Джеффом репетировали, как вдруг в подвальное окно залез какой-то незнакомый чувак в рубашке-поло марки «Лакост», бежевых брюках со стрелкой и кроссовках «Адидас Суперстар». Он спокойно прошел и уселся в углу, как на свое обычное место. Музыка играла на полную, мы с Джеффом были увлечены, а этот странный тип, видимо, не хотел нас отвлекать. Джефф на него вообще никак не отреагировал. Это продолжалось несколько минут, пока я, наконец, не решил разобраться в неловкой, как мне казалось, ситуации.
— Чувак, такие брюки с «Суперстарами» надо носить осторожнее. Если они соприкоснутся, может и рвануть.
Я всего лишь пытался разрядить обстановку, но чувак, похоже, воспринял это как вызов и ответил:
— Ах вот мы как, значит? Решили побазарить? А то давай обсудим твои слоновьи уши…
— Да не, чувак, я тебя просто подкалываю. Я Уилл. Меня еще зовут Фреш Принц.
Джефф тем временем наконец-то вышел из режима чокнутого профессора и снял наушники.
— Охренеть! Какие дела, Джей-Эл? — сказал он. — Ты-то когда успел прийти?
Джеймс Ласситер был для Джеффа лучшим другом детства. Джей-Эл вырос в одном квартале от него, на Хейзел-авеню. Когда Джефф в детстве болел, мама не отпускала его из дома дальше их крыльца, поэтому Джей-Эл сам постоянно приходил, чтобы составить ему компанию. Они сидели на крыльце часами, и традиция эта продолжалась даже когда Джефф уже выздоровел, и когда они стали взрослыми.
Джей-Эл был пацан серьезный. Когда мы познакомились, он учился на юридическом факультете в Университете Темпл. Днем он ходил на занятия, а вечерами работал в госпитале при Пенсильванском университете. К Джеффу он заглядывал на пару часов перед тем, как отправиться спать домой — отчасти по привычке, отчасти, чтобы расслабиться после тяжелого дня, отчасти ради того, чтобы своими глазами наблюдать за эволюцией величайшего диджея в истории.
Наше восхождение на вершину мира хип-хопа в Филли было стремительным. Мы выступали на всевозможных площадках: уличные вечеринки, школьные балы, выпускные, подвальные тусовки, дни рождения, благотворительные концерты, церковные парковки… В общем, где мы только не выступали. У нас была репутация веселых, креативных и очаровательных тусовщиков. Так нас в 1986 году наконец пригласили на наш первый настоящий концерт в знаменитом клубе Wynne Ballroom. «Wynne» в названии значило «Уиннфилд» — мой район, мои люди, а я — с моим новым диджеем. Выступили мы просто потрясно. Наш дуэт был самой отвязной хип-хоп-группой в Филли.
Но настоящий успех пришел к нам в сентябре 1986 года, когда на фестивале New Music Seminar Джеффа позвали участвовать в баттле за мировое господство.
Баттл за мировое господство был ежегодным соревнованием для диджеев и эмси, проводившимся в Нью-Йорке. Все легенды хип-хопа в нем участвовали: Грандмастер Флэш, Бизи Би, Mantronix, Мелл Мэл и многие другие. В восьмидесятые это были Олимпийские игры от мира хип-хопа.
Леди Би, радиодиджей из Филли, была первопроходцем хип-хопа. Она первой в городе стала включать на радио рэп-музыку, еще когда работала на станции WHAT AM. Она позвонила Дэвиду Кляйну по прозвищу Фанкен, который был организатором фестиваля, и рассказала ему о классном диджее из Филли, менявшем хип-хоп сцену на глазах. Леди Би настаивала, чтобы Фанкен Кляйн взял Джеффа на свое соревнование.
Ехать туда было всего пару часов, но тот путь все равно ощущался, как паломничество. Нью-Йорк был Меккой хип-хоп-культуры. Я никогда там не бывал, и меня вдохновляла идея о том, что музыка может послужить мне пропуском в новый мир. И вот я прямо сейчас иду по Нью-Йорк-Сити, направляясь на самый крутой фестиваль на планете. И все благодаря рэпу.
Баттл проводился в большом зале отеля «Марриотт Маркиз» на Таймс-сквер. Мы приехали в полном обмундировании — красные кепки бейсбольной команды «Филадельфия Филлис» запестрили в помещении. Мы благоговейно трепетали, но по кипишу, который мы подняли, этого было не понять — ребята с Филадельфии официально заехали в здание.
Джефф подошел к стойке регистрации. Я стоял у него за спиной, руки крест-накрест, подбородок задран — реально крутая рэперская поза. Мимо меня прошествовал Мелл Мэл, и моя крутая поза тут же слегка сникла. За Мэлом в зал вошел Грандмастер Флэш. Тут уж я на автомате вытянулся по стойке «смирно». Внезапно через плечо я услышал звук — такой, который издают старые друзья при встрече, когда долго не виделись. Один из голосов показался мне смутно знакомым. Откуда же я мог его знать?
И тут до меня дошло. Я никогда не встречал его лично, но знал, что это именно он. Он не стоял в крутой позе, не был наряжен, как клоун, при нем не было свиты, но толпа перед ним все равно расступалась. Это был всеобщий фаворит соревнования эмси: Грандмастер Каз.
Пока он шел мимо меня, у меня все силы ушли на то, чтобы не заверещать: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАЗ!» К счастью, он быстро прошел мимо, и я смог не опозориться, но еще чуть-чуть, и я бы точно не выдержал. Джефф наконец закончил с регистрацией, я сунул руки в карманы, и мы тихонько отправились искать наши места.
На баттле за мировое господство было два соревнования: для диджеев и для эмси. В каждом по восемь участников. Три отборочных раунда, побеждает сильнейший. Баттл был устроен так, чтобы у каждого участника в каждом раунде было по три слота на тридцать секунд, в которые они должны показать себя. Каждый по очереди отрабатывал свой материал и в конце жюри выставляло оценки, основываясь на технике, презентации и реакциях публики.
Эмси выступали первыми, и у других участников просто не было шансов: раунд за раундом мой идол уделывал всех рэперов своей харизмой и остроумием. Грандмастер Каз был объявлен Королем мира эмси, и я больше не мог сдерживаться:
— Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАЗ!
Следующими выступали диджеи. В те времена это было главное шоу, ради которого люди и приезжали на фестиваль.
В первом раунде Джеффу как новичку предстояло сразиться с прошлогодним чемпионом — диджеем Чизом. Большинство диджеев сочиняли два-четыре номера и повторяли их в каждой схватке. Но Джефф всю прошлую неделю потратил на то, чтобы придумать девять разных номеров по тридцать секунд. Таким образом ему не пришлось бы повторяться, даже если он пройдет во все три раунда. И он идеально подогнал каждый номер под тридцать секунд. Другие диджеи часто производили плохое впечатление: у некоторых были слишком длинные номера, и судьям приходилось обрывать их сигналом, а у некоторых бывали сегменты по двадцать секунд, которые ни к чему не приводили. У Джеффа же каждый номер заканчивался панчлайном ровно через 29 секунд, поэтому сигнал жюри становился финальной нотой его выступления и словно командовал публике рассыпаться в овациях.
Начался первый раунд. Джефф вышел на сцену, слегка взвинченный от счастья, и приветственно протянул руку диджею Чизу. Чиз оглядел Джеффа с ног до головы и отказался принять рукопожатие. Джефф вернулся к своему диджейскому столу: никакого счастья и в помине не осталось, а глаза превратились в ледышки. Если бы Чиз знал, что сейчас произойдет, он бы точно пожал Джеффу руку — а то и отломать попытался бы.
Чиз выступил первым и показал себя очень хорошо. Но Джефф ответил ему одним из любимых звуков Филли — сложным ритмичным скретчем. Публика стала переговариваться и переглядываться, не совсем осознавая, что только что произошло. Чиз пристально смотрел на Джеффа, понимая, что это только начало. Никто из них еще никогда не слышал такого каттинга. Люди от возбуждения стали елозить на стульях.
Диджей Чиз выдал свой второй номер и снова попал в точку. Публика ревет, жюри выставляет высокие оценки. Затем все затихают и готовятся к тяжелой артиллерии от пацана из Филли. Не церемонясь, Джефф представляет миру свой фирменный «Трансформер-скретч». В 1986 году люди ничего очуменнее не слыхали. И это были лишь первые десять секунд. Он закончил номер, нарезав Pump Me Up Грандмастера Флэша и the Furious Five. В конце той песни есть куплет:
- Я кривоногий братишка, других таких не сыскать.
- Купил домишко, поселил свою мать.
Джефф нарезал последнюю строчку в таком порядке:
- Я купил
- Д —
- До —
- Домишко
- Т-в
- Т-во —
- Т-вою
А потом он задержал пластинку, пока время почти не вышло, и на двадцати девяти секундах, прямо перед сигналом жюри, дал ей сыграть последнее слово:
- МАТЬ
Сигнал прозвучал, и публика была просто вне себя. Судьи повскакивали с мест и стали ходить по залу, держась руками за голову. Скретчи Джеффа были такими чистыми, резкими и отточенными, что до людей стало доходить — прямо на их глазах зародился новый вид искусства. Джаззи Джефф дал всем понять, что путь к мировому господству лежал через Филли.
Джефф в тот день был безупречен. Когда все закончилось, Королем мира диджеев 1986 года был объявлен паренек, который всю свою жизнь провел в подвале на юго-западе Филадельфии. Это был мой диджей. Диджей Джаззи Джефф.
После мы вернулись в наш крошечный номер отеля «Марриотт Маркиз». Мы понимали, что случилось нечто грандиозное — сами Эрик Би с Ракимом зашли к нам в номер, чтобы лично поздравить Джеффа. Мы еще не понимали, к чему это все идет, но чувствовали, что в нашей жизни загорелся какой-то важный фитиль.
Мы не спали всю ночь, смеялись, мечтали, строили планы на будущее. Той ночью я впервые осознал, что возможности, которые открывал передо мной хип-хоп, тянутся гораздо дальше, чем я мог себе представить. Мечты родителей о моем будущем всю жизнь сводились к образованию и усердному труду. Я должен был отправиться в колледж и найти хорошую работу. Я должен был продвигаться по миру, как все. И как самопровозглашенный золотой ребенок, я был готов жить так, как от меня того хотели родители. Другого я не мог себе даже представить.
Но когда мы следующим утром подъехали к моему дому, оставив Нью-Йорк позади, на меня внезапно обрушилось осознание: в колледж я не пойду.
Дана Гудман был при деньгах.
Ростом он был где-то метр семьдесят, довольно крупный, не толстый, но крепкий — казалось, если понадобится, он тебе точно наваляет. Ему было почти сорок и он был одним из старожилов Уиннфилда. Со шпаной на углу он разве что здоровался, считая себя выше этого — у него были дела покруче.
Дана был младшим братом Лоуренса Гудмана, основателя PopArtRecords — одного из первых хип-хоп лейблов, получивших популярность в Нью-Йорке. Выходец из Филли, Лоуренс уделывал весь Нью-Йорк.
В первые месяцы после возвращения в Филли мы с Джеффом жгли, как не в себя. Джефф почти все время стал тратить на звукозапись, уделяя лишь небольшую часть времени диджеингу. На его магнитофоне мы смогли записать уже шесть или семь треков. Джефф сводил их, как мог, но он все больше становился недоволен своим оборудованием, потому что ему не удавалось добиться на записи того звука, который сидел у него в голове.
Я как раз недавно купил Sharp 777 — первый бумбокс, специально предназначенный для хип-хопа. Это был один из первых случаев на моей памяти, когда крупная корпорация специально решила ответить на запросы нашего развивающегося сообщества. 777 был тяжеленным и очень громким магнитофоном. Чтобы таскать его на себе, нужно быть силачом, а таскать его приходилось, потому что эта бандура почему-то разряжала свои 10 дорогущих батареек типа D гораздо быстрее, стоя на земле. Лучшей в этом магнитофоне была функция перезаписи кассет на высокой скорости. Вечером я забирал кассеты, которые мы с Джеффом записывали днем, и всю ночь делал их копии. В те времена каждую копию нужно было записывать целиком по одной. Занятие было утомительным и нудным — очень похожим на строительство гребаной кирпичной стены — но я это делал, потому что без этого никак.
Копии кассет мы раздавали всем подряд. Мне было плевать, знали ли люди в принципе, что такое хип-хоп. Если у вас есть уши и кассетник, то позвольте представиться, я Фреш Принц — вон у меня на штанах написано — и у меня для вас есть кассета, которую вы непременно должны послушать.
Старшая школа Овербрук стояла на улице Хиллтоп, которой заправляла банда из трех десятков чуваков, называвших себя the Hilltop Hustlers — Хастлеры с Хиллтоп. Одним из их лучших рэперов был Стэди Би — племянник Лоуренса Гудмана. Ходили слухи, что они с дядей подписали контракт, и в конце года у него должна выйти запись. Хотелось попросить Стэда, чтобы он передал нашу кассету Лоуренсу, но я-то был совсем из другого района, а уж чем хастлеры с Хиллтоп точно не занимались, так это помощью пацанам из Уиннфилда.
Но тут до меня дошло: Дана Гудман ведь живет в Уиннфилде! Может быть, он согласится передать Лоуренсу кассету.
У Даны с Лоуренсом, как и у многих братьев, было что-то вроде соперничества. Дана знал, сколько его брат зарабатывает в студии звукозаписи, поэтому хотел открыть свою собственную. Он позвонил нам с Джеффом и сказал, что хочет встретиться. Мы пригласили его к Джеффу домой, чтобы он послушал наше выступление.
Дана пришел в темно-синем велюровом спортивном костюме от Серджио Тачини с бело-красными резинками на рукавах и штанинах. Куртка была наполовину расстегнута так, чтобы было видно его семь или восемь золотых цепей, висящих на ужасно волосатой груди. Дана был одним из тех мужиков постарше, которым почти удавалось одеваться, как молодежь — возраст в нем выдавали только скучные серые носки. Дана всегда носил солнцезащитные очки — на улице и дома, днем и вечером, в церкви и на спортивной площадке. Очки всегда были на нем.
В тот день Дана подъехал к дому Джеффа на новенькой четырехдверной «Ауди 400 °CS Quattro» цвета синий металлик, и тогда я впервые в жизни увидел телефон в машине. Это в принципе была первая машина со встроенным телефоном — полноценная домашняя трубка с дисковым набором номера, которая каким-то образом работала из машины. Дана вышел на улицу, его распирало от важности. Он был горластый и импозантный, огромное кольцо на его мизинце сверкало в лучах солнца. Мы с Джеффом стояли на крыльце. Когда Дана нас увидел, он раскинул объятия и заорал своим низким баритоном на всю улицу, чтобы слышали соседи:
— ЙОООУ! ВОТ ОНИ, КРАСАВЦЫ! — показывая на нас с Джеффом. — Во всей красе! Бегите брать автографы! Перед вами диджей Джаззи Джефф и Фреш Принц! Этих пацанов скоро все будут знать!
Он подозвал нас к себе.
— Давайте сюда, не стесняйтесь!
Мы сошли с крыльца к нему. Дана обнял нас, словно любящий отец.
— Шикарно вы всех уделали в Нью-Йорке, показали там, на что способны пацаны из Филли!
Мы с Джеффом заулыбались.
— Да, мы такие, — ответил я.
Тут один из соседей Джеффа, чувак на пару лет постарше по имени Кит, крикнул:
— Э, Дана! Эт че, реально ты? Блин, это ж сам Дана Гудман! Чувак, какие дела?
Кит с Даной пожали руки — это было одно из тех сложносочиненных рукопожатий в несколько этапов, которым пользовалось поколение постарше нас. Еще один элемент, не вязавшийся со спортивным костюмом Даны.
— Как тебя сюда занесло? — спросил Кит.
— Да так, поболтать о делах вот с этими пацанами, — ответил Дана.
— О делах? — Кит взглянул на нас с Джеффом. Его настрой в тот момент слегка изменился, но мы от волнения и по неопытности этого не заметили.
Кит позвал Дану в сторонку и наклонился поближе к его уху:
— Ты же в курсе, что это младший братишка Джимми Таунса?
Дана поглядел на Джеффа.
— Брат Джимми Таунса?
Кит еще сильнее приблизился к уху Даны и нашептал что-то, чего мы не услышали.
Дана уставился в землю и покачал головой:
— Все, все, чувак, я тебя услышал. У нас тут чисто бизнес. Просто помогаю пацанам кое с чем.
— Ну смотри.
Кит сказал это громко, специально, чтобы мы услышали. Они с Даной попрощались, и он пошел дальше по улице.
Дана спустился в подвал. Мы с Джеффом исполнили для него все, что у нас было в запасе. Дана выбрал две песни, которые ему больше всего понравились. Одной из них была Just One of Those Days — «Один из тех дней». Это был достаточно медленный ритм на 92 удара в секунду, в котором я читал рэп об одном из тех дней, когда все идет не так. В куплет Джефф вставил сэмпл из песни Ирвинга Берлина Puttin’ on the Ritz — этот рэгтайм 1928 года был первой песней, исполнявшейся в кино межрасовым ансамблем. Микс из серьезной старомодной музыки и современных хип-хоп-скретчей и ритмов был фирменным коктейлем Джаззи Джеффа. В этом была наша фишка: музыкальная разборчивость и глубокие познания Джеффа идеально сочетались с моим врожденным чувством юмора и умением рассказать историю.
Второй песней Дана выбрал «От девчонок одни беды» — ту самую, которую я сдернул с «Иветт» Каза. В версии для записи Джефф использовал сэмпл из заглавной песни сериала 60-х годов «Я мечтаю о Джинни», а на новенькой драм-машине «Роланд 909» он понизил тон барабанного звука, чтобы получилась басовая партия. В этой песне я пересказывал историю о том случае в подвале Джуди Стюарт, когда мое искусное занятие любовью чуть не привело к обморожению. Дана был просто в восторге и не мог перестать хихикать.
— Йоу, это правда? Колись, реально все так и было?
— Все правда, чувак, — ответил я. — Та еще была ночка.
Он расхохотался.
— Блин, прикольные вы пацаны, да еще и талантливые.
За десятилетия хип-хоп настолько развился, что теперь меня от наших старых песен корежит — они звучат примитивно и занудно. Но по тем временам наши песни были революционными. Мы с Джеффом заигрывали со структурой так, как никто в хип-хопе до нас и не пытался. У нас были припевы без текста, куплеты, состоявшее наполовину из сэмплов, наполовину — из рэпа. Я писал куплеты, которые складывались в полноценную историю — каждый куплет подводил к последующему, заставляя дослушать до конца, чтобы узнать, чем все кончится. Это было нечто новое, необычное… если позволите, это был фреш.
Дана качал головой в ритм музыке, хлопал в ладоши, притопывал. В конце концов, изобразив, что в него больше не лезет, он сказал:
— Хорош, хорош, вырубай!
Джефф нажал на кнопку «стоп».
Если бы мы были в мультике, в глазах Даны крутились бы знаки доллара. Перебирая пальцами золотые цепи на груди, он заявил:
— Ну что, ребята, давайте-ка запишем пластинку.
Мы с Джеффом от радости как с цепи сорвались. Прыгали, кричали, давали друг другу пятюни. Мы были такими наивными. Думали, все. Позвали мужика домой, он сказал нам «Давайте запишем пластинку», и мы уже звезды.
Мы не понимали, что у Даны ничего нет. У него не было ни компании, ни каналов распространения, ни связей на радио или телевидении. Мы были его первым выходом в мир музыки.
Неделю спустя мы пришли в Studio 4, профессиональную звукозаписывающую студию, которую Дана арендовал в центре Филадельфии.
Сложно описать словами лицо Джеффа, когда он зашел в помещение с оборудованием. Он был словно семнадцатилетний девственник, который случайно забрел на съемочную площадку порнофильма и обнаружил, что сейчас будет в нем сниматься. Дана положил перед нами контракт, мы расписались.
Раньше мы никогда не бывали в студии звукозаписи, поэтому не совсем понимали, что нужно делать и как все работает. Дана до этого хотя бы бывал в студиях со своим братом. У него было представление о том, что он хотел услышать. По контракту Дана выступал нашим продюсером и соавтором песен. Он начал требовать, чтобы Джефф менял темпы, тональности и звуки, вырезал части песен и все в таком духе. Джефф протестовал, но Дана считал — раз он платит за студию, значит, он и командует. Джефф был в гневе, но это ведь был наш шанс на прорыв — мы не хотели все испортить и упустить его.
Песня «Один из тех дней» была просто изуродована. Темпы в припеве и куплетах отличались. В какой-то момент песня меняла тональность ни с того ни с сего. Финальный микс вышел чудовищным. Джефф до сих пор ненавидит эту песню, даже несмотря на то, что мы ее потом перезаписали.
А вот «Девчонки» пережили запись почти без изменений, и в итоге песня получилась вполне себе. Мы решили, что она будет нашим первым синглом, а «Один из тех дней» станет би-сайдом. Мы собирались выпустить сингл, чтобы подогреть интерес к нашей группе, пока будем заняты записью полноценного альбома.
Сингл «От девчонок одни беды» «вышел» в марте 1986-го, хоть об этом никто и не узнал, потому что его выпустил новый лейбл Даны под названием Word-Up Records. У него не было офиса, не было сотрудников, не было каналов распространения — сингл даже в магазинах не продавался. Дана торговал виниловыми пластинками из багажника своей машины. Вообще ничего не двигалось. К его чести, он делал все, что умел, будучи воротилой. Он вложил в нас собственные деньги и искренне верил в нашу группу.
И хотя никто и не знал о нашем сингле, победа Джеффа на баттле за мировое господство привлекла внимание промоутеров, которые стали приглашать его на выступления, а я к нему прилагался в комплекте. Мы стали выступать в приличных клубах Филадельфии, ездили в Делавэр и Атлантик-Сити.
Концерты становились все серьезнее, поэтому нам приходилось подписывать контракты. Однажды нам понадобилось отправить договор до пяти вечера того же дня по факсу, иначе мы не смогли бы выступить. Пришлось напрячь мозги — у кого, блин, вообще есть факс?
Джей-Эл сидел в своем углу подвала Джеффа, по собственному утверждению «читая» обложку альбома группы Ohio Players — ту самую, на которой изображена голая женщина, облитая медом. Приближались пять часов, и мы с Джеффом нервничали все сильнее, не зная, как нам не лишиться предложения на 1500 долларов.
Ни у кого из нас не было факсового аппарата. Может быть, у мамули на работе и был, но то был вечер пятницы, она уже закончила работать. Папуля не любил всю эту «новомодную херню». А у студии Word-Up Records был только дисковый телефон в офисе на колесах.
Джей-Эл молча сидел в углу, а мы с Джеффом начали психовать друг на друга.
— У тебя тут столько всякой компьютерной херни, не мог долбаный факс завести? — заорал на него я. — Получается, гитарную педаль у нациста из Вены ты можешь купить без проблем, а договор по факсу отправить никак?!
— С чего это вообще моя обязанность? Ты сам-то чем в группе занимаешься?
Джей-Эл на нас даже не посмотрел. Скучающим монотонным голосом он заговорил скорее с девицей на обложке альбома, чем с нами:
— У меня есть факс…
И так Джеймс Ласситер стал нашим менеджером.
Джим Рон однажды сказал: «Взгляните на пятерых людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Они — это вы».
Эту концепцию я понимал с рождения. В глубине души я всегда знал, что судьба моих жизненных мечтаний и стремлений определяется людьми, которыми я себя окружаю. Конфуций был прав: качество твоей жизни определяется качеством твоих друзей. Хвала Господу, в моей жизни не случилось ни одного момента, когда рядом со мной не было замечательного друга, который бы в меня верил и был легок на подъем.
Джей-Эл учился на последнем курсе юридического факультета, и хотя мы наняли его в качестве менеджера просто так, из удобства, мы очень быстро поняли, что ничего в нем не было просто так. Он стал за нас общаться со всеми организаторами концертов и промоутерами, начал работать с документами и улаживать финансовые вопросы в отношениях с Даной. Когда его не устраивали какие-либо условия, он нанимал адвоката из Нью-Йорка. Джей-Эла не волновали слава и деньги, он не стремился выпендриваться, наряжаться в дорогие шмотки или обвешиваться брюликами. Его делом была помощь и защита близких.
Джей-Эл прочитал контракт, который мы заключили с Даной. Он выделил, обвел и подчеркнул в нем все смущавшие его условия, хотя роли это и не играло, ведь мы его уже подписали. Сидя в своем углу с озадаченным видом, он, наконец, задал нам вопрос:
— Вы этот контракт вообще читали?
Мы с Джеффом переглянулись.
— Я не читал, а ты? — спросил я.
Джефф помотал головой. Обращаясь к Джей-Элу, он сказал:
— Не-а. А что там написано?
Джей-Эл такому ответу был не рад.
— Тут написано, что вы все — дебилы.
Дана всегда был на позитиве, всегда рассказывал, как сильно он старается и как много тратит на продвижение нашей пластинки. Джефф пару раз слышал по ночам, как нашу песню ставили на радиостанции WHAT. Некоторые друзья и родственники тоже разок ее слышали, но ротация у нас была, честно сказать, так себе. Дана на это отвечал:
— Да эти станции надо подкупать, постоянно всех обхаживать. Знаете, рынок-то конкурентный. Меня все нагреть пытаются! Но песню крутят, просто вам она не попадается! Вы погодите, скоро взлетим!
В тайне решив не поступать в колледж, я перестал делать домашку, не готовился к контрольным, а многие уроки вообще прогуливал. Папуля был не против — пока я трудился в ледяном цеху и безупречно выполнял задания, пока меня не арестовали и не убили, он не возражал. Но мамуля дружила со всеми моими школьными учителями, и она была в ярости.
Мама считала своей главной миссией обеспечить мне и всем своим детям высшее образование. Колледж для нее был превыше всего. Именно для этого она переехала в Филли. Именно для этого терпела пьянство и побои отца. Во многом для этого она вернулась в дом на Вудкрест. С ее точки зрения, высшее образование было фундаментом успешной жизни. Без него я был обречен.
Надежда подпитывает жизнь. Надежда — это эликсир для выживания в самые трудные времена. Способность воображать себе более светлые дни наделяет страдание смыслом и делает его терпимым. Теряя надежду, мы лишаемся своего основного источника силы и стойкости.
Мамины надежды на детей поддерживали ее в самые трудные годы брака. Но теперь у меня появились собственные надежды. Надежды на хип-хоп. Надежды на альбомы и выступления перед пятьюдесятью тысячами человек, кричащими: «У-у-у-у-у!» по моей команде. Теперь эти надежды придавали мне силы и стойкости. Отказавшись от них, я бы умер. Я просто не мог без этого жить.
Наш конфликт достиг апогея как-то вечером ближе к моему выпускному. Я не пошел домой после уроков, а отправился к Джеффу репетировать. До дома добрался только часам к десяти вечера. Я почувствовал, что мама меня ждет, еще когда открывал входную дверь.
Конечно же, мамуля поджидала меня на кухне.
— Пример, мам! — сказал я с притворной радостью в голосе.
— У тебя что-то случилось? — спокойно спросила она.
— Не, мам, все отлично.
— Нет, я думаю, у тебя случилось что-то серьезное. Или случится прямо сейчас.
— Что такое, мам? В чем дело?
— Я только что говорила с миссис Стаббс. Ты что, забыл дорогу в свой класс?
— Нет, мам, у меня просто много дел.
— Какие дела могут быть важнее поступления в колледж? Ты понимаешь, что комиссия будет просматривать твои итоговые оценки? Мы слишком сильно для тебя старались, чтобы теперь ты поставил на всем крест. Что же с тобой случилось?
В голосе и позе мамули сквозил гнев, но я разглядел за ним кое-что еще: мама была перепугана. Мое сердце растаяло.
— Мам, я работаю с Джеффом уже почти год. Все говорят, что он лучший диджей на свете. Популярность рэпа только растет. Его крутят по радио, по MTV, Run-DMC вообще ездили выступать в Японию. Мама, я тебе точно говорю, наши песни ничуть не хуже, чем у других. На всех наших выступлениях публика просто балдеет. Мы нашли продюсера звукозаписи, который вложил в нас деньги. У нас есть менеджер. Я читаю рэп лучше всех в Филли. Все говорят, что мы станем звездами. Надо только еще чуть-чуть поработать.
— Нет. Я не разрешаю тебе быть рэпером, — отрезала она.
— Почему?
— Потому что я этого не понимаю. Послушай-ка меня: чтобы больше никаких прогулов, никаких пропущенных контрольных. Будешь делать все домашнее задание, которое тебе задают. А осенью отправишься в колледж. Без разговоров.
— Мам, да ты только послушай нашу музыку…
— Я уже досыта наслушалась этих твоих хиппи и хоппи! Это увлечение, а не карьера. Спокойной ночи.
Она поднялась из-за стола и повернулась, чтобы уйти, но я остановил ее, наверное, худшими словами, которые когда-либо говорил своей матери.
— Мам, я не пойду в колледж.
Я был потомком людей, которые страдали и жертвовали собой — блаженный преемник многих поколений афроамериканцев, стремящихся к стабильной образованной жизни американского среднего класса. Поколение мамули и папули выросло в разгар сегрегации и беспросветной нищеты. Семья Джиджи бежала с Юга от расистских законов Джима Кроу. Моя мама десятки лет терпела школьную бюрократию, финансовую нестабильность и отцовские выходки, чтобы обеспечить меня. И, черт возьми, она не могла допустить, чтобы я не пошел в колледж из-за какой-то музыки, которую я играю по подвалам с сомнительными приятелями по кличке Джазз и Рэди-Рок.
Наши мечты были совершенно несовместимы. Кто-то должен был уступить. Один должен был разбить сердце другому.
С годами я понял, что никто не способен с точностью предсказать будущее, хоть все и уверены, что могут. Любой совет со стороны — это, в лучшем случае, ограниченное представление одного советчика о безграничных возможностях, которые есть у тебя. Люди дают советы с точки зрения своих страхов, переживаний, предрассудков. В конечном счете, они дают этот совет себе, а не тебе. Они думают о том, что они бы сделали, как они тебя воспринимают и что они думают о твоих способностях. Конечно, мы все действительно подчиняемся своду универсальных законов, закономерностей, волн и течений — многое можно до какой-то степени предугадать. Но все, что происходит с тобой, происходит впервые. Только ты можешь судить обо всех своих возможностях, поскольку ты знаешь себя лучше всех остальных.
Мне всегда нравилась сцена на баскетбольной площадке из фильма «В погоне за счастьем». В ней персонаж, которого играет мой сын Джейден, кидает мячи, крича:
— Я буду профессиональным баскетболистом!
Крис Гарднер, которого играю я, отговаривает его от баскетбольной карьеры, но обрывает себя на полуслове:
— Не слушай тех, кто говорит тебе, что ты чего-то не можешь. Даже если это говорю я… У тебя есть мечта — береги ее. Когда люди чего-то не могут, они думают, что и ты не сможешь. Но если ты чего-то хочешь — вперед. Без разговоров.
Высшее образование спасло жизнь моей маме, и поэтому она свято верила: только образование способно защитить от жестокого мира. Без него я буду обречен на гибель. Она не давала мне совет — она говорила «правду». Карьеры рэпера для нее просто не существовало.
Но я — не моя мама. От тягот в юности ее спасло образование, а меня спасали выступления и хип-хоп. Теперь я это прекрасно понимаю. Пока мы выясняли, кто прав, правды на самом деле было две — одна ее, а вторая моя.
Но никто из нас не шел на компромисс, ведь это означало бы уничтожить все, во что мы верили.
Папуля попал под перекрестный огонь. Мамуля требовала, чтобы он заставил меня пойти в колледж, а я умолял его прислушаться к моим аргументам.
Было ясно, что последнее слово останется за ним. Папуле выпала роль судьи, присяжного и палача в споре его жены и сына.
Папуля размышлял где-то неделю. Он катался со мной на машине, водил мамулю гулять. Он задавал вопросы и слушал наши ответы. В доме на Вудкрест-авеню воцарился ледяной холод. Мы с мамулей практически не разговаривали — «привет» да «пока». А однажды вечером папуля вызвал нас на кухню. Мы с мамой уселись за стол, а он прислонился к плите.
Папуля в такую ситуацию уже попадал. Правда, в прошлый раз его собственные родители говорили ему, что он может, а чего не может делать. Он любил свой фотоаппарат, но ему сказали, что это только увлечение, а не карьера. В душе папуля был художником, у которого отняли мечту всей его жизни, потому что она была «нереалистичной» и «непрактичной». Но еще он на своей шкуре испытал, как жесток бывает мир к необразованному черному парню. Про все, чем папуля занимался, кто-нибудь говорил, что это невозможно. Он никак не мог бы открыть собственный бизнес. Белые ни за что не согласились бы работать на него. Супермаркеты никогда не стали бы покупать лед у черного. Он всегда делал все по-своему, вопреки препятствиям и сомнениям окружающих.
— Значит, так, — сказал папуля. — Даю тебе один год. Твоя мать сказала, что попросит придержать твои вступительные документы до следующего сентября. Мы тебе будем помогать и поддерживать, чтобы ты делал все, что нужно для успеха. Но если через год ничего не выйдет, ты пойдешь в тот колледж, который выберет мама. Ты согласен?
Год казался мне вечностью. Я был вне себя от счастья.
Он повернулся к мамуле:
— Ты согласна?
Мамуле его предложение явно не понравилось, но такой компромисс не убивал ее мечты. Она сказала только:
— Угу.
На том и порешили, а папуля вернулся к работе.
Мои отношения с отцом бывали всякими, мягко говоря. Но в тот вечер на кухне дома по адресу Вудкрест-авеню 5943 он разрулил ситуацию так, как подобает талантливому лидеру.
Вот каким должен быть отец.
Через несколько недель моя мама позвонила декану Висконсинского университета, где приняли мое заявление. Она все ему рассказала.
— Это катастрофа, — сказала она. — Мой сын хочет взять перерыв на год. Он занимается каким-то «рэпом». У него есть менеджер, и какая-то компания заплатила ему за то, чтобы он записал альбом. Я, конечно, против, но хотела спросить, не сможете ли вы придержать за ним место до сентября 1987-го?
Декан внимательно ее выслушал.
— Миссис Смит, по-моему, это потрясающе.
— А? — переспросила мамуля.
— Юноша в его возрасте должен повидать жизнь, в колледже его такому не научат. Ему обязательно надо попробовать.
Челюсть у мамы так и отвисла.
— Конечно, мы будем его ждать. Если с музыкой ничего не выйдет, он сможет поступить на будущий год. Никаких проблем.
Еще через несколько недель, в начале мая, где-то за месяц до выпускного, я паковал лед в ACRAC. Если интересно, упаковка льда именно настолько скучна и монотонна, как вы думаете. И спина от этого болит. В алюминиевый черпак вмещалось почти два кило льда. Два с половиной черпака в пятикилограммовый мешок, закручиваешь верхушку, запаиваешь машинкой, бросаешь мешок в тележку на колесиках. Если складывать как надо, тележка вмещает где-то 24 мешка. Потом тележку надо было отвезти к морозилке и разгрузить ее. За 4 часа один человек мог запаковать 200–250 мешков. Все время делаешь одно и то же и в процессе как бы отключаешься на пару часов.
Мне нравилось работать по ночам, потому что в это время на местной радиостанции Power 99 крутили хип-хоп. Я слушал чарт, блуждая в мире своих грез, и знакомился со всеми новинками хип-хопа. Я подпевал, запоминал тексты любимых песен и ритмично грузил лед, придумывая собственные рифмы.
Но в ту ночь я был погружен в раздумья. До меня дошел смысл пословицы: «Бойся своих желаний, потому что однажды они могут сбыться». Я отстоял свои убеждения, родители сдались. Но теперь я должен был доказать, что не ошибся.
— Номер пять — пять — пять — пять! Новехонький трек Кул Мо Ди, Go See the Doctor.
- Я… шел… шел себе, читая рэп, по знакомой улице,
- Топал ногами, старался не сутулиться.
- Увидал девчонку, такую себе умницу,
- Красивую и стройную — хоп, мы уже целуемся.
«Нет, ну я не хуже Кул Мо Ди», — подумал я, пытаясь поднять себе настроение. Но мысли о мамуле не шли у меня из головы. А вдруг она права? Вдруг меня не возьмут работать рэпером? И всего год? Разве этого хватит? Прошлый год мигом пролетел. Может быть, мне все-таки пойти в колледж. Я же смог учиться в школе и мутить с Джеффом — может быть, музыку с коллежем тоже можно совмещать?
Черпак — мешок. Черпак — мешок. Черпак — мешок.
Но с родителями тоже нельзя жить вечно. Мне нужно свое место, свои деньги, своя машина…
— Номер ЧЕТЫ-Ы-Ы-ЫРЕ!!! Beastie Boys вернулись с песней Hold It Now, Hit It.
- Когда я оттягиваюсь, я оттягиваюсь по полной.
- Когда набиваю в карман хрустящий доллар,
- Когда потягиваю пиво, сидя на подоконнике.
- Когда все идет путем, я оттягиваюсь по полной.
Черпак — мешок. Черпак — мешок. Черпак — мешок.
Блин, ну я точно не хуже, чем Beastie Boys. Вот только их крутят по радио, а я пакую лед. Может, паковать лед — моя судьба? Но, блин, если я проторчу тут с папулей еще десять лет, я себе башку оттяпаю все этим же черпаком.
Интересно, Run-DMC и Beastie Boys тоже когда-то паковали лед? Или им просто повезло? Один шанс на миллион…
— Номер — номер — номер ТРИ-И-И!!! Зацените, ребятки: новенькая песня с пылу с жару с нового альбома Stetsasonic On Fire. Долгожданная My Rhyme!
Но я ведь тоже — один на миллион. И Джефф тоже. Мамуля вообще не слушает хип-хоп. Откуда ей знать, хорош рэпер или нет? Она судит о том, чего даже не понимает. А как же Мелани? Я не смогу с ней быть, если уеду в какой-то там колледж. Она за пару недель себе нового хахаля найдет.
Черпак — мешок. Черпак — мешок. Черпак — мешок.
— И мы вернулись с номером ДВА-А-А-А-А!!! Ребята, это ваши давние любимцы: RUN! D! M! C! С песней My Adidas!
Это была моя любимая песня. У меня сразу улучшилось настроение. Я снова стал черпать в ритм и подпевать.
- Мои «адидасы» шагают по сцене,
- Когда я выступаю с благородной целью.
- Деньги собрали с билетов концертных,
- Скинулись все и поддержали бедных.
Я невольно начал черпать лед быстрее.
Вот это сила хип-хопа, подумал я.
- Я в своих «адидасах» в чужой стране,
- С микрофоном в руке,
- Меня слушают все.
Но передышка оказалась временной. Я не мог перестать думать о маме. Я не защитил ее от отца. Мне не хватило храбрости уйти от него вместе с ней. А теперь я наплевал на все ее надежды, на мечты, которые помогли ей превозмочь всю боль и беды. Я не мог избавиться от ощущения, что снова ее подвел.
My Adidas закончились, и на Power 99 началась реклама. Я понял, что прослушал концовку песни.
Вот блин, — подумал я. — Даже «Мои адидасы» не помогли мне развеяться.
Я отвез последнюю тележку в морозильник. Моя смена закончилась. Я пересчитал мешки под шум рекламы — поступление новых матрасов, «тотальная распродажа».
Я мог бы продавать матрасы, — подумал я. — Что там сложного. Читал бы рэп про них.
- Матрасов огромный размерный ряд —
- Высыпайся с комфортом и стар, и млад.
Я отшвырнул черпак и выключил аппараты.
— С вами снова «Девятка лучших» на Power 99! Сегодня в наш чарт затесались новички…
Выключая свет, я понял, что не могу найти свои ключи. Я терял их уже несколько раз, и папуле приходилось за мной ехать. Я боялся звонить ему: я, значит, требую независимости, но должен звонить папочке, чтобы он меня забрал, потому что не могу найти свои долбаные ключи.
— Нам сегодня все трубки оборвали с просьбами поставить этих ребят, поэтому готовьтесь слушать своих земляков из самого сердца Филли. Диджей Джаззи Джефф и Фреш Принц. Песня… От девчонок одни…
Я замер — челюсть отвисла, сердце вдруг бешено заколотилось. Мне хотелось орать и прыгать, но я боялся пошевелиться — вдруг мое движение слишком раскачает планету и пластинка на радио слетит с пульта. Я услышал слова. Слова, которые я так хорошо знал и повторял сотни, может быть, тысячи раз, теперь звучали по радио:
- Послушайте, парни, моего совета:
- От девчонок в этом мире сплошные беды!
Это был мой голос. Это был я. По радио. Я. Мой текст. Мой голос! Мне хотелось броситься всех обзванивать, но не хотелось пропускать песню.
- Вчера я шатался по своему кварталу.
- Увидал красотку, каких на свете мало.
Я выскочил на улицу. Мне хотелось сказать кому-нибудь: «ЭТО Я, ЧУВАКИ, ЭТО Я!»
Но было десять часов вечера, улицы были пусты. Я начал хихикать — эта нервная реакция на эмоциональные переживания есть у меня и по сей день. Я не мог перестать смеяться. Это был счастливый смех. Я радовался как ребенок утром в Рождество. Это была радость открытия. Обновленной надежды. Новой жизни.
Радость от того, что я в себе не ошибся.
Глава 6
Неведение
Ни хрена мы не знали.
Гастрольный автобус остановился на Вудкрест. Мы все договорились встретиться у моего дома, потому что наша улица была самой широкой. Вся моя семья собралась, чтобы нас проводить. Мамуля, папуля, Джиджи, Эллен, Гарри. Пэм тогда тоже жила дома. Но Мелани сказала, что не может смотреть, как я уезжаю — мы попрощались с ней накануне вечером.
Соседские ребята никогда раньше не видели гастрольный автобус, так что они гудели вокруг, пиная шины, заглядывая в багажное отделение и болтая с водителем.
Вопреки всему, Дана смог. «От девчонок одни беды» все-таки выстрелила на местном радио в мае 1986-го. После вялого старта в марте, к концу мая песню наконец-то заметили. Мы слышали, что ее крутили в Делавэре, Нью-Джерси и даже в самом Нью-Йорк-Сити.
Мой выпускной состоялся в июне, а значит, я целый месяц проучился в школе, будучи звездой на радио — для семнадцатилетнего это даже слишком мощно. Я сошел со сцены в шапочке и мантии выпускника и побежал обнять мамулю. Она шутливо отмахнулась, выхватила у меня из рук аттестат и сказала:
— Ну-ка, это не тебе, это МНЕ.
К июлю Дана практически не выпускал нас из Studio 4, где мы записывали наш дебютный альбом «Rock the House». Поскольку мы с Джеффом сочиняли песни с самого дня нашей встречи, закончили мы молниеносно. К сожалению, Дана продолжал портить наш материал, миксуя и переделывая его до неузнаваемости. Наши отношения с ним становились все напряженнее, но думать об этом было некогда. У нас вышел хит, и нам срочно нужно было решать, как получить с этого бабки.
Мы отыграли несколько концертов в разных уголках Восточного побережья с LL Cool J и Whodini, включая пару нью-йоркских выступлений, на которые все билеты были распроданы. После этого мы собрались в наше первое полноценное турне: играть на разогреве у Public Enemy и 2 Live Crew, двух самых влиятельных хип-хоп групп страны.
Мы загрузили наш багаж в автобус. Родители торжественно передали меня в руки моей новой хип-хоп семьи. Джей-Эл был «отцом» — самый зрелый среди нас, он был за старшего. Моим родителям он расписал всю нашу программу, включая автобусный маршрут, названия и телефонные номера отелей, адреса площадок и даты концертов, имена и контакты агентов.
Джей-Элу был двадцать один год, почти двадцать два. Родителям было спокойнее оттого, что он за нами присматривал. Омар был младше всех — ему было всего шестнадцать, но даже в том возрасте у него был совершенно чумовой стиль. На нем всегда была самая модная одежда, и он был единственным моим знакомым, который всегда брал с собой в дорогу утюг. У большинства групп было как минимум двое танцоров для симметрии, но Омар после волшебной операции был настолько хорош, что нам больше никто не требовался. Мы с ним выросли на одной улице. Он был свидетелем всех главных событий в моей жизни. Он видел Роли-Чоппер и ковбойские сапоги. Он паковал лед в отцовском цеху. Он даже наврал мне, когда меня грузили в фургон скорой помощи:
— Да сто процентов, чувак, ты попал прямо в кольцо!
Омару нужно было учиться в школе еще год, поэтому Джей-Элу пришлось идти к нему домой и клясться его матери, что домашние задания Омара он берет под свою ответственность. Мисс Браун — которая уже сыграла ключевую роль, придумав имя для Фреш Принца — поставила перед Омаром условие, что он может поехать с нами в турне, только если сохранит свой статус отличника.
— Не переживайте, миссис Рамберт, — сказал Джей-Эл маме Омара. — Я закончил Овербрук, Уилл закончил Овербрук, и я клянусь вам, я сделаю все возможное, чтобы Омар тоже закончил Овербрук.
Весь следующий год Джей-Эл помогал Омару делать домашку в номерах отелей, гастрольных автобусах, зонах отдыха. Они даже не пошли с нами в парк аттракционов «Шесть флагов над Джорджией», потому что учили теорему Пифагора.
Рэди-Рок всю ночь накануне протусил на вечеринке и был измотан. Он кинул сумки в автобус и немедленно уснул на своей койке, не дожидаясь отъезда.
Джефф как раз купил новенькие кофры для перевозки вертушек, пластинок и битбоксов. Из-за всей суеты я не обратил внимания, что Джефф в тот день был сам не свой. Только спустя несколько лет он признался: все детство он практически не выбирался из своего подвала, и всякий раз, когда мы уезжали из Филли, с ним случались сильные панические атаки со всякими физическими проявлениями. У него бывали приступы рвоты по тридцать-сорок минут, но никто из нас об этом не знал.
Мы все решили, что, раз нам придется ездить в кучу незнакомых городов и городишек, то будет глупо оставаться без охраны. На заре хип-хопа «охраной» считался твой самый большой, высокий и угрюмый друг. Нашего звали Чарльз Олстон по прозвищу Чарли Мэк.
Чарли Мэк вырос в Южном Филли, в одном из неблагополучных районов города. Его родители разошлись, жил он с мамой. Первое время они часто переезжали, и в итоге жить дома стало невыносимо.
Уже в одиннадцать лет Чарли начал ошиваться на улицах, приторговывая дурью. Вскоре он переключился на торговлю оружием и более серьезными наркотиками. Когда мы с ним познакомились, он был выше двух метров ростом и весил почти 140 килограммов. С Чарли Мэком шутки были плохи.
В тот день он пришел с зеленым пакетом для мусора, набитым мелкими купюрами — это явно была его вчерашняя выручка. Он тащил мешок на плече, как какой-то Санта-Клаус из гетто.
— Чарли, нельзя же просто так расхаживать везде с мешком денег, — сказал Джей-Эл.
— А че, че, че такого, в смысле? Я без своих бабок никуда, — пробурчал Чарли.
Голос у него был очень низкий, и для двухметрового амбала он тараторил слишком быстро. Заведясь, он мог повторять одно и то же слово или фразу бесконечно, пока ты не сдашься. «Чувак, чувак, чувак, чувак, это, это, погодь погодьпогодьпогодьпогодь». Тут уж кто угодно ошалеет — из-за тембра и скорости его речь едва можно было разобрать, но она волшебным образом могла подчинить любого.
Так что мы дали ему успокоиться — я, Джефф и Джей-Эл решили поговорить с ним позже. Мы болтали о наших мечтах и о том, чего надеемся достичь. Мы предложили Чарли выбор: продолжать торговать наркотой или попробовать вместе с нами построить настоящую жизнь. Мы не могли сразу платить ему столько же, сколько платила улица, но пообещали, что, когда сможем, обязательно заплатим.
Чарли притих. Было видно, что он глубоко задумался. У него ведь тоже были мечты. И где-то в глубине души он знал, что заслуживает большего — просто никто ему этого раньше не говорил.
— Ладно, давайте замутим, — ответил он.
Так он и посвятил свою жизнь нашей группе. Наши отношения окажутся непростыми, но с того самого дня он никогда больше не продавал наркотики.
Сумки погружены, прощальные слова сказаны, группа готова отправиться в путь. Я обнял семью и запрыгнул в автобус. Три грязные ступеньки на его подножке были порогом в мою новую жизнь, звездными вратами, порталом из детства в бесконечную неизвестность — туда, где я буду сам по себе, где папуля меня больше не тронет, но и не защитит тоже. Вдали от стыда за то, что я подвел свою мать, вдали от ее глаз, в которых читалось: он испортит свою жизнь.
Когда двери закрывались, я перехватил взгляд Джиджи. Она улыбнулась так же, как всегда улыбалась в церкви.
— Главное, не забывай, голубчик, — сказала она, — будь добр ко всем людям — никогда не знаешь, когда встретишь их снова.
Солнце клонилось к закату, когда наш автобус покатился по мосту через Чесапикский залив. Пенсильвания сменилась Делавэром, Делавэр — Мэрилендом, и первоначальное волнение немного улеглось. Гул дороги успокоил меня и погрузил в раздумья.
Меня вдруг озарило: теперь я стал главным.
Я никогда никого не любил сильнее Мелани Паркер. Я хотел жить с ней долго и счастливо, защищать ее от безумного мира. Хотел помочь ей сделать жизнь лучше.
Я с пяти лет мечтал быть женатым. Мне всегда хотелось иметь собственную семью. Даже с братом и сестрой в детстве мы играли в «семью». Эллен была «Кэти», Гарри был «Дики», а я был «Джуниор».
Даже подростком я никогда не мечтал о нескольких подружках или отвязных групповухах. В моих фантазиях я всегда представлял себя с одной женщиной. Я хотел носить ее на руках, все свое внимание отдавать ей. Я был бы лучшим мужчиной, которого она когда-либо встречала, я исполнил бы все ее мечты, решил все проблемы, избавил от боли. Я хотел, чтобы она меня обожала. Я показал бы ей, что такое — настоящий мужчина, верный и надежный. Я готов был сразить для нее дракона, взобраться на вершину крепости, одолеть вооруженную стражу и исцелить ее своим поцелуем от вечного сна — это был бы завершающий штрих.
Мне было восемнадцать.
Со дня нашей встречи Мелани была центром моей Вселенной. Я думал только о том, как спасти ее от боли и трудностей. Ее взгляд заменил мне одобрение Джиджи. Мне всегда нужна была женщина, ради которой я мог бы стараться. Теперь, когда я выступал, я выступал ради Мелани. Я думал, что зарабатываю деньги ради нее. Я взвалил свою самооценку на ее хрупкие плечи. Если она была счастлива, я считал себя хорошим человеком. Если она была несчастна, я казался себе чудовищем.
Таллахасси был первой остановкой на нашем пути. Остальные парни отправились на сцену, чтобы заранее настроить аппаратуру и проверить звук, а поскольку я кроме рэпа ничего не делал, мне можно было явиться туда за 45 минут до начала. В тот первый вечер я зашел в гримерку и увидел своих парней в компании шести-семи девчонок. Джинсы-клеш и серьги-обручи были повсюду. Гримерка пахла как парфюмерный отдел магазина.
Я вежливо попросил Кишу, Мерседес, Циннамон и прочих покинуть помещение. Затем объявил экстренное совещание.
— Давайте не забывать о правилах, — сказал я. — Никаких девчонок в гримерках и в автобусе. Никаких девчонок на нашем этаже отеля. Чтобы никаких духов, хиханек и всего остального. Я люблю Мелани, у нас с ней серьезные отношения, и я не потерплю тут всяких глупостей.
Парни переглянулись, как будто хотели сказать: да он прикалывается. Рэди-Рок поднял руку, и я показал на него:
— Слушаю тебя, чувак?
Озадаченный Рэди-Рок спросил:
— А где же нам трахаться с телочками?
— Там, где ты понабрался таких выражений, — ответил я.
— Чувак, че за фигня, — возмутился Чарли Мэк. — Ты тут не один. Нас много. Почему ты решаешь за всех?
— Мужик, я собираюсь делать предложение своей девчонке, мы с ней поженимся. И я не стану портить свои отношения из-за кучки похотливых кобелей.
— Бро, я тебя уважаю и понимаю, что у тебя любовь и все такое, — сказал Омар, — но я тебе не кобель.
Я включил святошу, и парней это вообще не устраивало. Но когда я что-то вбиваю себе в голову, варианта всего два. Первый — я выполняю задание.
Или второй — я умер.
Ни хрена мы не знали.
Мы не подумали, что водителю автобуса надо заплатить, чтобы он не уехал. Мы не догадывались, что организаторы концертов иногда присваивают часть денег и врут о количестве проданных билетов. Мы не знали, что недовольная публика кидается монетками, бутылками, батарейками, ботинками — однажды в Окленде швырнули даже динамитную шашку. Мы не знали, что в разных штатах есть разные правила об уровнях шума, и если их нарушить, концерт могут просто разогнать. Мы не знали, что охранникам нужно давать на лапу, если не хочешь, чтобы твои вещи сперли. Мы не понимали, что один дюйм на карте равняется двенадцати часам дороги.
Говорят, меньше знаешь — крепче спишь.
Обычно бывает наоборот.
Мы наказываем себя за то, что чего-то не знаем. Мы жалуемся, если чего-то не сделали, мы убиваемся, совершив непростительную ошибку. Мы пеняем себе за глупость, раскаиваемся в своем выборе и оплакиваем свои ужасные решения.
Но такова вся жизнь. Жизнь — это путь от незнания к знанию. От непонимания к пониманию. От путаницы к ясности. Ты приходишь в этот непонятный мир как чистый лист, и перед тобой стоит одна задача — разобраться, что к чему.
Жизнь — это учение. Она и нужна для того, чтобы преодолеть неведение. Вначале ты и не должен ничего знать. Мы делаем шаг в неизвестность, чтобы рассеять тьму нашего неведения светом знаний. Кто-то очень хорошо подметил: жизнь похожа на школу, разница лишь одна — в школе тебе вначале преподают урок, а потом устраивают проверку. А в жизни тебе устраивают проверку и твоя задача — усвоить урок.
Мы все ждем того, что у нас появятся глубокие знания, мудрость и ощущение уверенности, прежде, чем выдвинемся вперед. Но мы все понимаем неправильно. Шаг вперед — это и есть способ обрести знания.
Следующие несколько лет неведение будет приносить нашей группе море боли и страданий. Но теперь я ясно понимаю, что иначе и быть не могло. Вселенная учит нас только на живом примере.
Даже если ты не представляешь, что должен делать, просто выдохни и прыгай в свой чертов автобус.
DJ Jazzy Jeff и the Fresh Prince, Public Enemy и 2 Live Crew — невероятное сочетание трех абсолютно разных групп на одной сцене. Но в те времена такое никого не удивляло.
Смотреть на публику мне было даже интереснее, чем на исполнителей. Мы все воздействовали на нее совершенно по-разному.
Public Enemy жестко высказывались о социальных проблемах — и люди в ответ топали ногами, кричали и улюлюкали, выражая свое согласие. Охрана в здании напрягалась — особенно это было заметно на Юге, — когда Чак Ди призывал давать отпор подонкам у власти.
Во время одного из их номеров на сцену выходил каскадер в костюме ку-клукс-клановца. Ему выносили приговор за преступления против человечности, а потом, шокируя зрителей, надевали ему петлю на шею и вешали на месте. Его тело дергалось в воздухе добрых тридцать секунд, а толпа наблюдала за ним до последней конвульсии. Затем наступала тишина, в которой его безжизненное тело покачивалось над самым центром сцены. А потом гремела песня:
- ДА! Этот ритм, этот бунт!
Чак Ди начинал читать Rebel Without a Pause, — а толпа приходила в исступление. Мне встречались исполнители, которые умели нагнетать напряжение так же, как Public Enemy, однако превзойти их никому так и не удалось.
2 Live Crew были совсем другими. Лютер Кэмпбелл, также известный как Люк Скайуокер или дядя Люк, выходил на сцену и кричал в толпу:
— Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-эй!
И пятнадцать тысяч человек вторили ему:
— МЫ ХОТИМ П***Ы!!!
Причем, тысяч восемь их них были женщинами (я так и не понял прикола). Мы никогда не слышали о 2 Live Crew, но во Флориде они были хедлайнерами. Их хитовым синглом была песня We Want Some Pussy. Они позволяли толпе выпустить наружу свою похоть, по крайней мере, на словах. Эффект усиливала симуляция разнузданных половых актов на сцене. Впрочем, хотите верьте, хотите нет, иногда они даже не симулировали.
Но больше всего меня впечатлило то, какие все умные. В те времена «авторитеты» — правительство, бизнес, полиция и даже многие родители — скептически и со страхом относились к растущему влиянию хип-хопа. Рэп-концерты рассматривали чуть ли не под микроскопом, особенно в южных штатах. Если ты поехал в тур с Public Enemy и 2 Live Crew по Джорджии, Южной Каролине, Миссисипи и Алабаме, тебе в каждую щель заглянут с лупой, даже не сомневайся.
Перед концертами на Юге нас всегда вызывал местный шериф или начальник полиции, чтобы уведомить о местных законах и постановлениях, диктовавших поведение, допустимое на сцене. Нас ставили в известность, что любое нарушение приведет к немедленному завершению концерта и аресту. Что и говорить, в Миссисипи порицался как публичный оральный секс, так и повешение ку-клукс-клановцев.
Эти разговоры неизбежно перерастали в общественные дебаты и юридические толкования. Чак Ди знал закон — местные адвокаты, общественные деятели и профессора юриспруденции вооружали его контраргументами и необходимой информацией в защиту свободы слова. Когда все аргументы были исчерпаны, в ход шла денежная взятка. Но ни один шериф не мог диктовать ему, как он должен выступать. В том турне он вешал клановца каждый вечер, и никто ему был не указ.
Люк Скайуокер, в свою очередь, хотел, чтобы его арестовали. Он считал это исключительно эффективной рекламой. Дядя Люк был гениальным предпринимателем. У него была собственная звукозаписывающая компания, дистрибьютор, агентство и мерчандайзинговая группа, не говоря уже о парикмахерских, супермаркетах и ночных клубах. Однако он пока не придумал, как расширить свой бизнес за пределы региона. Но он знал: если его арестуют в Джорджии, то публика в Луизиане раскупит все билеты за сутки до концерта (а он еще и оттянется на сцене). К тому же он был прекрасно осведомлен о вопросах взаимодействия искусства и морали, которые стояли ребром на государственной и международной повестке. Типпер Гор, бывшая в то время женой сенатора Эла Гора, как раз затеяла борьбу с нецензурными выражениями в медиа. Федеральная комиссия по связи запрещала трансляцию брани, а у 2 Live не было ни одной пластинки без ругательств (даже владельцев музыкальных магазинов арестовывали за продажу их альбомов по закону о борьбе с непристойностью). Поэтому дядя Люк раздобыл лодку, построил на ней радиостанцию и вывел в открытое море, откуда мог легально транслировать музыку на материк. Люк собирался использовать 2 Live Crew как запал в этой борьбе, чтобы вывести свой бизнес на мировой рынок.
В конечном счете Апелляционный суд США постановил, что рэп находится под защитой Первой поправки, а через двадцать лет Лютер Кэмпбелл выдвинул свою кандидатуру на пост мэра округа Майами-Дэйд.
Помню, как я сидел на этих встречах, испытывая жгучее желание поднять руку и сказать: «Дяденька полицейский, вы на меня не смотрите, потому что моя-то бабушка с вами согласна. А этих ребят вы можете арестовать прямо сейчас. Потому что сегодня вечером Чак непременно повесит клановца, а Люк снимет с себя штаны, не дожидаясь первого припева.
Дяденька полицейский, но наш-то номер правда хороший, добрый, для всей семьи! Джефф — лучший диджей на всем белом свете. Рэди-Рок Си может заставить звучать тему из „Сэнфорда и сына“ как будто из-под воды! А Омар до шести лет вообще ходить не мог, но теперь он самый лучший танцор со времен… Допустим, кого вы можете знать… Какой белый умел танцевать?.. Фреда Астера! А если и есть черный парень, которому вы могли бы доверить свою дочурку Бекки-Сью, то это я, клянусь вам. От нас не будет никаких проблем. Можно мы пойдем?»
Мне кажется, Джей-Эл на этих встречах всегда молчал. Вместо этого он делал кучу заметок. Позже он займется исследованием законов. Он встретится с менеджерами Public Enemy. Подружится с промоутерами тура. Расспросит Люка Скайуокера о разнице между контрактами с крупными лейблами и самостоятельным распространением записей. Джей-Эл все меньше и меньше ходил с нами смотреть достопримечательности, тусоваться в клубах или развлекаться в парках аттракционов. Он все больше времени посвящал изучению всевозможных аспектов музыкального бизнеса.
Гастроли показали нам во всех подробностях, как работает индустрия музыки. У Public Enemy было агентство, бухгалтерия, рекрутеры и тур-менеджеры. А у нас был только Джей-Эл. Звукозаписывающий лейбл Даны Word-Up Records до сих пор больше ни с кем не заключил контрактов. Дана не говорил нам, сколько пластинок мы продали. И наши пластинки по-прежнему не продавались в магазинах за пределами Филли.
Но последней каплей для меня стало то, что Дана, как выяснилось, игнорировал звонки от Рассела Симмонса.
В то время Рассел был, пожалуй, самым главным человеком в мире хип-хопа. Он представлял исполнителей и продюсировал пластинки с 1977 года. Он соосновал Def Jam Records, самый крупный хип-хоп-лейбл в 80-е. И он раскрывал, продюсировал и был менеджером у всех самых известных исполнителей, таких как Beastie Boys, Run-DMC, LL Cool J и Whodini.
Оказывается, Рассел уже несколько месяцев пытался с нами связаться, но мы не получили ни одного его сообщения, потому что он пробивался через Дану.
Нас это выбесило.
Расселу безумно понравились Джаззи Джефф и Фреш Принц. Он восторгался первой строчкой «От девчонок одни беды», где я говорю:
- Ай-ай, мой глаз, мой глаз
- Какой-то чел подошел и дал мне в глаз.
- Типа я подкатываю к его бабе —
- Чувак, да я с ней даже не знаком!
— Это просто очуменно, — сказал Рассел. — Какой рэпер признается, что ему дали в глаз?
Рассел увидел в нашей искренности, уязвимости и самоуничижительном юморе — для тогдашнего хип-хопа это было неслыханно — билет в такие места, куда еще не ступала нога рэпера. Рассел хотел с нами работать. К сожалению, Дана не желал с ним разговаривать.
Меня всегда поражало то, как по-разному Джей-Эл и Дана отреагировали на энтузиазм Рассела. Дану пугал интерес Рассела, но Джей-Эл видел в нем потенциального наставника и путь к новым возможностям.
У Джей-Эла был план: несмотря на то что Дана контролировал запись нашей музыки, Джей-Эл управлял нашей карьерой. Он согласился передать менеджмент нашей группы Расселу Симмонсу и Лиору Коэну в Rush Management на трех условиях: 1) они отправят группу в турне со своими самыми большими звездами, 2) они наймут Джей-Эла, чтобы тот управлял нашими делами, 3) они научат Джей-Эла бизнесу.
Рассел согласился.
Мне очень больно, когда люди, которые мне небезразличны, упускают возможность подняться на новую ступень. За свою карьеру я оказывался в подобной ситуации раз пятьдесят. Я пытаюсь забраться и полететь так высоко, как только может человек, и хочу взять с собой людей, которых люблю. Но в критические моменты, когда предоставляется возможность прокачаться, некоторые люди — как Джей-Эл — неизменно оказываются на высоте, а другие пасуют. Они либо не могут посмотреть шире, либо боятся новых испытаний, либо оказались в ловушке собственного сознания, веря, что заранее обречены на провал. А я раз за разом расстраиваюсь, что приходится махать им с борта корабля, когда они остаются стоять на берегу.
— Прошу, вытащи нас из сделки с Даной, — сказал я Джей-Элу.
— Это не так просто, — ответил он.
— Значит, он будет нас тормозить, а мы ничего не сможем сделать? Можно это как-то решить?
— Все решает контракт, — сказал Джей-Эл. — Вы пишите музыку. Я сам со всем разберусь.
Хип-хоп уже вышел на глобальный рынок, и мы были готовы отправиться в большое плавание. Нам нужны были продажи по всей стране и миру.
Jive Records находились в Лондоне. Позже Jive будут руководить карьерами таких поп-звезд, как Бритни Спирс, *N SYNC и Backstreet Boys, но в 1980-е это был крупнейший лейбл в Европе, занимавшийся хип-хопом. Дана контролировал наши записи в Штатах, поэтому Джей-Эл устроил нам сделку на международную дистрибуцию с Jive, чтобы продавать Rock the House за границей. Jive, в свою очередь, заключили контракт с Word-Up Records Даны — официальным дистрибьютором пластинок DJ Jazzy и Jeff & the Fresh Prince в Соединенных Штатах.
Со стороны казалось, что Дана в выигрыше. Он мог и дальше продавать наши пластинки в Штатах, пока мы набирали обороты по всему миру и записывались в студии на деньги Jive. По сути, Jive покрывали все расходы, а у Даны все равно оставался источник дохода. Такой контракт Дана охотно подписал, получил чек на круглую сумму и продал наши международные права Jive.
Jive тут же перевыпустили ремастер Rock the House в марте 1987 года с новой обложкой и новым всплеском энергии, и альбом стал большим глобальным хитом. Эту же новую версию альбома они стали импортировать в США. Дана понял, что он выбрал единовременный платеж вместо отчислений, и ничего не мог получить с импортных пластинок. Поэтому он потребовал больше денег и пригрозил полным отказом от сотрудничества с Jive.
Началась судебная тяжба. И как только адвокаты подняли все наши бумаги, тут же выяснилось, что мне было всего семнадцать, когда я подписывал контракт с Даной. В Пенсильвании люди, не достигшие восемнадцати лет, не могут подписывать законные контракты без участия родителя или опекуна. Я поставил свою подпись в студийном вестибюле перед началом записи, а значит, с юридической точки зрения, нашего контракта с Даной никогда не существовало.
Вот и все — Дана Гудман больше не имел никакого отношения к DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.
Дана был в ярости. Вначале он винил во всем Jive и Рассела Симмонса. Но у него не было ни адвокатов, ни денег, чтобы с ними разбираться, поэтому он нашел цель поближе и поменьше: меня.
Соседи начали меня предупреждать:
— Чувак, Дана очень зол. Будь начеку.
Как-то ночью он подъехал к нашему дому, припарковался на улице, положил пистолет на приборную панель и сидел с грозным видом. Я был в ужасе, но папуля даже бровью не повел. Не сказав ни слова, он открыл входную дверь, подошел к машине Даны и наклонился в открытое окошко со стороны пассажирского сиденья.
— Тебе помочь? — спросил папуля.
— Где этот ублюдок? — мрачно гаркнул Дана в ответ.
— Если ублюдка, которого ты ищешь, зовут Уилл, то он дома. Можешь идти его убивать. Вся его семья тоже дома, так что придется перестрелять нас всех, потому что мы его в обиду не дадим… А тебя мы не боимся, и твоих гребаных угроз тоже.
Папуля тут же повернулся спиной к человеку, который легко мог его застрелить, и неспешно пошел в дом. Уж не знаю, где он это взял, в армии или на улицах Северного Филли, но он преподал мне очень ценный урок: лучше умереть, чем все время трястись от страха.
Я выглянул из-за занавески в гостиной и увидел, как Дана завел машину и уехал прочь.
Глава 7
Приключение
Если бы это была не книга, а фильм, сюда надо было бы вставить нарезку сцен под драйвовую музыку (в моем представлении это For the Love of Money группы the O’Jays), где все идет просто отлично.
Дела у главного героя прут в гору, и у него все получается: все броски попадают в цель, все поцелуи горят огнем тысячи солнц, и он не успевает ходить в банк, чтобы складывать туда все заработанные деньжата. Его имя на слуху у богатых и знаменитых. Отныне оно не написано маркером на его штанах, а сложено из брильянтов на плашке из золота, которая болтается у него на груди.
В тот год стало совершенно очевидно, что в колледж он не пойдет никогда.
Наш дебютный альбом Rock the House и его главный хит «От девчонок одни беды», распространяемый по всему миру студией Jive Records, стал «золотым» — продалось более 500 000 копий — и в конце концов поднялся на 83 место в чарте Billboard 200. И хотя это не самый впечатляющий результат по тем временам, Золушка на бал все-таки добралась.
Не хочу показаться старпером из бара, который без конца ворчит, что музыка испортилась и что молодежь не видала настоящего рэпа. Одна научная теория предполагает, что музыка, которую мы слушали в подростковом возрасте, отпечатывается в нашей эмоциональной памяти, вызывая чувство ностальгии по тем временам сильнее, чем по каким-либо другим жизненным периодам.
Но я совсем не об этом. Я понимаю, что с другими людьми все именно так и происходит. Но у меня тут не какое-то мнение, вызванное дофамином и слепой тоской по сказочной юности. Нет! То, что я пытаюсь вам сказать — объективный факт: поздние 1980-е были величайшим периодом в истории хип-хопа. Без разговоров, точка, аминь.
Пожалуйста, придержите вопросы и позвольте мне объяснить.
С того момента, как мы с Джеффом сели в автобус в конце 1986-го и до самого лета 1988-го мы отыграли почти две сотни концертов. И я хотел бы перечислить хотя бы часть икон хип-хопа, с которыми нам посчастливилось выступать на одной сцене. Представьте, что я зачитываю этот список совершенно не хвастливым тоном:
Run-DMC
LL Cool J
Whodini
Public Enemy
2 Live Crew
Salt-N-Pepa
Eric B. & Rakim
N. W. A
EPMD
UTFO
J. J. Fad
Beastie Boys
The Geto Boys
Heavy D and the Boyz
Sir Mix-A-Lot
Kid ’n Play
MC Lyte
Queen Latifah
Grandmaster Flash
Ice-T
Mantronix and Just-Ice
Eazy-E
Too Short
MC Hammer
Doug E. Fresh and Slick Rick
Big Daddy Kane
Biz Markie
Roxanne Shante
MC Shan and the whole Juice Crew
A Tribe Called Quest
Leaders of the New School
Naughty by Nature
Мне продолжать, или достаточно?
То был один из лучших периодов в моей жизни. Все было в новинку, и мы активно участвовали в создании целой культуры. Мы были частью волны, разнесшей хип-хоп по всей планете. Каждый исполнитель был по-своему уникален — на каждом концерте что-то случалось для хип-хопа впервые. Мы выступали перед слушателями, половина которых никогда до этого не слышала рэпа. Они были в восторге. В воздухе витала пленительная атмосфера открытий и приключений.
Я постоянно знакомился с новыми людьми и пробовал что-нибудь новое. В студии Jive нашим менеджером была японка по имени Энн Карли. Поначалу мы с Джеффом не понимали, как она собиралась управлять нашей карьерой, но потом она заговорила. Оказывается, она была в самом центре хип-хопа, когда он только зарождался в Нью-Йорке. Она открыла нам с Джеффом целый мир разновидностей хип-хопа, о которых мы и не слышали. Во мне пробудилась тяга к приключениям. Я почувствовал жизненную необходимость путешествовать — это давало новый взгляд на мир. Вещи, которые казались невыносимыми на улицах Филли, практически испарялись на родео в Небраске. Я пообещал себе, что везде буду пробовать местную еду, где бы ни был, и поэтому отведал жареного аллигатора, морского слизня, верблюда и сверчков в шоколаде. Все это на вкус, как курица (на самом деле нет, но мне всегда хотелось так сказать).
После успеха дебютной пластинки Jive Records очень хотели, чтобы мы выпустили второй альбом как можно скорее. На осень 1987 года была назначена наша первая поездка за пределы США — шесть недель в Лондоне, в фирменной студии Jive, где мы должны были записывать альбом.
Но за две недели до отъезда Джей-Эл позвонил мне в час ночи. Это был один из тех звонков, когда даже сам звук телефона звучит тревожно.
— Джефф попал в аварию, — сказал он.
Я ошарашенно переспросил:
— Что случилось? Где он? С ним все норм?
— Я не знаю. Еду в больницу, позвоню тебе оттуда.
В те времена не было эсэмэсок, нельзя было позвонить человеку в машине, не было ежеминутной связи с родными и близкими. Ты просто просил домашних не занимать трубку, проверял, есть ли гудок, и ждал. И чем дольше ждать, тем сильнее разыгрывается воображение, подбрасывая все более жуткие картины, пока ты не поверишь, что никогда уже не увидишь этого человека живым.
Где-то в 3:15 утра телефон наконец зазвонил. На этот раз звонок звучал громче, чем нужно, словно пытался на меня наорать.
Я ответил:
— Йоу.
— Все норм, — ответил Джей-Эл. — Правая нога сломана, гипс от ступни до бедра. В остальном с ним все в порядке, но доктор не разрешает ему лететь. Поездку придется отложить где-то на восемь недель.
Где-то на фоне раздавались крики Джеффа:
— Да мне НАСРАТЬ, че там доктор сказал! Я через две недели буду в самолете!
Так оно и вышло — две недели спустя мы заехали в лондонский «Холидей-Инн». Мы с Чарли заселились в один крошечный номер, а Джей-Эл, Рэди-Рок и Джефф, закованный в гипс, — в другой. Пять парней из Филли оказались на сырых и промозглых улицах Англии, где нас ждала частная студия звукозаписи, арендованная на казенные деньги студии.
В Лондоне мы провели больше месяца, но ничего не узнали про город. Мы не гуляли по Гайд-парку, не посещали Вестминстерское аббатство, не смотрели на Букингемский дворец и не забирались в Тауэр. Мы не ходили в тысячелетний паб и не ели там жареную рыбу с картошкой. И уж точно не посещали футбольный матч.
Мы даже к смене часового пояса так и не привыкли. Каждый день мы просыпались в четыре часа дня, к шести вечера добирались до студии, работали до шести утра, хватали бесплатный завтрак в гостинице и отправлялись спать в семь утра. В таком режиме мы жили шесть недель.
И это было просто великолепно.
Ну, кроме одного раза, когда Джефф вдруг решил, что ему надоел гипс. Пока мы были в Лондоне, пришла пора его снимать. Его нога зудела, но британской системе здравоохранения он почему-то не доверял. Ему было гораздо комфортнее, чтобы гипс сняли мы с Чарли Мэком.
Как правило, если кто-то о чем-то меня просит, я всегда отвечаю «да». Очевидно, мы с Чарли Мэком разделяли эту странную черту характера.
— Ну и че, гипс, это ж просто гипс. Давай просто снимем, — невозмутимо повторял Чарли.
Я тоже был уверен, что ничего сложного тут быть не может. Подумаешь, гипс.
Я позвонил в обслуживание номеров и попросил принести нам нож для стейка. Кто же знал, что в британских гостиницах не подают нож для стейка — видимо, англичане жрут мясо целиком. Не сдаваясь, я сказал:
— Тогда можете нам принести штук тридцать ножей для масла?
У гостиничных ножей для масла был слегка зазубренный край. Я планировал дать Чарли половину ножей, чтобы он начал резать со стороны стопы, а я бы приступил с бедра. По моим прикидкам, израсходовав все наши ножи, мы должны были встретиться ровно посередине где-то у колена, победно хлопнуть в ладоши и торжественно сделать последний разрез. Я смутно припоминал, что такая система работы с концов к середине успешно применялась в строительстве Панамского канала и железодорожных путей США.
Мы приступили к разрезанию. Если так можно выразиться. Ножи гнулись и ломались один за другим, а замешательство на потном лице Чарли сменялось разочарованием.
— Йоу, эти ножи не работают ни хрена, — бубнил он.
Мне было двенадцать, когда я в последний раз ходил с повязкой, и делали их тогда из настоящего гипса. Оказывается, с тех пор технологии далеко продвинулись, и повязка на Джеффе была изготовлена из инопланетного материала, который, как позже выяснилось, назывался «стекловолокном».
Где-то через шесть ножей я решил взять перекур, а Джеффу велел лезть в ванну. Я решил, что нужно набрать воды погорячее, чтобы размочить эту штуковину, и тогда-то мы уж точно все срежем без проблем. Джефф согласился.
Мы с Чарли помогли ему залезть в ванну, залили обе ноги водой и стали ждать. Вскоре лицо Джеффа приобрело обеспокоенное выражение.
— Эй, мужики, надо резать, что-то он мне давит, — сказал он.
Помню, как я подумал — а что бы сделал Макгайвер? «Секретный агент Макгайвер» был популярным сериалом 1980-х годов, в котором главный герой, Ангус Макгайвер, попадал во всяческие передряги и придумывал из них гениальный выход при помощи подручных средств. Пытаясь воззвать к своему внутреннему Макгайверу, я услышал, как открывается дверь нашего номера. Пару секунд спустя в ванной появилась голова Джей-Эла.
К тому моменту Джефф уже вовсю нервно елозил и стонал, мы с Чарли Мэком стояли на коленях, держа в руках ножи для масла, а пол вокруг нас был усыпан еще двадцатью восемью поломанными ножами. Джей-Элу потребовалось несколько секунд, чтобы обработать увиденное.
В шоке он заорал:
— КАКОГО ХЕРА ВЫ ТВОРИТЕ?!
— Джей-Эл, Джей-Эл, пожалуйста, сними эту дрянь у меня с ноги! — запищал Джефф.
— ПОЧЕМУ ТЫ В ВАННЕ?
Джей-Эл последние два года работал в госпитале. И хотя это и не была его специальность, он по крайней мере точно знал, что повязку из стекловолокна нельзя замачивать в горячей воде, пока она все еще находится на ноге пациента.
— ТАКУЮ ПОВЯЗКУ НЕЛЬЗЯ МОЧИТЬ.
— Пожалуйста, ребят, снимите его скорее, — взывал Джефф.
— Че ты ноешь, чел, ладно тебе, — сказал Чарли.
— ВЫТАСКИВАЙТЕ ЕГО ИЗ СРАНОЙ ВАННЫ, — рявкнул Джей-Эл.
— ЧУВАК, ЧЕ ТЫ НА НАС ОРЕШЬ, ВООБЩЕ НИ ХРЕНА НЕ ПОМОГАЕШЬ! — огрызнулся Чарли в ответ.
Мы с Чарли, как было велено, вытащили Джеффа и положили его на пол ванной комнаты. В номере мы хранили консервированную еду, потому что обслуживание в номерах британской гостиницы было, честно сказать, так себе. Джей-Эл немедленно открыл банку тушенки. Он подошел к повязке Джеффа и погнутым краем алюминиевой крышки начал делать аккуратные горизонтальные движения по всей шине — мы-то с Чарли, наоборот, пытались резать его вертикально. У него ушло меньше двух минут на то, чтобы прорезать шину по всей длине, и мы с Чарли с легкостью стянули ее с ноги.
Джефф был свободен.
Джей-Эл злобно выкинул крышку от банки в мусорное ведро и, уходя, пробурчал:
— Дебилы вы все конченые.
В медицинских вопросах мы были как тупой и еще тупее, зато в студии жгли. Те шесть недель в Англии были чистейшим креативным опытом в моей карьере. Мы записали очень много песен, и студии они так понравились, что она предложила то, чего в мире рэпа раньше никто не делал: DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince выпустят первый в мире двойной хип-хоп альбом.
Мы с Джеффом не представляли, что этот альбом будет значить для индустрии. Мы не знали, хотят ли этого фанаты, понравится ли он людям с MTV, будут ли его крутить по радио, осудят ли его «главари» хип-хопа. Ничто из этого не приходило нам в голову — нас волновало лишь то, что мы были вдохновлены и раззадорены творческим процессом. Нам было весело — мы были лучшими друзьями во главе нашей новой семьи, на передовой в растущей глобальной форме искусства.
Мы были на высоте, но сейчас я понимаю, что именно тогда стали проклевываться семена недовольства.
Некоторые люди процветают будучи на пике, а другие не могут дышать. Что делают люди, когда восходят на гору и чувствуют, что воздух разрежен? Пытаются поскорее спуститься. Куинси Джонс называл это «высотной болезнью».
В старших классах моим лучшим другом был Рэди-Рок. Каждый божий день мы с ним творили, катались по городу, участвовали в баттлах. Мы были не разлей вода. Но когда наша с Джеффом группа стала обретать форму, в живом битбоксинге оставалось все меньше и меньше смысла. Студию звукозаписи человеческий битбокс тоже не очень интересовал. В результате Клейт поневоле вытеснялся на задворки. Я говорил ему, чтобы он не переживал. «Я с тобой», — успокаивал я его. Но изменения были слишком резкими и быстрыми, и чтобы к ним адаптироваться, требовалось больше эмоциональной зрелости, чем было у кого-либо из нас.
Масла в огонь подливало то, что мы с Чарли Мэком становились все ближе. Мы делили с ним не только гостиничный номер — мы делили каждый аспект наших жизней. У нас на альбоме даже была песня о нем — «Charlie Mack (First Out the Limo)». Мы написали ее, потому что Чарли стал перегибать палку на своей должности охранника — он всегда сидел на переднем сиденье лимузина вместе с водителем и очень психовал на нас с Джеффом, если мы выходили из машины раньше, чем он. Он рычал на нас:
— Блинский блин, дайте мне сначала зачистить периметр, потом выходите!
О Рэди-Роке в альбоме песен не было.
С 1987 по 1990 год я вообще не выходил на улицу без Чарли Мэка. Джефф и Джей-Эл были тихими, спокойными домоседами, а мы с Чарли были шумными тусовщиками-заводилами. Мы всегда во что-нибудь ввязывались. Мы любили вечеринки, любили болтать, путешествовать, играть на деньги, любили быстрые тачки. Женщины нас обожали. Дух приключений Чарли давал фору даже моему. Этот чувак вообще не хотел спать. Если мы должны были пробыть в городе всего десять часов, он не видел причин оставаться в гостиничном номере ни на минуту. Часто он буквально вытаскивал меня из кровати, чтобы отправиться в Пейсли-парк в Миннеаполисе или послушать речь какого-нибудь активиста в Чикаго, или сфоткаться на «полосе» — так Чарли называл Елисейские Поля в Париже.
— Давай, чувак, — говорил мне он, — отоспишься в гробу.
Другой причиной нашей близости было то, что мы с Чарли оба очень любили посоревноваться и обладали запредельным самомнением. Мы днями напролет спорили, кто из нас лучше бегал, водил машину, играл в футбол, выглядел, шутил, кто был умнее и кого из нас больше любили девчонки.
Чарли терпеть не мог, когда девчонка проходила мимо него, чтобы пофлиртовать со мной. Он не понимал, с чего бы женщине тратить время на меня, когда она могла быть с ним. В конце концов он неохотно признавал:
— Чувак, да все девчонки тебя хотят только потому, что ты знаменит.
Я ему на это отвечал:
— Не, братан, тут все наоборот: я знаменит потому, что все девчонки меня хотят.
Мы были как инь и ян. Мы заполняли пустоты в жизненном опыте друг друга. Один знал и мог то, чего не знал и не мог другой.
У Чарли, как и у папули, была отличная интуиция, полученная на улицах, — он называл это своим «гетто-радаром». Чарли чувствовал, когда назревало что-нибудь плохое. Мы где-нибудь гуляли, все было отлично, и ни с того ни с сего Чарли мог сказать:
— Надо уходить.
Я отвечал:
— Йоу, да мы только пришли.
Но он настаивал:
— Пошли. Немедленно. Я же сказал, надо уходить.
Помню, как когда-то я думал о Чарли как о слишком чувствительной пожарной сигнализации, которая все время срабатывает в два часа ночи, хотя никакого огня и в помине нет. Игнорировать ее невозможно, ведь что-то действительно могло загореться. Но Чарли был абсолютно непогрешимой, идеально откалиброванной уличной пожарной сигнализацией — каждый раз, когда он меня откуда-то уводил, за спиной слышались выстрелы.
Мы компенсировали недостатки друг друга. Чарли понимал уличную жизнь, а я понимал человеческие эмоции и поведение. Я был начитанным и выглядел неагрессивно. Внешность Чарли пугала и отталкивала, а я умел улыбаться, заставлять людей чувствовать себя комфортно и пропускать нас куда угодно.
Мы оба были неполноценны, но вместе из нас складывался один очень способный человек.
Я для Чарли был билетом в такие места, куда его никогда бы не пригласили. Чарли же был громом, который обрушивался на любого, кто посмел сказать обо мне гадость. Он дал мне смелости защищать себя физически. В то время как раз начал появляться тот самый хор критиков, называвших меня «отстойным» и «банальным». Я не матерился, читал рэп о своей школьной жизни, у меня было чувство юмора. Гадости обо мне говорили всякие: что я «ненастоящий эмси», или, хуже того, что я «недостаточно черный», и что моя музыка — «ненастоящий хип-хоп».
— Просто дай мудаку по роже, — говорил Чарли. — В следующий раз будет молчать.
Под защитой Чарли я именно так и начал делать: если кто-то говорил обо мне гадости, я давал им по роже… и сразу прыгал обратно к Чарли за спину.
He’s the DJ, I’m the Rappe («Он диджей, а я рэпер») — так назывался наш второй альбом, который вышел 29 марта 1988 года. Песни Brand New Funk («Свежий фанк») и Parents Just Don’t Understand («Родители ничего не понимают») были основными хитами, благодаря которым альбом поднялся на 4 строчку чарта Billboard 200 и стал трижды «платиновым» — продалось более трех миллионов копий.
Альбом был новаторским — его половину составлял диджейский сет, «скретч-альбом» Джеффа, где он вытворял на своих вертушках просто нечеловеческие вещи. Вторая половина альбома была «партией рэпера», в которой я дал волю своему гиперкреативному, поэтичному и шутливому девятнадцатилетнему сознанию.
Позже случилось неслыханное: объявили, что на 31-й ежегодной церемонии вручения «Грэмми» впервые будут давать награды в категории рэпа. И наша песня Parents Just Don’t Understand была номинирована наряду с Salt-N-Pepa — Push It, LL Cool J — Going Back to Cali, Kool Moe Dee — Wild Wild West и J. J. Fad — Supersonic.
Тогда я впервые в жизни увидел, как Джефф плачет. Я радовался сильнее, чем когда-либо в жизни, но я не из тех, кто плачет из-за личных достижений. В то время я еще был недостаточно зрелым, чтобы просто спросить его, но мне очень интересно было узнать, что именно во всем этом заставило его плакать. Думал ли он о пережитой болезни? О своей матери и музыкальной семье, которая всю жизнь тянулась к признанию, но именно он смог его добиться? Было ли ему страшно? Понимал ли он, что отныне назад дороги нет — его старая жизнь навсегда осталась позади, и планка отныне поднята очень высоко?
Чарли Мэк, который в то время как раз вступил в «Нацию Ислама», сказал:
— Это все Божья воля, вы все с Богом совместились. Это победа! Говорю вам, это победа. Другие песни вашу не побьют. Человек предполагает, а Бог располагает.
Чарли Мэк вот уже несколько месяцев говорил такими духовными присказками. Но интуиция его и тут не подвела: 22 февраля 1989 года Бобби Макферрин получил Песню года за Don’t Worry, Be Happy, Альбом года достался Джорджу Майклу за Faith, Трейси Чэпмен стала Лучшим новым исполнителем, а победителями в категории «Лучшее рэп-исполнение» были диджей Джаззи Джефф и Фреш Принц с песней Parents Just Don’t Understand, что сделало нас первыми рэперами в мире, получившими премию «Грэмми».
К сожалению, саму церемонию вручения мы бойкотировали, потому что музыкальная академия NARAS, вручающая премии «Грэмми», отказалась транслировать презентацию рэп-наград по телевидению. Это был плевок в лицо — рэп-музыка в том году продавалась лучше всей остальной индустрии. Мы заслужили там быть. Расселл Симмонс и Лиор Коэн организовали бойкот, в котором участвовали мы, Salt-N-Pepa, Ice-T, Public Enemy, Doug E. Fresh и Slick Rick, Stetsasonic и многие другие.
И хотя нас не было на церемонии «Грэмми», Джаззи Джефф и Фреш Принц были абсолютно везде. Жизнь изменилась навсегда — ну, почти. Мама Джеффа устроила праздничный ужин для нашей группы в честь нашей первой награды на American Music Awards. Мы явились в свой район, как возвращающиеся домой герои — люди выходили из домов, чтобы нам поаплодировать и пожать руки. До дома мамы Джеффа мы шли добрых двадцать минут. Когда мы наконец добрались, она встретила нас с раскинутыми объятиями, источая гордость и счастье. Затем она дала Джеффу пять долларов и список покупок.
— Джеффри, сходи в магазин, нужно купить хлеб, пищевую соду и посмотри, есть ли у них консервированные бататы.
— Ну мам… — начал было Джефф.
— Не нукай, сын, иди давай, купи все, что я сказала.
Так диджей Джаззи Джефф и Фреш Принц сквозь толпу обожающих фанатов отправились в продуктовый.
Бататов у них не оказалось.
Расселл Симмонс работал над уничтожением всех преград на пути хип-хопа, и мы с Джеффом были его таранами. Наша «приличная», «уважаемая» группа была для Расселла отличным оружием в борьбе со скептиками. Мы были первопроходцами. Мы запустили программу Yo! MTV Raps, которая транслировала хип-хоп на дневном телевидении. Когда сеть отелей Four Seasons запретила рэп-артистам останавливаться в их гостиницах, Расселл убедил их поселить у себя нашу группу, тем самым создавая прецедент, открывший двери для остальных. Дневные радиостанции в ужасе отказывались устраивать живые интервью с рэперами, заставляя их предзаписывать беседы, чтобы они не сказали что-нибудь неугодное. Нас с Джеффом одних из первых выпустили в прямой эфир радио в дневной трансляции.
Наши концерты становились все масштабнее, а публика — все громче. Однажды ночью на Джо Луис Арене в Детройте я так переволновался, что забыл текст песни Parents Just Don’t Understand. Со мной такого никогда не случалось, сердце ушло в пятки. Мало что может быть позорнее, чем забыть слова той самой песни, ради которой восемнадцать тысяч человек покупали билеты на свои кровные деньги. Но случилось нечто невероятное: публика стала хором подпевать текст мне в ответ. Я направил микрофон в толпу, и они сами допели песню. Вот тогда я всеми силами держался, чтобы не разрыдаться. Тысячи людей повторяли мои же слова мне в ответ. Я чувствовал себя любимым и защищенным в толпе незнакомцев.
Нас было не остановить, и мы были жарче огня.
В двадцать лет я был известным на весь мир рэпером, обладателем «Грэмми» и новоиспеченным миллионером.
Тут бы и бросить микрофон на пол, но он мне еще понадобится для следующей главы.
Вот уже много месяцев Джиджи копила деньги, чтобы переехать в квартиру на шестнадцатом этаже с видом на исторический центр. Это было замечательное здание, построенное специально для удобства жизни престарелых. Дом на пятьдесят четвертой улице стал для нее обузой — слишком много ступенек, да и в целом для ее возраста он был уже не очень удобен. Со своих первых заработанных денег я устроил ей сюрприз и купил эту квартиру. Она-то думала, что мы просто едем на нее посмотреть, но риелтор вручил ей связку ключей.
— Голубчик? — спросила она. — Как тебе это удалось?
— Ну, Джиджи, понимаешь, есть такая штука, называется рэп… — начал я объяснять, обнимая ее за плечи.
Мы с Мелани переехали в ее старый дом на пятьдесят четвертой улице. Мой дом детства стал нашим новым домом. Я пообещал Мелани, что позабочусь о ней, и вот, благодаря мне, у нее впервые появилось безопасное жилье.
Я победил. Все мои мечты реализовались в многоканальном звуке и высоком разрешении.
Я победил в жизни.
Глава 8
Боль
Он был светлокожий, светлоглазый. Я таких терпеть не мог.
Смазливые красавчики всегда вызывали у меня чувство неполноценности, потому что женщинам они нравятся больше.
Я только что вернулся домой из двухнедельной поездки по северо-западу страны: Сиэтл, Портленд и кучка мелких городков между ними. Раньше я бегом спускался со сцены, прыгал в машину и гнал прямо в аэропорт, чтобы как можно быстрее вернуться к Мелани. У моего внутреннего кобеля не было возможности перехватить управление и пустить мою жизнь под откос.
Я встречал Мелани у дома ее тети. Я просил водителя отвезти меня туда прямо из аэропорта. Мы вместе шли в наш новый дом. По старой памяти мы проходили мимо старшей школы Овербрук и заскакивали в магазинчик «Шугар Боул», чтобы взять воды со льдом и мягкий крендель, как делали тысячу раз до этого.
Мне нравилось, что Мелани по мне скучала. Даже если меня не было всего пару дней… Когда я приезжал, она вела себя так, будто меня не было несколько месяцев. Она умела заставить парня радоваться тому, что он вернулся домой.
Приехав с северо-запада, я застал их с тетей на кухне за готовкой, как и всегда. В дороге мне бывало так одиноко, будто мое сердце пересыхало от жажды. Ее тетя всегда носила темно-синий хиджаб и очки на самом кончике носа, чтобы следить за кастрюлями. Запах еды утолил мою внутреннюю засуху как долгожданный дождь. Мелани вместо фартука надевала свой передник для рисования (мне всегда это казалось странным, ведь в краске сплошная химия, и ей не место на кухне).
Я посмотрел на Мелани. Что-то было не так. От нее веяло чем-то странным, незнакомым. Из-за моих детских переживаний в нервной системе появился механизм, который работает как ошейник с электрошокером. Когда я чувствую подвох в чьем-то поведении, какой-то рассинхрон в поступках и мыслях, в моем теле словно нарастает сила тока. Я чувствую бзззззз. Похоже на дрожь, только не от холода.
В кухне было жарко, но меня зазнобило.
Мы сели за стол. Поели. Поболтали о соседских собаках. Тетя Мелани бывала в Портленде. Ей не нравилась та часть страны — слишком дождливо. Мелани слишком много смеялась.
Бзззззз.
После ужина мы посмотрели «Поменяться местами». Я знал каждую реплику Эдди Мерфи в том фильме. Он был моим кумиром. Мы с Мелани видели его минимум раз десять, но в тот вечер она смеялась как-то неестественно.
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Ее тетя легла спать. Мы наконец остались одни. Мелани прижалась ко мне. Я очень соскучился. Мы поцеловались. Ее поцелуй ощущался как ловкая попытка скрыть, что она сходила налево.
БЗЗЗЗЗ. БЗЗЗЗЗ. БЗЗЗЗЗ. БЗЗЗЗЗ.
Не представляю, как я это понял и почему всецело доверился своей интуиции. Но я сбросил ее руку, оттолкнул, вскочил и заорал:
— За ИДИОТА меня держишь?
— Ты чего? — воскликнула Мелани.
Но как-то неубедительно.
— Я знаю, что ты сделала. Дурочкой не прикидывайся.
Я пошел ва-банк. Я выложил все фишки на стол. Мне было нечего ей предъявить, но она раскололась сама.
— Прости, — расплакалась она. — Это было всего один раз. Но я его не люблю, прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Мы были друзьями, а потом… Ты уехал! Я не знала, чем ты там занимаешься. Я скучала. Богом клянусь, я больше не буду!
Что? Я оказался прав? Не может быть. Как так?
Из меня уже выбивали дух. Я почувствовал то же, что в первый день в школе Овербрук, когда мне врезали по башке железным замком: голубая вспышка, а потом — странная параллельная Вселенная, где все, во что ты когда-то верил, не стоит ни гроша: гравитация, причинно-следственная связь, любовь, погода в Южной Калифорнии.
Это невозможно. Я же все делал правильно. Я победил. Я лучше всех. Я обеспечил нас домом. Я месяцами бодался с голодной похотливой стаей кобелей, не разрешая им приводить девчонок в автобус и отель. Я не трогал, не целовал, даже не посмотрел ни на одну другую женщину. Я мчался из аэропорта прямо домой. Мы собирались завести детей и создать семью, которая будет лучше тех, в которых мы выросли. Как ты могла так со мной поступить? Как ты могла поступить так с нами?
Внешне я отчего-то был спокоен, потому что ни одна из этих мыслей не отражала то, что я чувствовал. Мне хотелось разозлиться — когда тебе изменили, положено злиться, но я не ощущал злости.
Мелани плакала на диване, закрыв лицо руками.
Дэн Эйкройд напал на Эдди Мерфи. Эдди молил о пощаде.
А я стоял и ничего не чувствовал. Когда тебе кто-то изменяет, надо что-то делать. Но что? У меня не было никаких эмоций, но я не собирался пасовать, как трус. Не сейчас.
Что люди делают, когда им изменяют? Я знал, что надо уйти и хлопнуть дверью. Еще я знал, что перед этим надо как-то проявить агрессию. Я осмотрелся. Возле камина была такая острая железная штуковина, которой тыкают поленья. Но что мне с этим делать? Тут мне бы очень пригодилась эмоция, которая подсказала бы, что сделать…
Короче, я взял штуку в руки. У дома тети Мелани была прекрасная входная деревянная дверь с сотней маленьких окошек. Я равнодушно посмотрел на рыдающую Мелани, так и не определившись, как именно мне следовало бы психануть. Потом спокойно подошел с железякой к двери и начал по одному бить стекла.
Наверное, я расколотил штук пятнадцать, пока не почувствовал, что наигрался в двадцатилетнего рогоносца. Швырнул железяку на пол — и сам перепугался от грохота. Черт, а вдруг тетя Мелани услышит? — подумал я. — Пойду-ка я, пожалуй.
Мы с Мелани должны были пойти вместе к нам домой, но вместо этого я в одиночестве отправился на Вудкрест.
Мамуля была сыта по горло. Она выставила отца из дома, пока я был на гастролях, в этот раз насовсем. Папуля переехал в апартаменты над офисом ACRAC. Я знал, что она будет дома одна.
Идти было двадцать минут. Мне не верилось, что я только что перебил кучу окон. Я не понимал, откуда это во мне. Было странно ломать вещи из обязательства, а не по воле эмоций. Какое забавное противоречие. Проигрывая эту сцену в уме, я ни с того ни с сего начал хихикать. Вот ты чудак, Уилл. Эта мысль рассмешила меня еще сильнее. Просто животики надорвешь.
Когда я дошел до Вудкрест, мамуля ждала меня на крыльце. Значит, тетя Мелани ей уже звонила — так-то она не любила там сидеть. Ее глаза были полны слез — она надеялась, что со мной все в порядке, но готовилась к худшему. Она знала меня как облупленного.
Увидев ее взгляд, я понял, как хорошо она понимает мою боль. Эта боль больше не была только моей — она стала нашей. И тут словно динамитный заряд взорвал плотину, которая сдерживала реку моего страдания. Я повалился на тротуар в трех метрах от места, где мы прощались, когда я садился в гастрольный автобус.
Мамуля подбежала, обхватила меня руками, а я выл от горя. Дом моего детства безучастно глядел на мою агонию. Я-то уезжал с Вудкрест, чтобы никогда больше не чувствовать этого.
— Как она могла, мама? Почему Господь это допустил?
Мама ничего не сказала, а просто обняла меня. Я был взрослым, и она не могла решить моих проблем. Я чувствовал ее слезы у себя на шее.
Она помогла мне встать и отвела домой.
Разбитое сердце стоило бы причислить к болезням — оно вызывает плачевное состояние не хуже психических заболеваний. Я страдал от такой невыносимой боли, что лучше бы меня пырнули ножом или избили, или выдернули зуб без анестезии.
Мне изменила подружка, и для моего расшатанного ума это было доказательством того, что я — дерьма кусок. По моей логике, если бы я был хорошим, она бы мне не изменила. Я подвел еще одну женщину.
Я отчаянно нуждался в облегчении этой боли. Но от нее не существует таблеток, поэтому я обратился к народным средствам: транжирству денег и беспорядочным половым связям.
Транжирство денег: на следующую неделю я купил десятерым друзьям билеты на самолет из Филли в Атланту и скупил весь магазин «Гуччи».
— Берите, что хотите, — сказал я, доставая на кассе кредитку.
У меня теперь была кредитная карта. И, в отличие от моего сердца, ее-то точно нельзя было сломать. Деньги лились рекой. Мы как раз запустили горячую линию Джаззи Джеффа и Фреш Принца. 1-900-909-JEFF был самым первым платным номером «900» в истории. Телефонные номера по премиум-тарифу стали новым революционным способом связи с фанатами (и, по сути, предтечей современных социальных сетей). Фанаты звонили по нему, чтобы услышать ежедневные сообщения от нас длиной в несколько минут о том, где мы находимся и что делаем. Первая минута стоила два доллара, каждая последующая — 34 цента. На пике популярности горячей линии нам поступало около пяти тысяч звонков в день.
Подсчитайте сами. Моя кредитка была просто неуязвима.
Беспорядочные половые связи: до этого момента в жизни я занимался сексом лишь с одной женщиной помимо Мелани. Но в следующие пять месяцев я превратился в настоящего кобеля. Я переспал с таким количеством женщин, и это настолько претило самой моей сути, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм: я буквально испытывал рвотные спазмы, а иногда меня даже выворачивало. Но каждый раз я надеялся всей душой, что прекрасная незнакомка окажется «той самой» — женщиной, которая полюбит меня, исцелит, избавит от этой боли.
Но нет, исключений не было — я был вывернут наизнанку в прямом и переносном смысле. А выражение взгляда женщины только усиливало мое мучение. Я делал именно то, за что ненавидел своего отца — причинял женщинам боль.
С горя я купил свой первый дом, особняк с видом на Мерион-парк в богатом районе за мостом Сити-лайн. Я всю жизнь мечтал о нем — выбеленный паркетный пол, двухэтажные потолки в гостиной и джакузи в спальне (нет, не в ванной, а именно в спальне). Первым делом я купил в дом не кровать, не диван, не полотенца и не вилки с ложками, а бильярдный стол.
Кровать я купил потом и впервые в жизни поспал на двуспальной. Большую часть детства мы с Гарри спали в одной постели, а в дороге я делил гостиничный номер с Чарли Мэком. В ту ночь на Мерион-роуд я впервые в жизни спал один. И мне не понравилось. Мое раненое сердце истекало кровью — я умирал от любви к Мелани Паркер.
Мне хотелось ее вернуть.
В то время мой разум все еще проводил прямую связь между выступлениями и любовью. Вся моя самооценка базировалась на том, счастлива ли моя женщина. Мое восприятие самого себя было неразрывно связано с мнением и одобрением женщин. Раз я не получаю любви, которую так сильно жажду, то проблема кроется во мне, как в главном герое. Если бы я лучше играл роль «бойфренда», она бы мне не изменила.
Как вы, вероятно, можете себе представить, это купило мне билет первого класса на скорый поезд в пучину отчаяния.
Мелани работала в отделе одежды в «Галерее» — большом торговом комплексе в центре Филли. Я все спланировал: это будет широкий и романтичный жест прощения. Я зайду к ней, наши взгляды встретятся, я прощу ее, и она упадет мне в объятия, проливая слезы благодарности и раскаяния. А потом я скажу, что хочу жениться на ней, и моей жене не пристало работать в занюханном отделе с тряпками. Мы пошлем в жопу ее босса, запрыгнем в мой новехонький «Мерс 30 °CE», и я привезу ее в особняк на Мерион-роуд, где джакузи стоит не в ванной, а в спальне.
Припарковаться у «Галереи» было почти невозможно, поэтому меня туда отвез Чарли Мэк. Он останется ждать в машине прямо у главного входа в магазин, а я побегу, как заправский Ромео, до ее отдела, вскружу ей голову и перенесу ее через порог в поджидающий «Мерседес».
Бип-бип! — погудел Чарли.
— Йоу, чувак, у меня прав-то нет. Если копы нагрянут, я сваливаю, — сказал он.
Этот олень обламывал мне весь спектакль.
— Че ты права-то не получишь, а? — заорал я.
— Ты ж знаешь, на мне судимость за оружие! Не могу пока! Иди уже быстрее за Мелани, пока легавые не явились.
Я помчался в магазин. День был спокойный, покупателей почти не было. Мелани стояла за кассой и сворачивала джинсы-клеш. Она меня не увидела — я немного за ней понаблюдал (мог бы и дольше, да у Чарли не было прав). За те несколько мгновений я понял, что не хочу жить без нее. Пустота внутри меня заполнилась при виде ее. Боль утихла, жажда утолилась.
Она подняла глаза, и наши взгляды встретились. В этот короткий момент я ясно понял: Мелани меня любит. И я люблю ее.
Бзззззззз.
Блин. Опять мое внутреннее чутье. Не понимаю, почему, но я ему верю. Я постарался сосредоточиться на ней. Я подошел к ней, мы обнялись. Что-то было не так.
БЗЗЗЗЗЗЗ.
Я отпустил ее. Мы улыбнулись. Я оглядел магазин.
Он был светлокожий, светлоглазый. Я таких терпеть не мог.
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Я снова посмотрел на Мелани. Она притворилась, что пытается побыстрее свернуть одежду.
— У меня через пятнадцать минут обед, можем сходить вместе, — сказала она.
БЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Я снова посмотрел на него, но он не поднял глаз.
Я тебя вижу, мразь.
Я ринулся через весь магазин. Он попытался улизнуть — значит, виноват. Но прятаться было негде. Я на него набросился, Мелани завизжала. Откуда ни возьмись, появился Чарли Мэк и сгреб меня в охапку. Я поломал все в магазине, включая ту смазливую рожу. Чарли тащил меня, я тащил Мелани. Кое-как мы оказались в машине и смылись с места преступления.
— Мужик, я же говорю, у меня судимость. Ты че? — рявкнул Чарли, отъезжая.
Больше Мелани не работала в магазине одежды. Она пообещала мне никогда больше не видеться с тем парнем. Я отвез ее в новый особняк в историческом центре, где джакузи стояла в спальне, а не в ванной.
Мы поклялись работать над нашими отношениями. Мысленно я поклялся ей: если ты вернешься, я обещаю быть хорошим.
JBM расшифровывается как «молодежная черная мафия». Их девизом в Филадельфии было «прогнись или умри», то есть ты либо с ними, либо против них. Ты либо в банде, либо покойник.
Когда ты — двадцатилетний рэпер из центрального района Филадельфии, который только что заработал свой первый миллион долларов, позволить себе зависать с тобой могут только другие рэперы, профессиональные спортсмены или наркодилеры.
Я выбрал наркодилеров.
В Баки было полтора метра росту, я возвышался над ним больше, чем на голову. В прошлом он был чемпионом любительского бокса, а теперь стал одним из главных лейтенантов JBM. За ним оставалось первое и последнее слово. Если ты с ним повздорил, он с готовностью снимал с себя дорогущие кольца и выходил разобраться с тобой на улицу. Но если ты проявлял неуважение, до колец дело не доходило, потому что они не мешали ему спустить курок.
Баки любил посмеяться. Он получал огромное удовольствие от моих шуток. Теперь я понимаю, что он приходил на Мерион-роуд, чтобы сделать передышку, чуть-чуть отдохнуть от нервов и жестокости улиц. Я был его личным придворным шутом. Ему нравилось, как я гнал на людей — больше всего он любил оскорбительные шутки, которые, по совпадению, были моей специальностью.
Однако однажды вечером я совершил ошибку, пошутив над ростом Баки.
— Йоу, Бак, стульчик тебе не подставить?
Никто даже не улыбнулся. Бак выглядел спокойным, и это был очень плохой знак. В комнате стало тихо. Он подошел ко мне, едва дотягиваясь подбородком мне до груди, и просто встал. Это был приказ наклониться к нему для разговора. Я склонил голову, как дикая горилла, которая преклоняется перед альфа-самцом.
Бак шепнул мне на ухо:
— Ты, конечно, звезда, но, если тебе дать по башке, звезды у тебя из глаз посыплются.
Выразился он не очень изящно, но смысл я понял. Больше я про Бака не шутил.
На Мерион-роуд теперь не угасали вечеринки. В доме всегда было человек двадцать или даже больше. Мы слушали музыку, играли в бильярд. Вся кухня была завалена фирменными филадельфийскими сэндвичами с бифштексом и сыром — я на них тратил столько денег в «Овербрук-пицце», что, наверное, мог бы уже просто купить само заведение. Боксерские матчи разгорались на заднем дворе, на баскетбольной площадке и даже в гостиной.
И мы без конца играли на деньги. Естественно, такая обстановка нисколько не подходила тонкой артистической натуре Мелани.
— Уиллард, ты не мог бы сделать музыку потише? — просила она.
— Прости, детка, потерпи еще часок. Мне надо научить этих дурачков уму-разуму…
Я считал свое прощение таким огромным проявлением любви, что она должна была быть благодарна уже за то, что находится в моем доме.
На самом-то деле я ее так и не простил.
На выходных оттяг начинался на полную.
В ночь с пятницы на субботу из рук в руки легко могло перейти и 150 000 долларов. Мой кореш Бэм был лучшим игроком в бильярд. Все наши деньги всегда доставались ему. Но как-то раз в субботу я начал жечь за бильярдным столом — попадал раз за разом. Попадал в цель через весь стол, делал комбинации, идеально забивал восьмерки, отправлял биток ровно туда, где он был мне нужен. Бака я разбил наголову (прости, старик!) — на ставках он потерял 30 000 баксов. Он послал было одного из парней привезти ему еще денег из дома, но жил он на юго-западе, поэтому метнуться туда-сюда выходило не меньше сорока пяти минут. Тогда Баки просто кинул на стол ключи от своей машины. Публика загудела: «Охрене-е-е-еть!» Мое сердце на секунду дрогнуло, но я тоже был не промах. Я подкинул ключи от своего новенького трехсотого «мерса» цвета морской волны к его ключам от черного кабриолета BMW 325i и скомандовал:
— Расставляй.
Я разом загнал по лузам четыре шара, набрав кучу очков. Тишина в комнате была как в библиотеке. Баки прицелился для первого удара — легкая двойка в угловую лузу, оставил себе простор для семерки в бок. Правда, немного перестарался и пролетел мимо угла — ему пришлось вначале откатить четверку ниже. Но Бак так просто не сдавался. Он раскладывал шары по лузам только так, и мне оставалось беспомощно наблюдать, натирая мелом свой кий ручной работы в ожидании удара, который мне, возможно, и не светит.
Баки примерился к восьмерке. Удар — мяч отскочил от борта. Восьмерка как в замедленной съемке неумолимо покатилась в угловую лузу, словно собираясь утащить за собой в бездну мои ключи от машины. В толпе уже зарождался рев: «О-о-о-о-о-о…»
Но… не тут-то было! Шар завис на краю лузы, чудом зацепившись за сукно. Народ взвыл.
У меня появился шанс, но играть теперь придется по-взрослому. Надо отправить еще три шара по лузам, прежде чем целиться в восьмерку в углу. А если я хоть раз промажу, Бак вернется к столу — и уж он-то точно не промажет.
По первому шару я наношу опасный удар по прямой через весь стол. Все серьезно — я отправляю его точно в лузу, остается еще два. Второй удар в боковую лузу, а вот третий шар укатился в угол — значит, биток придется подкрутить, ударить снизу, чтобы он крутанулся назад. Если не получится, шар попадет прямо в угловую лузу, и тогда победа будет за Баки.
В бильярде я принципиально никогда долго не раздумывал над ударами. Прицелился — ударил. Снова прицелился — ударил. Не допускал никаких сомнений и колебаний. Как говаривал Чарли Мэк, страхом денег не заработаешь. Эти слова стали моим девизом по жизни. Но в ту ночь мне помогла холодная рассудительность.
Как и весь остальной вечер, я бил прямо в цель. Баки только беспомощно натирал кий для удара, который ему было не суждено нанести. Я обошел стол, положил в лузу восьмерку и бережно взял в руки два комплекта ключей.
Баки был вне себя от злости, но крутость не позволяла ему выставить это напоказ. Он стремительно вышел из дома, не закрыв за собой дверь, и только потом понял, что ему придется вернуться и вызвать такси.
Я выбежал за ним.
— Йоу, Бак, — сказал я.
— Отстань, чувак, давай потом, — ответил он с достоинством парня, готовящегося ловить попутку.
— Бак, держи. — Я протянул ему ключи. — Я не стану забирать твою чертову тачку.
— Чего? — удивился он.
— Ты ж мой кореш. Я не буду у тебя отбирать колеса, — сказал я.
— Не гонишь? — Он смотрел на меня так, будто у меня выросло три лишних башки.
— Бак, думаешь, я могу пригласить тебя к себе домой, а потом отнять твою тачку? Я, конечно, мудак, но не такой. — Я сунул ключи ему в руку.
Тогда я этого не понимал, но в мире, где жил Бак, никто не проявлял подобной человечности. Он заметно растрогался.
— Бак, чего ты, в самом деле? Это ж пустяк… — сказал я.
Он взял себя в руки, встряхнул связкой ключей и сказал:
— Твою тачку я бы забрал.
Я пошел обратно в дом. Баки открыл дверь своей машины и крикнул мне:
— Слышь! Если на тебя кто наедет, то будет иметь дело со мной.
И он не соврал.
В то время я не связывал свои порывы и хаотичное поведение со своим раненым сердцем. Когда я купил алый кабриолет IROC-Z и покрасил его диски в такой же цвет, я не воспринимал это как рефлекторную попытку самолечения. И я не связал покупку кастомизированного «Шевроле Suburban» с 18-дюймовыми сабвуферами, которые занимали всю заднюю половину машины, со своим чувством неполноценности, потери и предательства. Я просто думал, что прикольно будет, если, заезжая за кем-то, мне не придется заранее звонить — надо только сделать музыку погромче, и все узнают, кто приехал.
Меня несло, и я капризничал, как ребенок. Я купил свой первый мотоцикл: голубой «Судзуки Katana 600». Я не умел на нем ездить и уронил его в первую же неделю. Но был слишком крут, чтобы ездить на побитом байке, поэтому купил новый, красненький.
Этот байк уронил Джей-Эл. Повреждения были не очень серьезными — так, пара царапин. Но потом Гарри решил не уступать Джей-Элу и расколотил его в хлам. Я решил, что это знак, и байки, наверное, не мое — тогда я купил бирюзовый «Корвет T-top».
Я выстроил все машины и мотоциклы перед домом и пригласил в гости папулю, чтобы показать, как хорошо живу. Папуля приехал на своем неказистом рабочем фургоне. Он всегда считал, что автомобиль — это инструмент. Я гордо стоял у дома, когда он вышел из машины. Мы обнялись.
— «Корвет» я купил только на прошлой неделе, — сказал я.
— Это все твои? — спросил он, с презрением глядя на мой сверкающий автопарк.
— Ага, — гордо ответил я.
Я уважительно вытянул руки по швам, но мысленно представлял, что стою в самой крутой стойке би-боя.
— Парень, зачем же тебе три машины? — сказал папа. — Жопа-то у тебя одна.
Не совсем такого ответа я ждал. Но прислушиваться к его вычислениям не стал: не зря же Джаззи Джефф и Фреш Принц в 1988 году получили «Грэмми» за песню «Родители ничего не понимают».
Мы с Мелани перестали заниматься сексом.
Что-то между нами переломилось. Мы оба страшно хотели, чтобы все стало как раньше, но нам едва исполнилось по двадцать. Наши романтические мечты были слишком хрупки, чтобы пережить беспощадную незрелость.
Я начал часто мотаться в Лос-Анджелес. Тогда я впервые почувствовал вибрацию большого города. Как только самолет приземлялся в аэропорту LAX, что-то во мне пробуждалось и тоже начинало вибрировать. Моя душа была в гармонии с душой этого города. Меня восхищала его атмосфера. Мне не хотелось спать, я всегда был бодр, моя кожа светилась, я хорошо ел и хотел тренироваться. Я чувствовал вдохновение. Уже позже я осознал, насколько важно правильное окружение. Выбор города для жизни так же важен, как выбор спутника.
А я как раз повстречал Таню Мур. Она воплощала собой солнце и возможности Лос-Анджелеса — всю суть Западного побережья. Сногсшибательная, утонченная, но понимающая мир улиц. Она знала, по каким районам можно гулять, а которые объезжать стороной. Она научила меня, что филадельфийскую бейсболку надо снимать еще в аэропорту, и я надевал ее уже только в самолете обратно.
Пух Ричардсон был звездным защитником баскетбольной команды УКЛА, и это был наилучший расклад для двадцатидвухлетнего черного парня, не считая карьеры рэпера-миллионера. Он родился и вырос в самом сердце Южного Филли, и по универу расхаживал как начальник. Пух был главным во всем кампусе, и когда приезжали его братаны из Филли, он выкладывался на полную.
Пух встречался с двоюродной сестрой Тани Джией, которая по сути управляла его жизнью. Она следила за тем, что он ест, с какими журналистами встречается. Она выставляла всех из комнаты, когда ему нужно было готовиться к тренировке. Такой формат отношений показался мне очень зрелым. Пух был звездой, но он буквально не знал, где находятся его кроссовки. У него была одна задача — хорошо играть в баскетбол. Джия занималась всем остальным. Увидев их вместе, я понял, что хочу так же. Они совместно работали над операцией «Пух Ричардсон поступает в НБА» (в итоге он играл в лиге целых 10 лет).
Мы с Чарли Мэком прикатили в Павильон Поли, где команда УКЛА играла со Стэнфордом. Мы встретились с Пухом в раздевалке после игры.
— Филадельфия приехала! — завопил он.
Первое, что чувак из Филли замечает, когда один из его корешей переезжает в другой город — это то, как паршиво выглядит его стрижка-фейд. Филли славится своими фейдами, мы их изобрели, и мы делаем их лучше всех.
— Чувак, у тебя косорукий парикмахер, — был обязан сказать я.
Да что там, я бы в любом случае так сказал. Когда ты из Филли, а кто-нибудь стрижется в другом городе, надо обязательно сказать, что стрижка паршивая.
— Да, тут этому пока не научились, — отшутился Пух, трогая выбритые виски.
Если ты из Филли, ты обязан ответить что-то в таком духе.
Он познакомил меня с Джией и ее двоюродной сестрой Таней. Наверное, я слишком открыто восхитился красотой Тани, потому что Пух тыкнул мне в лицо полотенцем.
— Хорош пускать слюни — еще поскользнешься и упадешь.
Я смущенно отпихнул полотенце, но улыбаться Тане не перестал.
— Наверное, в Филли что-то подсыпают в воду, чтобы вас таких красавчиков там выращивать, — сказала она.
Пух встрял в разговор:
— Йоу, Таня, я тебе отвечаю, этот чувак — будущая звезда. Хватай его, пока не улетел.
Зачем меня хватать? — подумал я. — Она же назвала меня красавчиком.
Из всех моих друзей только Джей-Эл видел, как я плачу. Однажды в поезде по дороге в Нью-Йорк я разрыдался у него на груди, рассказывая ему о Мелани. Джей-Эл — парень не эмоциональный, а я не сдерживался. Потом он признался мне, что в тот момент решил защищать меня до конца своих дней.
Однажды Джей-Эл отвел меня в сторонку:
— Чувак, ты что-то в последнее время много дерешься. Что за дела?
А я ввязывался в драку буквально каждые выходные. Не знаю, из-за чего: то ли знал, что Баки за меня горой и Чарли Мэк всегда рядом, то ли это было единственное успокоительное для моего беснующегося сердца — но я начал бить без предупреждения всех, кто косо на меня посмотрит. Я злился, потому что даже «Грэмми», миллионы долларов и алый IROC не смогли заполнить зияющую дыру у меня внутри.
Деньги, секс и успех. Когда их у тебя нет, думаешь — ну блин, были бы у меня деньги, секс и успех, все пошло бы на лад! Это огромное заблуждение, но многим оно психологически помогает двигаться дальше. А вот когда ты уже стал богатым, знаменитым и успешным, начинает закрадываться пугающая мысль: возможно, проблема во мне.
Конечно, я быстро отмахнулся от этой чуши. Мне просто нужно больше денег, больше женщин, больше «Грэмми».
Звукозаписывающая компания была готова к следующему альбому. Мы продали три миллиона пластинок, получили первую в мире награду «Грэмми» за рэп, и новый альбом должен был переплюнуть все это.
Джей-Эл хотел, чтобы мы сделали предварительную запись у Джеффа. Пока я покупал машины, шмотки и дома, Джефф превращал свой подвал в домашнюю студию звукозаписи, похожую на капитанский мостик из сериала «Звездный путь». Джей-Эл считал, что выгоднее всего будет заготовить все наши идеи на юго-западе Филли, а потом поехать в Лондон записывать окончательный вариант. Jive владели там студиями записи, и мы получали лучшие расценки.
Но у нас была идея получше. Джефф предложил записываться в знаменитой студии звукозаписи на Багамах — Compass Point Studios. В конце концов, там записывались Мик Джаггер, Грейс Джонс, Дэвид Боуи, Шаде и даже Iron Maiden. А раз мы теперь большие звезды, вполне логично ехать туда же, куда едут все мультиплатиновые исполнители. Джефф с нетерпением ждал возможности посмотреть, как у них там все устроено в плане техники. А мне хотелось заценить два огромных казино, которые как раз недавно открылись в Нассау.
Нас было не заткнуть. Джей-Эл протестовал, но мы победили его большинством голосов. В следующую пятницу мы полетели на Багамы… вдесятером.
Я никогда раньше не бывал на Багамах.
Когда мы прилетели, было солнечно и очень жарко. Багаж и оборудование застряли на таможне, так что мы двинули на пляж. Ромовый пунш и куриные наггетсы до заката, а потом казино — до рассвета. Как-то так и прошла первая неделя «записи» нашего нового альбома.
Мы арендовали студию на шесть недель, и платить приходилось независимо от того, пользуемся мы ей или нет. Наша первая сессия в студии — на девятый день — была больше похожа на вечеринку в клубе: Джефф диджеил, а мы обжимались с девчонками, ели и пили. Иногда я брал микрофон, но больше прикалывался, чем пытался сочинять новую музыку.
После той первой сессии Джей-Эл отвел нас с Джеффом в сторонку и предупредил, что у нас каждый день вылетает в трубу по 10 000 долларов, и если мы не начнем записываться, он прикроет лавочку. Мы оскорбились.
— Ты ничего не понимаешь в творчестве, — сказал я. — Атмосфера, люди — все это нужно нам для вдохновения.
— Точняк, Джей, — поддакнул Джефф. — Не перекрывай нам кислород.
— Дай нам заниматься нашим делом, а сам занимайся своим, — сказал я.
Джей-Эл очень медленно кивнул, как будто хотел сказать: ну ладно, я понял, что к чему.
Прошел месяц, наш «творческий процесс» сожрал пару сотен тысяч долларов, но мы так и не записали ни одной песни.
Я думаю, Джей-Эл был вправе сделать то, что сделал. Но тогда я был просто в шоке. Я бы с ним никогда так не поступил. Наверное, он почувствовал, что ситуация безнадежна, поэтому пошел на крайние меры.
Был вечер пятницы. В студию набилось человек двадцать: из Лос-Анджелеса нагрянула вся наша туса, чтобы помочь с «творческим процессом». Я выпил где-то пять бокалов ромового пунша и перешел с куриных наггетсов на вяленую курицу, черные бобы и рис. Наверное, было жарко, потому что я был без футболки.
Не важно, сколько тебе лет — от некоторых образов из детства по коже всегда бегут мурашки и желудок сжимается в комок. Я зажигал посреди студии Compass Point, когда дверь открылась. Вначале я увидел Джей-Эла, а потом…
Папуля.
Все замерли. Все, кто знал — поняли. Остальные почувствовали. Папуля спокойно окинул картину взглядом. Его старший сын — топлес. Комната — провоняла курицей и алкоголем. Телеса в купальниках — непотребно трясутся. Это мы так «работаем». Для папули это были Содом и Гоморра.
Он приказал:
— А ну-ка все свалили на хрен отсюда. Мне надо поговорить с Уиллом и Джеффом.
Мы приземлились в международном аэропорту Филадельфии в 2:38 ночи. Я проспал весь перелет. Не помню ни взлета, ни приземления. Почти уверен, что в медицине такое состояние называется «позорной комой». Джеймс «Джей-Эл» Ласситер наябедничал моему папе. Это было полное фиаско.
Зато через две недели наш третий альбом And in This Corner… был готов.
Папуля, который нагрянул в Compass Point как мрачный жнец, оценил наше поведение резко, но точно:
— Парни, вы просираете возможность, о которой большинство людей не может даже мечтать. Ваш проект финансирует крупная корпорация, а вы рассиживаете с девками в студии? Держите свои члены подальше от денег других людей. Можете заниматься какой угодно фигней, но только не на работе. Все хорошее когда-нибудь заканчивается.
И хотя багамская интервенция папули спасла нас от неизбежной катастрофы, наша лодка уже дала течь. Мы прожгли весь бюджет, поэтому быстренько сляпали вместе что смогли. У пластинки не было ни идеи, ни последовательности. Мы с Джеффом потеряли хватку.
Альбом был обречен с самого начала.
Глава 9
Разрушение
Все покатилось под откос.
And in This Corner… вышел в октябре 1989-го, прямо на Хэллоуин, и публика встретила его гробовой тишиной. В отчаянной попытке хоть как-то спасти эту скверную ситуацию, мы ринулись в турне. Мы выступали, продвигали и пытались сделать хоть что-то, чтобы вдохнуть в альбом немного жизни, но все было зря.
Зимой 1989 года начался полный и кромешный п***ц.
Все началось с Рэди-Рока. Он записал несколько песен, и ни одна из них не попала на альбом. Он был одним из лучших битбоксеров в истории, и на концертах ему доставались самые бурные овации. Но хип-хоп менялся — битбоксеры уходили на задний план. Он чувствовал, что его не уважают и не ценят.
В результате наши разногласия переросли в раскол, раскол — в прямой конфликт, и в итоге мы с Рэди оказались на грани гребаной войны.
Клейт теперь постоянно опаздывал: на самолеты, саундчеки, встречи. Он спал весь день, всю ночь был в поганом настроении. Во время турне наши перепалки стали чаще и жестче. Он считал, что они с Джеффом были гвоздями программы, а я примазался к ним.
— Только у нас с Джеффом есть талант, вы все просто упали нам на хвост, — орал Клейт во время одной из наших бесконечных стычек.
Ситуация достигла критической точки в Канзас-сити. Мы всегда представляли Рэди-Рока публике примерно в середине концерта. Он выходил на сцену, я отыгрывал с ним номер минут на пятнадцать, потом он уходил, и мы с Джеффом заканчивали шоу. Его появление было грандиозным. Начиналось с того, что я читал рэп, в конце куплета выкрикивал: «Рэди-Рок Си, а ну-ка помоги Джеффу!», и наигранно указывал на край сцены. Включался прожектор, и Клейт изображал звук вертолета, который вызывал у публики шок. Он особым образом складывал руки у микрофона, изменяя частоту, чтобы казалось, что вертолет летает туда-сюда.
Народ от такого тащился.
Но в тот вечер я звал, я показывал, прожектор летал, а Рэди-Рока все не было. Джефф играл и играл свой бит. Еще через четыре такта я повторил:
— Рэди-Рок Си! Помоги Джеффу!
Клейт не вышел.
Джефф без запинки включил следующий трек, и мы продолжили концерт как ни в чем не бывало.
Мне невыносимо больно писать эту главу, потому что у всех этих конфликтов и разногласий могло быть очень простое решение. Однако наша незрелость требовала, чтобы мы терпели мучительные последствия, усваивая основы человеческих взаимодействий. Теперь мне очевидно, как больно было Клейту превратиться из моего лучшего друга и правой руки в человека, которого все чаще исключали, отталкивали и просили выйти из кадра во время фотосъемок. Хуже того, мы даже ни разу не поговорили об этом.
К сожалению, мы были двумя молодыми баранами.
После концерта я гневно помчался за кулисы с криком:
— Где Клейт, мать его за ногу?
Я вломился в гримерку, и он тут как тут: сидит в моем кресле в темных очках, невозмутимо поедая чипсы.
— Чувак, ты куда слился?
Клейт не ответил — просто сидел и хрустел чипсами.
— Почему не вышел на сцену? — прорычал я.
Он так и хрустел. Через несколько секунд он дожевал чипсы и заявил:
— Да че-то не захотелось выступать.
Я от такого ответа прифигел, но ничего не сказал.
Мы долго смотрели друг на друга. С каждой секундой эта новая реальность затвердевала все сильнее. Я дал ему десять секунд, чтобы все исправить.
Девять, восемь, семь, шесть.
Хрум. Хрум. Хрум.
Пять, четыре, три.
Хрум. Хрум.
Два.
— Понятненько, — сказал я, развернулся и вышел.
Больше я Рэди-Рока на сцену не вызывал.
В следующий вечер мы с Джеффом изменили сет. Клейт стоял сбоку от сцены. Началась часть концерта, когда его обычно вызывали, но мы ее пропустили и перешли к следующей сцене. То же самое в Далласе. То же самое в Хьюстоне. То же самое в Сан-Антонио.
Мы больше не разговаривали. Клейт ездил на автобусах с другими группами, а если ехал с нами, то не вставал с койки. Однажды, ближе к концу тура, мы услышали странный звук с его места.
Клик-клак, щелк. Клик-клак, щелк.
Койка Чарли Мэка была прямо над Клейтом. Чарли, раздраженный звуком, свесился вниз, чтобы посмотреть, в чем дело. Он раздернул шторку.
— Йоу, мужик, ты че творишь? — завопил Чарли, спрыгивая на пол.
Клей чистил полуавтоматический пистолет-пулемет «Узи». У него не было пуль, но он тренировался заряжать его и спускать курок.
Клик-клак, щелк. Клик-клак, щелк.
Мой школьный друг пропал, и с ним пропало веселье, волнение от уличных баттлов, радость нового звучания. На его месте остался абсолютный незнакомец.
Нет в жизни ничего хуже, чем наблюдать за самоуничтожением близких людей. Папуля говаривал: «Можно предотвратить убийство, но нельзя предотвратить самоубийство». Рэди-Рок хорошо зарабатывал, занимаясь любимым делом. Он выступал перед тысячами людей и путешествовал по миру. Друзья были готовы за него жизнь положить. Однако отчего-то он просто не видел весь спектр возможностей, простирающийся у его ног. Он добрался до оазиса только для того, чтобы отчаянно уползти обратно в пустыню.
Я раз за разом видел такое поведение на протяжении всей своей карьеры. Я давал работу сотням людей, и многие из них в конце концов ломались под давлением возможностей. Великий черный поэт Чарли Мэк однажды прекрасно сказал на этот счет: «Давление разрывает трубы, братан».
Нам всем приходится бороться с естественным процессом разрушения. Ничто не вечно — твое тело состарится, твой лучший друг закончит школу и уедет в другой город, а дерево, по которому ты раньше забирался в дом Стейси Брукс, однажды рухнет от ураганного ветра. Твои родители умрут. Все меняется, восход сменяется закатом. Ничто и никто не способен противостоять энтропии.
Вот почему саморазрушение является ужасным преступлением. Проблем хватает и без этого.
Когда мы вернулись в Филли, Рэди-Рок взял свою сумку, я взял свою. Мы не попрощались и даже не взглянули друг на друга. Я смотрел, как он уходит вдоль по Вудкрест, ни разу не оглянувшись.
Из-за того, что в детстве я столкнулся с разрушительным поведением папули, я никогда не мог терпеть похожих черт в окружающих людях. Забавно, что в других я их вижу кристально ясно, но, как говорится, в своем глазу…
Первый (и единственный нормальный) сингл с третьего альбома назывался «Я мог бы навалять Майку Тайсону». В то время я часто использовал непобедимость Майка в качестве метафоры, чтобы объяснить разницу между естественным уничтожением и самоуничтожением.
Допустим, тебе нужно бороться за титул чемпиона с Майком Тайсоном в самый расцвет его карьеры. Опасаясь за свою жизнь, ты нанимаешь легендарного тренера Фредди Роуча, начинаешь идеально питаться, беспрекословно следовать программе тренировок — в общем, делать все, что в твоих силах, чтобы подготовиться к встрече с Железным Майком. Ты выходишь на ринг в безупречной физической и умственной форме, и Майк уничтожает тебя за 15 секунд. Ты сделал абсолютно все, что мог, но все равно проиграл. Просто ты не такой хороший боец, как Майк Тайсон. Это терпимая потеря. Это я называю естественным разрушением.
Но если ты пренебрегал тренировками, питался чем попало и выбрал на роль тренера своего кореша Пукки — и Майк вырубит тебя через 15 секунд — ты понесешь нестерпимую потерю. Тебе придется прожить остаток жизни, не зная, что случилось бы, если бы ты постарался. Ты всегда будешь знать в глубине души, что проиграл не Майку Тайсону, а самому себе. Бой был не между тобой и Майком — ты сам проиграл себе еще раньше, чем Майку.
Именно это и случилось с нашим третьим альбомом. Музыкальный бизнес непредсказуем — какие-то пластинки выстреливают, какие-то нет. Иногда ты уверен, что песня станет хитом, но она никому не заходит, а ту, о которой ты даже не вспоминал, все заслушивают до дыр. Это естественный процесс, неизбежное стечение обстоятельств. Но если ты просрал 300 000 долларов на ромовый пунш и куриные наггетсы, и твоему папаше пришлось прилететь и силой утащить тебя домой, а потом ты кое-как сляпал вместе какие-то треки в подвале у мамы твоего лучшего друга, ты заранее обрек себя на нечестный бой с самим собой.
Проиграть обстоятельствам — дело честное. Но проиграть самому себе — это подло.
And in This Corner… был полным провалом. До этого у нас было три миллиона проданных пластинок, трижды платиновый альбом и самая первая в истории статуэтка «Грэмми» за рэп. В нас очень много вложили и от нас очень многого ждали. И мы все профукали.
Мы понимали, что альбом пролетел мимо цели, но по-настоящему осознали это, когда снова поехали на гастроли. Людей в публике стало меньше, и они стали менее приветливые. Они больше не подпевали нашим текстам, а выплаты за концерт сократились почти на 70 %. Мы утешали себя мыслью о том, что все это ради «рекламы».
Дела были плохи, но я не представлял, что сделать и как все исправить. И конечно, я не ожидал, что все станет настолько ужасно.
В то время мы с Мелани жили на грани между блаженными былыми днями любви и надежд на будущее и неминуемо наступающим временем обид, ссор и разрушения. Любовь тихо ушла, и мы продолжали жить в одном доме, но старались не пересекаться. Разговоры стали пустыми, еще не злобными, но уже лишенными доброты. Эта изощренная пытка, когда ты знаешь, что все идет к концу, но конец никак не наступает.
Мы с Чарли проводили все больше времени в Лос-Анджелесе.
Стоило мне приземлиться, как Таня уже встречала меня в аэропорту с арендованной машиной, ключами от отеля, бронью ресторанов и всем необходимым. Девчонки в Лос-Анджелесе всегда казались деловыми и организованными. Они всегда хорошо соображали и постоянно гнались за какой-нибудь мечтой или возможностью. Что-то в самой культуре города было благодатной почвой для стремлений и роста. Таня никогда меня ни о чем не просила, она просто так мыслила. С ней мне было спокойно и комфортно.
Мы были знакомы уже почти год, но еще даже ни разу не поцеловались.
Я смутно чувствовал, что Таня и Лос-Анджелес в будущем сыграют важную роль в моем выживании. Наверное, я подсознательно высматривал маяк и шлюпку при виде шторма, который сгущался на горизонте. У меня в голове звучал голос Джиджи: будь добр ко всем людям — никогда не знаешь, когда встретишь их снова.
Становиться знаменитостью — самое классное, что может с тобой случиться в материальном мире. Быть знаменитостью в целом неплохо, но вот терять славу — полный отстой.
Я видел зловещие предзнаменования. Аплодисменты публики сменились тишиной. Деловые партнеры, которые раньше перезванивали через пару часов, теперь молчали по две недели или не отзывались вообще. Хуже того, моя кредитка еще не треснула пополам, но уже нехило так прогнулась. Во всей этой разрухе мой внутренний компас продолжал указывать на запад.
Чарли это тоже чувствовал.
Он взял на себя задачу рыть, толкать и льстить — делать все в его силах, чтобы выкопать нам более приятное будущее. Стыд был Чарли неведом. Он знакомил меня вообще со всеми, до кого мог докричаться, даже с людьми, которых сам не знал.
— Литл Ричард! Литл Ричард! — завопил он как-то раз на церемонии награждения премией Soul Train.
Потом повернулся ко мне в полном восторге:
— Уилл, это Литл Ричард, он с Дайаной Росс… Пойдем сфотографируемся!
— Да ну, Чарли, они же разговаривают! Не лезь к ним! — сказал я, сгорая со стыда.
— Ты хочешь фотку или нет? Тебе надо светиться со знаменитостями.
С этими словами он потащил меня к Литл Ричарду и Дайане Росс и пересказал им всю мою дискографию.
— Вы точно слышали эту песню — она «Грэмми» получила! У вас тут чисто клуб получивших «Грэмми»!
Чарли Мэк громаднее большинства людей, и уж точно больше, чем охрана большинства людей. Когда он решал, что чего-то хочет — сфотографироваться или поговорить — все обычно перед ним расступались.
Лос-Анджелес показал мне, как ограничена моя слава. В мире хип-хопа я был звездой, но в Голливуде я был никем. На матче «Лэйкерс» я был никем. В ночном клубе «Роксбери» я был особенно никем. Вот когда Эдди Мерфи заходил на огонек, он ставил всех на уши. Это отрезвляло меня и спускало с небес на землю.
Помню, как однажды в Лос-Анджелесе вашингтонская гоу-гоу банда Experience Unlimited выступала в Палладиуме. Они разогревали нас в 1988 и 1989-м, и мы подружились с их вокалистом по кличке Шуга Бер и всеми остальными. Спайк Ли как раз вставил их песню Da Butt в свой фильм «Школьные годы чудесные», и они прославились на всю страну. Мы с Чарли решили временно перестать страдать от того, что были никем в Голливуде, и на вечерок окунуться обратно в мир музыки.
Мы пришли в «Палладиум» и задумали пролезть за кулисы. Толпы фанатов и фанаток уверяли вышибал, что двоюродный брат оставил им билет в кассе — обычное вранье, которое охрана даже не слушает. Чарли, как обычно, вышел вперед и заговорил за меня:
— Братан, я тут с Фреш Принцем.
— С кем? — спросил охранник, глядя через плечо Чарли на меня.
Я ненавижу корчить из себя знаменитость. В эти моменты все смотрят на тебя и ждут, окажешься ли ты достаточно известным, чтобы пройти проверку вышибалой. Ты находишься в подвешенном состоянии. А когда у тебя только что провалился альбом, твое положение особенно шаткое.
— Это Фреш Принц, мужик. Тот самый Фреш Принц, который с Джаззи Джеффом, — уточнил Чарли.
Вышибала посмотрел на меня так, будто просматривал список контактов у себя в голове, и… нет, меня там не оказалось.
— Если билетов нет, вам в конец очереди.
Прямо в эту секунду открылась дверь и высунулась голова Шуга Бера из E. U. Я совершил ошибку новичка и перестарался. Но его знакомое лицо показалось мне спасательным кругом в бездонном море моей ничтожности и неактуальности. Не подумав, я выпалил:
— Эй! Шуга Бер!
Шуга Бер посмотрел прямо на меня. Он явно узнал меня, и тогда я показал на охранника: чувак, скажи этому парню, чтобы он пустил нас внутрь.
Шуга Бер посмотрел на охранника и легонько качнул головой — нет. Осмотрев публику и не найдя в ней нужного человека, он развернулся и ушел обратно.
Пытаясь сохранить достоинство, я пошел оттуда прочь бесславной походкой бывшей знаменитости. Внутри у меня все кипело, но, в силу привычки, внешне я был абсолютно спокоен. Я не знал, куда иду, но шел — квартал за кварталом. Чарли не отставал. Мы молча брели несколько миль.
Что с нами случилось? С тех пор как мы вернулись с гастролей, Джефф засел в подвале у своей мамы. Когда в нашей карьере наступила зима, он решил залечь в спячку и отказался от возможности сыграть концерт в Африке и поехать на гастроли в Австралию. Я злился на то, что он прячется — мне его поведение казалось трусостью. Это особенно меня задевало: я-то всю жизнь боролся, чтобы не быть трусом. Я верил, что нам нужно преодолевать препятствия, которых становилось все больше, но не мог делать этого без него. Казалось, он меня предал.
Джей-Эл был недоволен тем, что мы с Чарли столько времени проводим в Лос-Анджелесе.
— Вы транжирите время — вам надо домой, чтобы мы могли вернуться в студию и начать записываться, — сказал он.
С Мелани мы почти не разговаривали. Тем вечером я бесцельно шел по пустым улицам Голливуда, никому неизвестный и ненужный.
Чарли Мэк был похож на старомодного тренера по боксу, чьего подопечного только что размазали в лепешку. Если бы мы не шли по Голливудскому бульвару, он бы точно брызгал на меня холодную воду, чтобы я остыл. Меня отправили в нокдаун, но я еще мог подняться.
Мы подошли к перекрестку, алая рука на светофоре словно говорила со мной. Замри. Остановись. Выдохни. Подумай. Потихоньку моя злоба ушла. Задумчивость перешла в трепет, а потом… в решительность.
— Этого больше никогда не повторится, — сказал я. — Обещаю.
Чарли не раскрыл рта, лишь кивнул головой. Он знал, что внутри меня происходит что-то великое. И он был согласен на все.
Загорелся зеленый, и мы пошли дальше.
Я не заплатил налоги.
Не то, чтобы забыл про них, просто… не заплатил и все. В январе 1990 года дядя Сэм решил, что я достаточно повеселился, и теперь пришел его черед.
Мой доход составил где-то 3 миллиона долларов, с которых полагалась доля государству. Дядя Сэм начинает жадничать уже где-то на миллионе, а на цифре, превышающей 2,3 миллиона, так и вовсе превращается в скупердяя.
Я сделал то, что делал со всеми своими проблемами в тот период жизни — свалил их на Джей-Эла.
— Стой, ты что, вообще не заплатил налоги? — спросил он.
Мы говорили по телефону, но я понял, что ему пришлось присесть.
Джей-Эл до сих пор остается самым бережливым, разумным и финансово ответственным человеком из моих знакомых. Он ни на что никогда не тратит денег. Никаких навороченных тачек, брюликов, поездок, никакого джакузи в спальне и тому подобного. Мы с Джеффом транжирили баксы направо и налево, а Джей-Эл так и жил в той же комнате, где вырос. На этот самый звонок он ответил мне по телефону, который стоял на кухне его мамы.
— Не-а, совсем нет, — ответил я.
— То есть совсем-совсем?
— Ага. Нет. То есть да. Совсем нет.
— Дебилы вы все конченые, — сказал Джей-Эл. — Вы понимаете, что это очень плохо?
В тот момент я не придал этому значения, но Джей-Эл говорил «вы», подразумевая коллективность дебилизма. Потом я узнал, что Джефф тоже не заплатил налоги. Хуже того, Джей-Эл не успел взять с нас свою долю, поэтому мы истратили не только все наши деньги, но и его тоже.
Короче, мы остались без гроша.
Джей-Эл нанял налогового консультанта (для меня и Джеффа — свои налоги он заплатил), назначил встречу, показал ему извещения о неуплате. Он также нанял бухгалтерскую контору «Гельфанд, Реннерт и Фельдман», чтобы они впредь обрабатывали наши гипотетические доходы.
Сначала пришлось продать все машины. Потом мои мотоциклы. Устанавливать стереосистему в машину ужасно дорого, а вот когда продаешь машину с этой стереосистемой, выгоды особой нет. Затем мы приняли мучительное решение — налоговая, консультант и бухгалтеры единогласно его поддержали: мне нужно продать дом в центре города вместе с бильярдным столом.
Я был богат и знаменит, только уже не богат и больше не знаменит.
Я был не просто на мели. Я попал в долговую яму. Стены вокруг меня рушились. Содом и Гоморра нравились мне гораздо больше, чем Иерихон.
Когда ты оказываешься на дне, происходит странная вещь: все, с кем ты когда-либо был не согласен, решают, что они были правы, а ты ошибался. Они важничают и упиваются тем фактом, что Господь наконец-то тебя покарал. У людей противоречивое отношение к победителям. Если ты слишком долго барахтаешься в дерьме и становишься аутсайдером, тебя почему-то поддерживают. Но не дай бог ты слишком много времени пробудешь на вершине — заклюют так, что мало не покажется.
Как-то ночью, в разгар одной из последних бильярдных партий на Мерион-роуд, Мелани спустилась по лестнице. Она выглядела сногсшибательно в темно-синей мини-юбке и такой же кожаной куртке. На ней были туфли на шпильках — она никогда не носила шпильки. В ушах большие серьги-обручи, которые я когда-то ей купил, а она забраковала. Безупречный макияж, никаких очков, глаза подведены. Декольте такое, что ее тетя со стыда бы сгорела. А я что, хуже ее тети?
Она процокала мимо меня. Чарли, Бэм, Баки и еще пара человек из JBM смотрели на нее, но никто ничего не сказал. Кодекс JBM требовал всегда с уважением относиться к чужим женщинам.
— Куда пошла? — спросил я и по-дурацки промазал по шару.
— Гулять, — сказала Мелани.
Какого хера она устроила это прямо сейчас? Неужели она и правда собирается закатить мне сцену в комнате, полной самых крутых гангстеров и убийц в Филли? Налоговая раздела меня до нитки, а она напялила шмотки, которые я же ей и купил! Да еще и промазать меня заставила!
БЗЗЗЗЗЗЗЗ.
— Куда гулять? — спросил я, пока Чарли готовился следующим ударом выиграть сотню баксов, которой у меня не было.
— Не знаю. — Она пожала плечами. — Гулять.
— Никуда ты не пойдешь, — сказал я, пытаясь не ударить в грязь лицом. — Иди в свою комнату.
— Сам иди, Уиллард, — ответила она, вышагивая к дверям.
— Только попробуй уйти, пожалеешь!
Мы долго смотрели друг на друга. С каждой секундой эта новая реальность затвердевала все сильнее. Я дал ей десять секунд, чтобы все исправить.
Девять, восемь, семь, шесть.
Чарли отправил шар в боковую лузу.
Пять, четыре, три.
Подводка. Декольте. Серьги.
Два.
— Пока, Уиллард.
Мелани ушла.
Через час я сидел дома один. Мы с Мелани больше не были на грани. Блаженные былые дни уступили обидам, ссорам и разрушению.
Мелани приехала на такси около двух часов ночи. Я ждал ее у входа. Я собрал все, что покупал ей — одежду, туфли, сумки.
Все, что хорошо горит.
Я облил все это жидкостью для зажигалок.
Наши взгляды встретились.
Я чиркнул спичкой.
ПУФФ.
Мы с Мелани больше никогда не виделись и не говорили вплоть до этого самого дня, когда я пишу эти строки. Я много лет пытался связаться с ней, но не получил ответа. Она стала жертвой одного из худших периодов в моей жизни. Да, мы были молоды. Да, мы обидели друг друга, но она не заслуживала того, как я с ней обошелся. Она не заслуживала такого конца.
Чарли Мэк был влюблен в Мими Браун, одну из величайших радиоведущих в истории Филадельфии. У нее был такой соблазнительный томный голос, прямо из фантазий любого подростка, да и на вид она была хоть куда. Чарли не упускал возможности затащить меня на радиостанцию. Я постоянно оказывался у Мими на WDAS FM, давая очередное интервью. Как будто Чарли вдруг стал моим публицистом, а контакт у него был всего один: Мими Браун.
Это было мое третье интервью с Мими за две недели. Она запустила новую передачу под названием Рэп Дайджест — у меня кончались вещи, о которых можно было бы поговорить, но Чарли казалось, что мы так и не докопались до истины.
— Боже, боже мой, Мими, говорю тебе, люди обожают ваши интервью! Телефоны просто разрываются от звонков! Давайте устроим еще одно! — романтично лепетал Чарли.
Мими еще на ранних стадиях стала поддерживать и продвигать нашу группу. Она одной из первых стала включать наши песни и продвигать хип-хоп на дневных радиопередачах в Филли. И она обожала местных ребят. В жару и в холод, на пике славы или в начале пути, ее студия всегда была домом, куда тебе была открыта дверь.
Все были в плюсе — Мими получала отличное интервью, я чувствовал уважение и одобрение, а Чарли имел возможность подкатить.
Ее студия была уютной маленькой звуконепроницаемой комнаткой с двумя стеклянными окошками. Люди на станции сновали мимо и подглядывали, кто же сегодня дает интервью. Когда к Мими приходили мы, народ стекался особенно бодро — мы постоянно смеялись и шутили, включали интересный набор хип-хопа и R&B, который для тех времен был просто революционным. Благодаря публике за стеклом казалось, что мы даем живой концерт.
Однажды днем я начал читать рэп вживую, что сейчас звучит неудивительно, но я вам клянусь, тогда от такого у всех челюсть отвисла — это был один из первых случаев на филадельфийском радио. Чтобы вы понимали, в те времена у многих радиостанций был слоган: «Только музыка — никакого рэпа!»
Публика за стеклом прирастала и приходила в экстаз — некоторые потому, что видели рождение новой эры, а другие, наверно, думали, что карьера Мими Браун рушится у них на глазах. Пока я выступал перед стеклом, внезапно до меня дошло… прямо передо мной, глаза в глаза, стоял Дана Гудман. Он услышал меня по радио и решил явиться.
Если ублюдка, которого ты ищешь, зовут Уилл, то он дома. Можешь идти его убивать.
Дана сверлил меня взглядом, абсолютно не выражая эмоций, и что-то шептал на ухо чуваку, с которым пришел. Чувак согласно покивал и направился к студийной двери. Я продолжал выступать, не отрывая глаз от Даны. Я пытался подать сигнал Чарли, но он уставился на Мими.
Дверь открылась. Человек вошел в студию и встал возле Чарли, чей гетто-радар сработал, как всегда, без перебоев. Чарли почти незаметно приблизился к человеку на расстояние удара — на Мими он уже не смотрел. Я закончил свой рэп. Публика захлопала. Мы с Мими сели, чтобы продолжить интервью.
— Ты должен сказать спасибо Дане Гудману, — закричал вошедший.
— Йоу, чувак, тихо, они в прямом эфире, — зашептал ему Чарли.
— Ты должен сказать спасибо Дане Гудману, — прокричал он еще громче.
— Братишка, давай разберемся снаружи. А тут надо молчать, — напирал Чарли.
Чувак положил ладонь на грудь Чарли, чтобы оттолкнуть его.
— Заставь его сказать спасибо Дане Г…
Не успел он начать издавать звук «у» в слове «Гудман», Чарли правой рукой дал ему прямо по башке, и та взорвалась, словно арбуз. Как будто Чарли выстрелил своим кулаком из пушки. Парень повалился на металлическую тележку с аудиокассетами, рассыпав их по всей комнате, и отключился. Чарли схватил нас с Мими и понесся на парковку для сотрудников.
— Чарли, там Дана, — закричал я.
— Бежим, не останавливаемся, — ответил Чарли.
Мы вышли через заднюю дверь на парковку, где Мими перехватила охрана радиостанции. Чарли закинул меня в машину, и мы скрылись.
До этого я никогда не бывал в тюремной камере. В ней было слишком мало места и слишком много людей. Откровенно говоря, мы все заслуживали лучшего.
Оказывается, в Пенсильвании существует допотопный закон — «статья о хозяине и рабе» — который гласит, что, если человек совершает преступление под контролем или находясь под прямым влиянием хозяина, этот «хозяин» несет ответственность за действия подчиненного или раба. Адвокаты того чувака утверждали, что из-за моих «доминирующих» отношений с Чарли я был повинен в его действиях. Чарли тогда даже не арестовали, хотя именно он сломал ему левую глазницу и непоправимо повредил роговицу глаза. Очевидно, его адвокаты решили, что у меня карманы глубже, поэтому с меня можно стрясти гораздо больше, чем с Чарли.
К их разочарованию, у меня не было ни цента. Однако, пока я сидел в тюремной камере по обвинениям в нападении с отягчающими обстоятельствами и без, преступном сговоре и оставлении в опасности, я наконец понял значение слов, которые так часто слышал: «пробить дно». Я буквально валялся на холодном каменном полу. Я потерял все, что заработал и чего добился. Даже любимую женщину. Я был сломлен. Лежа в позе зародыша и пытаясь понять, как докатился до жизни такой, я совершил чудовищную ошибку человека, который считает, что достиг дна: подумал, что хуже быть уже не может.
Надеюсь, никому из вас эта информация в жизни не пригодится, но если у вас вдруг есть такая возможность, не попадайте под арест в пятницу. Меня выпустили только утром понедельника, потому что в выходные не выпускают никого. Оттуда я сразу отправился на Вудкрест, чтобы навестить мамулю. Я с ней еще не разговаривал и был уверен, что она будет очень расстроена.
Самое странное, что при виде полицейских машин перед ее домом я даже не подумал, что они там могут быть из-за меня.
Один из моих друзей детства, Малыш Реджи, недавно стал копом. Он был просто хорошим дружелюбным парнем — вот бы все полицейские такими были. Мамуле он нравился, и весь район его уважал.
Когда я зашел в дом, мамуля с Реджи сидели на кухне. Она обняла меня…
БЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Черт, опять мое чутье. О чем же он тут рассказывает маме?
Мы с Реджи пожали руки, приобнялись и немного поболтали. Он слышал обо всем, что случилось с Чарли, и о моих выходных за решеткой.
— Ты не подумай, я против тебя ничего не имею, — сказал Реджи.
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
— Ага, спасибо, Реджи, я знаю, — ответил я.
— Я тебя кое о чем спрошу, только отвечай честно…
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
— Тебе знакомы эти имена?
Он назвал четыре имени. Все четверо были из JBM. Парни, с которыми я последние два года играл на деньги и не отбирал их машины.
Мое сердце бешено заколотилось, к горлу подступил ком.
— Может быть, а что?
— Уиллард, знаешь ты их или нет? — выпалила мамуля, видя меня насквозь.
— Слушай, — заговорил Реджи. — Я тебе помочь пытаюсь. Ты ведь в курсе, чем они занимаются? Кто они такие?
Я кивнул.
— Уилл, у тебя хорошо идут дела с музыкой. Ты зря связался с этими парнями. За ними следит ФБР, и скоро их накроют. Я слышал, что у федералов есть фотки — эти парни были в твоем доме, ты сидел с ними в машине. Ты знаешь, что брать у них деньги незаконно?
Я начал задыхаться.
— Ситуация довольно скверная, — продолжал Реджи. — Ты должен с ними порвать. Немедленно. Скоро ФБР к ним нагрянут, и если им удастся заодно отправить за решетку большую звезду рэпа, они будут только рады.
Лицо мамули было каменным, но внутри у нее извергался вулкан. Вот из-за таких вещей меня, дебила, и надо было отправлять в колледж.
— Ты ведь не ввязывался в их дела? Я не смогу тебе помочь, если ты не скажешь правду — твои руки чисты?
— Да, да, совершенно. Мы с ними только играли в бильярд и тусовались.
— Ну ладно. Тебе какое-то время лучше не высовываться. Может, стоит вообще уехать из Филли. Тут оставаться опасно.
Я позвонил Тане и попросился какое-то время пожить у нее. Она была в восторге.
Одна проблема — денег на самолет у меня не было. Моя неуязвимая кредитка в буквальном смысле была сломана. Мне ничего не оставалось.
Я позвонил Баки.
Мы встретились в парке Фейрмаунт. Я припарковался возле его BMW и запрыгнул к нему на пассажирское сиденье. Я обожал его тачку — там был CD-чейнджер на двенадцать дисков. В своей я мог позволить себе только шесть.
Я рассказал ему все — что федералы готовы их накрыть, что я переезжаю в Лос-Анджелес и ему тоже надо уносить ноги. Он усмехнулся, откинулся на сиденье, словно показывая, что знает — его жизнь была поездкой на американских горках, которая неминуемо должна была закончиться крушением. Он закрыл глаза. Мы сидели в тишине.
Было где-то шесть вечера. Самолет в Лос-Анджелес улетал через два часа.
Я ненавидел себя за то, что должен был попросить у него деньги.
— Слушай, Бак, мне нужно на что-то уехать в Лос-Анджелес… — почти прошептал я.
— Что ты там забыл? — спросил он, не открывая глаз.
— Точно не знаю. Просто город нравится. Там живет телочка, с которой у нас вроде клеится. Наш альбом провалился… Может, в актеры подамся.
— Это уж ты точно сможешь. — Он улыбнулся, словно прокручивая в голове мои выходки. — Прикольнее тебя я пацанов не знаю.
Тут уж он засмеялся в голос.
— Сколько нужно? — спросил он.
— Не очень много. На билет, жилье и транспорт.
— Лады, вот тут у меня десять косарей. Если нужно больше, можем сгонять до места.
— Не, этого хватит.
У Бака был потайной отсек под ковриком у водительского сиденья. Он достал оттуда десять тысяч долларов, затем потянулся на заднее сиденье, взял с него бумажный пакет, вытряхнул из него коробку пирожных и сложил туда деньги. Когда я потянулся за пакетом, он не отпустил его.
Он посмотрел мне прямо в глаза.
— Ты ведь понимаешь, что ты не лучше меня?
— Конечно, Бак, понимаю, — смущенно сказал я.
— Я такой же, как ты. Мы — одно и то же.
Он помолчал.
— Я мог бы делать всю ту же херню, что и ты. Просто я все просрал. Не в том месте я родился.
— Да, чувак. Это точно.
Баки выпустил мешок с деньгами из рук.
— Не упусти шанс, — сказал он.
— Даже не сомневайся, Бак. Я тебе все верну.
Он снова усмехнулся, словно уже зная, что деньги ему больше не понадобятся.
— Когда я снова встану на ноги, обязательно приезжай ко мне в Лос-Анджелес.
И опять он усмехнулся.
— Конечно, чувак. Обязательно.
Мы стукнулись кулаками.
Я улетел.
Три дня спустя Баки был мертв.
Глава 10
Алхимия
Таня сняла нам квартиру в районе Марина дель Рей. У нее был знакомый, у которого был знакомый… короче, аренда стоила всего 1300 баксов в месяц. Мне было в целом плевать.
В коричневом бумажном мешке, который вручил мне Баки, оставалось 7700 долларов. Его убили выстрелом в голову прямо перед домом. Свои же и подставили. Реджи сказал, что все сработало по классике — когда федералы поджимают, каждый становится сам за себя.
Я не выходил из квартиры несколько недель. Отчасти из страха, отчасти от усталости — я был в состоянии шока. Моя жизнь разрушилась.
Наверное, мое депрессивное и ослабленное состояние вызвало в Тане чувство сострадания — мы это никогда не обсуждали, но оба понимали, что она теперь моя женщина. Она взяла на себя всю работу по восстановлению моего духа. Таня со мной нянчилась, утешала и заботилась обо мне. Она плакала и скорбела со мной. Мы все время проводили вместе и болтали часами. Я познакомился с ее мамой и бабушкой. Она не умела готовить, зато хоть куда умела заказывать еду на вынос.
Мы влюбились друг в друга. Я мог бы просидеть с ней в той квартире всю оставшуюся жизнь.
Но вдруг, спустя несколько недель, словно сработал некий космический таймер, который не заметил я, зато прекрасно услышала она. Эта фаза закончилась. Таня переключила скорость, словно пьяный дальнобойщик, пересекавший техасскую границу.
— Все, хватит, — сказала она. — Пора возвращаться к жизни.
Я почувствовал, как ледяная волна реальности топит наше любовное гнездышко.
— Ты должен начать что-то делать. Перерыв — это хорошо. Он был тебе нужен. Но тот коричневый мешок почти опустел. Что ты собираешься делать?
— В смысле, делать? — Во мне начало расти раздражение.
— Что ты мог не понять в этом вопросе? — ответила она ровно с таким же раздражением. — Надо выбираться из этого состояния.
— И как ты себе это представляешь? — заорал я.
— Мне-то, блин, откуда знать! Не на кухне же сидеть целый день! Иди, не знаю… обратно к Арсенио!
«Шоу Арсенио Холла» было самым популярным ток-шоу в Америке. У него в гостях бывали все. Для знаменитостей это шоу было как Панамский канал — все дороги к популярности вели через него. Чарли таскал меня к нему уже несколько месяцев.
— Нам нужно быть в гуще событий, — говорил он.
После нашего с Джеффом успеха на «Грэмми» мы с Арсенио, можно сказать, подружились. Он пригласил нас на передачу, и я ему понравился.
— Да что мне делать у Арсенио?! — воскликнул я.
— Он же тебя любит! Отправляйся на передачу и знакомься там с людьми!
— Ты совсем сдурела. Приду я, значит, к нему на передачу и буду там стоять, как мудак, чтобы, может быть, внезапно с кем-нибудь познакомиться?
— А что, может быть, внезапно и познакомишься!
— Все, отстань от меня. Это тупая идея, и я не в настроении для такой херни.
Я все-таки приехал к Арсенио на передачу. Было где-то полпятого вечера, передача начиналась в пять. Оставалось полчаса на треп. Чарли Мэк чувствовал себя как рыба в воде.
— Йоу, чувак, тут сегодня Эдди выступает! Пойду позову его, — сказал он.
Эдди Мерфи в тот вечер был гостем передачи. Он знал меня — и все время называл «Юным Принцем». Вокруг Арсенио творилась магия. Многие считают, что Билл Клинтон стал президентом именно благодаря тому, что сыграл на саксофоне в его передаче. Майкл Джексон, Мэрайя Кэри, Майлз Дэвис, Мадонна — даже Мэджик Джонсон выступал у Арсенио через сутки после того, как объявил о своем диагнозе ВИЧ.
Стоя за кулисами, я чувствовал в воздухе электрические разряды, символизирующие новые возможности, — я словно оказался в волшебном лесу, где на каждом дереве висели спелые плоды. Это шоу было точкой воспламенения, нексусом, космическим садом возможностей, который Арсенио сознательно и целенаправленно культивировал. Если бы Таня мне так и сказала, я бы не повел себя, как мудак.
Мы с Чарли месяцами ходили туда почти каждый день. Он все время приставал к знаменитостям и через силу тащил их ко мне. Я знакомился со всеми подряд — политиками, актерами, музыкантами, спортсменами, продюсерами.
Бенни Медина занимался поиском талантов для студии Warner Bros. Records. Я не знал, кто он такой, но Чарли почему-то посчитал его достаточно большой шишкой, чтобы пристать и притащить. Бенни начинал с работы на Берри Горди, основателя лейбла Мотаун, а теперь, в Warner Bros., курировал крупных хип-хоп артистов, таких как Куин Латифа, Биг Дэдди Кейн и De La Soul. Ростом он был где-то метр семьдесят, коренастый, волосы кудрявые, коричневая кожа, шикарный костюм — было видно, что он считает себя крутым. Он умел расшевелить людей. Он был энергичен, всегда добивался цели и не тратил энергию по пустякам. Бенни улыбался, когда ситуация этого требовала — то есть большую часть времени. Но если кто-то шел наперекор ему или его артистам, он мог показать зубы.
— Уилл, познакомься, это Бенни Медина. Бенни, это Фреш Принц — ну ты его и сам знаешь, — сказал Чарли Мэк.
Бенни все знал о моей музыке. Мы поболтали о хип-хопе, о влиянии современных технологий на музыкальную индустрию, о будущем видеопроката. А потом, ни с того ни с сего, он спросил меня:
— А ты умеешь играть на камеру?
Играть? То есть выступать? Выполнять действия, которые вызывают радость и счастье у людей вокруг меня? Искажать собственный образ, чтобы скрыть настоящее лицо? Верить всем сердцем в истории, которые никогда не были и не могли быть правдой? Исполнять роль того, кем все вокруг хотят меня видеть?
Как правило, если кто-то о чем-то меня спрашивает, я всегда отвечаю «да».
— Да, конечно, а как же, еще как умею играть, да, сэр, — выпалил я, не жалея слов. — Да.
— Я так и подумал, — ответил Бенни. — По вашим клипам это заметно. Нам с тобой нужно кое-что обсудить. Будем на связи.
Я не придал особого значения его словам. В Филли мы над такими чуваками всегда угорали. Само слово «голливудский» для нас считалось синонимом неискренности. В Лос-Анджелесе такие моменты случаются постоянно. Я даже не вспомнил потом об этом разговоре. Однако эти три минуты «голливудской болтовни» окажутся одним из самых важных разговоров в моей жизни.
Бенни Медина — настоящий принц из Беверли-Хиллз.
Бенни был сиротой, который вырос со своими дальними родственниками в жилье для бедных в восточном Лос-Анджелесе. Подростком его приютила богатая еврейская семья его друга из Беверли-Хиллз. Бенни был афро-латиноамериканцем и угодил в старшую школу Беверли-Хиллз. Он был хорошим парнем, но разрыв между двумя культурами добавлял в его жизнь постоянное напряжение, конфликты… и юмор.
Когда я встретил его на шоу Арсенио Холла, Бенни Медина планировал перебраться на телевидение.
Вселенная работает не по законам логики, а по волшебству.
В человеческой боли и душевных страданиях во многом виновато стремление к поиску закономерности и порядка во Вселенной, которая по своей натуре нелогична. Наше сознание отчаянно требует, чтобы все аккуратно укладывалось в логическую цепочку, но законы логики не влияют на законы вероятностей. Вселенная работает по законам магии.
Через пару недель после той «голливудской болтовни» я был в Детройте. Джей-Эл устроил нам пару концертов, чтобы мы потихоньку вылезали из коллективной долговой ямы. Мы любили выступать на Джо Луис Арене — публика там всегда была энергичная. Нам пришлось заселиться в один гостиничный номер всей группой. Как ни странно, забиться такой толпой в одну крошечную комнатку было очень уютно. Джефф сидел в наушниках, придумывал биты. Омар смотрел телик. Чарли стриг ногти на ногах. Я ненавидел, когда он это делал — пол вокруг становился как хреновое минное поле, где еще и постоянно приходилось уворачиваться от шрапнели. Хотелось надеть защитные очки и противоударную каску.
Мы еще не знали, что это будет наше последнее совместное турне.
Джей-Эл ворвался в комнату.
— Йоу, вставай. Тебе Куинси Джонс звонит!
— Куинси Джонс? Мне?! Почему? Че я сделал?
Очевидно, я к тому моменту все еще не отошел от событий предыдущей главы.
— Ты общался с кем-то по имени Бенни Медина? — спросил Джей-Эл.
— Да, это чувак из Warner Bros.
— Ну вот, он работает с Куинси, — прошептал Джей-Эл, протянув телефон к моему лицу и чуть не выбив мне им зубы.
— А я говорил, — сказал Чарли.
— Добрый день, Мистер Джонс, мое почтение! — сказал я с такой интонацией, что вся моя семья гордилась бы. — Замечательно, сэр, спасибо, что спросили! В Детройте. Да-да, на Джо Луисе. Завтра у нас концерт.
— Йоу, чувак, че он там говорит? Нам не слышно! — сказал Чарли, временно приостановив свою бомбардировку.
— Шшшшш! — зашипел на него Джей-Эл.
— Не шипи на меня, Джей! Я ж взрослый мужик.
— Вот и захлопни свою взрослую пасть! — присоединился к ним Джефф.
— Эмм, пожалуй, — продолжал я. — А когда? Ой… ладно… Ну, да, конечно. До концерта я совершенно свободен. Спасибо. Спасибо вам, сэр. Хорошо. До свидания.
Я медленно положил трубку. Вся компания смотрела на меня, как будто ждала результатов теста на беременность.
— Куинси Джонс пригласил меня к себе на день рождения, — сказал я и самому себе, и всей комнате.
— Выступать? — спросил Омар.
— Не-а. У них с Бенни Мединой есть идея для телесериала, и они хотят обсудить ее со мной.
— Когда идешь?
— Сегодня.
День рождения Куинси Джонса совпал с вручением премий Soul Train Music Awards. Ему дали почетную награду за карьерные достижения, и он решил отметить оба повода в своем поместье в Бель-Эйре. Джей-Эл усадил меня на самолет из Детройта в три часа дня, и я прибыл в Лос-Анджелес уже к закату.
Все это было как-то сюрреалистично. От происходящего голова немного шла кругом. Мне пришлось лететь одному, что было для меня непривычно и не очень приятно. В пробке на шоссе по дороге из аэропорта у меня было время подумать — какого черта я вдруг еду домой к Куинси Джонсу?
От аэропорта до дома Куинси было примерно полчаса езды. Когда мы подъехали, нас встретил парковщик. У дома Куинси Джонса есть свои парковщики! Их было человек двадцать в ярко-красных костюмах — как будто вторглась британская кавалерия. Это меня шокировало почти так же, как долбаная завтрачная лошадь Сью-Эллен Юинг.
К моему приезду вечеринка уже была в разгаре. Там были все, от Стивена Спилберга до Тевина Кэмпбла. Стиви Уандер и Лайонел Ричи как раз подъезжали, когда явился я. Для меня это был перебор — я знал, что мне там не место. И ровно, когда мое хрупкое самомнение начало гнать меня оттуда, я увидел Бенни Медину — знакомое лицо, спасательный круг для меня, в очередной раз утопающего в собственной ничтожности и неактуальности, и т. д. и т. п.
— Эй, ты все-таки приехал! — крикнул мне Бенни.
Мне хотелось ответить ему: «Да, братан, а теперь иди в жопу, я сваливаю».
Вместо этого я сказал:
— Йоу, чувак, ты только курточку не снимай — сопрут тут же.
На Бенни была одна из тех курток от Версаче с рисунком в духе Пикассо. Он посмеялся, потянул ее за ворот и ответил:
— Если сегодня все пройдет без проблем, я ее тебе так отдам. Пойдем, познакомишься с Куинси.
Мне казалось, что все происходит слишком быстро. Могу я хотя бы выпить для начала? Или съесть что-нибудь типа тех квадратиков хлеба с сыром или лососем, или что они там едят. Блин. Вот прямо так и погонишь меня знакомиться с Куинси Джонсом, не успел я из машины выйти? Мне надо размяться, а не то ведь и коленку потянуть можно.
Основное празднество проходило в огромной гостиной — пара сотен голливудских звезд и толстосумов под двухэтажным потолком. Куинси принимал гостей, словно колдун в дизайнерской мантии с рисунком в виде клавиш пианино, нарисованных на левой половине. Бенни даже не успел меня представить, как мы с Куинси встретились взглядами.
— Эйййй! — закричал Куинси. — Ребята, Фреш Принц к нам пожаловал!
Я бы и смутился, да всем вокруг было как-то плевать. Но меня это не задело, потому что самому важному из всех было не наплевать. Такой Куинси человек — он любит компанию. Для него каждый человек совершенно уникален. Он не ищет себе знаменитых любимчиков, а совершенно искренне находит что-нибудь интересное в каждом человеке.
Куинси пронесся через всю комнату с распростертыми объятиями и схватил нас с Бенни в охапку.
— Добро пожаловать, дружище, добро пожаловать! — восторженно проговорил Куинси.
— Спасибо вам, мистер Джонс! У вас великолепный дом! — так же восторженно ответил ему я.
— Тебе тут нравится? Это же Бель-Эйр! Бенни все хочет, чтобы действие сериала происходило в Беверли-Хиллз, а я ему говорю — в жопу этот Беверли-Хиллз! На фоне Бель-Эйра Беверли-Хиллз выглядит как трущобы! Бенни тебе уже рассказал про сериал?
— Немножко. То есть он рассказал, что вырос в Уоттсе и потом переехал в богатую семью…
— А ты сам откуда? — спросил Куинси.
— Филли, — ответил я с напыщенной гордостью, присущей филадельфийцам, которые хотят показать, что наш город лучше вашего.
— Ой, обожаю Филли!
Он наклонился ко мне и прошептал:
— Со мной в Филли такие штучки происходили, что даже рассказывать не буду!
Он засмеялся и покачал головой, вспоминая свою буйную молодость.
— Тогда вот так, все идеально: твой персонаж будет из Филли. Уилл из Филли! И потом он переезжает в Бель-Эйр!
Тут он уже снова заговорил на полную громкость. Куинси к тому моменту уже явно был поддатый. Он был у себя дома в свой день рождения, еще и награду получил — черт возьми, Куинси, если хочешь быть громким и пьяным, будь!
— Брэндон! Брэндон! — закричал Куинси через всю комнату какому-то белому мужику лет сорока. Он выглядел неприметно и вел себя довольно сдержанно и спокойно, но когда говорил, все очень внимательно его слушали. То есть до тех пор, пока Куинси не огорошил всех вокруг, начав выкрикивать его имя.
Куинси помахал ему, подзывая:
— Брэндон! Теперь он у нас едет из Филли в Бель-Эйр!
Брэндон Тартикофф был главой теликанала NBC и управлял всем, что там происходило. Он решал, какие сериалы получат бюджет и какие выйдут в эфир. Он подошел к нам со своим коллегой, Уорреном Литтлфилдом (который в будущем займет должность Брэндона).
— Ребята, познакомьтесь с Фреш Принцем! — сказал им Куинси.
Мы пожали руки. Они посмотрели на меня таким взглядом, который я в то время еще не понимал, но сейчас знаю — это взгляд директоров, которые у тебя за спиной проводили о тебе переговоры на протяжении десятков часов, и все еще не до конца уверены, что хотят ради тебя рискнуть.
— Так, пожалуйста, минутку внимания! — завопил Куинси. — Мы тут проведем прослушивание. Пожалуйста, уберите мебель из гостиной!
Я смотрел по сторонам и думал — ух ты, прослушивание прямо на вечеринке, прикольно! Куинси мужик! Интересно, кого он будет прослушивать?
— Принесите Уиллу копию сценария Морриса Дэя, над которым мы работаем, — сказал Куинси.
Медленно и мучительно я начал вспоминать, что Уилл — это я. Так меня отец назвал. И раз отца тут не было, и никто больше не отозвался…
Тут до меня дошло. Куинси хотел, чтобы я прошел импровизированное прослушивание на глазах у самых известных икон Голливуда и директоров национальной широковещательной компании NBC, которая показывала «Шоу Билла Косби», «Чирс», «Золотых Девочек», «Закон Лос-Анджелеса» и «Сайнфелд». У меня подкосились колени. Диваны раздвинули, и кто-то вручил мне сценарий.
Я схватил Куинси за руку чуть сильнее, чем считалось вежливым.
— Куинси, подождите, я так не могу, — прошептал я ему на ухо.
Куинси невозмутимо посмотрел на меня, излучая пьяную радость.
— Продолжайте двигать, — скомандовал он присутствующим. — Я пока поболтаю с Уиллом в библиотеке.
Куинси Джонс разбирается в магии.
Он видит, что Вселенная — это бесконечная игровая площадка, полная волшебных возможностей. Он видит невероятный потенциал во всем, что его окружает. Его суперсила в том, что для Вселенной он является магнитом, который притягивает и проводит через себя волшебные молнии великолепия.
Куинси Джонс обладает невероятным чутьем на артистический талант. Он чувствует, когда собирается произойти нечто фантастическое. Он готовился к этому всю жизнь, изучая музыку, выступая на тысячах концертов, учась у великих мастеров, окружая себя самыми талантливыми исполнителями и артистами. Куинси говорил: «Все невозможно до тех пор, пока не станет возможным». Он научился создавать среду и наполнять ее энергией. Он считает себя «проводником». Его главная задача — сделать так, чтобы мы не пропустили чудо, не упустили волшебную возможность, которая для него была совершенно очевидна.
У Джиджи была похожая присказка — «не закрывайся от благословений». Возможности всегда окружают нас в изобилии, но мы можем их упускать или, что еще хуже, закрываться от них или отталкивать.
Она любила рассказывать библейскую историю о смерти Лазаря. Лазарь был другом Иисуса, и когда он сильно заболел и умер, его сестры, Марфа и Мария, сильно опечалились. Они послали за Иисусом, молясь, чтобы он скорее явился. Иисусу пришлось два дня идти по горячему песку с другого берега реки Иордан. Он и так был вымотан — всю неделю работал, проповедуя в пост. Когда он прибыл в Вифанию, Лазарь уже четыре дня как был мертв и похоронен. Подойдя к гробнице, Иисус увидел, что вход в пещеру был перегорожен камнем — так в те времена было принято хоронить людей.
Иисус разрыдался и возмущенно сказал — тут я немного перефразирую:
«Так, давайте-ка разберемся. Вы меня тут заставили переться пятьдесят гребаных фурлонгов — простите мой французский — до раскаленной Вифании, где фарисеи и саддукеи носятся вокруг как тараканы, пытаясь меня прихлопнуть, чтобы я вам тут устраивал чудо воскрешения ради восстановления вашей благословенной семьи, а сами не могли даже камень отодвинуть от пещеры? Я тут, значит, приди-воскреси, а сами камень убрать не могут, лоботрясы ленивые!»
Эту идею прекрасно понимал и Куинси. Чтобы случилась магия, в нее нужно поверить, приготовиться (отодвинуть камень — мы должны опознать и избавиться от вредоносных сопротивлений и препятствий внутри самих себя), а затем поддаться ей (не лезть под горячую руку и позволить магии делать свое дело). Куинси помогал людям сдвинуть свои камни с пути благословенного света, который постоянно пытается ворваться в пещеру. Вселенная сама хочет дать тебе чудо! Отодвинь чертов камень! Куинси двигал мебель, но пытался заставить всех нас — меня, Брэндона, Бенни, даже самого себя — сдвинуть наши камни с пути.
В библиотеке Куинси стояла мебель красного дерева и кожаные кресла с высокой спинкой. Не уверен, были ли его ковры из самой Персии, но выглядели они очень дорого. Больше о его комнате я ничего особо не помню, потому что меня ослепил блеск многочисленных статуэток «Грэмми», «Тони», «Эмми» и «Оскаров», рассыпанных по всей комнате, словно ножи для масла в лондонской гостинице. Над моим левым плечом висел постер фильма «Цветы лиловые полей»[2] с Опрой Уинфри. Над правым — плашка о продажах альбома «Триллер» Майкла Джексона. 48 000 000 проданных копий. Я мог бы написать слово «миллионов», но хочу, чтобы вы прочувствовали, сколько там ноликов. Майкл словно сам глядел на меня, стоя на носочках в своей фирменной позе из клипа «Билли Джин», спрашивая — а ты что будешь делать, Уилл?
Я присел. Куинси встал передо мной. Он делал так уже много раз. Это его работа. Он двигает камни за еду.
— Рассказывай, Филли. Чего ты хочешь?
— Куинси, я, я… не готов к прослушиванию, — залепетал я. — Когда вы позвонили, понимаете, я, ну, не знал, что мы тут будем делать и все такое.
— Всего пару сцен. Тут есть люди, которые почитают с тобой диалоги. Просто будь собой и расслабься.
— Куинси, не могу же я проходить прослушивание посреди праздника. Мне нужно время на подготовку.
— Ладно, понял. Сколько тебе нужно времени?
— Ну, может быть, неделя. Я найду учителя по актерскому мастерству и подготовлюсь, чтобы сыграть сцену, а не просто прочитать текст с бумажки…
Куинси подумал над моими словами.
— Ладно, значит, неделя?
— Да! Неделя — самое то!
— Хорошо. Знаешь, что произойдет через неделю? — спросил Куинси.
Но не успел я и слово вставить, как он продолжил:
— Случится что-нибудь непредвиденное на одной из передач, и Брэндон Тартикофф полетит в Канзас, потому что ему надо будет кого-то уволить. Ему придется перенести встречу еще на неделю.
— Ой, отлично! Две недели даже лучше, — заговорил я, совершенно не поняв намека.
— Ага, две недели. А потом Уоррен Литтлфилд вспомнит, что у детей в школе какое-нибудь собрание, которое он забыл вписать в расписание и не может перенести, потому что, если он не явится, жена его на куски порвет. Ему придется перенести нашу встречу еще на две недели.
— Ясно, — стало потихоньку доходить до меня. — Значит, через месяц?..
Куинси наклонился и посмотрел на меня совершенно ясными и трезвыми глазами.
— Но прямо сейчас все, кто должен дать зеленый свет нашему сериалу, сидят вон в той гостиной и ждут тебя. А ты всего лишь должен принять решение, которое повлияет на всю твою дальнейшую жизнь.
Я все понял. Я взглянул на Майкла, затем на Опру. Они посмотрели на меня в ответ. Мы знаем, малыш, это непросто.
— Ну так что будешь делать, Филли?
— Хрен с ним. Дайте мне десять минут.
Я не помню подробностей того прослушивания — у меня остался лишь смутный коллаж из шуток, смеха, импровизаций и экспромтов с Куинси, Брэндоном, Бенни. Это были двадцать волшебных минут, закончившиеся громовыми аплодисментами от всех присутствующих. Овации электрическим разрядом вернули меня обратно в настоящий момент, восстановив мое восприятие времени.
Куинси вскочил на ноги и резко ткнул пальцем в сторону Брэндона Тартикоффа.
— Тебе понравилось? — закричал Куинси.
— Да-да, понравилось, Кью, — спокойно сказал Брэндон, стараясь не раскрыть все карты.
— Вот не надо мне этого говна! Ты знаешь, о чем я тебя спрашиваю! ПОНРАВИЛОСЬ ТЕБЕ?
Брэндон знал, что Куинси имеет в виду.
— Да, Куинси. Мне понравилось, — уверенно и твердо ответил Брэндон.
— Ура! — Куинси заорал, хлопнул в ладоши и указал пальцем на другого человека. Это оказался главный юрисконсульт Брэндона, который был приглашен на вечеринку Куинси из «стратегических» соображений.
— Ты! — сказал Куинси человеку, который как раз кусал пиццу. — Ты адвокат Брэндона. Ты слышал, что он только что сказал. Пиши договор. Прямо сейчас!
Я подумал — блин, Куинси Джонс крут. Это даже не его адвокат! Он может заставить адвокатов других людей заниматься работой в среду в девять вечера посреди вечеринки!
Адвокат взглянул на Брэндона. Брэндон попытался вмешаться:
— Слушай, Куинси…
— НЕ НАДО ДУМАТЬ! — завопил Куинси. — Пиши мне договор СЕЙЧАС ЖЕ!
Брэндон сдался и кивнул своему адвокату, который тут же поднялся с места и пошел к лимузину с логотипом NBC, где и провел следующие два часа, составляя документ.
Дальше Куинси своим агрессивным пальцем, как волшебной палочкой, тыкнул в мою сторону:
— У тебя адвокат есть?
— Ну, не-а, нет, тут на вечеринке нету… — запинаясь, ответил я.
Куинси, полностью войдя в режим колдуна, развернулся на месте и указал пальцем на свою очередную жертву:
— Набери мне Кена Герца по телефону! Это новый адвокат нашего Филли!
(На секунду отвлекшись, скажу, что Кен Герц в тот момент находился в родильном отделении Седарс-Синайской больницы, где как раз появлялась на свет его первая дочь. Но когда ты — молодой адвокат с новоиспеченной семьей и вдруг получаешь в десять вечера звонок от Куинси Джонса, а родильное отделение находится всего в двадцати минутах езды от дома Куинси, ты примчишься через восемнадцать. Той ночью я познакомился с Кеном — он представлял мои интересы на переговорах с NBC и на каждой последующей моей сделке с тех самых пор. Он до сих пор мой адвокат. Дочку назвали Дани.)
Я ведь уже говорил, что Куинси подвыпил? Ему не обязательно было разговаривать со всеми с той громкостью, с которой он говорил, комната была не настолько большая. Мы все и так его прекрасно слышали. Но, возможно, он знал, что все это не для наших ушей — он орал, чтобы докричаться до самой глубины пещеры, перегороженной камнем, создавая и призывая вселенскую магию. Наверное, он так громко кричал, чтобы чудо не промахнулось мимо его дома.
— НЕ НАДО ДУМАТЬ! — повторял Куинси снова и снова. За следующие два часа он произнес это заклинание раз пятьдесят. Это был ответ на все вопросы, сомнения и раздумья, это было решение всех юридических проблем. Наконец, два часа спустя, Куинси Джонс, Брэндон Тартикофф, Бенни Медина и Уилл Смит вступили в соглашение о съемке пилотного выпуска телесериала, предварительно названного «Фреш Принц из Бель-Эйр[3]».
Это была история о том, как вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. И, если позволите, я хотел бы рассказать вам, как оказался принцем городка под названием Бель-Эйр.
Шестью неделями ранее я лежал в позе зародыша в нашем домике в Марине дель Рей, потерянный, напуганный, подавленный. Ни с того ни с сего Вселенная подарила мне новую семью: Джеймс Эйвери, Джанет Хьюберт-Уиттен, Альфонсо Рибейро, Татьяна Али, Керин Парсонс и Джозеф Марселл.
Джеймс Эйвери: дядя Фил. Метр девяносто три. 145 килограммов. Шекспировский актер. Фигура отца. Требовал от меня полной отдачи актерскому мастерству. «Здесь ты не рэпер — ты актер. Вот и веди себя, как актер». Большую часть следующих шести лет я провел, стараясь добиться его одобрения.
Джэнет Хьюберт-Уиттен: первая тетя Вив. Тройная угроза — певица, танцор, актриса. Во всем невероятна. Играла в мюзикле «Кошки» на Бродвее. Совесть нашего сериала. Без устали сражалась за уважительное изображение афроамериканцев на экране. Когда она ушла, наш сериал сильно пострадал.
Альфонсо Рибейро: Карлтон Бэнкс. Был актером с девяти лет. «Парень, танцующий чечетку». Бродвей, телевидение, кино. Непоколебимый соратник, отличный друг — он был со мной, несмотря ни на что. Давал мне лучшие советы («Чувак, я слышал, продюсеры обсуждают, как назвать твоего персонажа. Послушай моего совета: назови его своим именем, Уиллом Смитом. Потому что именем персонажа тебя будут звать до конца твоих дней», — Карлтон).
Татьяна Али: Эшли Бэнкс. Одиннадцатилетка, а все равно куда более опытная, чем я. Певица, танцор, актриса: «Улица Сезам», «Мы ищем таланты», «Эдди Мерфи без купюр», выступала с Сэмюэлом Л. Джексоном. Провела подростковые годы на съемочной площадке и в конце концов самообразованием доучила себя до Гарварда. Одна из самых дисциплинированных людей, которых я встречал.
Керин Парсонс: Хилари Бэнкс. После меня — самая неопытная. Уделала нескольких голливудских тяжеловесов, чтобы получить свою роль. Была достаточно умной, чтобы послать меня на хрен, когда я пытался ей объяснить, что мы на самом деле не родственники, поэтому нам с ней можно встречаться («Я клянусь, на нашу работу это никак не повлияет», — с ней это не прокатило. Она видела меня насквозь. Молодец, К. П. Правильно сделала.)
Джозеф Марселл: Джеффри Батлер. Королевская шекспировская труппа. Театр «Глобус»: «Отелло», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», Солли Два Короля в «Жемчужине океана» Августа Уилсона. Продюсеры «Принца» разрывались между ним и другим актером. Я потребовал его: «Хочу, чтобы взяли Джозефа Марселла».
В голливудских терминах планирование, кастинг, написание сценария, подписание контрактов, декорации, съемка, монтаж и выход в эфир «Принца из Беверли-Хиллз» были чем-то на грани невозможного. Сериалы так быстро не делаются. Все прошло как по маслу. Вечеринка у Куинси состоялась 14 марта 1990 года. Подготовка сценария, прослушивания, окончательный кастинг и подписание контрактов были завершены к концу апреля. Набор персонала, создание декораций, костюмы — все это было готово, и мы приступили к съемкам пилотного выпуска в середине мая. Серию смонтировали и протестировали на фокус-группах в конце июля. В августе нам официально заказали сезон, а 10 сентября 1990 мы вышли в эфир.
Никто ничего не обдумывал.
Я был в полном восторге.
Я нашел свое дело. Мир актерства раскрыл во мне все артистические импульсы. Наконец-то мне подвернулся достаточно большой холст, чтобы вместить мое бескрайнее воображение. Музыка всегда казалась мне ограниченной и узконаправленной, не раскрывавшей весь мой потенциал. Создание музыки было для меня как жизнь в симпатичном районе, а актерство — как путешествие через бескрайнюю Вселенную. В качестве актера я мог оказаться кем угодно, отправиться куда угодно, делать что угодно. Мировой чемпион по боксу, летчик-истребитель, тренер по теннису, защитник галактики, коп, адвокат, бизнесмен, доктор, любовник, проповедник, джинн — в какой-то момент я побывал даже рыбой. Актерство охватывает все вещи, которыми я являюсь — рассказчик, исполнитель, комик, музыкант, учитель.
Не поймите меня неправильно: мне очень нравится сочинять музыку. Но актерство я люблю.
Мамуля была заядлой читательницей. Каждый свободный миг она проводила, листая страницы Эдгара Аллана По, Агаты Кристи, Тони Моррисон, Стивена Кинга, Майи Энджелоу, Шерлока Холмса или автобиографии Сидни Пуатье. Она часто говорит, что книга «задела ее за живое», или «захватила так, что она не могла остановиться». Книги проникали в нее и меняли ее взгляд на жизнь, а со мной такого никогда не случалось. Мне было далеко за двадцать, когда я впервые в жизни прочел книгу от корки до корки.
«Алхимик» бразильского автора Пауло Коэльо был моей первой литературной любовью. Эта книга задела меня за живое и захватила меня так, что я не мог остановиться. Она проникла в меня и поменяла мой взгляд на жизнь.
«Алхимик» — это история молодого андалусского мальчика-пастуха по имени Сантьяго. Ему постоянно снится сон о сокровище, захороненном у пирамид Гизы в Египте. Этот сон так манит его, что он продает все свое стадо, покидает юг Испании и отправляется по зову сердца в Египет, в поисках того, что Пауло Коэльо называет «личной легендой» — его божественного зова, судьбы, дхармы.
Но путь Сантьяго оказывается непростым. Я болел за него, переживал, насмехался над ним, пока на пути его любили, ненавидели, помогали, мешали. Я чувствовал себя Сантьяго, а мое сокровище закопано где-то под знаком Голливуда. «Алхимик» — это, пожалуй, та книга, которая повлияла на меня сильнее всего. Она придала сил моему духу мечтателя и оправдала мои страдания. Если Сантьяго может пережить страдания и найти свое сокровище, смогу и я.
Алхимик — это духовный химик, мастер трансмутаций. Великая способность алхимика заключается в том, что он может добиться невозможного: превратить свинец в золото. Эта концепция взорвала мое сознание — возможность взять то, что дала тебе жизнь, и превратить это в золото.
Джиджи могла взять полстакана виноградного сока, смешать его с последней каплей ананасового сока, насыпать туда пару пакетиков растворимого лимонада, нарезать лимон и вторую половинку апельсина, который она только что ела, перемешать это все с банкой имбирной газировки, заморозить всю эту мешанину и дать тебе самую офигенную мороженку, которую ты когда-либо пробовал. И это после того, как ты пять раз залезал в холодильник и ныл ей, что там пусто.
Куинси Джонс — алхимик, и он зажег мое сознание. Других таких людей я не встречал. Я тоже хотел быть алхимиком. Я хотел превратить в золото то, что дала мне жизнь.
Вселенная дала мне второй шанс. Богом клянусь, третий мне не понадобится.
Глава 11
Адаптация
Джей-Эл отказался приезжать в Лос-Анджелес.
Вся эта замута с телевидением смущала его — события были слишком быстрыми, необычными, непонятными. Я сходил на день рождения к Куинси Джонсу, а на следующий день уже снимаюсь в сериале? У нас не было ни плана, ни стратегии, мы еще не восстановились после катастрофического финансового и творческого провала Джаззи Джеффа и Фреш Принца. А я уже хочу, чтобы Джей-Эл собирал вещи и переезжал в Лос-Анджелес, потому что Куинси Джонс оказался каким-то… колдуном?
Мы с Таней сняли новую квартиру в Бербанке, откуда можно было пешком дойти до NBC. Я посвятил всего себя телевидению. И созданию крутого пилота.
— Чувак, ты чего! Ты должен быть в студии и делать свою работу, — заклинал Джей-Эл.
— Джей, говорю тебе, наше будущее — здесь! Музыка загнулась.
— Ну, это неправда… Но все свои задачи я могу выполнять и из Филли.
— Джей, ты не врубаешься — тебе нужно сюда. Тут нет никакого графика встреч, никакой системы. Люди принимают решения на днях рождения и в гребаных закусочных.
Джей-Эл знал обо мне все. Он видел во мне — иногда до сих пор видит — импульсивного творца, которого нужно защищать от самого себя. Он считал себя последним оплотом здравого смысла, который не давал Уиллу утянуть всех за собой с обрыва в бездну. Джей-Эл не переносил такой неопределенности и ураганных перемен, которые, как ему казалось, не давали нам подняться на ноги.
Омар переехал сразу же. Чарли приезжал ко мне каждую неделю.
(Забавный факт о «Принце из Беверли-Хиллз»: в заставке сериала, где я «повздорил с бугаями, маму напугал», бугай, который крутит меня в воздухе перед моим отъездом в Калифорнию — это Чарли Мэк).
Я решил убедить Джеффа переехать в Лос-Анджелес — тогда-то Джей-Эл увидит, что не хватает только его. Поэтому, даже не предупредив Джеффа, я пошел к продюсерам NBC и предложил им персонажа, которого он мог бы сыграть в сериале. Я сказал, что это мой партнер по музыке, еще большая звезда в мире хип-хопа, чем я — и наши фанаты сдуреют от счастья, если увидят Джеффа на экране.
Конечно же, они сомневались насчет того, чтобы добавлять еще одного дилетанта из Филли в ситком, выходящий в прайм-тайм. Но я снова потребовал. Они неохотно согласились «опробовать» его в шести эпизодах — четвертинке первого сезона.
На радостях я набрал Джеффа, чтобы поделиться новостями.
— Ой, спасибо, чувак, — ответил он, — но как-то неохота мне сниматься по телику. Это твоя тема. Я больше по музыке.
Я опешил.
— Джефф. Музыкой можно и в Лос-Анджелесе заниматься. У них там студий, как у нас магазинов с выпивкой или там церквей. А тебе еще и предлагают десять кусков за эпизод. Это ж легкие бабки, мужик.
Тишина.
— Джефф?
— Да че-то неохота… Не тянет меня в Лос-Анджелес. Я Филли люблю.
Я хотел заорать: ты че ломаешься? У тебя денег — ни цента, ты живешь в подвале у своей мамы. У тебя нет выбора.
Но вместо этого я ответил только:
— Ну как скажешь. Я тебе потом тогда звякну.
Перемены часто пугают, но избежать их невозможно. Наоборот, непостоянство — это единственное, на что точно можно положиться. Если вы не желаете или не можете изменить курс и подстроиться под непрекращающиеся переменчивые течения жизни, жить вам не понравится. Иногда люди пытаются играть картами, которые они хотели бы иметь, вместо того чтобы использовать колоду, которую им сдали. Подстраиваться и импровизировать — возможно, самая важная способность человека.
Одна буддийская притча провела меня через множество рискованных перемен. Как-то раз человек стоял на берегу опасной бурной реки. Был сезон дождей, и если бы он не перебрался на другой берег, для него все было бы кончено. Он быстро построил плот, чтобы пересечь реку без угрозы для жизни. В радостном облегчении он хлопнул в ладоши, подобрал плот и направился к лесу.
Пока он шел через густо растущие деревья, плот бился о стволы и путался в лианах, не давая ему продвигаться вперед. У него был всего один шанс на спасение, но для этого ему нужно было бросить плот. Иначе то самое судно, которое вчера спасло ему жизнь, убьет его.
Плот символизирует собой наши устаревшие идеи и потерявшие актуальность взгляды, которые больше не приносят пользы. Например, злобная и агрессивная сторона личности, созданная в детстве, чтобы защищаться от хулиганов и хищников, теперь уничтожит все ваши отношения, если от нее не отказаться. Некоторые вещи жизненно необходимы и чрезвычайно полезны в определенные периоды нашей жизни. Но приходит время, когда их нужно либо оставить позади, либо умереть.
Проще говоря, адаптируйся или умри. Я считал, что Джей-Эл и Джефф, которые выбрали Филли, вынесли себе смертный приговор. И знал, что не допущу этого.
Перед «Принцем из Беверли-Хиллз» с самого начала возникло много препятствий.
Обычно сериал такого масштаба одобряют за девять месяцев. Но из-за урезанного, практически невыполнимого графика съемок приходилось принимать решения на ходу на всех этапах производства. В отсутствие Джей-Эла место менеджера занял Бенни Медина. Он рулил всем, что касалось «Уилла Смита». Бенни знал свое дело и умел добиваться своего. Но у меня душа болела, потому что Джей-Эла и Джеффа не было со мной в Лос-Анджелесе.
Они были мне необходимы, поэтому я сделал ход конем: сказал Джей-Элу, что запишу новый альбом, если он согласится каждый месяц проводить в Лос-Анджелесе неделю. Я не считал, что музыка сыграет какую-то важную роль в моем будущем, но ему этого не сказал. Я просто без него не мог.
Оставалось убедить Джеффа.
— Слушай, чувак, ну отсними три эпизода. Если не понравится, всего трешечка останется. А если понравится, подыщешь жилье, а продюсеров мы уломаем на новые серии с тобой. И музыку сможем писать! Ну что плохого может случиться? Получишь минимум 60 тысяч за то, что засветился в сериале, а это значит только одно — телочки.
Точно не знаю, какой именно аргумент подкупил Джеффа, но мне было все равно — он согласился.
(Забавный факт: персонаж Джеффа стал одним из любимцев публики, и ему самому тоже понравилось сниматься. Его коронным номером был момент, когда дядя Фил вышвыривает его из дома. Во время съемок пилотного эпизода никто не знал, останется ли этот фрагмент, поэтому у нас был всего один дубль с летящим Джеффом. Интерьер особняка в Бель-Эйре и его двор — это два разных места, и на натурную съемку у нас был всего один день. Поэтому нам пришлось раз за разом использовать один и тот же дубль в последующих эпизодах. Так что знайте: если Джефф приходит в бело-коричневой футболке с ацтекским узором, в этой сцене его вышвырнут).
Премьера «Принца из Беверли-Хиллз» состоялась 10 сентября 1990 года, и успех был мгновенным — сериал дебютировал с самым высоким рейтингом в том сезоне. А это значило, что новые сезоны точно будут.
Возможностей становилось все больше, но, несмотря ни на что, Джей-Эл по-прежнему относился к этой затее скептически. Даже через год, когда нас каждую неделю стали смотреть десятки миллионов человек, Джей-Эл не съезжал из комнаты в мамином доме. Опять же, его можно понять — едва ли годом раньше у него на глазах я спустил в трубу три миллиона долларов, не уплатил ни цента налогов, утопил Джаззи Джеффа и Фреш Принца в ромовом пунше с куриными наггетсами, а затем беспечно упорхнул в Лос-Анджелес, чтобы стать телезвездой.
Если представить это в таком свете, поражает уже то, что он вообще продолжал со мной общаться. Но нельзя было отрицать очевидное: сериал стал хитом, железо раскалилось, и пришла пора его ковать.
Я дождался новой жизни и был счастлив получить еще один шанс. Но личный и профессиональный крах преподал мне суровый и важный урок: ничто не вечно. Все приходит и уходит — каким бы жарким ни было лето, холодной зимы не избежать. Я пообещал себе, что никогда больше не позволю застать себя врасплох. Я буду искать «следующий этап», пока у меня все хорошо. И если я буду по-настоящему следить за подвижками в индустрии, мне удастся идеально перейти к «следующему этапу», как раз перед тем, как предыдущий канет в Лету. Когда-то обжигающе горячая, моя музыкальная карьера теперь совсем остыла, и я знал, что то же самое однажды произойдет с телевидением. Скоро я засияю — но впереди ждет только холод. Я спросил себя: чем я буду заниматься после телевидения? Ответ был один: кино.
Но также я сделал более глубокий, более спорный вывод: любовь и отношения также подвержены вселенскому закону непостоянства. Я поклялся, что никогда больше не буду слепо влюбляться. Мне разбили сердце, и я был уверен, что это повторится вновь. Однажды состоится блаженная весенняя встреча, жаркий летний ураган страсти, меланхоличная осень, а затем ледяная зимняя гибель. Я решил, что моей единственной защитой от этой жестокой космической неизбежности может стать лишь изворотливость, с которой я могу обмануть этот разрушительный цикл. Я представлял себя Тарзаном, хватающим новую лиану ровно в тот момент, когда отпускает старую. Если я смогу поймать что-то новое, в тот же миг отпустив умирающие отношения, это позволит мне избежать суровой зимы и вечно наслаждаться весенним блаженством.
Телевизионные ситкомы — это, бесспорно, самая-пресамая лучшая работа на свете.
На производство одного эпизода отводилось пять рабочих дней. В понедельник мы зачитывали сценарий — актеры, продюсеры и сценаристы садились за стол и читали текст вслух. Все давали комментарии, и за ночь сценаристы готовили чистовой вариант. Во вторник и среду шли прогоны: актеры на сцене пытались вдохнуть жизнь в слова. Именно эта часть делает ситкомы лучшей работой на свете. Нам платят за то, что мы смеемся, шутим, играем, творим, обсуждаем, растем и любим друг друга. В конце каждого дня мы отыгрываем все перед сценаристами и показываем, что мы придумали, а они за ночь вносят правки и улучшают сценарий.
Четверг — день технического прогона. Свет, звук, камеры — все выясняют, как будет сниматься сцена. А потом… пятница: съемки перед живой аудиторией.
По пятницам съемочная площадка «Принца из Беверли-Хиллз» превращалась в самый шикарный клуб в городе. На наши съемки приходили все: самые смешные комики, самые роскошные голливудские старлетки, профессиональные спортсмены, музыканты — лучшие из лучших, моднейшие из моднейших.
А еще там было наше уникальное конкурентное преимущество — весь наш актерский состав умел петь и танцевать. Поэтому в перерывах между сценами Альфонсо исполнял Майкла Джексона, Джо Марселл пел какую-то неизвестную и смешную песенку из британского сериала, Джеймс Эйвери изображал старомодные танцевальные па. Джанет Хьюберт-Уиттен училась танцевать у Алвина Эйли и окончила Джульярдскую школу по классу танцев и вокала. Даже одиннадцатилетняя Татьяна присоединялась к веселью. И тогда, как будто этого было мало, чтобы вызвать у публики истерию, мы вытаскивали свой главный козырь: Джаззи Джефф и Фреш Принц выступали вживую каждую пятницу. Наши перерывы между съемками ничуть не уступали тому, что мы делали на камеру.
Это был рай. Новая семья, новый дом, новая жизнь.
В сообщении говорилось — мне нужна доля с Уилла Смита.
Джей-Эл получил это сообщение от печально известного гангстера из Лос-Анджелеса, славящегося своим шантажом, жестоким вымогательством и попытками запугивания. В Филли у нас были свои парни, которые с радостью приезжали и «разбирались» с такими вот недоброжелателями.
Но в Лос-Анджелесе было иначе. Здешняя повсеместная подлость выбивала нас из колеи. В Филли легко было избегать опасных зон — их было видно по неубранному мусору, по машинам на тротуарах, по заброшенным зданиям. В таких районах надо было держать ухо востро. И конечно, социальное жилье — все знали, что это такое. Но в Лос-Анджелесе в «худших» районах могли расти зеленые газоны и пышные пальмы. Угон машин при свете дня был обычным делом — нагнуть тебя могли в любом месте. Мы никак не могли понять, где нам ездить и что надевать… Опасность подстерегала повсюду. В Филли никто из нас не носил оружия, а в Лос-Анджелесе мы все ходили с пушками.
Джей-Эл получил уже пять сообщений. Мне нужна доля с Уилла Смита. Тебе стоило бы ответить. Мы слышали рассказы о том мужике — он просто выбивал из людей деньги, силой заставляя отстегивать ему отчисления. Мы были новичками в Лос-Анджелесе и не хотели проблем. Но проблемы сами легко могли нас найти.
Джей-Эл решил ответить на звонок.
— Это Джеймс Ласситер. Чем я могу помочь?
— С тобой нелегко связаться, — сказал звонивший. — Я считаю, что мне причитается с дел Уилла Смита.
— Ладно, — ответил Джей-Эл и помолчал, прикидывая свой следующий ход. — Думаю, это возможно.
— Очень хорошо… — сказал его собеседник.
— Но у меня есть партнер, — прервал его Джей-Эл. — Я не могу принять решение один. Вам придется поговорить с ним.
— Хорошо, давай договоримся.
— Да, конечно, сейчас. Мой партнер работает в Федеральном бюро расследований, — спокойно сказал Джей-Эл. — Я вас соединю. И о чем бы вы ни договорились, я согласен на все.
Больше нам не звонили.
Угрозы — это одно. Открытая агрессия — совсем другое дело.
Но когда агрессия окружает тебя с детства, твой разум адаптируется и видит угрозы повсюду. Расслабляться нельзя никогда. Ты начинаешь одинаково реагировать на кажущуюся угрозу и на прямые нападки, хотя это совершенно разные вещи. Как говорится, лучше быть за решеткой, но живым, чем на воле, но мертвым.
Дело было в среду. Сцена никак не клеилась, и мы все это чувствовали — реплики казались неестественными и несмешными. Поэтому я взялся поправлять сценарий. Когда продюсеры явились и увидели мои «несогласованные» правки, они тут же позвонили начальникам теликанала, а те потребовали, чтобы мы все бросили и немедленно явились к ним в офис.
Бенни Медина, Джей-Эл, я и Джефф Поллак (телевизионный партнер Бенни) направились на «срочное совещание» в офис начальства. Там стояли два дивана друг напротив друга, между ними — деревянный журнальный столик и огромный стеклянный письменный стол у стены.
Продюсер стоял лицом к диванам, опершись на стол. Самой своей позой он выражал авторитет и недовольство. Мы вошли и присели, как нашкодившие школьники в кабинете директора. Джей-Эл с Бенни уселись на один диван, а мы с Джеффом Поллаком — на другой, лицом к ним.
Никаких формальностей, приветствий, просьб рассказать нашу версию событий.
— Так ты у нас большой начальник? — спросил меня продюсер.
Я не совсем понял вопрос, поэтому не ответил. Он начал обходить диваны по периметру. Вся эта сцена была похожа на эпизод из фильма «Нью-Джек-Сити», когда Уэсли Снайпс заставлял кого-то объяснить ему, как в жилой комплекс Картер умудрился проникнуть информант.
— Можешь по-всякому переделывать слова в сериале, да?
Он сказал это, стоя у меня за спиной. Я посмотрел на Джей-Эла: он что, собирается мне врезать?
Джей-Эл посмотрел на меня, будто отвечая: я за ним слежу. Пусть только дернется.
— Сотни миллионов долларов, множество партнеров, до хрена ветеранов индустрии… А ты, значит, решаешь, какие слова будешь говорить?
К этому моменту он уже обошел другой диван и стоял за спиной у Джей-Эла. Я посмотрел на Джея точно так же, как он до этого — на меня. Пусть только дернется.
Продюсер опять зашел мне за спину. Джефф Поллак, единственный белый парень в нашей группе, попытался объясниться:
— Боюсь, вас не посвятили во все подробности…
— Подожди, Джефф, я знаю все, что должен знать… — повысил голос продюсер из-за моей спины. — Я сто раз такое видел. Вы отсюда вылетите как пробка…
Перед Джей-Элом на журнальном столе стоял большой снежный шар весом в пару килограммов. Джей-Эл тихонько взял его и поставил себе на колени. Мы посмотрели друг на друга. Выражение его лица изменилось.
Командуй, братан.
Я подскочил и развернулся, вышел из-за дивана и встал лицом к лицу с продюсером.
— Че ты будешь делать, сучара? — ощерился я.
Джей-Эл тоже подскочил и замахнулся снежным шаром.
— Парни, парни, стойте, — попытался вмешаться Бенни Медина.
— А ну сядь, Джефф, — бросил Джей-Эл.
Джефф не понял, почему Джей-Эл с ним так резок, ведь он всего лишь встал вместе с нами. Но Джей-Эл держал в руке тяжеленный снежный шар, поэтому Джефф повиновался и сел обратно.
— Ты че, не видишь, с кем базаришь? — рявкнул я на продюсера.
Вспоминая тот момент, я понимаю, что у мужика в глазах читалось абсолютное повиновение, и он совершенно не понимал, что творится. Его явно никогда в жизни не называли «сучарой», и он совершенно не хотел получать по роже.
— Ты врубаешься, на кого бычишь? — Меня уже было не унять.
Я видел, что он и хотел бы ответить, да не понимал нашего жаргона. Че ты будешь делать, сучара?
— Уилл, э-э-э, мы с тобой неправильно друг друга поняли, — мягко сказал он, схватившись левой рукой за поясницу.
— В натуре! Не хрен тут стоять и орать на нас, как на ублюдков. Сядь, когда со мной разговариваешь.
— Но Уилл, — сказал он еще мягче. — Мне недавно сделали серьезную операцию на спине, и доктор сказал, что я должен стоять, когда…
— А ну сел, кому сказал, — рявкнул я.
— Но доктор, Уилл…
— САДИСЬ, ТВОЮ МАТЬ!
Он осторожно подошел к краю здоровенного письменно стола и облокотился на него рукой, поморщился и с мученическим выражением лица присел на краешек.
Бенни решил вмешаться.
— Так, все, вопрос решен. Парни, можете идти, — сказал он. — Джей-Эл, поставь шар на место.
Джефф подошел к продюсеру и махнул нам с Джей-Элом, чтобы мы вышли из офиса. Мы повиновались. Выходя, я услышал шепот Джеффа:
— Я очень извиняюсь.
— ВЫ ЧТО УСТРОИЛИ, А? — орал Джефф Поллак на всю парковку.
Это был единственный раз, когда Джефф при мне повышал голос.
— Чувак мне чуть не врезал, — сказал я, оправдываясь.
Я слышал фразу «рвать на себе волосы», но тогда впервые увидел это своими глазами. Джефф буквально схватил себя за волосы руками и потянул, как будто пытался выдернуть два пучка.
— Врезать тебе? Этот несчастный дед с больной спиной? Он вас в три раза старше!
Мы с Джей-Элом переглянулись. Пока мы были в кабинете, ситуация казалась очевидной, а когда все осталось позади, начали закрадываться сомнения.
— А че он тогда ходил вокруг? — спросил я в отчаянной попытке отстоять свою точку зрения.
— ДА ЧТО ОН МОГ С ВАМИ СДЕЛАТЬ, ЕЛКИ-ПАЛКИ? Ему только что прооперировали позвоночник!
— Парни, давайте выдохнем, — сочувственно сказал Бенни. — Мне надо позвонить Куинси.
Блиииииин, Куинси!
Я тут же помчался звонить ему сам.
— Куинси сейчас разговаривает, Уилл. Передать ему, чтобы он вам перезвонил?
Нет, блин, передайте, чтобы он сейчас же взял трубку и выслушал меня.
— Да, конечно, спасибо, — сказал я.
Прошло полчаса — худшие полчаса в моей жизни — и он, наконец, перезвонил.
— По-моему, я напортачил, — выпалил я.
— Ничего, все временами ругаются, — сказал Куинси. — Только не смей распускать руки. Мы поговорили, он не в претензии. Что случилось на площадке?
— Я изменил несколько реплик в сценарии, потому что меня заставляли говорить какую-то херню. Типа, так выражается парень из Филли. А я такой — нет, так не говорят…
— А, так у вас возникли творческие разногласия… — сказал Куинси.
— Видимо, у вас в Лос-Анджелесе это так называют.
— У тебя с собой сценарий?
— Да.
— Хорошо. Что написано на обложке?
— Эммм, — озадаченно протянул я. — «Принц из Беверли-Хиллз»?
— Верно. А кто у нас Принц? — рявкнул Куинси.
— Я, — сказал я.
— ВОТ ИМЕННО! Никто лучше тебя не знает, что ты должен говорить. Если бы они могли делать то, что можешь ты, тебя бы не наняли. Говори то, что хочешь сказать, так, как хочешь сказать. А если кто-то начнет возражать, отправляй их ко мне.
Мне едва исполнилось двадцать два, а Куинси Джонс уже позволил мне говорить все, что я хочу, на центральном телевидении. Он поставил меня выше продюсеров, сценаристов, рекламщиков и всех остальных.
Он поверил в меня.
— Слушаюсь, — ответил я.
Мы с Джей-Элом были поражены тем, насколько неправильно считали всю эту ситуацию со снежным шаром. Жестокость царила в наших домах, в наших районах и в нашем мире музыки. Вполне логично было ожидать, что и продюсер окажется жестоким. Мы чувствовали себя загнанными в угол и уязвимыми. Мы с Джей-Элом были на сто процентов уверены, что продюсер будет меня бить.
Удивительно, насколько искаженным становится твое восприятие, когда смотришь на настоящее через призму своего прошлого. Нам было очень тяжело психологически реабилитироваться и научиться класть на место снежный шар.
Ну а что касается моего уговора с Джей-Элом, мы с Джеффом вернулись к работе над нашим четвертым альбомом, который получил название Homebase — «На исходную». Но теперь мы снимались в сериале, и работать над музыкой приходилось по совместительству, ночами. Мы привыкли к неограниченным срокам — в прошлом мы давали себе месяцы на то, чтобы придумать, сочинить и записать музыку (и пожрать наггетсов). Но теперь сроки стали жестче, и мы должны были проводить каждую секунду сосредоточенно и целенаправленно. Как говорил папуля: «Можете заниматься какой угодно фигней, но только не на работе». Результат получился прямо противоположным всей ситуации с And in This Corner…: для Homebase мы написали в два раза больше песен за половину того же срока и на четверть того же бюджета. И эти песни были лучше.
Телевизионный успех снял с нас требование, которое раньше было обязательным — новая пластинка больше не обязана была стать хитом. Если альбом провалится, с нами ничего не случится — за жилье (и налоги) мы теперь платили тем, что зарабатывали в сериале. Мы снова могли просто хорошо проводить время, я был собой, Джефф был Джеффом, и мы оба вернулись к тому, что сделало нас классными. Мы вернулись на исходную.
Мы также впервые показали наш творческий процесс новым продюсерам и другим работникам индустрии. Я работал в Чикаго, заканчивал запись вокала для альбома с парой молодых продюсеров Jive Records по прозвищу Хула и Фингерс, а Джефф доделывал микширование в Нью-Йорке. В 6 часов вечера я должен был вылетать из Чикаго в Лос-Анджелес. Накануне мы с Хулой и Фингерсом тусовались всю ночь напролет, празднуя завершение работы над пластинкой, и я сорвал голос в клубе. По дороге в аэропорт я заехал в студию, чтобы взять в самолет пару копий компакт-дисков с нарезанным альбомом. Хула дал мне диск, я сунул его в рюкзак и пошел на выход.
Фингерс крикнул мне вслед:
— Чувак, мы тут еще с одним треком поиграли. Джефф сказал, что ему нравится. Он велел дать его тебе и посмотреть, не хочешь ли ты что-нибудь быстренько начитать.
Я был измотан, голоса не было, я морально уже летел домой в Лос-Анджелес, а кроме того, альбом был закончен. Фингерс держал в руках диск, на котором маркером было написано «Без названия», и одна эта надпись меня уже возмущала. От мысли о необходимости записывать еще одну песню сводило живот. Нет, хватит с меня.
— Фингерс, братан, — сказал я. — Я тебя очень ценю, ты отлично поработал. Но я ужасно устал. Слышишь же, какой у меня голос. Я ничего не смогу начитать, даже если захочу. Чтобы заставить меня записать еще одну песню, диск мне должен вручить господь Бог, не меньше.
Парни посмеялись, но диск я из вежливости взял.
В аэропорт О’Хара я прибыл за час до вылета и обнаружил, что рейс 1024 в Лос-Анджелес задерживается на полтора часа.
Ну елки зеленые — почему так всегда? Чем сильнее хочешь домой, тем дольше задерживается рейс.
Я нашел тихий уголок, нацепил наушники и решил послушать песню «Без названия». Трек начинался голосом Фингерса, который тонул в безумной барабанной партии и нарастающем радостном гуле толпы.
- Барабаны в студию!!!
- Аа-а-а-а-а-а, йе-е-е-е-е!
А затем страстный женский голос:
- Лето, лето, летний зной
- Детка, отдохни со мной
«О-бал-деть».
Наверное, я выглядел как буйнопомешанный посреди аэропорта. У меня было такое лицо, которое делают музыканты, когда песня качает. Морщатся, будто рядом что-то сдохло. Я так качал головой, что она готова была оторваться и слететь с плеч.
Я быстро выхватил тетрадку из рюкзака, и следующие два часа были настоящим божественным откровением. Я не то что написал песню Summertime — я призвал ее. Мой разум провалился в блаженство филадельфийской летней поры. Я почувствовал, как плыву по волнам своих летних воспоминаний из детства, а моя рука записывает, едва поспевая за мной. Summertime — единственная песня, которую я разом написал от начала до конца, не исправив и не изменив ни словечка. На пластинку текст попал в своем первозданном виде. Это был чистый поток сознания. Позже я узнал термин, который полностью передает то, что я испытал в тот вечер в аэропорту: психография или автоматическое письмо. Это теоретически экстрасенсорная способность, которая позволяет человеку создавать текст бессознательно. Скептики называют это самообманом, а я — «очередной „Грэмми“» и «моей первой песней, которая поднялась на первую строчку чарта».
— Идет посадка на рейс 1024…
Блин.
Я знал, что эта песня — просто пушка. Но если я не запишу ее сегодня, она не попадет на альбом. Я слышал голос Куинси у себя в голове: ну так что будешь делать, Филли?
Хрен с ним.
Я подскочил, прыгнул в машину и помчался обратно в студию.
У меня почти не было голоса. Я был знаменит своим высоким, быстрым и веселым тоном, будто вечно улыбался. Но в ту ночь моему голосу не хватало энергии — он постоянно срывался. Хула и Фингерс все повторяли:
— Не переживай. Работаем с тем, что есть. Оставайся в нижнем регистре. Попробуй как Раким…
Именно такой совет и был мне нужен. Раким был абсолютно точно моим любимым рэпером на тот момент. Поэтому я успокоился и решил играть той колодой, которую мне сдали, вместо тех карт, которых у меня не было.
Мой вокал в Summertime шокировал мир хип-хопа. Песня вышла 20 мая 1991 года и за месяц поднялась на первую строчку чарта Hot R&B/Hip-Hop и на четвертое место Billboard Hot 100. Видеоклип мы записали дома в Филли с участием наших с Джеффом членов семьи и друзей.
Homebase стал платиновым за два месяца. Он получил награду American Music Award и отхватил нам вторую «Грэмми».
(Забавный факт: мы бойкотировали церемонию, на которой наша «Parents Just Don’t Understand» получила «Грэмми», а Summertime боролась за награду с оглушительным хитом O. P.P хип-хоп трио Naughty by Nature. Я был на сто процентов уверен, что мы продуем, поэтому не явился на церемонию. Теперь у Джаззи Джеффа и Фреш Принца было две «Грэмми», а я так и не засветился ни на одном вручении).
Тем временем в другой моей карьере…
Я заучивал реплики, как одержимый. В начале сериала я так боялся совершить ошибку, что запоминал весь сценарий — не только свои слова, но и всех остальных. Только это было способно унять тревогу: в моем потенциальном провале будет виноват кто угодно, но не я сам.
Короче, я перестарался. Я был настолько готов, что подсознательно шевелил губами на камеру одновременно с другими актерами.
К счастью, когда смотришь телевизор, происходит интересная вещь — глаза фокусируются на том, кто говорит. Это явление называется «слепотой невнимания». Вот как ее описывает Дэниел Саймонс в журнале Смитсоновского института: «Эта форма невидимости зависит не от возможностей глаза, но от ограничений разума. Мы осознанно воспринимаем лишь малую толику того, что видим, и когда наше внимание приковано к чему-то одному, мы не замечаем других, неожиданных вещей вокруг — включая то, что нам стоило бы видеть».
Прекрасным примером этого феномена может служить сцена из 5 эпизода первого сезона под названием «Кореш, милый кореш». Дон Чидл играет моего кореша из Филли по кличке Айс Трэй. Если присмотреться, можно увидеть, как я беззвучно произношу реплики Дона. Но несмотря на то что я стою на переднем плане и шевелю губами, как идиот, зрители раньше не замечали этого, потому что внимательно следили за говорящим актером — вот вам и слепота невнимания. Давайте, найдите эту серию и посмотрите, какой я придурок.
Керин выпала тяжкая доля рассказать мне эти постыдные новости. Конечно, я все отрицал и пришел в ужас (да так и не вышел из него), когда мне предоставили чудовищные доказательства моего позора. Я до сих пор не могу пересматривать ту серию.
Вот они собрались, все эти специально обученные мастеровитые гении актерства, и среди них тупой рэпер шевелит губами, вторя их словам прямо у них перед носом. Да еще и сериал назван в честь него.
Чтобы избавиться от этой безобразной привычки, мне потребовалось несколько недель. Мне приходилось чуть ли не прикусывать губу во время прогонов. Но я смог себя преодолеть.
Мало на кого я так хотел произвести хорошее впечатление, как на Джеймса Эйвери. Джеймс работал актером дольше, чем я прожил на свете. Он был моим образцом для подражания, вершиной актерского искусства. Я отчаянно хотел, чтобы он считал меня хорошим актером.
Но мне никак не удавалось впечатлить Джеймса Эйвери.
В сериале он играл персонажа, который заменял мне отца, и в реальной жизни постепенно тоже перенимал эту функцию. Он относился ко мне требовательно и постоянно заставлял меня оттачивать мастерство.
— Шутить ты можешь с закрытыми глазами. Это дано тебе природой, и на это приятно смотреть. Но твой талант гораздо глубже, хотя ты этого пока даже не представляешь — говорил он, многозначительно тыкая мне в грудь. — И ты никогда не докопаешься до него, если не приложишь усилий. Талант и мастерство — это разные вещи. Талантом наделяет Бог — ты с ним рождаешься. Мастерство приходит с пóтом, с практикой, с усердием. Не профукай эту возможность. Практикуй свое ремесло.
Я очень горжусь одним из самых известных эпизодов «Принца» под названием «Новая папина отговорка». По сюжету сериала родной отец Уилла по имени Лу, которого играет Бен Верин, возвращается в жизнь главного героя и проводит с ним время. Уилл в восторге от возможности снова пообщаться с отцом, но дядя Фил настроен скептически. Это приводит к расколу между Уиллом и дядей Филом.
Отец Уилла, дальнобойщик, приглашает сына летом вместе поездить по стране. Уиллу идея очень нравится, он решает пойти наперекор настояниям дяди Фила. Кульминацией эпизода становится отговорка отца Уилла, с которой он отменяет их совместную поездку и вновь исчезает, оставляя Уилла с разбитым сердцем искать утешения у дяди Фила.
Это была самая тяжелая драматическая сцена для моего персонажа за весь сериал. Я должен был работать лицом к лицу с Джеймсом Эйвери. Мастеровитые актеры получают удовольствие от сцен один на один с другими мастерами. Только вот я не был мастером — я был перепуганным мальчишкой в тени великана. Когда грядет сцена такого типа, актеры узнают об этом за многие недели, и все остальные тоже это знают. Ожидание портит тебе сон, аппетит, память, нервы. Во время драматических сцен атмосфера на площадке напоминает боксерский ринг в день призового боя. Все актеры и съемочная группа елозят на местах, с нетерпением гадая, получится у тебя или нет. А вот публика в зале ни о чем не подозревает. Тебе нужно их удивить и поразить.
Дело было вечером в пятницу. Публика собралась, эпизод шел гладко. И вот настало время финальной сцены.
Я репетировал день и ночь. Я думал, что готов. Но на первом дубле меня парализовало. Голова опустела, и я пропустил свою вторую реплику. Я нервничал и тужился, тараторил, жевал слова. Режиссер нас остановил, чтобы не испортить зрителям сюрприз. Но у меня сдали нервы.
— ТВОЮЮЮЮЮ МАААААААТЬ! — заревел я во все горло.
Вены на шее вздулись, кулаки крепко сжаты.
— ТИХО! — рявкнул Джеймс, привлекая мое внимание.
— Успокойся, — шепнул он.
А потом навел указательный и средний палец на свои глаза, подавая всем известный сигнал: смотри сюда.
Он наклонился к моему уху.
— Используй меня. Смотри мне в глаза и говори со мной.
Я провалился в его взгляд, как будто подключился к источнику его силы. Я смотрел, не отрывая глаз, пока он не почувствовал, что я достаточно зарядился. Джеймс не стал дожидаться режиссера — объявил съемку сам.
Следующий дубль вошел в серию.
Дядя Фил: Мне жаль. Ты и сам знаешь, если бы я только что-то мог…
Уилл: Нет, дядя Фил, не надо тебе ничего делать. Я же не пятилетний ребенок, в самом деле! Я же не буду каждый вечер спрашивать у мамы, когда папа придет. Да кому он сдался! Он меня не учил, как забить мой первый мяч в корзину. Но я ведь научился! И хорошо научился, да ведь, дядя Фил? На первую свою свиданку прекрасно сходил без него. Так? Научился водить машину. Бриться научился. Научился драться без него. Отметил без него четырнадцать прекрасных дней рождения. А он мне даже ни одной паршивой открытки не прислал! [Кричит в сторону пустой двери] ПОШЕЛ ОН К ЧЕРТУ!
Тогда он мне не был нужен, не нужен и теперь.
Дядя Фил: Уилл…
Уилл: Нет, знаешь что, дядя Фил? Я без него отучусь в колледже. Найду без него отличную работу. Сам себе отыщу красотку и женюсь. И у нас с ней будет целая куча детей. Я буду хорошим отцом, не то, что он. И он мне для всего этого не сдался, потому что он-то точно не сможет научить меня любить своих детей.
Тут Уилл плачет и говорит:
— Почему я ему не нужен?
Дядя Фил с любовью обнимает Уилла. Камера медленно фокусируется на статуе отца и сына, которую Уилл купил в подарок.
Держа меня в объятиях, Джеймс Эйвери шепнул мне на ухо:
— Вот теперь ты актер.
Глава 12
Желание
Чего он хочет?
Каждый актер обязан задать этот вопрос о персонаже, которого готовится сыграть, потому что все поведение персонажа основывается на том, чего он «хочет» или к чему стремится по сюжету. Желание — это портал в истинную суть его личности. Если хочешь понять, почему кто-то что-то сделал, нужно ответить всего на один вопрос: Чего он хотел? Актеру в первую очередь необходимо найти «систему желаний», которая пронизывает и иногда конфликтует с разумом персонажа, создавая его психологический вектор. Играть роль — все равно что создавать новую личность с чистого листа.
А вот когда достигнуто фундаментальное понимание того, что изначально движет героем, задается второй вопрос: Почему он этого хочет? Тут-то и заключен настоящий актерский кайф — но это уже потом.
Конфликт между желанием и препятствием — это квинтэссенция драматических историй (иногда препятствия идут изнутри — очень прикольно). В мире кино существует простое правило создания классного персонажа: кто-то чего-то сильно хочет и стремится заполучить это любой ценой (как вариант: кто-то проваливается в яму и пытается из нее выкарабкаться). Вспомните любой фильм, который вам нравится, любого персонажа, за которого вы когда-нибудь переживали — скорее всего, он хотел того же, что и вы, и преодолевал ради этого различные трудности.
То же самое справедливо и в жизни: скажите мне, чего вы хотите, и я скажу вам, кто вы такой.
— Что мы делаем, чувак? — ни с того ни с сего спросил меня Джей-Эл.
— В каком смысле?
— Вообще, в принципе. Столько людей вокруг, столько всего происходит — я так не могу. Если хочешь, чтобы я тебе помогал, мне надо понимать, с чем.
— Да все зашибись, Джей. Ты, наверное, просто не видишь.
— Нет, — настаивал Джей-Эл. — Я вижу. Я вижу, что у нас до фига всего, и нет никакой системы. Я вижу, что мы скоро наступим на те же грабли. И я не хочу действовать без плана. Мне надо знать, какая у нас цель.
Я его вопроса не понял. Мне показалось, что он просто боится. Я знал, что неорганизованность его пугает. Он был минималистом, практически аскетом — у него было очень мало одежды, в его комнате всегда царил безупречный порядок, и всему в его жизни находилось место и предназначение. А когда порядка не было, и он не мог за всем уследить, ему становилось плохо, тревожно и ни на кой черт все это не нужно. Поэтому я пытался подыскать простой ответ, которым получится его успокоить.
— Цель — не прозябать, Джей, — сказал я. — Иметь возможность веселиться, путешествовать и жить в свое удовольствие. И не дать налоговой раздеть нас снова.
— Ну, технически, это пять целей. В том-то и проблема. Какая мечта — главная? Что мы создаем? Чего ты хочешь? — выпытывал он.
Я никогда раньше не говорил об этом вслух. Я формулировал эти слова в голове, но никогда их не произносил.
Мамуля однажды выложила рядком штук пятьдесят детских фотографий нас с братом и сестрами, встала над ними довольная и спросила меня, не замечаю ли я чего. Я всмотрелся в фотографии, как детектив, который пытается раскрыть запутанное дело, но через несколько минут сдался.
— Нет, ничего не замечаю, мам.
— Посмотри на брата и сестер — на некоторых фотографиях они смотрят в сторону, корчат рожицы или прячутся у кого-нибудь за спиной. А теперь посмотри на себя. На всех фотографиях ты смотришь прямо в камеру.
Я всю жизнь умел работать на камеру. Мне нравится выступать. Мне нравятся камеры, и, что еще важнее, я тоже им нравлюсь. Втайне я мечтал об этом с самого раннего детства. Мне даже было неловко об этом мечтать. Я не заслуживал о таком мечтать. Но наедине с собой я всегда слышал непрекращающийся зов, и мой эмоциональный компас всегда указывал на гигантские буквы «Голливуд».
Я хотел делать то, что делает Эдди Мерфи. Я хотел заставлять людей чувствовать то, что я почувствовал, когда впервые посмотрел «Звездные войны».
Я хотел быть Эдди Мерфи в «Звездных войнах».
Впервые в жизни я произнес это вслух в ответ на вопрос Джей-Эла.
— Я хочу стать самой большой кинозвездой в мире.
Джей-Эл из тех парней, которые редко на что-то реагируют открыто. Его лицо обычно ничего не выражает. Говори что хочешь: «Джей-Эл, тебе мама звонит» или «Джей-Эл, духовка взорвалась, мы горим», или «Я хочу стать самой большой кинозвездой» — он и ухом не поведет. Он никогда не показывает, что происходит у него в голове, поэтому к нему всегда хочется придвинуться ближе, чтобы уловить хотя бы маленький намек.
Я придвинулся очень близко.
— Вот это — нормальная цель, — сказал Джей-Эл.
Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» писал, что у людей есть всего две проблемы. Первая: они знают, чего хотят, но не знают, как это получить. Вторая: они не знают, чего хотят.
Четко поставленная цель является залогом успеха. Зная, чего ты хочешь, можно выбрать направление в своей жизни — каждое слово, каждое действие, каждый контакт можно тщательно выбирать и использовать для того, чтобы приблизить свою цель. Под исполнение мечты можно подогнать в жизни все, что ты делаешь — что ешь, когда спишь, с кем дружишь и говоришь, что ты позволяешь им говорить тебе.
Впрочем, желание — это палка о двух концах. Но об этом позже — тогда я этого еще не знал.
Когда у Джей-Эла есть цель, он способен обучаться и перестраивать свой разум, как никто другой. За следующие несколько месяцев он перечитал все сценарии в Голливуде: старые, новые, плохие, хорошие, вышедшие на экраны и не увидевшие свет, хиты, провалы и все между ними. Наверное, он прочитал добрую сотню сценариев, и мы обсудили плюсы и минусы каждого из них.
Цель у нас была. Первый вопрос, который мы задали, звучал так: что делает человека кинозвездой (а не просто актером)?
Кинозвезды обычно играют приятных персонажей, которые воплощают собой наилучшие человеческие черты: храбрость, находчивость, успех вопреки всему. Мне нравилась идея играть в кино человека, который будет лучше, чем я в жизни. Я бы защищал людей, убивал врагов. Я умел бы летать, и все женщины бы меня любили — не отвертятся, в сценарии так написано. Я составил описание идеального звездного персонажа из трех пунктов на букву «С»: он сражается, он смешит, и он сногсшибателен в постели.
Эти три пункта раскрывают три глубочайших человеческих стремления. Сражение равняется безопасности, защищенности и способности выжить. Смех равен радости, счастью и свободе от любого негатива. А сногсшибательность в постели равна перспективе быть любимыми.
Сочетая в себе эти качества, самые большие звезды кино делают самые кассовые фильмы в мире. Кинозвезды заставляют людей тащить свою задницу в кино.
Следующий очевидный вопрос: каковы ключевые элементы кассового кино? Джей-Эл взял список десяти самых кассовых фильмов всех времен, чтобы найти в них общие черты. И все с ними было кристально ясно. Десять из десяти фильмов содержали спецэффекты. В девяти из них были спецэффекты и фантастические существа. В восьми были спецэффекты, существа и романтическая линия.
(Позже мы поняли, что на самом деле все десять лучших фильмов были про любовь.)
Теперь мы знали, что нам нужно. Осталось только найти того, у кого это есть, и убедить его дать это нам.
Проблема в том, что самые кассовые фильмы дороже всего производить и рекламировать, а, значит, это крайне рискованное начинание. Кино с высоким бюджетом может как создавать, так и уничтожать карьеры всех, кто над ним работает. Я был молодым, неизвестным, неопытным и чернокожим, и я пытался убедить студии потратить 150 миллионов долларов на производство и еще 150 миллионов долларов на рекламу моего очарования, привлекательности и скромности.
Таня постоянно курила травку (а я вот до сих пор не пробовал). Наверное, папулин алкоголизм привил мне стойкое отвращение к употреблению любых субстанций. Мне не хотелось лезть не в свое дело, но теперь я ясно знал свою цель и не мог представить себе, как мне поможет ее достичь девушка, курящая травку. Я был готов завести семью. Я был готов начать свою жизнь. Я потребовал, чтобы она бросила.
Она осталась не в восторге.
— Не будь ханжой, — сказала Таня. — Это просто травка. Я же не нюхаю кокс с пола в туалете.
— Наркотики есть наркотики, — глубокомысленно ответил я.
— Да брось, — возмутилась она. — От нее же нет зависимости.
— Есть, и еще какая, — сказал я. — У тебя даже из носа несет травой.
Я внес предложение:
— Давай договоримся. Ты бросишь курить на тридцать дней. Докажешь мне, что у тебя нет зависимости. Потом поговорим.
Она подумала. Мне кажется, она бы и согласилась, но моя категоричность ее оттолкнула и заставила сопротивляться. Она любила меня и не хотела расстраивать, но ни за что на свете не позволила бы мне собой командовать.
Я все еще помню ее позу: руки скрещены на груди, голова склонена набок — она понимает, что принимает важное решение. Она тихо ответила:
— Нет.
Когда знаешь, чего хочешь, начинаешь четко понимать и то, чего ты не хочешь. И тогда даже мучительные решения становятся простыми.
— Как знаешь, — сказал я.
Вы когда-нибудь видели документалки National Geographic про миграцию лосося на Аляске? Те, в которых голодные медведи стоят посреди реки и ждут, что рыба выпрыгнет из воды прямо им в пасть?
Именно так мы с Альфонсо Рибейро пасли девчонок снаружи офиса, где проходил набор актеров для «Принца из Беверли-Хиллз».
Через те священные коридоры совершили паломничество все черные актрисы Голливуда. Как-то раз в 1990 году мы с Альфом сидели и обедали. Альф о чем-то философски бурчал. Это очень страстный и упрямый человек, который уверен, что надо говорить громко и стучать себя кулаком правой руки в ладонь левой, и тогда все сказанное обязательно станет правдой.
И тут мимо прошла она. Я чуть не подавился насмерть своей вафлей с курицей из «Роско».
— Это кто такая? — шепнул я Альфу в промежутке между его неуемным стучанием. — Она не из Лос-Анджелеса.
Мы, ребята с Восточного побережья, своих всегда чуем.
Она была в бешенстве. Агент по кастингу только что сказал, что она не проходит по росту на роль моей подружки в сериале. В Голливуде ее очень бесило, что ее рост (точнее, его отсутствие) был в профессии гораздо важнее, чем многочисленные таланты.
Не зная ничего из этого, я полез под горячую руку.
— Привет, малыш, — поздоровался я, выбрав самое неудачное обращение.
— Иди в жопу, — огрызнулась она.
И ушла.
Так я впервые встретил Джаду Пинкетт.
И это была любовь с первого взгляда.
Альфонсо выяснил, что Джада отхватила роль в ситкоме «Другой мир» — спин-оффе «Шоу Косби». Он знал одного из тамошних сценаристов и через него выяснил, когда у Джады съемки. Расклад был идеальным — мы записывали «Принца» по пятницам, а «Другой мир» снимался по четвергам, так что мы с Альфом могли ходить туда прямо после работы.
К тому времени «Принца из Беверли-Хиллз» вовсю показывали по телику, и нас с Альфом узнавали на улицах Голливуда. По плану мы должны были прийти на съемки «Другого мира» и усесться в зрительном зале. Я включу Фреш Принца на полную. Конечно, при нашем появлении публика взревет. Джада услышит гвалт во время своей сцены, посмотрит в толпу и поймет, что это из-за меня (и Альфа).
Короче, я нацепил золотую цепь со здоровенной подвеской «Фреш Принц» с бриллиантами чистой воды на буквах Ф, Ш и П — шикарный до невозможности и готовый покорять сердца.
План шел как по рельсам. Мы с Альфом входим, все орут. Джаду я не видел, но знал, что она где-то в здании. Я шикнул на зрителей.
— Потише, ребят, снимают же, — великодушно прошептал я, пока мы с Альфом усаживались на места в правом углу переднего ряда.
Сцена Джады должна была начаться где-то к середине съемки, но она уже была там во всей своей приезжей красе. Она вся была ослепительна — акцент, повадки, волосы, энергия. Она была мне как родная.
В перерыве между сценами Альфонсо увидел своего приятеля-сценариста, Орландо Джонса. Тот разговаривал с роскошной девушкой с кожей цвета карамели, которая сидела в центре первого ряда. Она явно тоже была не из Лос-Анджелеса — я видел, что вся эта напыщенность ей немного некомфортна. Я подошел, поздоровался с Орландо и представился девушке.
Ее звали Шери Зампино, она была из Нью-Йорка. То есть, конечно, не из самого Нью-Йорка, а из Скенектади (да что там, оттуда уже и до Канады недалеко).
— Значит, так, — сказал я. — Мы только что познакомились, так что в этот раз я тебя прощаю. Но когда в следующий раз тебя спросят, не вздумай говорить, что ты из Нью-Йорка, раз ты на самом деле из какого-то там Скенектади.
Хорошо, что она в тот момент не отхлебнула воды, а то забрызгала бы всех вокруг. Она была вне себя от смеха, как будто я озвучил то, что ей было неловко сказать самой. Прозвенел звонок о начале съемки, который командовал публике замолчать, но эта девушка все не могла успокоиться. Ей надо было вести себя тихо, но я не мог этого допустить. Я наклонился к ее уху:
— Это обман, самое настоящее искажение фактов. Когда ты говоришь людям про Нью-Йорк, они думают — ну, Бронкс, Бруклин, да хоть Статен-Айленд. Все же решат, что ты крутая. А ты, оказывается, из Скенектади?
Она задыхалась от смеха, умоляла меня замолчать. Ну уж нет, милочка.
— Нельзя же так бесцеремонно врать! Скенектади — это не Нью-Йорк ни хрена. Да ты тут, по сути, посол из Канады. Надо было надеть свитер с кленовым листом и раздавать сироп, а не вот это вот все.
К счастью, сцена подошла к концу, и она снова смогла смеяться в голос. Ее тушь растеклась, глаза покраснели, и, задыхаясь, она произнесла слова, которые жаждет услышать любой юморист в ответ на свою шутку:
— Ну ты дурак.
В ту ночь я так и не познакомился с Джадой. Мы с Шери ушли еще до того, как съемка закончилась. Мы просмеялись весь ужин, затем — всю осень, и уже через три месяца мы были женаты.
Уиллард Кэрролл Смит III родился 11 ноября 1992 года. Мы с рождения звали его «Трей», потому что он был третьим Уиллардом Смитом.
- С того мига, как доктор вручил тебя мне,
- Я поклялся беречь тебя до конца моих дней.
- Хоть и не знал, каков буду я в роли отца,
- Выбрал добро и стоял на своем до конца.
- Увозя тебя ночью из больницы домой,
- Волновался, как ехать в машине с тобой.
- Все так гнали мимо, я аж обомлел,
- Но добрался до дома, уложил тебя в колыбель.
- Той ночью я так и не смог сомкнуть глаз,
- С постели срывался, проверял каждый час.
- Ты сладко спал, а я был сам не свой,
- Потому что любил тебя больше жизни самой.
- Тут я Богу взмолился, на колени упав,
- Дай мне сил быть отцом, что всегда будет прав.
- Дай сил любить, дай сил воспитать —
- Каждый миг я поклялся тебе посвящать.
«ТОЛЬКО ТЫ И Я» (JUST THE TWO OF US)
Эта песня описывает появление Трея на свет и мое превращение в отца.
Но та первая ночь была еще бо`льшим эмоциональным ураганом, чем я описал в своих стихах. Шери спала, а для Трея мы поставили крошечную колыбель в прилегающей спальне. Я не мог перестать на него смотреть. Я был в ужасе.
Я хотел этого всю свою жизнь. И вот теперь у меня есть сын, жена, семья. Настал мой черед. Мое тело сотрясала дрожь, я едва мог вынести невероятную ответственность за эту крохотную человеческую жизнь. Я упал на колени, не сумев сдержать рыданий, и взмолился Богу: «Прошу, помоги мне сделать все как надо. Прошу, помоги мне быть хорошим папой».
В мыслях я дотошно перебирал все воспоминания своего детства. Я столько гадостей наговорил о своем папуле — а теперь сам оказался на его месте. Хватит ли мне ума, чтобы научить своего сына строить стену? Смогу ли я всегда кормить и согревать свою семью? Хватит ли мне сил, чтобы прогнать от дома его убийцу?
Было три часа ночи. Я стоял на коленях и чувствовал себя просто мальчишкой. Мне никогда еще так не хотелось к папе. А потом что-то впервые переключилось у меня глубоко внутри. Решение, твердая уверенность. Я вытер слезы, поднялся на ноги, легонько погладил Трея по голове. Я знал. Вариантов было всего два. Первый: я стану самым лучшим отцом, который когда-либо существовал на этой планете. И второй: я погибну.
Я могу буквально пересчитать по пальцам одной руки случаи, когда я в жизни болел — я вообще не болею.
Была пятница, день съемок «Принца». Меня с самого утра тошнило. Я еле шевелился — скорее всего, чем-то траванулся. Во время подготовки к съемкам и репетиций я оставался у себя в гримерке, чтобы набраться сил для зрителей.
Шери пришла за мной ухаживать. Она не понимала, почему нельзя перенести съемки на другой день.
— Меня же за такое уважать перестанут, — выдавил я в перерыве между позывами.
Я считал себя героем, когда работал даже во время болезни или в тяжелом состоянии. Мне хотелось преуспевать там, где отступились бы конкуренты. Я хотел, чтобы моя жена знала — я неуязвим. Женщины (и прочие) всегда неодобрительно качают головами и негативно относятся к такой черте характера. Но на самом-то деле все уважают бойцов.
Вечера пятницы стали для нас очень важными мероприятиями для налаживания связей. Джей-Эл приглашал спонсоров, продюсеров и всяких больших шишек, на которых мы хотели произвести впечатление. У нас был особый подход — мы звали всех вместе с семьями. Люди с большей охотой ведут с тобой дела, если их супруги и дети отлично проводят время. А провести вечер пятницы лучше, чем на съемках «Принца из Беверли-Хиллз», было невозможно. В тот злосчастный день посетители были особенно важные, а я был при смерти и просто не мог кого-либо развлекать.
Шери взяла бразды правления на себя. Я никогда еще не видел ее такой. Под встречи она выделила специальное место на сцене, чтобы никому не пришлось заходить ко мне в гримерку. Она раздобыла угощения и попросила других членов съемочной группы тоже участвовать в заведении полезных знакомств. Она делала это не только ради мужа — ей это нравилось. Она ходила от пары к паре, от семьи к семье, обсуждая любые темы, которые их интересовали. Она показывала детям сцену, обменивалась телефонами с женами и делала все возможное, чтобы люди прекрасно проводили время. Ее старания позволили мне выскочить всего на десять минут, дать по рукам кому нужно и приступить к съемке.
Шери показала себя идеальной хозяйкой и воплотила собой жену моей мечты. Как Джия и Пух Ричардсон, мы с Шери стали командой, работающей над операцией «Уилл становится самой большой кинозвездой в мире».
Мы купили таунхаус вблизи Толука-Лейк, стратегически расположенный в девяти минутах от студии, где теперь шли съемки «Принца из Беверли-Хиллз». Так я мог проводить максимум времени как дома, так и на работе. Это была чистая логистика. В семи минутах от него были апартаменты на Буэна-Виста, где базировалась вся моя банда из Филли, а за пятнадцать минут можно было добраться до Голливуда. Это был идеальный плацдарм для моего неизбежного вторжения в киноиндустрию.
Как-то раз в субботу вечером я заучивал свои реплики к понедельничной репетиции, а Шери изливала свое творческое начало, занимаясь готовкой на кухне.
Мне очень нравилась ее креативная жилка. Она училась в Институте технологий и моды (который, кстати, находился все-таки в самом Нью-Йорке). Она умела шить себе наряды, писала картины — я впервые в жизни встретил человека, который украшал стены дома своими же работами. Мне казалось, что это круто. Еще она занималась боевыми искусствами — ее отец был инструктором и грандмастером тхэквондо, обладателем девятого дана. Если нужно, Шери могла за себя постоять.
Шери умела поддерживать семейный очаг — мама ее отца, бабушка Зампино из Италии, была образцовой хозяйкой. Итальянская сторона семьи Шери владела супермаркетом L&M в Скенектади, поэтому у них всегда было полно еды, и вся их семейная жизнь строилась вокруг обедов. Когда родители Шери разошлись, ее мама вышла на работу, поэтому кухня стала вотчиной Шери. Шери любила готовить и угощать людей — она умела превратить объедки во вкуснейшее лакомство, прямо как Джиджи. Каждую неделю мы устраивали вечеринки в честь выхода в эфир нового эпизода «Принца из Беверли-Хиллз». Шери инстинктивно взяла на себя приготовление еды и создание уютной гостеприимной атмосферы. К нам заваливались не меньше пяти моих корешей из Филли, которые, не слишком стесняясь, ошивались вокруг кухни и готовы были наброситься на следующую сочную косточку, которую бросала им Шери.
Семейное счастье для Шери воплощалось в этой теплой и гармоничной заботе о людях, ведении хозяйства. Она была рада жить простой жизнью мамы и жены. Я же хотел завоевывать, быть защитником и добытчиком, который обеспечивает семье физическое и финансовое будущее. Я считал, что еда станет менее вкусной, если ее придется есть в палатке под мостом.
Омар обставлял небольшую переносную студию в гараже, когда зазвонил телефон.
— Уилл, это Джей-Эл, — позвал Омар.
Я подбежал и взял трубку.
— Привет, Джей!
— Никуда не уходи. Нам надо поговорить. Срочно.
— А что такое, что стряслось? — нервно спросил я.
— Давай не по телефону. Я скоро буду.
И положил трубку.
Ненавижу, когда люди так делают. Не надо мне звонить загробным голосом, звать меня к телефону, а потом не говорить, что случилось. Мы же уже разговариваем — рассказывай! К счастью, благодаря удачному расположению моего дома, ждать надо было всего девять минут: две минуты — пока он сядет в машину, и еще семь минут на дорогу от Буэна-Виста. Больше времени тратить не понадобится, потому что я буду ждать его у входа.
Девять минут спустя Джей-Эл был на месте. Судя по его виду… все было в порядке. Значит, никто не умер. Он выглядел встревоженным, но не испуганным, улыбался, но как-то печально. Да он явно мог выложить мне все по телефону!
— Как жизнь, Джей?
Мы обменялись нашим стандартным приветствием — не совсем объятием, не совсем рукопожатием. Джей-Элу нравилась версия приветствия, когда между вами остается рука, поэтому тебя он как бы все равно обнимает, но не нарушая при этом свое личное пространство.
Он не стал тянуть резину.
— Короче: одна студия хочет взять тебя на роль второго плана в гангстерский фильм «Восемь голов в одной сумке». Они готовы заплатить тебе десять миллионов долларов.
— ОХРЕНЕТЬ!
Сначала я схватился руками за голову, а потом собрался дать Джей-Элу пять, но он ответил как-то неохотно.
Не отпуская моей руки, он сказал:
— Я приехал, чтобы тебя отговорить.
— В смысле?!
— Я считаю, что ты не должен соглашаться на эту роль. Она тебе не подходит.
Мне захотелось оторвать ему руку и ей же избить его до смерти. Вместо этого я спокойно сказал:
— По-моему, она мне очень подходит, Джей.
— Нет, не подходит… ты произведешь плохое впечатление. Я пять раз перечитывал сценарий. Я пытался найти хоть какие-то плюсы, но их нет. Я даже думал просто отказаться и тебе не говорить… Решай сам. Мы уже много лет вместе… Что бы ты ни решил, я согласен на все, но знай — я против. Если ты правда хочешь стать самой большой кинозвездой в мире, не соглашайся на этот фильм.
— Джей, чувак. Это же такие деньжищи!
— Том Круз отказался бы, — сказал Джей-Эл.
Мы отказались от «Восьми голов в одной сумке».
Джей-Эл, как мой менеджер, должен был получить комиссию 15 процентов. Когда он посоветовал мне отказаться от «Восьми голов в одной сумке», он сам остался без полутора миллионов долларов (я уже говорил, что он так и жил у своей мамы?). Он рисковал вместе со мной, потому что верил в мою мечту — он верил в меня.
Где-то через месяц Джей-Эл позвонил мне радостный. Теперь-то уж он повел себя как приличный человек, и все выложил… по телефону.
— Я нашел тебе роль, — взволнованно сказал он (Джей-Эл никогда не бывает взволнованным).
Мне предложили роль второго плана в экранизации пьесы Джона Гуэйра, которая номинировалась на Пулитцеровскую премию и называлась «Шесть степеней отчуждения».
— Это именно то, что мы хотели, — сказал Джей-Эл. — Пока что люди не воспринимают тебя всерьез, как актера. Мы не будем брать стереотипные роли. Нам нужно, чтобы все забыли, что смотрят на рэпера. Они должны увидеть кинозвезду.
Он продолжил:
— А еще ты точно окажешься в титрах наряду с заслуженными актерами: Стокард Ченнинг, Дональдом Сазерлендом и сэром Иэном Маккелленом. Фильм элитный до одури. Все тебя увидят в окружении актеров мирового уровня. Мы поразим публику и привлечем к себе внимание. Твой персонаж просто сыплет гениальными репликами — это одна из лучших вещей, что я читал. И вообще, фильм на самом деле о твоем персонаже. Материал просто звездный.
— Офигеть, Джей, да ты прямо тащишься!
— Говорю же, это оно, — сказал он, хлопая кулаком по ладони.
— Точняк! А сколько заплатят?
— Ну вот тут загвоздочка…
— Не томи, Джей, сколько?
Я согласился сыграть в «Шести степенях отчуждения» за 300 000 долларов.
Джей-Эл свою роль выполнил. Он нашел великолепный материал с актерами мирового класса. Остальное было за мной.
Включилось мое военное воспитание — я получил приказ и обязан был безупречно его выполнить. Мы с Джей-Элом тут же вылетели в Лондон на заключительные театральные постановки этой пьесы со Стокард Ченнинг в Вест-Энде. А как только объявили график съемок, мы с женой и сыном переехали в Нью-Йорк.
«Шесть степеней отчуждения» — это история о богатой белой паре из Верхнего Ист-Сайда Нью-Йорка. Это одинокие зрелые люди, чьи повзрослевшие дети недавно покинули семейное гнездышко. Они целыми днями покупают и продают знаменитые картины. И вот однажды у них на пороге появляется молодой черный юноша, которого пырнули ножом на улице — он истекает кровью. Он говорит, что дружил с их детьми в Гарварде, и называет себя сыном Сидни Пуатье. Пара принимает юношу у себя в доме, и по ходу истории Пол (мой персонаж) оказывается мошенником. Однако, несмотря на обман, Луиза Киттеридж, которую играет Стокард Ченнинг, и Пол необъяснимым образом влюбляются друг в друга.
Этот персонаж настолько отличался от меня самого, и его жизненный опыт был настолько мне чужд, что я решил испробовать актерство по Методу (о котором я ничегошеньки не знал). Я зазубрил весь сценарий слово в слово и поклялся, что на съемках не пропущу ни строчки.
За месяцы подготовки я по четыре-пять дней подряд не выходил из образа. Ни разу, ни на секунду. Я ходил в ювелирный магазин или в булочную и пытался понять, что Пол любит и не любит. Мне хотелось приспособиться к нему в реальной жизни и реальных ситуациях, чтобы я не только думал, как Пол, но и научился невольно чувствовать себя так, как чувствовал бы он.
Было прикольно… поначалу. Но потом я как-то незаметно для себя забыл, что сам люблю и не люблю, разучился говорить в своем ритме и со своей интонацией. Я потерял связь с Уиллом Смитом. Шери начала делать мне замечания: «Почему ты на меня так странно смотришь?» и «Перестать так говорить». Но я совершенно не понимал, что делаю не так. В моем представлении я переключался между собой и Полом, но между делом Уилл Смит тихонько улизнул, и Шери внезапно оказалась в одном доме с незнакомцем.
Мы привыкли думать, что наша личность нерушима и постоянна. Мы считаем, что наши предпочтения, убеждения, этническая принадлежность, политические взгляды и религиозные верования, манеры, сексуальные пристрастия и т. д. — это все неизменно и является частью нас. Но на самом деле большинство вещей, которые мы воспринимаем как часть себя — это выученные привычки и шаблоны поведения, которые очень податливы. Этим и рискуют актеры, когда отправляются в отдаленные уголки своего сознания — иногда мы не можем найти путь назад. Оказывается, что роли, которые мы играем в кино, ничем не отличаются от ролей, которые мы играем в жизни. Уилл Смит не более «реален», чем Пол. Они оба — персонажи, которых придумали, отрепетировали, сыграли. Они укрепились в реальности с помощью друзей, возлюбленных и окружающего мира. «Личность» — это хрупкий конструкт.
Мы с Шери совсем недавно поженились, у нас только что родился ребенок, и я представляю, насколько для нее весь этот опыт был, мягко говоря, пугающим. Она вышла замуж за парня по имени «Уилл Смит», а теперь жила с парнем по имени «Пол Пуатье». Хуже того, во время съемок я влюбился в Стокард Ченнинг. Не как «Уилл», но как «Пол». Мне не удавалось его выключить.
Когда съемки закончились, мы с Шери и Треем переехали обратно в Лос-Анджелес. Наш брак не заладился с самого начала. Мне отчаянно хотелось встретиться и поговорить со Стокард. Я увиделся с ней всего раз и, конечно, ни в чем ей не признался, но она была ветераном сцены и наверняка все поняла сама, потому что не переставая говорила со мной о жене и сыне, словно напоминая мне о них.
К счастью, пришла пора возвращаться к работе над «Принцем».
— Ты сдурел что ли? — выпалил Альфонсо.
— Что ты имеешь в виду, Альфонсо? — переспросил я.
— ВОТ ЭТО! Я именно об этом. Почему ты так говоришь?
— Что я говорю? — спросил «Пол».
— Вот ЭТО! — присоединилась Керин.
— «Ч» не произносится. «Что» должно звучать как «што», а не как «чь-то», Уилл, — раздраженно сказал Альфонсо.
Я потерял хватку. Я не мог вспомнить, как Фреш Принц ходит, как он разговаривает и какие кроссовки ему нравятся. Это продолжалось добрых десять эпизодов в начале четвертого сезона. Я утратил свое чувство юмора, крутость, харизму и умение импровизировать.
Все, кто работал над сериалом, были в ужасе. Это был сезон, когда Альфонсо начал становиться звездой. Первые несколько эпизодов сценаристы старались отвести внимание от моего персонажа и сконцентрировать его на Карлтоне. Альфонсо был более чем готов взять на себя этот комедийный груз. Никто не понимал, что происходит. Они не видели связи между моим поведением на съемочной площадке «Принца» и моей злосчастной попыткой удариться в опасный психологический мир актерства по Методу в «Шести степенях отчуждения».
Я даже через силу не мог пошутить. Страшнее всего было то, что я не осознавал, что со мной что-то не так. Но если все говорят тебе, что ты пьяный, наверное, лучше прилечь. Поэтому я немедленно нанял нескольких близких друзей из Филли в помощь сценаристам, чтобы они окружали меня на съемочной площадке, напоминая, как играть персонажа по имени «Уилл».
И это сработало. Где-то к середине сезона все как будто срослось. Я играл сцену с Керин, в которой мой персонаж пытался заставить ее пойти на свидание с моим учителем, но у того была родинка-мушка под левой ноздрей. Хилари от этого воротило. Мой персонаж убеждал ее дать ему шанс, как вдруг на меня снизошло внезапное комедийное озарение, и я сымпровизировал фразу: «Да ладно, Хил, не делай из мушки слона».
Публика взревела от хохота. Настоящий я вернулся. А с актерством по Методу я порвал навсегда.
Я не пытаюсь приуменьшить свою ответственность за разрушение нашего брака, но твердо верю, что те несколько месяцев, когда я полностью пропал в своем персонаже из «Шести степеней», создали между мной и Шери разрыв, который мы не смогли исправить после.
В конце 1993 года «Шесть степеней отчуждения» вышел в свет и получил широкое признание критиков. Стокард Ченнинг за свою роль номинировалась на «Оскар», а рецензенты в хвалебных отзывах отмечали неожиданный выбор меня на роль Пола. Джей-Эл был прав — в Голливуде меня обсуждали как серьезного актера.
Чтобы добиваться целей, нужна строгая организованность и непоколебимая дисциплина. Я стал больше углубляться в структурированность и порядок, а Шери была художницей: она готовила на глаз, а не по рецепту. Она была более гибкой и интуитивной, менее организованной. Это сводило меня с ума. Если мы договорились встретиться ровно в шесть, она приезжала в 6:17.
Снова пятница, вечер записи очередного эпизода. Мой парикмахер попал в аварию — все целы, но он не успевал подстричь меня перед съемкой. Оставалось пять часов, и молодой человек из Филадельфии рисковал засветиться на национальном телевидении без свеженького фейда.
Да ни за что.
Я затрубил тревогу в поисках нового парикмахера. Кто-то посоветовал мне парня по имени Слайс как сертифицированного мастера по фейдам филадельфийского стандарта. Я набрал его номер.
— Йоу, Слайс, как жизнь?
— Как у тебя, Уилл?
— У меня катастрофа. Мне срочно нужна твоя помощь, братишка.
В то время моя стрижка была просто легендарной. Для молодого парикмахера подстричь меня для сериала было не просто огромной ответственностью, но и шансом продвинуться в Голливуде.
— Блин, Уилл, я бы с радостью, но у меня клиент в Сан-Диего. Он платит большие деньги, еще и наличкой. А мне с детьми сидеть на выходных…
— В Сан-Диего? Чувак, это ж по два часа езды в каждую сторону. Приезжай ко мне, заработаешь местных деньжат.
— Уж поверь, лучше б я получил местных денег… Я бы не поехал в Сан-Диего, если бы у меня был выбор. Но у меня ж дети, да еще и их матери надо бабок подкинуть…
— Сколько тебе платят? Вообще не важно, я дам тебе вдвое больше. Приезжай.
Слайсу должны были заплатить пятьсот долларов за стрижку в Сан-Диего. Я пообещал ему тысячу, если он приедет прямо в студию. Налички при мне не было, так что пришлось звонить Шери:
— Малышка, ты при финансах?
— Тысячи две есть, а что?
— Норм, тогда я где-то через час пришлю к тебе паренька по имени Слайс, отстегни ему тысчонку.
— Окей.
— Давай, люблю тебя. До скорого.
Слайс прибыл на съемочную площадку и идеально меня подровнял — не ударил в грязь лицом. Я дал ему адрес, куда подъехать за деньгами, и отправился на съемки.
На следующей неделе мой парикмахер все еще не мог выйти на работу, поэтому я снова набрал Слайса.
— Йоу, чувак, это Уилл.
— Угу, — ответил он с холодком в голосе.
— Ты снова мне нужен, чувак. Наколдуй мне, как ты умеешь.
— Не, это вряд ли.
Тут я понял, что что-то не так.
— Что такое, брат? Что случилось?
— Плохо так людей обманывать.
— Че я сделал?
— Ты меня кинул. Иди на хрен.
И бросил трубку.
Я попытался вспомнить, что случилось между нами в прошлый раз, но вроде все прошло отлично. В смятении я позвонил Шери.
— Детка, на прошлой неделе, когда Слайс приезжал, все было нормально?
— Эээ, ой…
Тут до нее дошло.
— Нет! Мне не хватило денег!
— Сколько ж ты ему дала?
— Четыре сотни. У меня была всего лишь тысяча.
— Я же и велел дать ему тысячу! — рявкнул я.
В то время из-за моих проблем с налоговой у нас не было кредиток — все операции проходили наличными. И это был вечер пятницы, а в те времена банкоматов не было на каждом углу — снять денег со счета я мог бы только в 9 утра понедельника.
— Но у меня больше не было! — огрызнулась она в ответ.
— Ему нужно было сидеть с детьми все выходные! Я пообещал ему тысячу, да еще и заставил отказаться от другой работы!
— Ну знаешь ли, у меня тут тоже ребенок, которому в выходные нужно что-то есть! Я не могла отдать ему все свои деньги. Что я по-твоему должна была сделать?
— Надо было сделать, что я просил, блин! А ты ему не заплатила, не позвонила мне и никому ничего не сказала! Я из-за тебя подставил человека!
— Уилл, я тебе не девочка на побегушках.
— Я так и не говорил.
— Перестань психовать, ничего с ним не будет.
Это был один из редких моментов в моей жизни, когда я впал в неконтролируемую ярость. Обычно я стараюсь выбирать выражения. Но тут я собой не управлял.
— Знаешь, что? Надеюсь, однажды ты будешь годна хоть на что-нибудь.
Я злобно бросил трубку.
Если бы Господь позволил мне забрать назад единственное сказанное за всю жизнь предложение, я стер бы из истории именно эти слова.
В нашем браке что-то разрушилось — что-то, чего мы никогда не сможем вернуть назад. Шери позже призналась мне, что это были самые ужасные слова, которые ей говорили в жизни.
После того случая наши с Шери отношения очень быстро испортились. Мы стали ругаться по любому поводу — помню, однажды я раскритиковал, как она моет сковородку. Мы по несколько дней не говорили друг другу ни слова. Мы даже изобрели «игру», в которую «играли» при гостях. Она называлась «Знаешь, что я в тебе ненавижу?». «Победителем» был тот, кто сильнее всего «рассмешил» гостей.
Мои отношения в очередной раз покатились под откос. Агрессивное течение потащило за собой все наши мечты. Шери забрала Трея домой в Скенектади. Наш брак стал для нее невыносим, и она хотела несколько недель подумать, как быть дальше.
В Студио-Сити был небольшой лаунж-бар под названием «Печеная Картошка». Тиша Кэмпбелл и Дуэйн Мартин, двое моих близких друзей, отчего-то настаивали, чтобы я непременно туда пришел.
Я вообще не большой любитель «лаунжа», но они уверяли, что я не пожалею. Я явился туда около восьми вечера и сразу направился к столику, за которым сидели Дуэйн, Тиша и Джада Пинкетт. Вот так внезапно я вдруг стал любителем лаунжа.
Дуэйн постоянно находился в процессе заключения какой-нибудь сделки, посредничал в каком-нибудь поглощении или что-то в таком духе, был менеджером группы и в тот же момент покупал клуб, в котором они выступали. Тиша была той еще сводницей — она знала, что у нас с Шери все идет к концу, и чувствовала себя обязанной сделать так, чтобы я не оказался ни с кем другим, кроме Джады.
Нас с Джадой об этом, конечно, никто не предупредил.
Я встречал Джаду тут и там несколько раз за последний год — ничего особенно запоминающегося, так, обычное голливудское привет-пока. Она все еще казалась мне совершенно сногсшибательной. Все еще понтовой. Все еще полной пленительной энергии Восточного побережья. Но что-то изменилось. Что-то глубоко внутри, глубже, чем я мог увидеть. Возможно, я просто повзрослел — ведь я стал отцом. Может быть, я был более открыт, а может, мы просто оказались товарищами по несчастью… В общем, я воспринимал ее совершенно по-другому. Ей было всего двадцать два, но в глазах ее читался опыт тысячелетий, словно она знала какие-то сокровенные тайны и была мудрой не по годам.
Мы болтали обо всем подряд — она могла поддержать разговор на любую тему, от Тупака до апартеида, от баскетбола до Ганеши и восточного мистицизма. Как будто мы с ней уединились в укромном месте, готовые купаться в наших вопросах и не переживать об ответах. Мы с ней были вместе — это ответ на все.
Часы летели, словно минуты. Я чувствовал невероятную мощь нашей объединенной энергии. Пока мы смеялись, размышляли и обсуждали все на свете, в моем сознании строились города и империи. Ее тело было крошечным, а дух — огромным. Она была уверенная, твердая, непоколебимая, как десятитонная плита у подножия Великой пирамиды.
Джада позже призналась мне, что услышала ясный голос, безапелляционно констатирующий факт: это твой муж. В тот момент она отмахнулась от этого пророчества. Я уже был женат, о чем тут думать. Мы тихонько вышли из нашего укромного места и снова оказались на жестких металлических стульях клуба. Прощались мы в тот раз долго, никто из нас не хотел уходить. Я проводил ее до машины и смотрел ей вслед, пока она уезжала. Та ночь оставила меня ошеломленным, разбитым, запертым в ловушке между мечтами и реальностью. Я встретил свою королеву, способную выдержать груз моих мечтаний. Но нам было не суждено быть вместе.
Пару дней спустя Шери вернулась из Скенектади, и мы договорились встретиться в «Пальме» — нашем любимом ресторане. Там подавали лучшего лобстера в городе, порции были просто громадные. Мы всегда заказывали одного на двоих.
Наверно, я надеялся, что встреча после разлуки и любимое угощение каким-то образом разожгут наши сердца вновь. Я уж точно верил в целительную силу топленого масла и дурацких одноразовых воротничков для лобстера.
Я приехал первым. Шери завезла Трея к своей маме по дороге из аэропорта. Она зашла в ресторан, как всегда прекрасная. Мы обнялись и уселись за столик. Я заказал еду заранее — ей это нравилось. Мы поговорили о Трее и Скенектади, и о новом додзе ее отца. Трей обожал проводить с ним время — в этот раз он даже получил свой собственный крошечный ги.
Все шло без задоринки, но внезапно я почувствовал, как кружится голова. Во рту пересохло, и появился странный металлический привкус. Я попытался сосредоточиться на дыхании. Блин, неужели я теряю сознание?..
— Что с тобой? — обеспокоенно спросила Шери.
Меня накрыло волной головокружения, я не мог дышать, на лбу выступил пот…
— Все хорошо, — соврал я. — Сбегаю в туалет.
Я ворвался в кабинку и запер дверь. Сел, попытался восстановить дыхание. Какого черта происходит? Внезапно я разрыдался. Следующие двадцать минут меня рвало, пока я метался между рыданием и истерическим смехом. Неужели у меня гребаный нервный срыв?
Потихоньку я начал понимать свои эмоции.
Я кристально ясно осознал, что Джада Пинкетт — женщина моей мечты. Но я перед Богом поклялся, что посвящу свою жизнь Шери. Я не мог нарушить собственное слово. Мои слезы сопротивлялись этой ситуации, а хохот проклинал всю ее абсурдность.
Но вскоре моя истерика утихла. Утирая слезы, я вышел из кабинки, абсолютно готовый посвятить всю свою жизнь Шери Смит.
Глава 13
Преданность
Хреново получать бумаги на развод. Как будто это официальный документ о том, что ты — кусок говна, которого никто не любит. Не важно, насколько у вас были плохие отношения — развод всегда подкрадывается неожиданно. В смысле, ты, конечно, подозревал, что дела у вас не очень, но блин… не настолько же.
Боги развода беспощадны: по странному стечению обстоятельств я получил бумаги 14 февраля. День, мать его, Валентина.
Шери была сыта по горло. Я не мог поверить, что это со мной происходит. Развод родителей когда-то был худшим событием в моей жизни, а сейчас гораздо хуже. Это был удар в спину, я был совершенно вне себя. И я поставил своего сына в ту же ситуацию, которая заставила меня когда-то задуматься о самоубийстве.
Шери говорила, что я люблю не ее, а свое представление о ней. То, что, как мне казалось, должно олицетворять идеальную жену.
— На моем месте могла бы быть любая, — однажды заявила она.
Шери называла себя моей «женой для галочки». Женщиной, которая существовала в моей жизни исключительно, чтобы поставить галочку в графе «жена в идеальной жизни Уилла Смита».
Мы с Шери как раз недавно купили дом в Энсино. Там вовсю шел ремонт, но Шери забрала Трея и переехала туда. Мне казалось, что она портит мне жизнь, разрушает нашу семью. Я обещал себе не допустить этого, но получите, распишитесь — мне еще и тридцати нет, а моя семья уже разрушается.
Я чувствовал, что умираю.
Я позвонил Куинси.
— Как дела, Филли? — спросил он.
— Шери подала на развод.
— Вот блин. Как себя чувствуешь?
— Ужасно. Сейчас пойдут адвокаты и вся эта херня. Я вообще не хочу разводиться…
— Понимаю тебя, парнишка, сам через это проходил. Могу помочь советом.
Никогда я еще не нуждался в хорошем совете, как сейчас.
— Отдай ей половину своего барахла и забудь об этом навсегда.
Э?
— Все мои разводы разрешались за день. Как только бабы начинают возникать против меня, я отдаю им половину моего хлама, и они катятся на все четыре стороны. А вот дальше я скажу тебе кое-что совсем неожиданное.
Он понизил голос, словно Морфеус из «Матрицы», предлагающий мне красную таблетку.
— Вы все равно будете видеться каждое Рождество. Если у вас общие дети, вы никуда друг от друга не денетесь.
Куинси разводился уже три раза.
— Парень, да у меня бывшая через дорогу живет! Еще одна в квартале отсюда, и дети в трех разных домах. Мы все до сих пор одна семья! Они думают, разведешься — и дело с концами, да как бы не так. Ты будешь повсюду, на билбордах, в рекламе… Отдай ей половину, скажи, что увидитесь на Рождество, и продолжай себе спокойно жить. В следующем году ты все равно заработаешь деньги обратно. Выпиши ей хренов чек и успокойся.
Не совсем такие слова я ожидал услышать. Я хотел, чтобы он подсказал мне, как все исправить. Как заставить ее сдержать нашу клятву. Я ведь считал, что у меня всего два варианта — победить или умереть. Откуда взялся этот чертов третий вариант — сдаться?
А половина от «Триллера» — это все равно огромные деньги.
Я бы ни за что не женился, если бы думал, что существует вариант развода.
Если есть вариант сдаться, все же выберут его — это ведь самое простое. Если надо выбирать, идти на пробежку в пять утра или НЕ идти, кто же пойдет? Если ты можешь сдаться, то ничего стоящего не добьешься. Исключить все варианты, кроме победы — единственный способ заставить слабое сознание добиваться желаемого. Как по мне, в основе всех успешных человеческих начинаний лежит понимание того, что мы предпринимаем нечто очень сложное или невозможное. И тогда мы смотрим друг другу в глаза, пожимаем друг другу руки и клянемся, что умрем, но не сдадимся.
И мне казалось, что брак — именно такой договор. Это ведь такая простая идея. Не зря же на церемонии говорят: «Пока смерть не разлучит нас». Даже Господь со мной согласен. Это клятва не перед твоим партнером — это клятва перед самой слабой частью самого себя. Как ты можешь не сдаться, если у тебя есть такой вариант?
Причина, по которой ты говоришь, что умрешь, если не справишься, кроется в том, что смерть — это прямой результат того, что ты не справился. Сознание пытается защитить тебя от сложных вещей, от боли. Но за болью и сложностями как раз и кроется твоя мечта. Поэтому сознание в поисках удовольствия, комфорта и легкой жизни неизбежно отравляет свою же мечту — оно становится барьером перед твоими мечтами, внутренним врагом.
Если бы это было просто, все бы так делали.
Мы даем клятву, потому что знаем — перед нами лежит очень тяжелый путь. Когда делаешь что-то простое, никакая клятва и не нужна. Никто никогда не произносил: «Клянусь съесть всю эту пироженку целиком! Видит Бог, ни одной крошечки не останется на моей тарелке! А еще я клянусь не идти на пробежку завтра утром! Клянусь поспать подольше!» Если бы все было так просто, никто не давал бы клятв. «В болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Эта клятва так страшна, потому что жить — страшно. В этом весь смысл преданности. Я не противник разводов и не считаю, что сдаваться в битве — плохо. Просто я считаю, что это должно происходить в самом конце, а не пока ты еще только надеваешь броню, не при первой сложности, не после первой травмы. По-моему, большая часть людей разводится слишком рано, пока они еще не уяснили важные уроки, которые помогут им не повторить прежних ошибок в последующих отношениях.
Я до сих пор не до конца понимаю, о чем только думал. Может быть, дело было в боли, в исступлении. А может быть, я и вовсе не подумал ни о чем.
Может быть, тут и думать было не о чем, все и так было ясно. Путеводную звезду видно и сквозь туман.
19 февраля, всего через пять дней после получения бумаг на развод, я позвонил Джаде. Мы с ней не виделись уже много месяцев. Телефон звонил целую вечность.
— Алло?
— Привет, Джада! Это Уилл.
— Привееет!
В ее голосе все еще слышалась магия нашей встречи в «Печеной Картошке».
— Как дела?
— Хорошо. Услышал твой голос, и все сразу стало лучше.
Наверно, стоило пояснить ей, как я себя чувствовал до этого, или как-то предупредить.
— А ты сейчас ни с кем не встречаешься? — задал я ей каверзный вопрос.
Джада какое-то время помолчала — то ли удивилась, то ли не поняла, зачем я спрашиваю.
— Вообще-то нет. А что?
— Круто, тогда будешь встречаться со мной, ага?
— Нууу… Ладно… Давай.
Джада почувствовала, что это все неспроста, но знала, что в тот момент не стоило вытягивать из меня подробности.
— Супер. Я пока на работе, но наберу тебя позже, ладно?
— Ладно.
Тогда я еще не знал, что Джада находилась в Балтиморе. Она настолько устала и разочаровалась в Голливуде, что бросила все и вернулась домой. В Мэриленде она купила прекрасную ферму на два гектара, построенную на рубеже веков, и занялась там ремонтом. Она хотела создать себе красивую, спокойную жизнь.
После моего звонка она немедленно отправилась в аэропорт и улетела в Лос-Анджелес. Она так и не провела ни одной ночи на своей ферме в Мэриленде.
Я никогда не верил в идею «прошлой жизни». Я слышал, как люди говорят «да мы в прошлой жизни наверняка были друзьями». Мне это казалось какой-то глупостью. Но те первые несколько месяцев с Джадой заставили меня усомниться в собственных убеждениях.
Мы прекрасно друг другу подходили, и когда были вместе, казалось, что мы скорее очень давние друзья, чем только что сошедшиеся любовники. Мы понимали друг друга без слов, и все, чего хотели бы добиться, свершалось.
Мой развод еще не окончился, поэтому мы с Джадой считали, что было бы некрасиво афишировать наши отношения. В конце концов, мы оба уже стали довольно известными — что же люди подумают? Прекрасным, хоть и не запланированным последствием этого решения было то, что мы все время проводили вместе, только я и она. Наши тела еле выдержали тот безумный ураган любви, в котором мы находились первые три или четыре месяца наших отношений. Мы путешествовали в отдаленные экзотические уголки мира — Кабо, частные Карибские острова, Аспен, уединенные поместья на Мауи — так мы открыли для себя все прелести частных авиаперелетов. Мы записывались в гостиницы под псевдонимами (я бы рассказал, какими, но мы ими до сих пор пользуемся). Четыре месяца напролет мы каждый день пили коктейли и занимались сексом по несколько раз на дню. Мне даже стало казаться, что мы соревнуемся. Вариантов было всего два: или я сексуально удовлетворю эту женщину, или умру в попытках.
Но главным элементом наших с ней отношений были и по сей день остаются невероятные, расширяющие сознание беседы. Даже сейчас, если Джада вдруг о чем-то заговорит со мной, мы проболтаем часа два, не меньше, а то и пять-шесть часов. Любопытство и размышления по поводу различных тайн Вселенной через призму нашего личного опыта — это настоящий, безудержный экстаз. Даже если мы с ней в корне не согласны насчет чего-то, для нас с ней в жизни нет ничего более ценного или приятного, чем возможность морально расти и учиться друг у друга через наше увлеченное общение.
Дзыыынь.
— Алло?
— Привет, голубчик.
— Привет, Джиджи! Как поживаешь?
— У меня-то все прекрасно. А вот ты мне ничего сказать не хочешь?
Джиджи начала с наводящего вопроса. Я понятия не имел, к чему она это. Мы с ней таким тоном обычно не общались. Очевидно, у нее было что-то на уме.
— Да вроде бы нет, — осторожно ответил я, перебирая в голове все, что мог натворить за последнее время. — А должен?
— Ну, мне тут кое-кто рассказал, что у тебя уже давно завелась новая подружка.
Блин. Эллен, моя сестра…
— Нет, ну да, то есть…
— У нас что теперь, есть друг от друга секреты? — спросила она, пробивая насквозь все мои защитные барьеры.
— Да нет, Джиджи, я просто…
— Мне кое-кто сказал, что она — актриса.
— Джиджи. Кое-кто — это Эллен. Эллен — единственная, кто мог тебе это рассказать.
Моя сестра Эллен всегда обо всем знает. О каждой вечеринке, каждом слухе, каждой сплетне — она из тех девчонок, которые всегда первыми расскажут тебе, если что-то где-то произошло. Если бы она работала на полицию, за первую же неделю преступность бы упала процентов на сорок. Она вообще всегда все обо всех знает. Так уж получилось, что Эллен еще и фанатела от Джады Пинкетт — да она сама, по сути, была, как персонаж Джады по имени Пичес в фильме «Пропавшие миллионы». Она была очень возмущена, что я скрываю Джаду от своей семьи, поэтому наябедничала на меня бабушке.
— Джиджи, я ничего не скрываю…
— Тогда купи мне билет на самолет, и я прилечу с ней познакомиться. Завтра же.
— Хорошо, Джиджи. Я люблю тебя. Увидимся завтра.
— И я тебя люблю.
Последующая история остается для нас с Джадой камнем преткновения вот уже более двух десятилетий. Она настолько скандальная, что я даже подумывал не упоминать ее в этой книге. Но я решил, что вы, мой любимый читатель, сможете разрешить наш спор раз и навсегда. Так что, пожалуйста, будьте беспристрастны. В этом споре вас выбрали Верховным судьей. И вот, Ваша честь, тот самый вопрос, на который вам сегодня предстоит ответить: этот прикол смешной или не смешной?
Джиджи прибыла в солнечный Лос-Анджелес рано утром и сразу отправилась ко мне домой. Я как раз прикупил новое местечко в Уэстлейк Виллидж — райончик где-то в часе езды на северо-запад от Лос-Анджелеса. Мы с ней позавтракали, дом ей очень понравился. Я понимал, что больше всего ей просто хотелось удостовериться, что со мной все в порядке.
У Джады в тот день была работа, и она собиралась потом заскочить к себе, чтобы прихорошиться, а уже после отправиться ко мне на встречу с Джиджи. Джада слышала о Джиджи все истории, которые я уже пересказал в этой книге, поэтому ей очень хотелось поскорее познакомиться с моей бабулей.
Джиджи не очень любила кино, поэтому не знала, кто это такая — Джада Пинкетт. Я решил показать ей один из ее самых известных фильмов.
В три часа дня Джада позвонила мне из своего дома в Студио-Сити, который был ровно в сорока четырех минутах от моего, от двери до двери.
— Детка, ты уже выдвигаешься? — спросил я.
— Минут через пятнадцать, — ответила Джада.
— Хорошо, мы тебя ждем. Люблю тебя.
«Узы братства» тогда был самым свежим ее фильмом. Это прекрасная история любви между Лирик, которую играла Джада, и Джейсоном, которого исполнял Аллен Пэйн. На шестьдесят третьей минуте того фильма есть очень откровенная сцена с участием Джады, она стала одной из самых знаменитых постельных сцен во всем афроамериканском кинематографе. Поэтому, когда Джада сказала, что выдвигается через пятнадцать минут, а потом еще сорок четыре минуты будет ехать до меня, я включил кассету с «Узами братства» и оставил Джиджи смотреть.
Пятнадцать плюс сорок четыре — это пятьдесят девять минут, и я молил комедийных богов, чтобы они ниспослали ей еще недолгую задержку в пробке или при парковке. Я все приготовил для того, чтобы мой прикол свершился.
Комедийные боги были ко мне благосклонны. Джада вошла в комнату точь-в-точь через шестьдесят три с половиной минуты. Джиджи, призывая Иисуса на помощь, смотрела на экране, как Джада и Аллен катаются по траве голыми задницами кверху, совсем в чем мать родила — даже носков на них не было.
Джада опешила. Она в ужасе посмотрела на Джиджи, затем на экран. Снова на Джиджи. Потом на меня. Опять на экран. На Джиджи. На меня.
— Джиджи, познакомься с моей новой подружкой, Джадой, — сказал я, едва не падая от смеха.
Джиджи откинулась на диване, сложила руки на груди и произнесла:
— В моей молодости людям не приходилось раздеваться, чтобы сняться в кино.
Джада выдавила печальную улыбку и неловко обнялась с Джиджи.
— Уилл, — спокойно сказала Джада. — Можно мне с тобой поговорить наедине?
— Джиджи, мы скоро вернемся, — сказал я.
Мы с Джадой уединились в спальне.
— КАКОГО. ХЕРА. ТЫ. ТУТ. УСТРОИЛ?! — шепотом заорала она.
— Детка, да это же ужасно смешно.
— ДА ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ?!
— Детка, это такая шутка. Все в порядке. Мы же с тобой потом поженимся, детей заведем. Будет, что всем рассказать! Да мы эту историю будем годами вспоминать! Ты ведь так познакомилась с моей бабулей. Такой она тебя запомнит навсегда! Ну смешно же?..
— НИ ХЕРА ЭТО НЕ СМЕШНО.
— Ну сегодня тебе, может, не смешно, зато…
— НИКОГДА ЭТО НЕ БУДЕТ СМЕШНО! Ты слишком много выделываешься.
— Но в жизни же самое главное — воспоминания! — ответил я. — Сейчас ты злишься, но когда перестанешь, я тебе обещаю, тебе понравится. Это все ради нас! Однажды ты будешь хохотать над этой историей.
В конце концов Джиджи полюбила Джаду. Между ними были прекрасные отношения. Целые годы семейного счастья и смеха — их связь была просто бесценной и становилась все глубже с каждой встречей. И я свято верю, что моя выходка была главным фактором, который поспособствовал их невероятным взаимоотношениям.
Но до этих самых пор Джада так ни разу за всю жизнь даже не улыбнулась — даже не хихикнула — вспоминая этот прикол. Ни разу. Так что, дамы и господа, уважаемые присяжные, Ваша честь — я прошу вас, вынесите мне приговор. Если я был не прав, я не стану оспаривать решение суда. Но я чувствую себя обязанным напоследок задать этот вопрос, пусть даже и риторический, подводя черту: не, ну смешно же, блин?
Джада выросла вместе с Тупаком Шакуром. Они были лучшими друзьями, вместе учились в старших классах и поступили в Балтиморскую школу искусств. Два молодых мечтателя, всю жизнь сражавшихся с жестокостью и пренебрежением, чтобы в конце концов стать теми самыми «Тупаком» и «Джадой». И хотя их связь была сугубо платонической, их взаимная любовь была просто легендарной — они воплощали собой фразу «либо вместе, либо никак».
В начале наших отношений их близость сводила меня с ума. Это ведь был ПАК! А я — всего лишь я.
Он обладал бесстрашием и страстью, воинским чувством справедливости и готовностью сражаться и умереть за свои идеалы. Пак был для меня вторым Гарри — он заставлял меня чувствовать себя трусом. Я ненавидел себя за то, что не был им, и чувствовал жгучую ревность — мне хотелось, чтобы Джада смотрела на меня так же, как на него.
Поэтому, когда мы с Джадой официально посвятили себя друг другу, и наши отношения сделали ее менее доступной для Пака, мое незрелое сознание восприняло это неким извращенным подобием победы. Джада была идеалом, вершиной, королевой мира. Если она выбрала меня, а не Тупака, я просто не мог быть трусом. Никогда я не чувствовал такого самоутверждения.
Я несколько раз находился с Тупаком в одной комнате, но ни разу в жизни с ним не разговаривал. Близкие отношения между ним и Джадой не позволили мне подружиться с ним. Я был слишком незрелым.
— Уилл, тебе Мартин Лоуренс звонит.
Я с Мартином был незнаком и понятия не имел, откуда у него мой номер. Однако я прекрасно знал, что всем сердцем завидую ему. Он просто гений комедии. Мартин был народным героем — он снимался в своем собственном комедийном сериале «Мартин» на канале Fox. В чернокожем сообществе его все обожали, а я всегда мечтал быть на его месте.
В то время мы с ним были двумя самыми большими звездами телевидения. «Принца из Беверли-Хиллз» смотрело больше людей, но комедийные заслуги «Мартина» были легендарными — он был самым смешным парнем из телевизора. Я изучал его передачу днями напролет — как он двигается, как говорит, как структурирует сцены — в глубине души я знал, что он куда смешнее меня, и это очень бесило.
— Марти-Мааааар!
— Большой Уилли!
Не знаю, можно ли по-настоящему влюбиться в кого-то за шесть секунд разговора по телефону. Но по какой-то причине мы не могли перестать смеяться над тем, как произносим имена друг друга. И вот уже тридцать лет мы каждый раз здороваемся все так же, и каждый раз смеемся.
— Марти-Мааааар!
— Большой Уилли!
Он пригласил меня на ужин в свое поместье в Беверли-Хиллз. Мартин, как и я, родился и вырос на Восточном побережье — рядом с Вашингтоном[4] — и я с порога почувствовал себя как дома. Его сестры были такими же, как мои. Его брат — такой же, как мой. Его друзей с тем же успехом могли бы звать Джефф, Джей-Эл, Омар и Чарли Мэк. Мы понимали друг друга с полуслова.
— У меня тут есть сценарий, который мне очень нравится, — сказал Мартин. — Продюсерами будут Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер. Он называется «Плохие парни». Я думал позвать Эдди, чтобы он со мной снялся, но моя сестра сказала — черта с два, ты должен взять Уилла. Я подумал об этом… Посмотри, чего мы с тобой смогли добиться по отдельности — только представь, что будет, если мы объединим усилия?
— Точняк, — ответил я. — Было бы отпадно. А о чем сюжет?
— О двух копах из Майами, которым нужно поменяться ролями, чтобы раскрыть преступление. Один из них женат и с детьми, семейный парень. Второй — богатый плейбой. Прочитай сценарий и скажи мне, которая из ролей тебе по душе. Диалоги и сцены еще не дописаны, но если мы с тобой доведем дело до ума, будет охеренно.
— Я сегодня же прочитаю. Но даже если с этим фильмом не срастется, нам обязательно нужно поработать вместе.
— Не надо мне вот этой голливудской херни, Большой Уилли — снимаем фильм или нет?
Мы оба прыснули от смеха.
— Что, можно уже и не читать? — спросил я.
— Диалоги там никудышные. Нам с тобой придется все исправить. Только представь — два величайших черных актера на телевидении объединяются, чтобы создать крутой голливудский блокбастер! Люди с ума посходят. Давай, Большой Уилли, запрыгивай в лодку!
Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер изначально предполагали взять на главные роли Джона Ловитца и Дэну Карви. И да, я знаю, это был бы совершенно другой фильм. Но, как это всегда и происходит в Голливуде, сделка не состоялась, и контроль над сценарием достался Мартину.
Никто не был на 100 процентов уверен насчет меня — ни студия, ни продюсеры. Вообще никто, кроме Мартина. Дошло до того, что он стал заявлять всем, что без меня он и сам не станет работать над фильмом. Сначала я воспринимал его как соперника, но он оказался одним из моих лучших друзей и соратников в мире Голливуда.
Когда сомнения наконец развеялись и контракты были подписаны, настало время общего зачитывания сценария «Плохих парней». На роль режиссера взяли новичка. Он никогда до этого не работал над полнометражным фильмом, однако снятый им видеоклип для Мит Лоуфа даже награду получил. С бюджетом в 50 000 долларов он умудрился запечатлеть крушение самолета. Без спецэффектов! Просто взорвал самолет и снял это на камеру. Для музыкального клипа! Он обладал ярко выраженным стилем и кинематографической изобретательностью, а также умением обращаться с ограниченным бюджетом. Поэтому, когда пришла пора выбирать режиссера нашему фильму, мы единогласно выбрали Майкла Бэя.
Мы приступили к чтению. Все чувствовали его взрывной потенциал, но у сценария не было искорки. Фразы, которые, может, и подходили для Дэны Карви и Джона Ловитца, в наших с Мартином устах звучали фальшиво, натянуто и нереалистично. Когда чтение завершилось, Дон Симпсон торжественно скатал свою копию сценария в трубочку, подошел к мусорному баку и выбросил его. В присутствии режиссера, всех продюсеров, актеров и работников студии он заявил:
— Что ж, ни слова из этой херни мы снимать не станем.
С этими словами он вышел из комнаты.
Когда крупный голливудский продюсер выкидывает сценарий в мусор за три недели до начала съемок на глазах у двух молодых актеров и неопытного режиссера, можно подумать, что они все должны очень расстроиться.
Но случилось ровно противоположное. Из-за большого опыта работы с видеоклипами Майкл привык к возникновению непредвиденных препятствий. Денег никогда не хватало, времени всегда было в обрез, и ему постоянно приходилось импровизировать. Мы с Мартином были из мира телевидения, поэтому привыкли додумывать фразы прямо на сцене. Нам постоянно приносили сценарии за пять минут до съемки, и все время приходилось менять диалоги и реплики так, чтобы в них была искорка. В каком-то смысле то, что Дон Симпсон выбросил сценарий, нас раскрепостило.
Для нас эта работа была одновременно вызовом и приглашением. Мы объединили усилия — Дон и Джерри вызвали знакомых опытных голливудских сценаристов. Мы с Мартином позвали лучших исполнителей из мира телевидения и стендапа. У Майкла Бэя была команда людей, готовых работать на голом энтузиазме. Мы снимали фильм при свете дня, а по ночам готовились к следующему дню съемок.
Между нами с Мартином была такая невероятная химия, что в какой-то момент Майкл перестал переживать из-за диалогов. Он просто знал, что мы и сами придумаем какую-нибудь крутую фразу. Как-то раз мы с Мартином долго обсуждали, что именно нам надо сказать в одной сцене, а вся команда ждала, пока мы не договоримся.
Майкл заорал на нас:
— Да мне насрать, что вы скажете! Говорите, что хотите, главное — на камеру!
Весь процесс съемки «Плохих парней» был крайне волнующим и познавательным опытом, хоть все и делалось хаотично и наобум. У нас не было времени думать, мы просто решали, что нужно снять, снимали это и двигались дальше.
Однажды мы с Майклом Бэем очень сильно поругались. Тогда я только-только начал качаться — набрал больше пяти килограммов, и впервые в жизни на моем теле появились мускулы. В фильме есть известная сцена, в которой я бегу по мостику, пытаясь угнаться за машиной. Майкл настаивал, чтобы я снялся в этой сцене без рубашки.
— Да ладно, Майк, это же пошло! — говорил я ему.
— Пошло? Ты сдурел? Это ж Майами, чувак! А ты — крутой коп. Снимай сраную рубашку!
Я еще не очень уверенно чувствовал себя в новом теле. Мысль о том, чтобы целый день провести без рубашки, меня пугала.
— Майк, я такие сцены в кино терпеть не могу. Чувак весь намасленый и прикидывается, что это совершенно нормально, когда в заброшенной церкви на него сквозь щели падает свет, а вокруг летают белые голуби и всякая другая херня, а он такой без рубашки.
— Ты не прав, не прав, не прав! — заорал на меня Майкл. — Снимай рубашку, чувак! Просто сними ее. Доверься мне и делай, как я сказал. Я из тебя пытаюсь супергероя сделать!
— Да что такого? Я могу просто надеть обтягивающую футболку, — настаивал я.
— Да ты весь фильм в ней ходишь! А это — твой звездный час!
В конце концов мы сошлись на компромиссе: я надел рубашку, но она была расстегнута. Я не чувствовал себя совсем уж голым, а Майклу нравилось, что расстегнутая рубашка во время бега развевается на мне, как супергеройский плащ.
Все было готово к съемке. Я никому не рассказывал, но тогда я втайне тренировался с тренером из УКЛА[5]. Все детство я ненавидел смотреть, как актеры бегают в кино. Я вам ни одного фильма не могу назвать, в котором актер выглядел бы круто во время бега — разве что кроме сцены в «Рокки 3», где Карл Уэзерс бегает по пляжу со Сталлоне. И я пообещал себе, что, впервые побежав перед камерой, я буду выглядеть как профессиональный легкоатлет. Я четыре месяца тренировался высоко поднимать колени и локти. Я был готов.
Пошел первый прогон. Майкл крикнул: «МОТОР»! Машина выскочила на пешеходный мостик, а за ней в кадре пронесся Майк Лоури с видом олимпийского чемпиона по бегу. Спринт на 180 метров, максимальная скорость, локти назад, колени вверх, пушка в руке, рубашка развевается за спиной.
«СНЯТО!»
Майкл Бэй помчался ко мне с другого конца улицы с улыбкой двенадцатилетнего мальчишки, который только что нашел, где его папа прячет порножурналы. Я запыхался. Я все силы вложил в эту сцену. Я стоял, согнувшись пополам, руки на коленях, и пытался отдышаться. Пока Майкл приближался ко мне, я медленно выпрямился.
— Ну, как я выглядел? — спросил я его.
Он шлепнул меня по голой груди и во все горло заорал:
— Я ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАЛ ИЗ ТЕБЯ ГРЕБАНУЮ КИНОЗВЕЗДУ!
Мой развод был долгим, глупым и бессмысленным. Я не послушался совета Куинси Джонса. Я торговался за каждый цент, оспаривал все предложенные варианты. Удивительно, как быстро любовь может перерасти в судебный процесс. Но четыре утомительных месяца спустя окончательные бумаги были составлены, осталось лишь их подписать.
Мы с Шери в это время почти не общались. Поэтому, когда она захотела со мной поговорить, я даже удивился.
— Я несколько месяцев хожу к психотерапевту, — сказала она. — Я пыталась понять, как сделать весь этот процесс менее болезненным для нас обоих. И я трезво взглянула на саму себя.
— Угу, — пробурчал я, пытаясь понять, к чему это все.
— Я поняла, что не сделала все возможное для нашего брака. И ты тоже. Понимаю, что мы уже практически развелись, но у нас с тобой сын. Мне кажется, ради него мы обязаны постараться сохранить семью.
Я не мог поверить своим ушам. И что же мне с этим делать? Мы с Джадой любим друг друга. Но если у меня есть шанс спасти семью… Как я мог отказаться?
Я ответил, что мне нужно подумать.
Затем я немедленно позвонил Джаде и все ей рассказал. Она ни слова не сказала в ответ. Я слышал, что она плачет. Она сдерживала всхлипы и слезы, как могла, и от этого было еще больнее. Затем она успокоилась, взяла себя в руки. Прочистила горло. И заговорила:
— Шери права. Вы обязаны сделать все, чтобы ребенок жил в любящей семье. Я выросла без родителей. Я люблю тебя. И мне очень тяжело это говорить. Но я ни за что не пожелаю Трею такой судьбы. Вы с Шери должны решить эту ситуацию.
Меня потрясла самоотверженность Джады, ее готовность отказаться от собственного счастья ради того, что казалось ей правильным. Несмотря на слезы и разбитое сердце, она утешалась любовью и добротой.
Я взял ручку и подписал бумаги на развод.
Глава 14
Взрыв
Мы с Джадой выбились из сил. Прошедшие две недели я пахал как никогда в моей карьере — работать приходилось по шестнадцать часов в день без выходных. Я был вымотан.
Телефон зазвонил в три часа ночи. Звонки посреди ночи всегда отстой — значит, кто-то угодил либо под арест, либо в больницу, а то и хуже.
— Але? — ответил я слабым скрипучим шепотом.
— ПАЦАН, ТЫ ВИДАЛ, КАКИЕ СБОРЫ? — проревел голос на другом конце провода.
— А? Папа? Ты о чем?
— ТЫ, БЛИН, ВИДЕЛ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ СОБРАЛ ТВОЙ ФИЛЬМ? — уточнил папуля.
Только что состоялась премьера «Дня независимости». В Филли было только шесть утра, а фильм уже побил все мыслимые рекорды по сборам. Эта новость гремела на весь мир.
— Пап, три часа ночи…
— ТЫ ВИДЕЛ ХРЕНОВЫ ЦИФРЫ ИЛИ НЕТ? — настаивал он.
— Нет, пап, еще не видел. Джей-Эл мне потом…
— Я ведь говорил тебе, помнишь?! Везения не существует. Ты сам вершишь свою судьбу. Помнишь, как я тебе это сказал?
— Помню, пап. Давай попозже…
— Ты помнишь, помнишь? Нет никакого везения! Только то, чего ты сам добиваешься? Помнишь, да?
— Конечно, помню, пап! Ты все время это повторяешь. Давай потом…
— Помнишь, сын?! Я говорил, везения-то не бывает! Везение — это подготовка и удобный случай! Помнишь, я ведь говорил тебе?!
— Да, папа! Помню!
— Ну так вот, херня это все! Я таких везучих засранцев, как ты, в жизни не встречал!
Мы с папулей за всю жизнь так не смеялись, как в тот момент — нас просто накрыла волна истерического хохота, которая затем превратилась в хихиканье, а потом обратно в истерику. Целые годы разлада между нами стали не то, чтобы оправданы, но каким-то образом сглажены, очищены волнами смеха. Мы просто смеялись, ничего не говоря, добрых десять минут.
Мы с ним никогда это не обсуждали, но «День независимости» в его сознании стал важной победой, признанием. Этот фильм поставил восклицательный знак в конце какой-то его истории о самом себе. В его сознании что-то подошло к логическому концу.
Вскоре после этого он продал ACRAC — с ледяным цехом было покончено.
Он начал называть себя «Фреш Кинг» — он почувствовал себя королем.
Следующие десять лет своей карьеры я подгребал под себя всю индустрию развлечений.
«Плохие парни». «День независимости». «Люди в черном». «Враг государства». «Дикий, дикий Запад». «Али». «Люди в черном 2». «Плохие парни 2». «Я, робот». «Подводная братва». «Правила съема: Метод Хитча». «В погоне за счастьем». «Я — легенда». И наконец, «Хэнкок». В общей сложности они собрали в мировом прокате более 8 000 000 000 долларов. И, не хочу показаться занудой, но это сумма почти двадцатилетней давности, когда билеты в кино стоили чуть ли не в два раза дешевле, чем сегодня. С поправкой на инфляцию… Да знаете, в общем-то, не важно.
Две номинации на «Оскар»: за «Али» и за «В погоне за счастьем».
Почти тридцать миллионов музыкальных пластинок продано: Men in Black, Gettin’ Jiggy Wit It, Just the Two of Us, Miami и Wild Wild West лидировали в хит-парадах. И это не говоря уже о заглавной песне из «Принца из Беверли-Хиллз», которая технически тоже считается пластинкой. Если так, то она — самая популярная рэп-песня в истории. Но и это, в общем-то, не важно.
Я забегаю вперед. «День независимости» только вышел в свет. Шестой сезон «Принца из Беверли-Хиллз» готовился к выходу. Я только-только рассчитался по долгам с налоговой. Отныне я не был в долгах, я просто был без денег — настало время зарабатывать.
Фильм «Плохие парни» вышел в кинотеатрах в 1995 году и был вполне успешен. Успех был не оглушительный, но довольно громкий. Я всегда был обычным долговязым придурковатым парнем с огромными ушами. Но вот я просочился на один из премьерных показов «Плохих парней», и во время сцены, где я в расстегнутой рубашке бегу по мосту, услышал, как чернокожая дама лет сорока вслух промурлыкала:
— Ммммм. Ты посмотри, какой сладкий!
Я чуть не завопил: «ТЕТЯ, ВОТ ОН Я, СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ!»
Так я впервые столкнулся с тем, как женщины сексуально реагируют на мою мужественность. До сих пор, чтобы привлечь женщин, я прибегал к комедии. А теперь меня превратили в сексуальный объект. Это было шикарно. Я думал: ладно, Майкл Бэй, ты был прав, а я нет. Спасибо. Отныне режиссерам придется заставлять меня надеть рубашку.
Мы готовились начать производство шестого сезона «Принца из Беверли-Хиллз», и я как раз подписал контракт на съемки «Дня независимости» летом 1995-го. Шестой сезон был последним по нашему изначальному контракту. Встал вопрос — соглашусь ли я на седьмой?
Рейтинги «Принца из Беверли-Хиллз» потихоньку, но стабильно начали падать. Истории становились все более дурацкими, и было все сложнее поддерживать «свежесть» программы. Но нам всем платили больше денег, чем за любой из прошлых сезонов.
В сериале «Счастливые дни» есть серия, в которой Фонзи, наряженный в свою фирменную кожаную куртку, буквально перепрыгивает через акулу, катаясь на водных лыжах. В мире телевизионных комедий фраза «jumping the shark» — «перепрыгнуть акулу» — с тех пор стала метафорой для начала конца, символом того, что сериал потерял былую искорку. Сериал утратил то, что раньше делало его особенным. Проблема в том, что очень сложно понять это в процессе — всегда кажется, что огонь можно разжечь заново.
Все, кто когда-либо снимался в ситкоме, с легкостью скажут вам, в какой серии их сериал «перепрыгнул акулу». У нас это была пятнадцатая серия пятого сезона — «Пули над Беверли-Хиллз». Та, в которой меня подстрелили, и Карлтон стал ходить с пистолетом.
Я сдержал данное себе слово и не попал в цикл разрушения, не имея на примете следующего занятия. Сериал легко мог бы идти еще сезон. Это была моя семья, и я любил их. Но теперь у меня появилась возможность построить карьеру в кино. Я оказался на перепутье.
Джон Эймос, легендарный актер, игравший Джеймса Эванса в популярном сериале «Хорошие времена» 1970-х годов, был приглашенной звездой в трех эпизодах «Принца из Беверли-Хиллз». Его персонаж в «Хороших временах» печально известен тем, что его жестоко убили в сериале из-за разногласий по поводу контракта. В конце концов их сериал закрыли посреди сезона — никакого финального выпуска, никаких прощаний, никакой нарезки лучших моментов. Просто закрыли и все. До Джона Эймоса дошли слухи о том, что я подумываю о седьмом сезоне. Однажды между репетициями он позвал меня прогуляться по парковке.
— Я в таких красивых декорациях раньше не работал, — сказал Джон. — Чувствуется, что вы здесь все друг друга очень любите.
— Это правда, сэр, — ответил я. — Мы все вжились в роли наших персонажей.
— Я, возможно, лезу не в свое дело, но знай — никому из этих директоров, продюсеров и бизнесменов с теликанала нет дела до вашей семьи. Не дайте им насрать на ваш усердный тяжелый труд. На тебе лежит ответственность за то, чтобы эти люди ушли из сериала с чувством собственного достоинства.
Помню, как меня еще в детстве шокировала смерть Джеймса Эванса в «Хороших временах». Ребенком я, конечно, не думал о «собственном достоинстве», но даже в том юном возрасте почувствовал в этом сюжете какое-то неуважение. Мне казалось, что эта история меня оскорбляет и унижает, как фаната сериала. Персонажа Джона так бесцеремонно убили, а двадцать лет спустя он сам же сказал мне слова, которые заполнили пустоту в моем сердце. Все это было нас недостойно. Я почувствовал боль Джона оттого, что он сам предал свою телевизионную семью.
На следующей неделе я собрал всех актеров сериала и сказал им, что шестой сезон станет для нас последним. За грядущий год им стоит подготовиться и решить, что они хотят делать дальше. Я пообещал им, что у нас будет такой финал, которого мы заслуживаем, и мы уйдем красиво.
Последний эпизод «Принца из Беверли-Хиллз» вышел 20 мая 1996 года — часовой финальный выпуск. Та неделя съемок была самой эмоциональной неделей моей карьеры. Мы смеялись, мы плакали, мы вспоминали, мы любили друг друга. И мы расстались.
Я достойно распрощался со своей телевизионной семьей.
В моей настоящей семье все опять было не как у людей. Нормальный человек выплачивал бы алименты бывшей жене за сына. Мне же пришлось заплатить алименты собственной матери за самого себя.
Плюс проценты и штрафы.
Да-да, так все и было. Сейчас объясню.
Гарри окончил Хэмптонский университет по классу бухгалтерии и занялся всеми нашими семейными финансами. Он хотел обеспечить всех недвижимостью и первым делом решил помочь мамуле заполучить дом ее мечты. Они нашли старую ферму в Брин-Мар в штате Пенсильвания. Мама была от нее в восторге, поэтому утром в Рождество 1997 года мы преподнесли ей в подарок ключи.
Роясь в древних коробках с вещами во время переезда с Вудкрест, мамуля нашла недооформленные документы на их с папулей развод. Почти двадцать лет назад они прошли всю процедуру развода, но по какой-то причине не подписали последние бумаги. Мамуля и не знала, что технически она все еще была замужем. Поэтому она подписала документы на развод… и подала их.
Снимаюсь я, значит, в фильме «Дикий, дикий Запад», и тут мне срочно звонит папуля, вызывая на обязательный и немедленный семейный совет. Все еще одетый в ковбойские штаны и сапоги со шпорами, я присоединился к многоканальному разговору, где уже ждали Гарри и Эллен.
— Кто-то из вас говорил с матерью? — спросил папуля.
— Ну, мы все время болтаем. Ты что-то конкретное спрашиваешь? — уточнил я.
— Она мне прислала бумажки на развод, и я хочу знать ваше мнение — что мне с ними делать?
Я поясню: наши родители жили порознь уже двадцать лет. И за последние десять перекинулись всего парой-тройкой слов, причем пара из этой тройки была непечатной. Папуля даже завел новую семью — у меня появилась замечательная новая сестра Эшли. Поэтому, как его любящие отпрыски, мы были совершенно озадачены. И, как его любящие отпрыски, мы играли каждый свою роль. У Эллен никогда нет времени на его причуды. Гарри упирается рогом и придирается к каждому слогу в его словах. А я пытаюсь наладить мир. Поэтому, как правило, я заговариваю первым.
— Папа, а что именно ты имеешь в виду? — сказал я мягко и ласково, потому что не совсем понимал происходящее.
В ответ отец повторил чуть громче и агрессивнее, как будто я его просто не расслышал:
— Ваша мать прислала мне документы на развод, вот вы мне и скажите теперь, что с ними делать?
У нас тут же появился первый выбывший.
Эллен ответила:
— Так, мне сейчас не до этого. Потом поговорим.
Нас становилось все меньше. Мы несли потери — и мне нужно было быстро искать решение.
— Папа, мы тебя услышали, просто вы с мамой почти не разговаривали двадцать лет. Я просто…
— Я спрашиваю, что мне, по-вашему, делать с этими бумажками.
Теперь у Гарри лопнуло терпение, и он возмущенно гаркнул:
— ПОДПИСАТЬ!
— Вот так взять и просто подписать, что ли?
Честно говоря, я совсем перестал что-либо понимать.
— Пап, я не понимаю вопроса. Ваши отношения с мамой…
— А, то есть, ты тоже думаешь, что я должен их подписать? — спросил папуля.
— Ну… да?
— ТАК ПРОСТО ВЗЯТЬ И ВЫКИНУТЬ ВСЕ НА ВЕТЕР, ДА?
Я до сих пор не понимаю, о чем думал папуля. Может быть, ему был невыносим окончательный характер этой подписи. Может быть, именно поэтому он изначально ее и не поставил. Но цепная реакция уже пошла.
Подав документы на развод, мамуля разворошила весь штат Пенсильвания. Папуля содержал нас, но никогда официально не платил алименты — этот факт выяснился при беглом просмотре бумаг. Мамуле сообщили, что с процентами и штрафами папуля остался ей должен около 140 000 долларов. И она хотела получить их все до последнего цента. По законам Пенсильвании, если он отказывался платить или не мог себе этого позволить, его могли отправить под арест и в тюрьму, а его имущество — отнять.
— Мама, — взмолился я, — ну что ты, в самом деле.
— Нет, он мне должен, и я свое получу.
— Мам, нет у него столько денег…
— Это его проблема, — ответила она.
— Мама, ну брось, у тебя новый дом, все замечательно. Будь проще.
— А у меня все просто: либо отдаст мне деньги, либо сядет.
Мамуля не поддавалась. Она слишком долго его терпела…
— И не вздумай ему помогать, Уилл! — скомандовала она, показывая на меня пальцем, как Сели из «Цветы лиловые полей». — Пусть сам думает, как он будет мне платить.
Что мне было делать? У папули не было таких денег, а мамуля не желала ему ни в чем уступать. И я ни за что на свете не позволил бы отцу отправиться за решетку. Поэтому я тайком, как финансовый махинатор, почти что из-под полы перевел на папулин счет 140 000 долларов. Он немедленно выписал чек на нужную сумму в адрес штата Пенсильвания, и штат Пенсильвания выплатил мамуле полную стоимость ее алиментов.
Так я и стал первым в истории Пенсильвании человеком, который оплатил алименты за самого себя. Ну а когда мамуля узнала, что я оплатил папин долг, она разъярилась и тут же выписала мне чек на 140 000 долларов, став первым человеком в истории Пенсильвании, который вернул своему ребенку деньги за алименты, которые этот ребенок заплатил сам же за себя.
Такое надо рассказывать в Месяц черной истории[6].
В мае 1996 года в Сиднее открылся тематический ресторан «Планета Голливуд». В него вложились трое крупнейших кинозвезд мира, три мудреца, волхвы голливудские: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис. Меня пригласили на церемонию открытия. Я отменил все дела ради возможности постоять рядом с тремя мастерами, которые непременно укажут мне, куда двигаться дальше.
Открытие ресторана было таким же грандиозным, как любая кинопремьера: красные ковровые дорожки, свет прожекторов, толпы журналистов, возбужденные фанаты в очереди за автографом. Я прошел в укромную комнатку за рестораном. Там были они, все трое: Арнольд, Сильвестр, Брюс. Я включил внутреннего Чарли Мэка и прервал их беседу:
— Привет! Поздравляю с рестораном…
В их вежливом ответе на мое наглое приветствие явно читалось: «Не стоит перебивать троих крупнейших кинозвезд, если сам снялся всего в одном фильме да в сериале».
Но я решил не отступать:
— Спрошу по-быстрому: я хочу делать то же, что и вы. Я хочу стать самой большой кинозвездой в мире. И я точно знаю, что вы трое — лучшие из лучших.
Они усмехнулись — видимо, мой нахальный вопрос требовал честного ответа. Они переглянулись и на каком-то тайном невербальном языке, которым владеют лишь самые большие кинозвезды, решили, что мне будет отвечать Арнольд.
Представьте, как он произнес следующие слова со своим неповторимым акцентом.
— Ты не считаешься кинозвездой, если твои фильмы имеют успех только в Америке. Ты не считаешься кинозвездой, пока каждый житель каждой страны на планете не знает, кто ты такой. Ты должен объехать весь мир, пожать каждую руку, чмокнуть каждого ребенка. Представь себе, что ты политик, который выдвигает свою кандидатуру на пост Самой Большой Кинозвезды в Мире.
Брюс с Сильвестром покивали.
— Спасибо, парни, — сказал я. — Ну, не буду мешать. Всего доброго…
Я ушел с видом маленького мальчика из рекламы кока-колы с Джо Грином, которая была популярна в 80-е. «Злой Джо» был знаменитым футболистом, который в рекламе бросил счастливому мальчишке свою толстовку после Супербоула. Арнольд дал мне ключ — ключ, который станет моим секретным оружием на следующие два десятилетия.
У меня все сложилось в голове. Кинокомпании платят больше 150 000 000 долларов, чтобы развесить постеры к фильмам во всех странах мира. Мне нужно запрыгнуть на закорки их огромных инвестиций. Я никогда не считал, что рекламирую фильмы — я использовал рекламные миллионы, чтобы рекламировать самого себя. Как по мне, фильм не является конечным продуктом. Этот продукт — я. Спасибо кинокомпаниям за инвестиции в мое будущее.
Я начал замечать, как сильно другие актеры ненавидят поездки, журналистов и рекламу. Мне же это казалось чистым безумием. Мы с Джей-Элом провели подсчеты и поняли, например, что фильм, который мог бы заработать в Испании всего 10 миллионов долларов, легко принесет 15–25 миллионов, если приехать туда лично, провести премьеру, поговорить с журналистами и устроить пару встреч с поклонниками. Не помешает выучить несколько фраз на местном языке и произнести их в новостях. Если помножить это на тридцать территорий мира, поездки в разные страны фактически повышают потенциальные глобальные сборы больше, чем в два раза.
А поскольку я непосредственно принимал в этом участие, часть этой прибыли шла напрямую мне в карман. Не говоря уже о том, что я становился все более известным по всему миру, и каждая новая кинокомпания платила мне больше, чем любому другому актеру, зная, что я могу в два, а то и в три раза повысить планку доходов через глобальное продвижение.
Поэтому на неделе я снимался в «Принце из Беверли-Хиллз», со съемок отправлялся прямо в аэропорт на ночной рейс в Европу, прилетал в субботу утром, весь день давал интервью, проводил премьеру, весь вечер ставил автографы, ехал прямиком в аэропорт, запрыгивал в частный самолет, в воздухе учил текст нового эпизода «Принца» и приземлялся в Лос-Анджелесе как раз, когда пора было ложиться спать перед началом новой недели. В понедельник я просыпался и начинал все заново.
Я получил Святой Грааль голливудских звезд. Я присмотрелся к конкурентам — может, кто-то еще знает секрет… и круче всех оказался Том Круз.
Я потихоньку принялся следить за тем, как Том рекламирует свои фильмы. Приехав в какую-нибудь страну, я просил дать мне график Тома и клялся, что буду отрабатывать на два часа больше, чем он.
К сожалению, Том Круз либо робот, либо у него шестеро двойников. Он провел четыре с половиной часа на красной ковровой дорожке в Париже, Лондоне, Токио… В Берлине Том дал автограф буквально всем, пока желающие не закончились. Никто в Голливуде не рекламировал кино лучше, чем Том Круз.
Как же мне его превзойти? Что есть у меня, чего нет у него?
И тут до меня дошло.
Музыка!
Я начал давать живые представления, бесплатные музыкальные концерты для фанатов, которые не смогли попасть в кинозал, где шла премьера. Однажды мы собрали десять тысяч человек на улицах, прилегающих к площади Пикадилли в Лондоне. Это было безумие — в конечном счете полиции пришлось всех разогнать. То же самое в Берлине. На Красной площади в Москве прошла крупнейшая на тот момент голливудская кинопремьера. Том так не смог — как не смогли и Арнольд, Брюс или Сильвестр. Я нашел, как пролезть из газетной афиши мероприятий в заголовки на первой полосе. А как только твой фильм попадает на первую полосу, он перестает быть фильмом и становится культурным феноменом.
Спецэффекты в «Дне независимости» в то время были невиданными. Достаточно было показать, как космический корабль инопланетян завис над Белым домом и взорвал его одним выстрелом лазера, чтобы людям снесло башню.
«День независимости» собрал 306 миллионов долларов в Соединенных Штатах. Кинокомпания была счастлива — им удалось покрыть все расходы. Но потом фильм вышел в прокат в других странах. 72 миллиона долларов в Германии, 58 — в Великобритании, 40 — во Франции, 23 — в Италии и 93 миллиона в одной только Японии. За месяц фильм стал самым дорогим за всю историю. Доходы от него превысили 817 миллионов долларов — тогда такая цифра была неслыханной — и это все при съемочном бюджете в 75 миллионов.
Мы раскрыли формулу успеха. В «Дне независимости» были спецэффекты, существа и любовная линия, а когда мы нанесли последний удар по международным рынкам, камня на камне не осталось. Я был нищим парнем, который разбогател, все потерял, пришел в Голливуд без какого-либо опыта, а потом снялся в самом денежном фильме на свете. И это к двадцати семи годам.
Я чувствовал себя неуязвимым, но такое было со мной уже не в первый раз. Я знал, каково это — ловить попутный ветер. Но на этот раз я сам сидел за рулем своей машины и не собирался его отпускать, пока колеса не отвалятся. Ай да я.
Следующую историю рассказывать очень нелегко. Мне придется либо завуалировать ее откровенный характер эвфемизмами и двусмысленными намеками — тем самым лишая эффектности — или говорить начистоту, рискуя оскорбить трепетных читателей и лишиться потенциального покупателя. Но это был такой важный и поразительный момент в моей жизни и в отношениях с Джадой, что я вынужден рискнуть.
Мы были в Кабо-Сан-Лукас, в Мексике. Это был один из наших любимых укромных уголков. Мы арендовали прекрасную гасиенду на холмах, где бурно провели вечер в компании нашего близкого друга Хосе Куэрво (это эвфемизм).
Джада была сверху, и мы одновременно приближались к сладостному мигу кульминации (если вы понимаете, о чем я).
— Я кульминирую, — приговаривала она. — Я кульминирую!
— Я тоже кульминирую! — вторил я ей.
И когда тот восхитительный двигательный процесс достиг своей кульминации, тело Джады вдруг словно сотряс электрический ток. А затем паника — на ее лице отразился полнейший ужас.
— Я беременна, — сказала она.
— Что?
Вначале я решил, что она шутит, поэтому хихикнул.
— О нет, о нет, о нет, только не это. Только не это! — говорила она, раскачиваясь на месте и хватая себя за волосы.
Тут уж я расхохотался в голос.
— Что ты смеешься, Уилл? Я почувствовала, что внутри меня что-то щелкнуло, как огромный замок на железной двери. Я правда это почувствовала. Это правда, я точно беременна.
— Детка, я, конечно, не гинеколог, — сказал я, сдерживая смех, — но я почти уверен, что мои ребятки еще даже не доплыли до нужного места. По-моему, ты просто не могла забеременеть с научной точки зрения.
— Я умею слушать свое тело, Уилл, — огрызнулась она. — Я беременна!
А потом легла на бок и разрыдалась.
Я честно не врубился, что произошло. Но она не шутила — ее действительно что-то напугало. Мне хотелось помочь, поэтому я погладил ее по спине и сказал:
— Детка, ты просто встань и попрыгай немного.
— УИЛЛ! Прекрати! Что же нам делать?
Я решил, что шутка затянулась и надо это прекращать.
— Джада, хватит психовать, — строго сказал я. — Я понимаю, что ты сейчас что-то почувствовала. Но ты точно не беременна. Это не так работает. Это просто невозможно.
Джейден Кристофер Сайер Смит родился 8 июля 1998 года, ровно через девять месяцев после того дня… В нашей семье мы с любовью называем его зачатие «чудом».
Но путь к его рождению оказался непрост.
Джада не верила в традиционный брак и испытывала отвращение к общепринятой свадебной церемонии. Она также не верила в то, что успешные долгосрочные отношения могут основываться на моногамии.
Джада мечтала о простой, но необычной церемонии: она представляла себя на вершине горы в белом платье, наедине со мной. Ни священника, ни семьи, ни свидетелей — только мы и Бог. Она знала, как менялись законы о бракосочетании со времен рабства и в ходе Реконструкции после Гражданской войны, и ей совершенно претила идея того, что посвятить свою жизнь любимому человеку можно только с разрешения государства. Джада хотела посмотреть мне в глаза, признаться в своей бессмертной любви перед Господом, а потом заняться непростым делом построения совместной жизни.
Джада не питала иллюзий. Она знала, что любовь и семья — дело непростое. Это тоже заставляло ее ненавидеть традиционные свадьбы. Она считала, что вся эта мишура и показуха на церемонии искажает серьезность события. Она говорила: «Настоящая свадьба должна быть марафоном — мы должны буквально вместе пробежать марафон. Если мы останемся вместе, когда доберемся до финиша, то только тогда заслужим право быть женатыми. Нужно знать, что твой избранник готов бороться за выживание».
Я понимал ее точку зрения, но про себя всегда думал: какая-то это все неромантичная фигня. Нам что, придется накинуть на себя уродские одеяла из фольги, чтобы не околеть, да еще и, чего доброго, обгадиться на бегу?
Вслух я этого, конечно, не говорил.
Ни с того ни с сего мне в слезах позвонила мама Джады, Гэмми:
— Уилл, вы с Джадой обязательно должны пожениться, — умоляла Гэмми. — Я слышала про все эти новомодные глупости, о которых вы болтаете, но у вас должна быть свадьба. Как у нормальных людей. Как положено — с алтарем, священником и тортом.
— Гэм, я с вами согласен. Я уже и кольцо ей подарил. Думаете, я могу признаться своей бабушке, что у меня скоро появится ребенок, а свадьбы не будет?
— Уилл, это моя единственная дочь, — сказала Гэмми. — Пожалуйста, умоляю, убеди ее сыграть свадьбу. Я так хочу увидеть, как вы поженитесь! И вся родня хочет приехать, поддержать вас.
— Я все понимаю, Гэм. Вы уже говорили Джаде об этом?
— Говорила, — сказала Гэм, — но она меня не слушает.
— Хорошо, я понял, Гэм. Мы разберемся.
Джада упрямилась, сколько могла, но вскоре «свадебное давление» стало невыносимым. Она была во втором триместре беременности — а это вечная усталость и постоянный дискомфорт. Ей надоело спорить и не хотелось огорчать мать. Мне кажется, в глубине души она знала, что я тоже хотел свадьбу — хоть я ей этого и не говорил. Поэтому она согласилась провести традиционную церемонию в Балтиморе в канун Нового года при одном условии: всем будет заниматься Гэмми. Джада была готова прийти, пройти к алтарю, съесть кусок торта, крикнуть: «С Новым годом!» и свалить.
Гэм пищала от радости. Джада до сих пор называет нашу церемонию «свадьбой Гэмми».
Все прошло прекрасно. Церемония состоялась в историческом замке недалеко от города. Свадьба была небольшой — хотя и больше, чем хотела бы Джада, — всего-то сотня родственников и друзей. Мы пригласили священника и расписались с позволения государства. И хотя само событие было радостным и трогательным, оно стало для Джады первым из множества компромиссов, которые мучительно шли в разрез с ее собственными принципами.
Она согласилась провести жизнь с Уиллом Смитом, и пути назад не было.
Популярность имеет множество форм.
В музыке популярность приходит быстро и так же быстро исчезает. Но если ты затронул чье-то сердце своей музыкой, это уже навсегда. Когда кто-то связал твою музыку со своим жизненным опытом, такую связь почти ничто не может разрушить. А если ты создаешь музыку для вечеринок, твоя слава становится синонимом веселья. Без тебя не было бы праздника. Наверное, поэтому популярные музыканты часто ассоциируются с сексом, наркотиками и алкоголем. Если у тебя в планах секс, наркотики или алкоголь, музыку тоже захочется поставить.
На телевидении немного иная популярность. Когда тебя показывают по телевизору, люди привыкают видеть тебя у себя в гостиной, в спальне или на кухне. Они привыкли смотреть на тебя, сидя в халате, и считать тебя своим другом. Люди визжат при виде известных музыкантов, но чувствуют, что между вами остается дистанция. Если Бейонсе или Канье не дадут тебе автограф, ты подумаешь — ну конечно, это ж Бейонсе и Канье. Но когда ты телезвезда, люди ждут, что ты будешь уважать их «дружбу». Фанаты сериала обижаются гораздо сильнее, когда ты ведешь себя с ними отстраненно.
Ну а популярность в кино — это вообще другой уровень. Сам экран кинотеатра облагораживает того, кого на нем показывают. Киношная слава граничит с религиозным почитанием… и не всегда в хорошем смысле. Перед кинозвездами буквально расступаются толпы. Но они точно так же могут нахлынуть и утопить под собой в одночасье.
Перед кинозвездами преклоняются. Когда я был известным музыкантом, фанаты называли меня Фреш Принцем. Когда я прославился в сериале, люди кричали: «Привет, Уилл!» Но на следующий день после того, как «День независимости» побил все рекорды в прокате, ко мне впервые в жизни обратились как к мистеру Смиту.
Слава в кино повлияла и на мои отношения. Когда я был известным музыкантом, родные и друзья считали, что это прикольно и весело. Когда я прославился в сериале, между нами возникло небольшое расстояние, но пятницы на съемках «Принца из Беверли-Хиллз» были такими семейными и дружелюбными, что мы снова сближались как ни в чем не бывало. Но когда я стал кинозвездой, что-то изменилось на корню. Некоторые мои родственники и старые друзья поделились на два лагеря. Одни относились ко мне так вежливо и почтительно, будто мы не знакомы — я буквально их не узнавал. А другие совсем перестали меня уважать и постоянно пытались доказать мне, что я никакая не кинозвезда.
— У меня для тебя новый фильм, — сказал Джей-Эл.
Я как раз записывался в Нью-Йорке. Джей-Эл оторвал меня от студийной записи — неслыханное дело.
— Мне он очень нравится, — сказал он. — В нем есть все, что нужно: отличный сценарий, отличный режиссер, Стивен Спилберг продюсирует. Но есть одна загвоздка… Не хочу заранее тебя расстраивать. Как прочитаешь, сразу перезвони мне.
Это был сценарий еще одного научно-фантастического фильма о «тайном бюро, которое регулирует, отслеживает и контролирует деятельность инопланетян на планете Земля». Режиссер, Барри Зонненфельд, потребовал именно меня. Не нужно было даже участвовать в прослушивании — меня сразу приглашали на роль.
Я прочитал сценарий в тот же вечер. Все в нем было прекрасно: комедия, существа, космос… Но меня насторожило то же, что Джей-Эла: это уже второй фильм про инопланетян подряд. Я переживал, что он будет слишком похож на «День независимости». А из-за того, что «День независимости» был таким огромным хитом, казалось, что грандиозного возвращения к той же теме инопланетян не выйдет, и фильм получится менее успешным. Мне казалось, что в лучшем случае это будет топтание на месте. «Плохие парни» был фильмом о копах, «День независимости» — об инопланетянах, а этот новый сценарий был о копах с инопланетянами.
Я сказал Джей-Элу, что мне не понравилось. В выходные мы еще подумали, а в понедельник ответили отказом.
— Уилл, тебе звонит Стивен Спилберг.
Я был в Нью-Йорке — записывался в студии, полной крутых рокеров и хип-хоперов.
Мое эго раздулось почти до предела.
— Опа… Ребята, это точно не кому-то из вас звонят? — спросил я.
Я метнулся к телефону, и за те десять метров, которые надо было пройти от студии до телефона, мое эго изрядно подсдулось.
— Здравствуйте, мистер Спилберг, сэр, — сказал я как можно менее надутым голосом.
Все-таки я только что отказался сниматься в его фильме, и мне не хотелось портить отношения еще сильнее.
— Привет, Уилл, зови меня Стивен. Как поживаешь?
— Все замечательно, мистер Спилберг, сэр, спасибо большое, что спросили.
— Где ты сейчас?
— В Нью-Йорке.
— Просто прекрасно, — сказал он. — Тогда давай лучше встретимся.
Ой-ей.
— А зачем?
— Ну, ты отказался от моего фильма, и я хотел бы это обсудить, — ответил он максимально добродушно.
Мы оба усмехнулись. В его смешке я услышал: дурачок, ты что, забыл, что я снимал «Челюсти»?
— А я что, да я ничего… — глубокомысленно высказался я.
— Я просто хочу показать тебе кое-что, ну и так, поболтать. Мы с Барри живем по соседству. Сможешь приехать в Хэмптонс?
— Да, конечно. А когда?
— Давай сегодня.
Да что ж они все заладили — «давай сегодня, не надо думать» и все такое прочее?
— Прислать за тобой вертолет? Будешь здесь через час, обратно вернешься через три. Как тебе такое?
Что-то мне все это напоминает.
— Конечно, сэр, мистер Спилберг, сэр. Да, я согласен, — ответил я.
Меньше чем через час я уже приземлился в поместье Стивена Спилберга в Хэмптонсе. Он стоял передо мной как ни в чем не бывало, одетый в обыкновенные джинсы и старую футболку, будто не понимал, кто он такой.
Снаружи его одноэтажный дом выглядел традиционно и лаконично, а внутри был настоящий храм кинематографа: оригинальные постеры классических кинокартин, фотографии Стивена с голливудскими знаменитостями, офис, в котором стояла настоящая модель того самого инопланетянина из одноименного фильма, концептуальные наброски механической акулы из «Челюстей».
Куда ни посмотри, повсюду были сувениры кинематографа, но сильнее всего меня поразило, насколько Стивен не был пафосным. Вот он, передо мной, Стивен Спилберг, режиссер четырех из десяти лучших фильмов всех времен, излучает детскую радость и любовь к кинематографу. Ему не терпелось рассказать мне о своей задумке «Людей в черном».
Мы сели у него в офисе. Он подал мне домашний газированный лимонад. Не уверен, пил ли я до этого газированный лимонад, но совершенно точно никогда не пил домашний газированный лимонад. Было очень вкусно, я даже не ожидал.
— Так почему же ты не хочешь сниматься в моем фильме про инопланетян?
— Да я не то, чтобы не хочу. Сценарий мне очень понравился. И мне очень, очень лестно, что вы хотите меня на эту роль.
Он чувствовал, что меня одолевают сомнения.
— Тогда объясни мне, в чем проблема. Может быть, мы сможем ее решить.
Я пересказал ему ход своей мысли по поводу сходства с «Плохими парнями» и «Днем независимости» и страха превратиться в «парня из фильмов про инопланетян».
Он внимательно выслушал меня. Сейчас я понимаю, что мастером кино его сделал именно этот набор навыков — он всю жизнь слушает актеров, постановщиков, сценаристов, студийных директоров, продюсеров. Он определяет проблемы, находит решения и синтезирует таланты каждого человека в одно произведение.
Он довольно долго молчал, обдумывая мои слова. Наконец, ответил:
— Хорошо, Уилл. Я тебя прекрасно понимаю.
Ну слава богу.
— Ага, хорошо, я рад… Понимаете, я ведь вас очень уважаю. У меня от этого решения просто мозг болит.
Мы оба посмеялись.
— Тогда не пользуйся для этого решения своим мозгом. Воспользуйся моим.
Он сказал это в шутку, но у меня в сознании эта фраза прозвенела, как колокол Свободы… который тут же дал трещину.
«Индиана Джонс», «Парк юрского периода», «Близкие контакты третьей степени», «Челюсти», «Цветы лиловые полей», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», ну и «Инопланетянин». Я вдруг подумал — если решение о том, снимусь я в этом фильме или нет, за одним из нас, кто же должен его принять?
Мы провели вместе весь день. Я познакомился с режиссером, Барри Зонненфельдом. Мы катались по Хэмптонсу. Побывали в школе, где учатся их дети. Я восторженно засыпал Спилберга вопросами о его рабочем процессе, выборе идей, написании сценариев, о его мнении по поводу историй и персонажей, о том, что делает фильмы хитами, и в чем разница между простыми актерами и кинозвездами. Барри, возможно, самый юморной парень в мире. Его чувство юмора очень острое и многослойное. Мы с ним — полные противоположности, но находимся в идеальной комедийной гармонии. Мы друг друга все время смешили, и мне нравилось его отношение ко мне.
Мне выдали список фильмов, которые я должен посмотреть, и книг, которые я должен прочитать. Так я нашел концептуальную основу, по которой выбирал все последующие фильмы в своей карьере: теорию мономифа или «пути героя», которую описал Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой».
Книга «Тысячеликий герой», опубликованная в 1949 году, стала моей второй литературной любовью. Я не преувеличу, если скажу, что поставил на нее всю свою карьеру в кино.
Произведение Джозефа Кэмпбелла описывает структуру, скрытую во всей мировой мифологии, фольклоре и классической литературе. Эта структура использовалась во всех культурах во все времена. Кэмпбелл предполагал, что эти идеи, архетипы и темы настолько глубоко сидят во всех историях потому, что универсальны для всего человечества.
Человеческое сознание — это машина для историй. Склонность к созданию нарративов заложена в нас с рождения. То, что мы называем «воспоминаниями» и «воображением» — это, по сути, истории, которые мы закладываем в свое сознание как механизм выживания, чтобы защищаться и развиваться. Джонатан Готтшолл называет людей «животными, которые рассказывают истории». Наши сознания ненавидят абстракцию — еще на заре времен люди пытались познать тайны жизни при помощи персонажей и историй. Нам нужно, чтобы в жизни был какой-то смысл. Если мы не можем сложить наш опыт в историю, которая придает нашему существованию смысл, это можно считать психической неполноценностью.
Кэмбелл описал семнадцать этапов, из которых состоит то, что он называл «мономифом» или «путем героя». Кристофер Воглер в своем знаковом анализе работ Джозефа Кэмпбелла под названием «Путешествие писателя» сократил количество этих этапов до двенадцати. Книга Криса стала голливудским стандартом для написания сценариев и учебником для сценаристов во всем мире.
Основа повествования о пути героя начинается с того, что герой получает «призыв к приключению». В его жизни происходит нечто, заставляющее отправиться путешествовать по миру, полному опасностей и чудес. Он сталкивается с рядом испытаний, встречает союзников и врагов (а может быть, даже влюбляется). Все это оканчивается «высшим испытанием». И если он окажется достаточно мудрым и сильным, чтобы преодолеть свои внутренние раны (травмы) и внешние препятствия, а также чтобы победить в смертельной битве, он получит «сокровище» — «эликсир» по Кэмпбеллу — редкую мудрость и проницательность. Только после этого он способен «вернуться домой» с «добычей» и сделать единственную вещь, которая придает ценность человеческой жизни — помочь другим тоже найти свой путь.
Некоторые истории просто проходят мимо нас — мы их не понимаем, не можем прочувствовать, они нам кажутся бессмысленными. А некоторые попадают в самое сердце, пробивают нашу защиту и пролезают в укромные уголки, вызывая физиологические реакции в обход мозга: слезы, смех, мурашки или вздохи. Они нас радуют, приносят удовольствие и вдохновение. Заставляют стремиться к чему-то. Великие истории открывают нам истину и внушают желание пересматривать фильм снова и снова.
Список голливудских блокбастеров, которые следуют парадигме пути героя, можно перечислять бесконечно. Так, навскидку: «Волшебник из страны Оз», «Матрица», «Челюсти», «Звездные войны», «Титаник», «Храброе сердце», «Гарри Поттер», «Рокки», «Властелин колец», «Король Лев», «В поисках Немо», «Форрест Гамп», «Суперсемейка», «Молчание ягнят», «Мулан», «Гладиатор», «Аладдин», «Индиана Джонс», «Красавица и чудовище», и, конечно, «Танцующий с волками»/«Аватар» (очень советую посмотреть их подряд).
«Путь героя» стал моим практическим руководством по созданию интересных персонажей и помещению их в истории, которые понятны и близки каждому вне зависимости от языка, возраста, расы, религии, культуры, национальности, образования и экономического статуса. Джозеф Кэмпбелл и Кристофер Воглер описали универсальный сюжет: преодоление препятствий, трансформация, перерождение в лучшую версию себя. Эта концепция стала для меня золотой жилой в сфере кино и ключом к исполнению желаний моих зрителей. Кинозвезда — это воин, вступивший в смертельную битву с брутальными условиями человеческого существования.
Это преображение гусеницы в бабочку. Это история Христа, Будды, Мохаммеда, Моисея, Арджуны. Это превращение Кассиуса Клея в Мухаммеда Али. Это универсальный путь трансформации. Это история Сантьяго из «Алхимика».
И все это было в «Людях в черном». Это был фильм со спецэффектами и существами, крепкой мужской дружбой (тоже в своем роде историей любви) и идеальным путем героя. В нем мы должны были на практике проверить, работает ли «формула успеха кино от Уилла Смита».
«Люди в черном» вышли на экраны 2 июля 1997 года, ровно через год после «Дня независимости». Не все уикенды в Голливуде одинаково хороши — дни рядом с четвертым июля всегда считаются самой желанной датой премьеры в году. Студии стараются выпустить свои самые многообещающие картины именно в это время. Поскольку это длинные выходные, люди готовы ходить в кино хоть каждый день, а это значит, что сборы в прокате могут быть в два или три раза выше, чем на любой другой неделе. Когда студии выпускают твой фильм на четвертое июля, они надеются сорвать куш. Я решил, что хочу выжать из них еще немножко выгоды, и во всех интервью стал называть эти выходные «уикендом Большого Уилли».
Народ клюнул, и эта фраза попала во все заголовки. В Британии шутка получилась с двойным дном: слово «Уилли» у них на сленге означает мужской половой орган, а слово «большой» значит большой. Я вроде как пригласил всех своих британских друзей к себе на «уикенд Большого Члена».
Выход «Людей в черном» был, как финальный матч в боксе: я против кассовых сборов. Я делал все возможное, чтобы за сборами фильма следили, как за решающим боем Мухаммеда Али. Я хотел устроить из этого грандиозное шоу, какого мир еще не видывал. У нежных кассовых сборов не было шансов перед грубым натиском Большого Уилли (эту фразу я посвящаю моим британским друзьям).
Омар был младшим из нашей команды. Он начинал у нас на подтанцовке, но теперь мы с Джеффом выступали гораздо реже, поэтому я взял его консультантом по гардеробу в свой сериал. Омар обладал превосходным вкусом и помогал мне создавать свой собственный неповторимый стиль в одежде.
Однако он втихаря планировал большой карьерный шаг: пока наше с Джей-Элом внимание все больше переключалось на телевидение и кино, он собирался взять на себя роль моего музыкального продюсера и менеджера. Он долгое время обхаживал дуэт из Нью-Йорка под названием Trackmasters, которые уже работали с Насом, LL Cool J и Фокси Браун. Они-то и придумали, как мне вернуться к музыке.
Омар с нетерпением ждал возможности расстаться со статусом «младшенького». Он чувствовал, что что-то наклевывается, и мечтал сделать свой вклад в общее дело.
— Бро, слушай, — сказал Омар, — помнишь, как всех цепанула заглавная песня из «Принца»? К «Людям в черном» надо тоже сочинить песню. Поверь мне, это будет пушка. В музыке сейчас полный мрачняк. Ты сможешь поставить целую культуру с ног на уши.
Когда ты знаменит, все вокруг тащат тебе свои идеи, предложения, демозаписи или советы о том, как тебе лучше делать свою работу. С друзьями и родственниками дело обстоит еще хуже — они чувствуют, что имеют на это право, а ты чувствуешь себя обязанным их выслушать. Поэтому я терпеливо выслушал предложение Омара.
А потом он включил мне свою задумку, для которой взял семпл из песни Патрис Рашен Forget me Nots. Певица на демозаписи затянула: «А вот и люди в черном». Я повернулся к Омару, качая головой и корча классическую рожу довольного музыканта, у которого как будто что-то сдохло прямо под носом.
Мы с Trackmasters кинулись в студию. Они сделали барабаны посовременнее и добавили оркестровую партию — песня реально качала. Я придумал и записал текст, и пока мы еще слушали черновой вариант, я повернулся к Омару и сказал:
— Кажется, ты только что получил новую работу.
Омар позже провернул тот же самый трюк с Джейденом и Джастином Бибером, с песней Never Say Never для фильма «Карате-пацан» — лучший фильм, лучшая пластинка.
В индустрии развлечений ничто не может побить комбинацию из хитового фильма и хитовой песни. Вспомните «Телохранителя» Уитни Хьюстон с песней I Will Always Love You, Purple Rain Принса, Eye of the Tiger и «Рокки», «Лихорадку субботнего вечера», «Свободных» или «Бриолин»… Ну вы поняли. Алхимия сюжета и саундтрека создает неудержимое торнадо, высасывающее денежки из вашего кармана.
Симбиоз кино, песни и видеоклипа — это уникальное природное явление. Песня, по сути, бесплатно рекламирует фильм по радио, видеоклип выполняет функцию трейлера, а фильм заставляет поклонников купить альбом и заказывать песню по радио и телевизору.
Мы были во всеоружии. Осталось только дождаться четвертого июля… То есть уикенда Большого Уилли.
Глава 15
Ад
Мальчика с отцом несправедливо заключили в тюрьму. Грецией тогда правил полный козел — он сфабриковал доказательства, запретил им выходить под залог и даже не предоставил адвоката. Их посадили на всю жизнь.
Отец и сын решили бежать. Мужчина был мастером на все руки и гениальным изобретателем: он мог придумать, построить и починить что угодно. Он не желал, чтобы его сын сгнил в вонючей тюремной камере, поэтому изготовил две пары крыльев из воска и перьев для их совместного побега. Но перед тем, как полететь, отец строго-настрого наказал своему дорогому сыну: «Не подлетай близко к солнцу, иначе оно растопит воск. И не летай низко над морем, чтобы вода не намочила перья».
Но Икар, его сын, не прислушался к словам отца. Он очутился на воле, за пределами толстых каменных стен, далеко от сторожевых башен — свобода! — и взмыл в бескрайнее голубое пространство. Взлетая все выше и выше, он становился все счастливее и счастливее. Блаженство пьянило его, полет увлекал, в его юных венах бурлил адреналин, и он мчался, как мотылек на огонь свечи. Солнце было уже близко, его нестерпимый жар опалял, его свет слепил, но юноша продолжал набирать высоту, все выше и выше. Наконец, мягкие восковые перья размягчились, расплавились и осыпались в море. Икар начал падать — вначале медленно, незаметно, а потом уже камнем понесся вниз. Море было все ближе. Солнце — все дальше. Катастрофа была неминуема. Икар обжегся, разбился и сгинул.
У меня не было никаких проблем с тем, чтобы подлететь близко к солнцу. Просто моими крыльями были все, кто меня окружал.
Уилл Смит оказался самым коммерчески успешным актером по результатам опроса профессионалов киноиндустрии… В рейтинге звезд, способных обеспечивать финансирование проектов, успех в прокате, привлекательность для разных целевых аудиторий и влиять на другие факторы Смит единственный из всех получил 10 из 10 баллов. — «РЕЙТЕРС»
Смит занял первое место… из больше, чем 1400 действующих актеров [потеснив Джонни Деппа, Брэда Питта, Леонардо ДиКаприо, Анджелину Джоли, Тома Хэнкса, Дензела Вашингтона, Мерил Стрип, Джека Николсона, Тома Круза и Мэтта Дэймона], поскольку кинопроектам с его участием гарантирован финансовый успех. — «ФОРБС»
«Мы можем с уверенностью сказать, что Уиллу Смиту теперь принадлежит уикенд четвертого июля», — заявил Джефф Блейк, президент по глобальному маркетингу и дистрибуции компании Columbia Pictures. — «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
Уикенд Большого Уилли был просто крышесносным — «Люди в черном» собрали 51 миллион долларов за первые три дня проката в одних только Соединенных Штатах. Фильм вышел на первое место больше, чем в сорока странах мира, в конечном счете заработав 250 миллионов дома и превысив 600 миллионов по всему миру. Тираж саундтрека превысил пять миллионов копий. Чтобы сорвать еще больший куш, мы под шумок выпустили альбом Big Willie Style, который разошелся больше, чем 12 миллионами копий во всем мире.
Я официально и единогласно стал самой большой кинозвездой на свете.
Но скажу честно — это все не про меня. Это история пишется не для того, чтобы потешить мое эго. Я не пытаюсь понтануться во всей красе. Это чисто историческая справка, контекст, точка отсчета, чтобы вы, дорогой читатель, лучше и глубже понимали, как лихо я всех уделал.
Что-то изменилось, когда я увидел ее.
Я даже не буду пытаться объяснить, но меня это преобразило навсегда. Мы знали, что у нас будет девочка, но я даже не представлял, насколько все у меня внутри перевернется.
Когда рождались мои сыновья, я испытывал разные степени ужаса и смятения. Трей появился на свет с помощью экстренного кесарева сечения, и его немедленно отправили в интенсивную терапию для новорожденных. Впервые я его увидел с капельницей, торчащей из макушки. Когда родился Джейден, Джада была в плохом состоянии, и все мое внимание было уделено ей, а не рождению сына. Оба рождения в моей памяти — это разрозненные вспышки страшных моментов.
Поэтому на этот раз я, как ветеран родильного отделения, свободный от страхов начинающих родителей, поклялся быть предельно внимательным. Я хотел следить за процессом и участвовать в нем на каждом этапе.
Уиллоу Камиль Рейн Смит родилась 31 октября 2000 года, на Хэллоуин. Ее рождение предварительно ожидалось 11 ноября, в один день с Треем, но еще в материнской утробе она не собиралась ни с кем считаться. Она родилась на две недели раньше, как настоящая дива.
Мне первому вручили ее на руки. Она была такая крошечная — все ее тельце уместилось в мою ладонь, с которой она свесила ручки и ножки. Пятнадцать секунд спустя она получила свое прозвище, которым я называю ее до сих пор — моя горошинка. Она пыталась сфокусировать свои прекрасные изумрудные глаза. Ей не удавалось меня разглядеть, но, похоже, какая-то часть ее уже знала, что я всецело принадлежу ей.
Мне всегда нравится пересказывать истории о рождении моих детей — отчасти для того, чтобы описать свое волнующее преображение в отца, но в основном для того, чтобы попозорить их на глазах у друзей. Вот главный прикол из истории Уиллоу: она родилась, я взял ее на руки, вытаращился, а потом как заору во все горло: «ГОСПОДИ, А ГДЕ ЖЕ ЕГО ПИПИСЬКА?»
Уиллоу ненавидит, когда я рассказываю эту историю. Мне от этого только смешнее и хочется повторять ее снова и снова (в книгах там, и все такое).
Что-то странное произошло внутри нашей семьи после рождения Уиллоу. До того момента мы сохраняли хрупкое равновесие. У меня был один ребенок с Шери и один — с Джадой. Мы очень старательно создавали образ единой семьи. Поначалу было сложно, но Джада с Шери согласились, что Джейден и Трей должны считать друг друга родными братьями. Джада даже отказалась от титула мачехи. Трей до сих пор называет ее своей бонусной мамой.
Когда родился Джейден, мы сделали все возможное, чтобы Трей принимал активное участие в его жизни. Мы посоветовались с психологом о том, как помочь ему принять появление Джейдена. Психолог предложила Трею — которому тогда было шесть лет — придумать имя для малыша, потому что в таком случае Трей быстрее начнет считать нового ребенка своим братом. Если Трей сам его назовет, то почувствует его своим, и это наладит между ними связь.
Мы с Джадой были в восторге от идеи того, что Трей сможет принять участие. Когда мы пришли домой, Трей сидел у себя в комнате и играл в «Марио Карт» на новенькой приставке Nintendo 64. Он ничем не отличался от других мальчишек, которых невозможно оторвать от экрана.
— Трей! — бодро позвал его я.
— Привет, пап, — отозвался он, не отводя взгляда от телевизора.
— У нас для тебя сюрприз! Мы хотим, чтобы ты помог нам выбрать имя своему брату.
— Ага, — протянул маленький троглодит в своем полукоматозном состоянии, совершенно зачарованный игрой.
— Трей, оторвись на минутку, — попросила Джада.
— Ага, сейчас, — ответил он.
— Трей, это важно. — Меня начало бесить то, что моему крутому психологическому ходу препятствует дошкольник. — Выбери, пожалуйста, имя для своего брата…
— ЛУИДЖИ! — воскликнул он, не переставая играть.
Мы с Джадой переглянулись в ужасе, разделяя одну и ту же мысль на двоих: а тебе когда-нибудь встречался негр по имени Луиджи?
Джада решила вмешаться:
— Трей, а другие имена тебе не нравятся? — спросила она нараспев с притворной материнской заботой.
Трей, очевидно, почувствовав, что его идею отвергли, тут же поставил игру на паузу.
— Вы же сказали, что я могу дать братику имя!
— Да, конечно, Трей, — ответил я нараспев с притворной отцовской заботой. — Мы просто спросили — может быть, тебе нравятся и другие имена. На случай, если он не будет похож на Луиджи…
— НЕТ, Я ХОЧУ ЛУИДЖИ! ЭТО МОЕ ЛЮБИМОЕ ИМЯ! — заныл Трей.
— Ладно, ладно, — примирительно сказала Джада. — Как скажешь.
— Да я эту тетку задушу, ей-богу!
— Я уже звоню ей, Уилл, успокойся, — сказала Джада, поспешно набирая номер.
Я расхаживал туда-сюда по спальне, пуская пар из ушей. Из-за того, что какая-то проклятая тетка-мозгоправ, которая берет четыреста баксов в час, что-то там придумала, мне теперь придется назвать сына Луиджи Смитом!
— Нам, может, в сраную Италию теперь переехать?!
Психологиня рассыпалась в извинениях, но придумала выход из ситуации. Она посоветовала нам быстренько купить Трею щенка. По ее теории, если Трею так нравится имя «Луиджи», то он не захочет ждать, пока родится брат, и даст эту кличку собаке. А вот уже тогда мы попросим его придумать брату новое имя, аккуратнее подняв эту тему снова.
Мы немедленно помчались и купили очаровательного пушистого серого щенка породы лхасский апсо.
— Трей, у нас для тебя еще один сюрприз! — сказал я.
— ВАУ! — завопил Трей и побежал обниматься с собакой.
— Как ты его назовешь? — драматическим шепотом спросила Джада, ступая на минное поле нашего афро-итальянского конфликта.
Конечно же, Трей воскликнул:
— ЛУИДЖИ!
Джада успешно завершила первую фазу операции. Теперь была моя очередь.
— Но Трей, послушай, мы не сможем назвать твоего брата так же, как собаку, — начал я.
Джада фыркнула — ей не понравилось, что я зашел издалека.
— Но я хочу назвать щенка Луиджи, — твердо сказал Трей.
Фаза вторая — успех. Настала очередь третьей, самой важной фазы.
— Тогда для брата придется выбрать другое имя, — сказал я. — У меня есть идея. Давайте каждый выберет какое-нибудь имя. Я выберу, Джада выберет, и ты тоже выберешь! И мы назовем твоего брата тремя именами!
У Трея в детском саду как раз появился новый друг по имени Кристофер. Поэтому, милостью нашего великодушного создателя, Трей воскликнул:
— КРИСТОФЕР! Я хочу назвать нового братика Кристофером!
— УРА! — завопила Джада, практически потрясая кулаками от радости.
В общем, я выбрал имя «Джейден», Трей выбрал «Кристофера», а Джада придумала «Сайера»: Джейден Кристофер Сайер Смит. (Отмечу для потомков, что Джей-Эл до самого пятнадцатого дня рождения называл Джейдена «Луиджи» и никак иначе.)
Рождение Уиллоу сместило баланс в нашей смешанной семье, и я впервые почувствовал, как нас делят на «старую» и «новую» семью. Когда в прессе писали о «семье Уилла Смита», обычно использовали фотографии со мной, Джадой, Джейденом и Уиллоу, не включая туда Шери и Трея. Медиа очень привлекала симметрия и конвенциональность такой образцовой ячейки.
Моя международная слава достигла пика, а вместе с ней и пристальное внимание общественности. И без того хрупкие восковые крылья моей семьи начали размягчаться. Шери с Треем стали потихоньку уходить с переднего плана, но ведь он был моей естественной средой обитания. Я принял их отступление на свой счет. В смысле, вы не хотите идти на премьеру моего фильма? Вся моя семья должна быть на красной ковровой дорожке вместе со мной. Мы так на хлеб зарабатываем.
— Хочу, чтобы у нашего сына была обычная жизнь, — как-то раз сказала Шери. — Хочу, чтобы он ходил в школу. В церковь. Чтобы у него были обыкновенные друзья…
— У него не такая жизнь! — ответил я.
— У тебя не такая жизнь, Уилл. А у Трея вполне могла бы быть. У него ведь есть и папа, и мама. Я не хочу, чтобы он метался из города в город, с одной съемочной площадки на другую. Я хочу, чтобы у него в жизни была стабильность.
— Мой сын должен быть вместе со мной. Ты родила его от меня. Поэтому я — его отец. А чтобы я мог его воспитывать, он должен быть со мной, где бы я ни находился.
— А как же школа, Уилл?
— У Татьяны на съемках «Принца из Беверли-Хиллз» был частный репетитор, и ее приняли в Гарвард. Конечно, ему нужно образование, но для этого ему необязательно ходить в школу.
— Уилл, я видела, как ты работаешь. Ты на него даже внимания не обратишь. Он все детство будет проводить со своими наемными репетиторами и няньками. Некоторые люди снимают кино прямо в Лос-Анджелесе, между прочим. Ты никогда не думал о том, чтобы работать в Лос-Анджелесе и растить сына здесь же?
Я пишу эту книгу и бьюсь об эмоциональную стену — ведь теперь-то я знаю, как должен был поступить тогда. Но раньше я этого не знал и тем самым создал для себя гораздо больше проблем, которых легко можно было бы избежать.
Ты никогда не думал о том, чтобы работать в Лос-Анджелесе и растить сына здесь же?
Вот, что я должен был на это ответить:
— Во-первых, я тебя люблю. Я понимаю, что никто из нас не представлял, что жизнь будет такой, но что поделать. Я знаю, что это страшно, но я все свое существование готов посвятить тебе и Трею. Вот только чтобы у нашей семьи были ресурсы, я должен перемещаться по всему миру. Я понимаю твои переживания. Очень страшно жить не так, как все. Я знаю, что прошу тебя пойти на огромный риск. Конечно, ужасно представлять себе, что твой ребенок не пойдет в традиционную школу, или ты не будешь знать, в каком городе он сейчас находится. Я не говорю, что у меня есть ответы на все твои вопросы. Но я обещаю: если ты мне доверишься и поддержишь в моих начинаниях, я все сделаю ради того, чтобы наша семья процветала.
А вот, что я на самом деле ей ответил:
— Без проблем. Тогда давай все продадим и будем жить на твою зарплату.
— Слушай, если проболтаешься, что это я дал тебе наводку, я буду все отрицать, — шепотом сказал Гарри. — Я показывал это место Джаде, она сказала, что оно слишком большое. Но я-то тебя всю жизнь знаю. Ты только и говоришь про Саутфорк. Я нашел его.
Гарри, как глава семьи в вопросах недвижимости, работал над поиском моего собственного «Саутфорка». Еще ребенком он знал о моей любви к сериалу «Даллас» и о моих фантазиях о собственном имении. Он нашел ранчо на 103 гектара в сорока пяти минутах к северо-западу от Лос-Анджелеса.
— Джада просила меня не показывать его тебе, — сказал Гарри. — Поэтому из уважения к ней, я не стану. Но вот адрес. Это именно то, о чем ты всю жизнь мечтал.
Гарри был такой же, как Джей-Эл — ничего не приукрашивал. Если он говорил «это именно то, о чем ты всю жизнь мечтал», это значило «ты сегодня же должен сгонять посмотреть».
На территории было пять домов, озеро, конюшни, походные тропы, богатая флора и фауна. Когда я в первый раз приехал туда на осмотр, ко входной двери подошла великолепная лань. Я решил, что это знак. Я влюбился. У меня была идеальная жена, трое замечательных детей, и я бесспорно был самой большой кинозвездой во всем мире. Финальным штрихом на картине моей идеальной жизни станет «Ее озеро» — мой собственный дом с именем.
Джада обожает лошадей. Меня аж трясло от предвкушения. Я представлял ее, точно Сью-Эллен, верхом на коне по пути на завтрак. Эта покупка станет физическим олицетворением моей любви к Джаде. Эта земля взрастит семена наших надежд и позволит нашим стремлениям расцвести в полную силу. Как только я увидел озеро на территории, я знал, что оно здесь для нее: «Ее озеро». (Я подумывал назвать его по-испански, Lago de Ella, но в конце концов вспомнил, что я же из Филли, а она из Балтимора.)
Джаде не понравилось. Она могла думать лишь о том, что придется нанять пятьдесят людей, чтобы управлять, ухаживать и следить за сотней гектаров земли с конями, пятью домами и кучей охреневших оленей, которые тебе постоянно ломятся в дверь. А еще она знала, что меня не будет дома шесть месяцев в году, а значит, ответственность за «Ее озеро» ляжет на нее.
Она ненавидела всю эту затею.
Я как раз впервые съездил в Индию. Мы с Гарри восхищенно стояли перед Тадж-Махалом, любуясь его красотой и эстетичностью, и тем, с каким умом и любовью он построен. Многие люди этого не знают, но Тадж-Махал — это мавзолей, спроектированный и возведенный ради одной единственной женщины: Мумтаз-Махал, любимой жены падишаха Шах-Джахана. Он был так расстроен смертью своей возлюбленной, что потребовал возвести Тадж-Махал. Он хранил ее тело более двадцати лет, пока его строили (с 1632 по 1653 год). Он потратил на него тридцать два миллиона рупий (почти миллиард долларов в современных деньгах), нанял двадцать тысяч лучших мастеров со всего света, импортировал мрамор из Италии (что в Индии XVII века было не так-то просто, а ведь у них есть и свой макранский мрамор, который можно было использовать), и все это, чтобы построить частный мавзолей, достойный его потерянной любви.
Я хорошо понимал Шах-Джахана. Мне тоже хотелось, чтобы моя работа прошла проверку временем. Мне хотелось, чтобы все вокруг меня было грандиозным и великолепным. Благодаря моей пылающей страсти все, на что я направлял свои креативные импульсы, воплощалось в своей наилучшей форме: фильмы, музыка, семья, дети, бизнес, брак.
Меня вдохновляла и поглощала мечта о семье Смитов. И «Ее озеро» было обязательной составляющей этой мечты.
— Уилл, мне не нравится, — говорила Джада. — Я не хочу этого. Оно слишком огромное, слишком дорогое. Тебя там не будет. Там будет слишком много людей, слишком много пространства и слишком много шума. Нет!
— Детка, я тебе клянусь, ты просто не видишь того же, что вижу я. Ты видишь только то, что там есть сейчас. Ты не видишь, как оно выглядит у меня в голове.
— Я не знаю, как еще тебе это сказать. Мне не нравится. Я этого не хочу.
Для Джады это был второй огромный компромисс в наших отношениях. Еще одна неудачная остановка на ее пути жизни с Уиллом Смитом.
Обладая сейчас мудростью, которой у меня не было тогда, скажу всем своим молодым читателям мужского пола: нет значит нет. Ничего хорошего не добьешься, если потратишь целое состояние на «семейное жилье», в котором не хочет жить твоя жена. Ты берешь в кредит долгие годы разлада, и расплачиваться придется страданием и невзгодами.
А то и хуже.
Одним из худших конфликтов между мной и Джадой был спор у психотерапевта по поводу наших приоритетов. Нам обоим дали ручку и листок бумаги. Задание было простым — перечислить наши жизненные приоритеты в убывающем порядке важности. Мы с Джадой принялись строчить, и через пару минут нам велели поменяться списками.
Удивительно, но мы оба написали всего по четыре пункта. Пока я читал ее список, мое лицо вытянулось от недоумения. Пока она читала мой список, у нее на глазах выступили слезы. За все двадцать пять лет совместной жизни она не испытывала такой боли. Приоритеты Джады были такими:
1. Дети
2. Уилл
3. Я
4. Остальная семья и друзья
Я же написал следующее:
1. Я
2. Джада
3. Дети
4. Моя карьера
Терапевт напомнил нам, что мы это сделали, чтобы узнать друг друга поближе. Он посоветовал не осуждать друг друга и оставаться открытыми к процессу изучения и познания. Затем он спросил, кто первый хочет высказаться.
— Детка, — заговорил я. — Я вижу, что ты из-за чего-то расстроена. Что именно в моем списке тебя так задело?
Джада еле могла говорить.
— Я не могу поверить, что ты ставишь себя выше своих детей, — ответила она дрожащим голосом.
— Почему же? Я люблю детей не меньше, чем ты. Я вот в шоке, что ты поставила саму себя на третье место. Я этого не понимаю. Это же как в самолете: надень маску на себя, а потом помогай другим. Конечно, я буду заботиться о вас всех, но для этого я должен заботиться в первую очередь о себе.
— Это многое объясняет, — ответила Джада.
— Мне кажется, ты неправильно меня поняла, детка.
— Я все поняла именно так, как ты написал в своем списке.
— Джада, я всего лишь пытаюсь сказать — если ты не ходишь в спортзал, плохо кушаешь и не заботишься о своем физическом и душевном здоровье, ты будешь не такой уж хорошей матерью. О детях нужно заботиться, заботясь о себе.
Я пытался объясниться и исправить ситуацию, но ее сердце было разбито. Она даже не стерла слезы с лица.
За годы я разговаривал со многими артистами, музыкантами, новаторами, спортсменами, мыслителями, поэтами, предпринимателями, мечтателями из совершенно разных уголков жизни, и в разговоре мы всегда затрагивали одну и ту же тему: как нам полностью посвятить себя реализации своего видения, при этом поддерживая любовь, семью и полноценные отношения? К сожалению, я огорчу всех, кто решит связать свою судьбу с другим мечтателем: мечта вашего избранника всегда будет превыше всего.
Достижение моей мечты стало для меня способом выживания. В худшие моменты жизни моя мечта спасала мне жизнь — она грела и кормила меня. Мое видение лучшего будущего поддерживало меня в трудную минуту. Ради него я и жил. Мечта была моим билетом в лучшую жизнь, где царили радость, удовлетворение, безопасность и комфорт. Осуществление мечты было моей единственной дорогой к любви и счастью. Провал означал смерть. Я верил, что когда доберусь до вершины горы, мне уже никогда не будет страшно. Не будет грустно. Меня не будут унижать, ненавидеть и презирать. Все, ради чего я жил, было на вершине той горы. И я пожертвую чем угодно, чтобы взобраться на нее. Все, кто помешает мне или не даст этого добиться — мои враги.
Но вот в чем парадокс: мое видение включало мою жену и мою семью. Я мечтал о счастье, удовлетворении и процветании для всех нас. Это мое видение, но оно не эгоистично, потому что я хочу этого для всех окружающих меня людей. (Спойлер: никакой это не парадокс.)
Я не понимал фразу «неприлично богат», пока моя песня Gettin’ Jiggy Wit It — «Давай подрыгаемся» — не поднялась на первое место. Впервые моя песня забралась на первую строку в чарте Billboard Hot 100. В моей шикарной жизни все шло настолько великолепно, что это уже было реально неприлично.
Я всегда вспоминаю, как Майкл Джордан пожал плечами, забив свой шестой трехочковый в финальной игре 1992 года против «Портленд Трэйл Блэйзерс». Он тогда просто физически не мог промахнуться, хотя обычно трехочковые броски и не были его специальностью. И несмотря на то что он выбирал, практиковал и делал броски с полным намерением попасть, он так же, как и мы, был в полном шоке оттого, что смог забить их все.
Просто чтобы вы представляли последовательность событий: «День независимости» был в июле 1996-го. Песня к «Людям в черном» была в середине июня 1997-го, а сам фильм вышел через две недели после этого. Альбом Big Willie Style вышел в ноябре 1997-го, сразу как я взялся за съемки «Врага государства».
Мы с Джадой поженились 31 декабря 1997 года.
«Давай подрыгаемся» вышла в январе 1998-го, реакция публики была сдержаннной. В феврале с ней особо ничего не происходило — в том месяце я получил свою третью «Грэмми» за «Людей в черном», и мы не особо переживали, что «Давай подрыгаемся» не стала большим хитом. Но тут вдруг колеса судьбы закрутились: в эпизоде сериала «Сайнфелд» Джерри попытался подкатить к девушке, но она не очень-то им впечатлилась. Он спросил у нее:
— А что не так?
На что она ответила:
— Чего ты хочешь от меня, Джерри?
— Я хочу с тобой подрыгаться, — решительно ответил Джерри.
Фанатам очень понравилось Сайнфелдово непристойное переопределение слова «дрыгаться». На следующей неделе Стюарт Скотт, ведущий со спортивного канала ESPN, в нарезке бросков НБА за неделю выкрикнул по поводу лучшего броска:
— И вот он решил подрыгаться с мячом!
Вот так внезапно продажи моего сингла и альбома взлетели, а в марте «Давай подрыгаемся» забралась на первое место.
Я был ужас как неприлично богат. И это было лишь начало.
Ой, кстати говоря, где-то в это время Джим Керри стал первым актером, зарабатывавшим по 20 миллионов долларов за фильм, подняв планку для всех лучших звезд Голливуда. Было совершенно очевидно — раз Джим мог просить двадцать миллионов, то я буду просить как минимум… двадцать один.
Чтобы моя жизнь была идеальной, я непременно должен был быть идеальным отцом. Мне нравилось представлять, как я учу, создаю, формирую, леплю и вскармливаю сердца и сознания своих детей. Мальчикам нужна мужская подготовка. Моей обязанностью было научить их «охотиться», выживать и процветать в материальном мире. Мне стало казаться, что Шери очень мешает мне формировать из Трея юного воина. Мой отец вырастил меня в ледяном цеху, он заставлял меня мешать цемент. Меня растили в пылу битвы.
— Мой сын всегда будет там же, где и я, потому что только так я смогу его всему научить, — говорил я.
Наши с Шери отношения окончательно скатились в постоянные споры и несогласия по поводу родительских обязанностей. Она требовала, чтобы я заставлял Трея вовремя ложиться и вставать. Мне же было плевать, во сколько он ложится спать, лишь бы просыпался и принимался за работу. Он сам научится вовремя ложиться спать, если станет дерьмово чувствовать себя по утрам. Она хотела, чтобы я ограничил ему время на видеоигры, а я думал — вдруг он гений видеоигр и изобретет следующий «плейстейшен»? Я пытался понять и культивировать его любовь к видеоиграм и познакомить его с программистами и дизайнерами из мира игр.
Шери хотела, чтобы я давил на него по поводу школы и высоких оценок, но я не считал, что классическая система образования — это ключ к успеху. Мне хотелось, чтобы он учился думать критически. Школа казалась мне чем-то, что отнимает у меня драгоценное время, которое я мог бы потратить на то, чтобы научить его настоящей жизни. Я хотел, чтобы весь мир стал его школой, все люди — его учителями, и все места — школьными кабинетами.
Эти конфликтующие взгляды на воспитание ребенка и в целом на жизнь вылились в борьбу за опекунство. Трею было девять лет, и оба его родителя требовали права на полную опеку. Во время таких споров эмоции настолько зашкаливают, что здравому смыслу почти не остается места. Родители перетягивают ребенка, как канат. Насколько сильно вы готовы потянуть, чтобы не навредить ребенку, но победить бывшего супруга? Хуже того: вы думаете, что делаете все это исключительно во благо ребенка, поэтому считаете себя вправе совершать вопиющее эмоциональное насилие, ведь во всем виноваты бывшие — это из-за них вся каша заварилась. Все понимают, что виноваты они, кроме них самих.
Я позвонил папуле. Он спокойно и терпеливо меня выслушал, потому что был ветераном такой же подлой войны. Ответил он тоже с несвойственной для него деликатностью, понимая, что у меня на уме, и зная — нужно действовать осторожно.
— Послушай меня, дружище. Ты не сможешь победить. Нельзя воевать с матерью твоего ребенка. Пацан тебя возненавидит до конца своих дней.
Слова папули попали мне в самое сердце. Я и сам прекрасно это понимал.
— Что же мне делать? — спросил я. — Позволить ей испортить мне сына?
— Нужно подождать. Когда ему исполнится тринадцать, она с ним перестанет справляться. Он потянется к тебе. И вот тогда настанет твой черед. Но пока пусть она делает все, что хочет. Ты появишься, как только сможешь.
Я по-прежнему разрываюсь между всеми «за» и «против» того решения. Но я бросил ругаться с Шери. Я согласился, что мы оба станем его равноправными опекунами, но жить он будет у нее. Это значило, что без ее разрешения он не сможет уехать из Калифорнии, а она вряд ли даст это разрешение в течение учебного года. В результате я не виделся с Треем по три-четыре месяца подряд, а видеозвонков тогда еще не существовало. Еще одним нечаянным последствием этого решения стало то, что Уиллоу и Джейден учились на дому, и поэтому они всегда были со мной.
Но папуля оказался совершенно прав: через три недели после своего тринадцатого дня рождения Трей попросился переехать ко мне. Мой черед действительно настал. Это был радостный момент. Джейден и Уиллоу были в восторге от того, что старший брат теперь будет жить с ними. Но между мной и Треем образовалась глубокая и широкая пропасть. Темные семена непонимания, обид и недоверия уже пустили корни, однако плоды они принесут только через много лет.
Уилл, срочно, немедленно перезвони!!!
От сообщения Эллен меня будто ударило электрошоком. Она живет с мамулей.
— Что у вас случилось? — спросил я ее.
— Мама была в круизе в Турции… — с надрывом зачастила сестра.
— Эллен, — перебил я с ледяным спокойствием. — Мы со всем справимся, что бы ни случилось. Только я прошу тебя сделать глубокий вдох, потому что ни слова не понимаю.
Меня самого удивила моя спокойная и уравновешенная реакция. Мне хотелось быть главным. Мне хотелось быть ответственным. Мне понравилось, что Эллен обратилась за помощью именно ко мне. И я впервые почувствовал, что действительно способен помочь.
— Мама была в круизе в Турции, — причитала Эллен. — Я не знаю, что там случилось, но она в больнице.
— Ладно. Все хорошо. Ты успокойся. Кто с ней там?
— Тетя Флоренс, — сказала Эллен.
В последнее время мама страстно полюбила путешествия. На каждый день рождения, Рождество и все остальные праздники я удивлял ее и ее друзей очередным приключением. Они даже прозвали ее «главной туристкой». В Турцию она отправилась с Флоренс Эйвери, мамой Джеймса Эйвери. Они стали заядлыми попутчицами, и Джеймс всегда шутил: «Твоя мама таскает мою по всему миру на твои деньги! Я себе такого позволить не могу — поэтому на тебе лежит ответственность за них обеих!»
Во время первой вылазки со своего турецкого круиза они отправились погулять по руинам Эфеса. Мамуле так хотелось посмотреть на колонны, что она не заметила полуразрушенную ступеньку, поскользнулась и ударилась лодыжкой об острый край бетонной плиты.
Мамулю срочно отправили в ближайшую больницу, где не было ни персонала, ни оборудования для того, чтобы помочь ей с такой травмой. К тому времени, как пришла пора возвращаться на корабль, ее лодыжка сильно опухла. Корабельный доктор определил, что у нее перелом, и ей нужно попасть в Американскую больницу в Стамбуле, где смогут как следует наложить гипс.
Мы с Эллен в это время были в Лондоне. У мамули был диабет. Поскольку ее состояние ухудшалось и перевозить ее было все труднее, я организовал медицинскую эвакуацию в Великобританию, а через десять дней мы все вернулись в Филли.
Из-за диабета у мамы возникли сильные осложнения, и нога все не заживала. Кровообращение у диабетиков ухудшается, а без притока крови переломы срастаются плохо. Ее лодыжку соединили с большеберцовой костью внешним фиксатором — стабилизационной клеткой — из-за чего у нее развился остеомиелит, костная инфекция, которая может со временем привести к разрушению и некрозу, то есть, гибели кости. И хотя доктора пытались сделать все возможное, чтобы спасти ее лодыжку, они, наконец заговорили и о том, чего боятся все диабетики — об ампутации.
Мамуля пробыла в больнице уже почти два месяца, и для женщины, которая только открыла для себя радости путешествий по всему миру, неподвижность становилась невыносимой.
— Сколько мне еще лежать здесь? — спрашивала мама.
— Мы пытаемся улучшить кровообращение в вашей ноге, но для того, чтобы оценить успех процедуры, потребуется не меньше трех месяцев, — ответил доктор.
— И каковы шансы, что через три месяца вы спасете мою ногу?
— Пятьдесят на пятьдесят.
— То есть я могу пролежать в этой кровати еще три месяца и все равно остаться без ноги?
— Да, такое возможно, но…
— Режьте, — твердо потребовала мама.
— Мам, стой, пусть договорит… — сказал я.
— Я не собираюсь до конца жизни валяться в постели, — заявила мама. — Режьте сейчас. У меня в июне круиз.
Это была самая дерзкая фраза, которую я когда-либо слышал.
Мамуле ампутировали ногу ниже колена. Через семь недель ей изготовили первый протез. Еще через четыре месяца она продолжила свой круиз с Флоренс Эйвери.
Но всего через три дня после того, как мамулю увезли из Турции, там произошло ужасное землетрясение магнитудой 7,8, которое унесло жизни двадцати тысяч человек. Доктор, который лечил ее в Филадельфии, рассказал, что ее турецкая больница была уничтожена бедствием.
— А я всего-то ногу потеряла, — сказала мама.
Она склонила голову и тихо добавила:
— Слава богу.
Глава 16
Предназначение
— Ну уж нет! Ни за что. Ни в коем случае. Черта с два. Не бывать этому — нет, нет и нет. Не. Ну нафиг.
Именно это я ответил Джей-Элу на то, что Майкл Манн приглашает меня сняться в фильме-биографии Мухаммеда Али. От одной мысли меня пробирала дрожь. Нет, я ни за что не стану чуваком, который испортит образ и наследие этого великого человека на большом экране.
Кроме того, все и так было хорошо — я уже стал бесспорным и непобедимым мировым голливудским чемпионом кассовых сборов. К чему рисковать? Зачем ставить на кон мой гордый титул? Изображать Али в кино до смешного трудно. От этого рискованного предложения так и веяло чудовищным глобальным провалом и вселенским позором до скончания веков. Короче, игра не стоила свеч.
Мне нужно было научиться не просто боксировать, а боксировать так, как это делал величайший боксер всех времен. Просто великие борцы ему и в подметки не годятся. А я вообще никогда не занимался боксом. Он весил больше 100 килограммов, а я едва дотягивал до 85. У него был неповторимый акцент и тембр голоса — никто не звучал так же, как Али. Он был величайшим борцом за справедливость, на него равняется весь мир. С Мухаммедом Али было больше видеозаписей, чем с любым другим человеком на свете, и это не просто какие-то старые ролики — это классические, задающие тон всей эпохе образы, запечатленные в сердцах и умах как поклонников бокса, так и обычных людей. Мухаммеда Али знали все.
— Я не буду, Джей. У меня не получится.
— Просто поговори с Майклом Манном, — сказал Джей-Эл.
— Нет, я не хочу. Он будет час толкать мне свою идею, а я все равно откажусь. Конечно, мне хочется с ним поработать, но только не над этим фильмом.
— Нет, ты сходи на встречу, — терпеливо повторил Джей-Эл, как будто не слышал моих отказов.
Я помолчал, потом попробовал отстоять свою точку зрения:
— Ну уж нет! Ни за что. Ни в коем случае. Черта с два. Не бывать этому — нет, нет и нет. Не. Ну нафиг.
Я повесил трубку и вернулся к своей простой, легкой жизни, в которой не было места неоправданному риску.
Где-то через неделю Джей-Эл перезвонил снова.
По моим примерным подсчетам за последние пару десятков лет я говорил с Джеймсом Ласситером по телефону где-то двадцать тысяч раз, и в среднем один звонок длился от семи до двенадцати минут, итого где-то 171 000 минут. То есть я провел на телефоне с Джей-Элом примерно 118 дней. Чтобы вы понимали, если бы это был один непрерывный звонок, то в начале я поздравил бы его с Новым годом, а к концу интересовался бы, как он проводит Пасху. Мы обсуждали по телефону все на свете: рождения, свадьбы, кино, детей, происшествия, музыку, деньги и их отсутствие, смерти, всякую тупость и спорт.
Но этот звонок длиной в двадцать шесть секунд входит в пятерку лучших звонков Ласситера. Своим стандартным невозмутимым монотонным голосом он сказал:
— С тобой лично хочет поговорить Мухаммед Али.
Существуют редкие личности, которые прекрасно знают, кто они такие и что они делают — Ганди, мать Тереза, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела и даже такие юные дарования как Малала Юсуфзай и Грета Тунберг. Каждый из них принял свой божественный долг и готов страдать за правду и общее благо. В их убежденности есть пьянящая сила — они спокойны, решительны и умеют любить даже в разгар конфликтов и ужасных бедствий. Ты можешь просто постоять рядом с ними и зарядиться душевным стремлением вершить добро. За ними хочется следовать, им хочется служить, рядом с ними хочется воевать.
Мухаммед Али на пике своей славы — и своей спортивной формы — отказался от всего, чтобы выразить протест войне во Вьетнаме. Он отказался от призыва в Армию США по религиозным убеждениям и идейным соображениям, а в 1967 году Али осудили за «уклонение от воинской повинности» и приговорили к пяти годам тюрьмы. Ему запретили выезжать из страны, наложили огромный штраф и на три года отстранили от бокса.
Я не уклоняюсь от повинности, я не предаю родину. Я не пытаюсь сбежать в Канаду. Я остаюсь здесь. Хотите отправить меня в тюрьму? Пожалуйста. Я четыре сотни лет провел в тюрьме. И мог бы провести еще года четыре или пять, но я не отправлюсь за десять тысяч миль, чтобы убивать и уничтожать других невинных людей. Если я захочу умереть, я умру прямо здесь, прямо сейчас, в бою с вами — если я захочу умереть. Вы — мои враги, а не китайцы, не вьетнамцы, не японцы. Это вы лишаете меня свободы. Это вы лишаете меня справедливости. Это вы лишаете меня равенства. Хотите, чтобы я куда-то поехал и воевал за ваши убеждения? Да вы сами здесь, в Америке, не вступитесь за меня, за мои права и мою веру. Вы не вступитесь за меня даже здесь, дома.
Я приехал в Лас-Вегас, чтобы встретиться с чемпионом, его женой Лонни и его дочками Лейлой и Мэй Мэй.
Перед Али стояла плошка куриного супа с лапшой. И хотя я даже не думал о том, чтобы играть его в кино, я практически машинально подметил его прическу, то, как он обхватывает губами ложку, как опирается на стол левой рукой, пока ест правой, и как удивительно плавно он двигается. Он посмотрел на меня, и его лицо тут же сложилось в фирменную гримасу, верхние зубы забавно впились в нижнюю губу.
— Кто впустил сюда этого сосунка? — выкрикнул Али, вскакивая из-за стола.
Очевидно, это происходило не в первый раз. Все в семье знали свои роли. Мэй Мэй встала перед отцом.
— Не надо, папа, — сказала она. — Давай сегодня без этого.
Али притворился, что пытается обойти ее, но не может.
— Этот сосунок думает, что может просто так сюда зайти? Сейчас я ему покажу, — сказал он в точности, как Мухаммед Али.
Пришел черед Лонни вступить в разговор. Теперь они с Мэй Мэй обе пытались удержать Али.
— Ну не надо, дорогой, — тепло сказала Лонни. — Доешь свой суп. Можно же хоть разок с кем-то не попытаться подраться?
Я решил подыграть.
— Слушайся жену, чемпион, — сказал я. — Ешь свой суп. Тебе со мной лучше не связываться.
Его это раззадорило.
— Ну все, все! Расступайтесь все! Сейчас послушаем, как он заговорит с кулаком во рту!
Все расхохотались. Кто знает, сколько раз его семье приходилось разыгрывать эту сценку? Но в тот раз это был подарок специально для меня — Али знал, что я эту историю буду рассказывать всем до конца жизни.
Таким Али и был. Он всегда пытался заставить тебя улыбнуться. Он знал, что он — Мухаммед Али, и понимал, что это значит для людей вокруг. Он готов был пойти на все, чтобы оставить автограф на твоем сердце.
«Успокоившись», он меня обнял. Он стал проверять мои бицепсы и пресс, прощупывать кости моих рук. Затем выставил передо мной ладони.
— Покажи свой удар, — сказал мне Мухаммед Али.
— Да ну, чемпион, я ведь еще даже не начал тренироваться…
— Давай, хорош болтать! Врежь мне, — настаивал величайший боксер всех времен.
Я вообще не представлял, как нужно правильно боксировать или бить. У меня была правосторонняя стойка, но я вытянул правую руку и уныло тыкнул ей в подставленную ладонь. И тут Али меня напугал до смерти, потому что согнулся пополам и начал вопить от боли, держась за руку.
— Вы видали?! — крикнул он, указывая на меня. — Этот мальчик меня ударил! Я тут сижу, никого не трогаю, а он меня взял и ударил! Да тебя сегодня в тюрьму упекут, сосунок!
Все в комнате в очередной раз расхохотались. Затем Али заявил, обращаясь к Лонни:
— Ну, он почти такой же красивый, как я. Для кино потянет.
Мы болтали несколько часов.
— Меня на диету посадили, — сказал мне Али. — Лонни считает, я растолстел.
Я в шутку посмотрел ему на живот.
— Да, у тебя тут все серьезно, чемпион, — ответил я.
Али взялся за живот двумя руками и потряс его.
— Да это все ради девчонок, они такое обожают.
Я обратил внимание, какое у нас с ним похожее чувство юмора. Нам было невероятно комфортно друг с другом. Он в душе был большим ребенком, в точности как я сам. Его сердце было открыто. Али рассказывал о своем детстве, о том, как изменилась его жизнь, когда он научился драться, как он победил на Олимпийских играх, как нелегко ему давались отношения с женщинами, как тяжело ему было со своим отцом. Я был шокирован тем, насколько хорошо мы друг друга понимаем. Мой внутренний актер вдруг подумал: блин, кажется, я смогу…
— Я не хочу, чтобы кто-то другой играл меня в кино, — сказал Али. — Я годами отказывал людям. Но для меня будет огромной честью, если ты расскажешь миру мою историю.
Майкл Манн — один из моих самых любимых режиссеров. «Схватка», «Последний из могикан», «Свой человек», «Охотник на людей», «Полиция Майами: Отдел нравов». Мы встретились с ним на небольшом складе, который он переоборудовал в свой лос-анджелесский офис. Большую часть пространства занимали вещи, посвященные Мухаммеду Али: тысячи фотографий, книг, памятных сувениров, журнальных статей, переполненных папок с документами, видеороликов, которые играли сразу на нескольких телевизионных экранах — где-то шло интервью, где-то — запись его удара, которая повторялась по кругу снова и снова. В центре висела боксерская груша, лежали гири, перчатки, скакалки, а также идеально освещенный боксерский ринг.
Все это выглядело как штаб-квартира ФБР, где с маниакальной дотошностью шло составление психологического портрета знаменитости. Когда я приехал, Майкл как раз о чем-то спорил с пожилым итальянцем. На манекенах перед ними висели четыре черные кожаные куртки. Майкл хотел куртку, идентичную той, что была на фотографии Али из шестидесятых. Как оказалось, его собеседником был семидесятипятилетний портной, который сшил оригинальную вещь. Он прислал четыре разных куртки, но ни одна из них не устроила Майкла, поэтому он организовал прилет человека из Чикаго, чтобы они могли обсудить проблему лично. Портной яростно защищал свою работу, указывая то на фотографию из 1960-х, то на куртки (которые, кстати, мне казались идентичными).
— Майкл, при всем уважении, я ведь сам и сшил оригинальную куртку. Я сшил вот эти четыре копии. Все материалы, все выкройки абсолютно такие же, какими были сорок лет назад.
— Что-то не так, — ответил Майкл. — Почему-то они непохожи.
Спор накалялся, пока до Майкла наконец не дошло.
— Я понял! — воскликнул он, указывая на ворот куртки с фотографии. — Шов на вороте копий одинарный, но посмотри, на фотографии он двойной.
Портной прищурился и понял, что Майкл прав. Затем он вспомнил, что в середине 70-х материал ниток поменялся, и он перестал использовать двойной шов. Он пожал Майклу руку и отправился переделывать куртку… как надо.
Как оказалось, Майкл Манн крайне въедливо подходит к работе. Я в жизни больше не встречал людей, которые настолько досконально знали свое дело.
Мы сидели у Майкла за столом.
— Я встретил Малкольма Икс в 1963 году, — сказал мне Майкл. — Я на год младше Али. Мы из одного поколения, поэтому меня возмущали те же проблемы, что и его. Я не пытаюсь его идеализировать. Это сделало бы его менее человечным. Мой фильм — не про бокс, он о политике, войне, религии и бунте. Я хочу передать взгляд изнутри, его личную точку зрения. Я хочу, чтобы было видно его отчаяние в тот момент, когда удача отвернулась от него.
— Не представляю, как стать Мухаммедом Али, — признался я.
— Ну, к счастью, об этом тебе не нужно беспокоиться, — ответил Майкл. — Я создам для тебя учебный план, по которому ты превратишься в Али. Тебе всего лишь нужно будет ему следовать.
Майкл объяснил, что он собирается сам изучить все, что связано с Али, собрать команду мировых экспертов, учителей и тренеров. Он будет руководить моим расписанием. Он окружит меня людьми, которые окружали Али. Он выберет для меня одежду, соберет актеров, даже список музыки для меня составит.
От меня требовалось лишь подчиняться.
Мне понравился этот рецепт: возьмите одного жесткого командира, добавьте четких приказов, щепотку дисциплины, и хорошенько перемешайте. С таким я точно справлюсь.
— Но будет нелегко, — продолжил Майкл. — Тебе придется полностью отдаться этому делу. А потом еще чуть-чуть. Ты боксом когда-нибудь занимался?
— Вообще никогда, — ответил я.
Майкла это не смутило, даже слегка вдохновило. Он потянулся к телефонной трубке на своем столе.
— Даррелл еще не ушел? — спросил он, прекрасно понимая, что Даррелл на месте. — Отлично. Пусть зайдет ко мне.
Даррелл Фостер — самый жесткий человек, которого я встречал в жизни.
Он родился и вырос на улицах Вашингтона и пережил совершенно чудовищное детство, полное жестокости и насилия.
— Блин, это просто чудо, что я не оказался в гробу или за решеткой, — говорил он. — Если бы не бокс, кто знает, что бы со мной стало… Эти перчатки спасли мне жизнь.
Даррелл был спортивным гением. Он начал заниматься боксом в десять лет и всего за пару лет стал лучшим боксером-любителем страны в своей весовой категории. В тринадцать он выиграл Золотые перчатки — самую престижную награду США в любительском боксе. Он был непобедим. За ним стояла очередь из спортивных колледжей с бюджетными местами. Тренеры даже думали отправить его на Олимпийские игры.
Но в семнадцать лет Даррелл Фостер чуть не убил своего соперника на ринге, он лупил его даже, когда арбитр приказал ему перестать. И вот так Даррелл лишился спорта, который спас ему жизнь. Ему запретили участвовать в состязаниях.
Поэтому Даррелл стал тренером. И в этом он тоже преуспел. Он вырос вместе с Шугар Рэем Леонардом — одним из лучших боксеров всех времен — и был его партнером в тренировках, помогал ему получить Олимпийское золото и стать чемпионом мира в пяти весовых категориях. Когда Шугар Рэй ушел на пенсию, Даррелл переехал в Голливуд и стал консультантом для кино. Он тренировал Вуди Харрельсона и Антонио Бандераса для фильма «Бей в кость» 1999 года. А в 2000-м Майкл Манн искал кого-то, кто поможет ему с тяжелой задачей превращения Уилла Смита в Мухаммеда Али, и выбор пал на Даррелла.
Даррелл вошел в комнату — метр семьдесят восемь, 86 килограммов. Если можете, представьте себе помесь питбуля с кирпичом. На левом плече татуировка в виде омеги — он был членом студенческого братства Омега Пси Фи, эти ребята все как на подбор крепкие орешки. Он был твердый, прямой как палка, подбородок поднят, плечи расправлены — точно солдат, а то и генерал. Руки он всегда по умолчанию держал наполовину сложенными в кулаки — просто на всякий случай.
Одно его присутствие внушало трепет.
Он осмотрел меня с ног до головы и не впечатлился. Он протянул мне свой кулак в качестве приветствия — нет, не ладонь, а сжатый кулак. Я стукнул его в ответ.
— Какой у тебя рост? — спросил меня Даррелл.
— Метр восемьдесят восемь.
— Вес?
— Где-то 86 килограммов…
— Ага, маловато, — отметил он скорее сам для себя и направился к рингу. — Снимай ботинки и запрыгивай.
Че? Да на мне же джинсы. И брюлики. Я пришел наряженный.
Но Даррелл уже ждал меня на ринге. Майкл Манн взял в руки видеокамеру. Даррелл надел боксерские лапы и похлопал ими друг о друга так, что эхо разнеслось по всему складу, как по пещере. В эхе отчетливо слышалась фраза шевели задницей, пацан ряженый…
Дарреллу было совершенно насрать, что я величайшая звезда кино в мире. Для него это был скорее мой главный недостаток.
Майкл Манн помог мне надеть боксерские перчатки на четырнадцать унций, и я наконец забрался на ринг.
Надеюсь, он меня бить не будет…
— Девяносто процентов людей на Земле — правши. — Голос Даррелла прозвучал как-то слишком громко. — А значит, если тебя вырубят на улице, то это сделают скорее всего с размаху правой рукой. Чтобы ударить, человек опирается на правую стопу, отставленную назад. На улицах такое сплошь и рядом видишь. Если заметил, что противник перенес вес на ногу — знай, чего ждать. Височная кость — самая крепкая во всем черепе, так что сегодня потренируемся: опусти левое ухо к плечу и мы перехватим руку нападающего. Потом сразу бей правой.
Мы повторяли эту последовательность около получаса. Даррелл разыгрывал настоящую уличную драку. Он осыпал меня оскорблениями, потом переносил вес на правую ногу и замахивался правой рукой. Я старался перехватить его перчатку виском — своей «самой твердой костью в черепе» — а потом тут же бил правой рукой в центр его перчатки.
— Если отработаешь этот прием, — сказал Даррелл, — то сможешь навалять большинству уличных мразей.
— Али тоже использовал этот прием? — спросил я.
— Про Али не думай. Сначала я научу тебя драться.
Это обещание тронуло меня до глубины души. Он научит меня драться по-настоящему. Мысль о том, что я научусь физически защищать себя, вызвала во мне почтение и благоговение перед наставлениями Даррелла.
Майкл с Дарреллом молча переглянулись. Они увидели достаточно — им явно нужно было обсудить меня наедине. Даррелл снял перчатки и сошел с ринга.
— Ну, до завтра, — сказал он.
— А что мы будем делать завтра? — спросил я.
— Побежим десятку. У нас всего год — тянуть некогда.
Даррелл учит с полным погружением: он никого не просит делать то, чего не делает сам. Весь следующий год он был рядом каждую минуту, пробежал со мной каждую милю, перепрыгнул через каждую скакалку, поднял каждую гирю, поучаствовал во всех спаррингах. Он ел, когда ел я, он спал, когда спал я, он работал, когда работал я. Он часто цитировал стихотворение Эдгара Геста «Проповеди, которые мы видим»:
- Лучше увидеть проповедь, чем слушать пересказ
- В дороге лучше проводник, чем объясненье один раз
- Ухо слышит меньше, чем замечает глаз
- Живой пример наглядней, чем много длинных фраз…
От такого амбала я поэзии не ожидал.
У Даррелла было правило — «тут нет актеров». Он устраивал полноценный бойцовский лагерь. На каждую боксерскую роль в фильме взяли настоящих спортсменов — бывшего чемпиона в тяжелом весе Майкла Бентта на роль Сонни Листона, Джеймса «Тушите свет» Тони — чемпиона в трех весовых категориях — на роль Джо Фрейзера, чемпиона Международной федерации бокса в полутяжелом весе Альфреда Коула на роль Эрни Террелла и претендента на звание чемпиона в тяжелом весе Чарльза Шаффорда-младшего на роль Джорджа Формана. С ними мне нужно было сразиться в фильме.
— Мы тут не занимаемся голливудской фигней. Это настоящие бои, — сказал Даррелл. — Мы готовимся к схватке за титул чемпиона, а не к какому-то сраному фильму.
Все знали, что мы делаем это ради Мухаммеда Али. Каждый боец считал себя в долгу перед ним и готов был посвятить себя чемпиону. Атмосферы, подобной той, которая царила на том проекте, я никогда раньше не встречал. Предназначение этого фильма объединило всех нас и зарядило энергией.
Первая неделя выдалась ужасно тяжелой. Я полчаса работал над маневрированием и так вымотался, что улегся на ринг.
Даррелл увидел меня с другого конца зала и рявкнул:
— Эй! А ну встал!
Я поднялся, и он подошел ко мне.
— Даже не вздумай тут разлечься, — сказал он. — Как тренируешься, так и будешь драться.
В этой фразе заключалась философия Даррелла. «Твое отношение ко всему выражается в любом твоем действии», — говорил он. Даррелл не хотел, чтобы моя спина касалась пола ринга на случай, если меня хоть раз отправят в нокдаун. Он хотел, чтобы мне было совершенно чуждо горизонтальное положение на случай, если я когда-либо окажусь в нем.
Он считал, что мечты строятся на дисциплине, дисциплина строится на привычках, привычки строятся на тренировке. А тренировка идет каждую секунду твоей жизни, в любой ситуации: когда ты моешь посуду, ведешь машину, отвечаешь с докладом в школе или на работе. Ты либо всегда стараешься изо всех сил, либо нет. Если ты не отработал нужное тебе поведение, ты не сможешь его включить в нужный момент.
— Мы тренируемся, чтобы создать рефлекторные реакции на чрезвычайные обстоятельства, — говорил Даррелл. — Когда ситуация накаляется, нельзя полагаться на мозги. У тебя должны быть отработаны рефлексы, которые включаются без необходимости думать. Постоянно тренируй свой боевой инстинкт.
Схватки с Сонни Листоном и Джо Фрейзером были ближе к началу фильма, поэтому первыми я тренировался с Майклом Бенттом и Джеймсом Тони. Первые три месяца мы провели только вдвоем с Дарреллом, работая над основами — стойки, осанка, кардио и отработка фирменных плавных ударов Али — сам Али называл их «укусом змеи», потому что они имитировали нападение кобры. Майкл Манн привел нейробиолога, чтобы тот помог, как он выразился, «проложить в мозге новые нейронные проходы». Ученый сделал зацикленный двадцатиминутный ролик из типичных движений ног и рук Али. Я сидел в непроглядно темной комнате и дважды в день пересматривал этот ролик, пристально вглядываясь в одни и те же движения, пока они намертво не отпечатались у меня в мозге.
Первые несколько месяцев я тренировался перед зеркалами, в пустых залах и уединенных местах. Мы бежали в горах Колорадо по снегу в солдатских сапогах. Я едва мог дышать. Даррелл пробежал то же расстояние, что и я, но выглядел так бодро, будто только что отлично выспался. Мне пришлось опуститься на одно колено. Даррелл не одобрил мой привал в сугробе.
— Напиши его имя, — сказал Даррелл.
— Что? — сказал я, пытаясь глотнуть хоть немного кислорода.
— Али. Напиши.
Я наклонился и медленно стал писать.
А — Л — И.
Даррелл достал телефон и сделал снимок.
— Не забывай, ради чего мы страдаем, — сказал он и побежал дальше.
Когда начались групповые тренировки, мы с Дарреллом больше не были одни. Теперь меня колотили на ринге опытные чемпионы по боксу.
Даррелл шептал мне в ухо, зашнуровывая мои перчатки:
— Это не актеры. Это настоящие бойцы. Их руки бьют еще до того, как они об этом подумают. Вот первое правило бокса: всегда защищайся.
В зеркале я начал напоминать себе Мухаммеда Али. Теперь во мне был 101 килограмм мышц, и я мог отжать штангу весом 165 килограммов. Но как только на ринге у меня появился противник, страх не позволил мне держать стойку. Я начал слишком сильно отклоняться назад.
— Держи спину! Подайся вперед! — орал Даррелл снаружи ринга. — Наклоняйся! Создавай углы!
Но у Майкла Бентта был такой вид, что мне совершенно не хотелось наклоняться в его сторону. Я решил: да хрен с ним, наклонюсь! И мой простой наклон вперед на пять сантиметров тут же заставил Майкла ударить правой рукой. Я увидел ее, но было уже поздно. Мне хватило времени только пригнуть голову и приготовиться к удару. Правая рука Бентта прилетела мне прямо в лоб, но из-за того, что я наклонился вперед, моя голова не отлетела назад, а вместо этого вжалась в позвоночник. Я почувствовал, как электрический ток пронесся от верхних позвонков по обеим моим рукам и остановился в области локтей. Во рту у меня появился кислый металлический привкус, как будто я только что лизнул огромную батарейку. К счастью, Бентт увидел, что мне больно, и не стал добивать хуком слева, как он ударил Томми Моррисона, чтобы получить титул чемпиона в тяжелом весе.
Так меня по-настоящему ударили в первый раз. Каждый боец в комнате знал, что это был переломный момент — бей или беги. Все умолкли. Даррелл спокойно вышел на ринг и усадил меня в угол.
— Ты в порядке? — спросил он, прекрасно зная, что я ни фига не в порядке.
Майкл Бентт возник из-за плеча Даррелла.
— Ты в порядке, хоспади? — спросил он со своим густым бруклинским акцентом.
Я смог лишь подумать: где, блин, мои ключи от машины?
В моей жизни случались смешные истории, прекрасные события, трагические потери, невероятные победы — и все они держались на нескольких поворотных моментах, критических решениях, которые мне пришлось принять и которые круто изменяли траекторию моего путешествия по жизни. На том ринге с Майклом Бенттом у меня в голове щелкнул выключатель, который не выключится еще десять лет. Мой внутренний воин взял полное командование моей жизнью.
Я поднялся с табуретки, посмотрел на Бентта и сказал:
— Хороший удар. Продолжаем работать.
Год тренировки и пять месяцев съемок «Али» были в физическом и моральном плане самыми тяжелыми, выматывающими и изнуряющими в моей карьере, но также и самыми преображающими.
Съемки фильма проходили в семи городах на двух разных континентах. Мы начали в Лос-Анджелесе, затем две недели провели в Чикаго, недолго снимали сцены в Нью-Йорке и Майами, а затем настало время отправиться на историческую родину. Мы поехали в Африку, где я никогда до этого не бывал.
Финальные сцены «Али» были сняты в Мозамбике. Майкл Манн — перфекционист, поэтому хотел снимать в Конго, где на самом деле состоялся «Грохот в джунглях». Но бушующая там гражданская война заставила нас перенести производство в Мапуту.
Майклу хотелось, чтобы все актеры почувствовали, каково это — лететь и прибыть на место всем вместе. Джейми Фокс, Джеффри Райт, Нона Гэй, Майкелти Уильямсон, Рон Сильвер, Марио Ван Пиблз, Джон Войт и Майкл Мишель. А также я, Джей-Эл, Чарли и вся моя банда. Майкл пытался воссоздать эмоциональный момент, похожий на тот, который был у Али и его команды. В этом была часть его кинематографического таланта.
И это сработало.
Сложно переоценить эмоциональную силу первого приезда в Африку. Два шага от самолета, и я уже в слезах. То ли мое тело, то ли душа почувствовали родину, но ощущение было просто непередаваемым. Мы все собрались в тихом местечке снаружи аэропорта Мапуту, взялись за руки, преклонили колени и поцеловали землю. Один из рабочих аэропорта крикнул нам из-за забора:
— Добро пожаловать домой, братья!
— Нельсон Мандела пригласил нас на ужин, — буднично объявил Джей-Эл.
Я ничего не смог ответить.
— Сейчас он женат на Грасе Машел, бывшей первой леди Мозамбика, — продолжил он, как будто зачитывал статью из «Википедии». — Их дом недалеко.
— Джей, пожалуйста, научись говорить такие штуки с выражением, — проворчал я.
Мне казалось, что весь мир как-то по-особенному относится к этому фильму. Имя Али открывало мне такие двери, которых я никогда раньше не видывал. Оно вызывало расположение у каждого встречного. Его наследие помогало съемкам идти как по маслу — переговоры о сделках, разрешения, локации, кастинг… все и вся хотели услужить Али. Что бы мы ни просили для того, чтобы правильно рассказать его историю, нам никто не отказывал. И это было не из-за его славы или боксерских титулов, успеха или денег. Люди просто уважали человека, прожившего жизнь с достоинством и честью. Перед лицом мучительной несправедливости, ужасных предрассудков и финансовых проблем он никогда не поступался своими принципами. Он был величайшим борцом всех времен, однако всегда говорил: «Моя религия — это любовь».
Все хотели приобщиться к делу, которое чтит его.
Я уже познал, как притягивает людей слава, как привлекательны деньги и известность, но только теперь я понял, что значит исполнять свое предназначение и служить высшей цели.
Нельсон Мандела двадцать семь лет провел в заключении за то, что протестовал кровавому режиму апартеида в Южной Африке. Он почти потерял зрение из-за каторжных работ в известняковых карьерах. Когда система апартеида разрушилась, его выпустили из тюрьмы Виктор-Верстер и впоследствии избрали президентом Южной Африки.
Он почти сразу назначил слушания Комиссии правды и примирения, где перед судом предстали преступники, создавшие чудовищную систему расовой сегрегации и насилия. Нельсон Мандела принял спорное, но смелое решение, предложив прощение и амнистию тем, кто покается в своих злодеяниях. Многие критиковали его за это, но, как он написал в 2012 году:
В конце концов, примирение — это духовный процесс, для которого недостаточно одних юридических оснований. Оно должно произойти в сердцах и умах людей.
Наступил день, на который был назначен ужин. Двадцать актеров и членов съемочной команды фильма прибыли в загородный дом Манделы в Мапуту. Когда я вошел внутрь в сопровождении Чарли Мэка и Джей-Эла, мои глаза вновь наполнились слезами.
— Не надо плакать, — сказал Чарли Мэк. — Твое место здесь.
— Здравствуй, Уилли, — сказал Мандела, радостно заключая меня в объятия. — Идем, сядешь со мной.
«Мадиба» — как его называют близкие друзья и члены семьи — схватил меня за руку и повел по дому. Он не отпускал моей руки минут десять. Там, где я вырос, мужчины не держались за руки. Такое проявление любви переполняло меня эмоциями.
Я познакомил его со всей нашей командой. Он, в свою очередь, представил меня своей семье и жене Грасе. Он занял место во главе стола и усадил меня по правую руку от себя. Мы ели, разговаривали и смеялись, и он похвалил нас за то, что мы чтим Али. Затем, ближе к концу ужина, Мадиба начал в ярких подробностях вспоминать ужасы апартеида и свои двадцать семь лет в тюрьме, восемнадцать из которых он провел на острове Роббен.
— В заключении нам раз в месяц показывали фильм — это были картины со всего мира — но лично мне больше всего нравилось американское кино. Был один фильм под названием «Полуночная жара» с Сидни Пуатье. В середине фильма был странный дефект. Я понял, что оттуда что-то вырезали. Мне было ужасно интересно, что же там такое. Я использовал все свои связи на воле, чтобы это выяснить. На это ушли недели, но в конце концов я узнал, что в той сцене Сидни Пуатье дал пощечину белому человеку. Я сразу воспрянул духом. Если в американском кино чернокожие могут быть на равных с белыми, значит, ждать осталось недолго. Фильм дал мне сил, он вдохновил меня.
Он сделал паузу, посмотрел мне прямо в глаза и сказал:
— Всегда цени важность того, что ты делаешь.
После ужина гости разбрелись по дому. Вечер подходил к концу. Мы с Мадибой сидели в тишине. Он спокойно наслаждался атмосферой. Я поймал себя на том, что таращусь на него. У него на лице была такая же кроткая улыбка и зачарованное выражение, которое я видел у Джиджи каждое воскресенье в церкви. Лишь слегка приподнятые уголки губ нарушали его непоколебимую безмятежность.
При виде этого знакомого выражения мое сердце дрогнуло. Вскоре он почувствовал мой взгляд и обратил на меня внимание. Я спросил его — как бы в шутку, но в действительности на полном серьезе:
— О чем думаете?
Он посмотрел на меня, как будто пытаясь понять, что я на самом деле имел в виду и готов ли услышать ответ.
— Если ты проведешь со мной некоторое время, — сказал Мадиба, — я тебе покажу.
Если ты проведешь со мной некоторое время, я тебе покажу.
Слова Мадибы крутились у меня в голове, пока мы готовились к съемкам финальных сцен «Али» — знаменитый «Грохот в джунглях», схватка Али против Формана. По иронии судьбы, самый сложный бой в карьере Али оказался самой сложной сценой в съемках нашего фильма. На нее ушло две недели. Майклу Манну потребовалось переоборудовать целый стадион и нанять более 20 000 статистов, чтобы наполнить зал. Из-за освещения и влажности воздуха температура на ринге превышала 40 градусов по Цельсию, поэтому после первого дня съемок я сбросил пять килограммов. А это значило, что мне пришлось удвоить порции куриной грудки, брокколи и коричневого риса, которыми я «наслаждался» вот уже много месяцев.
Как-то раз в конце недели все сидели в разных уголках дома, который мы снимали в Мапуту. Я тренировался с Дарреллом и другими бойцами уже больше года, и все сводилось к этой финальной сцене.
Африканская поездка была кульминацией всего путешествия. Мои братаны, Билал Салаам, Дэйв Хайнс и Майк Соччо прилетели к нам, чтобы вдохнуть в меня свежую энергию, которой мне тогда отчаянно не хватало. Но, хотя все относились к этому как к обычным съемкам кино, Даррелл воспринимал это, как лагерь для боксеров.
Мой братан Билал на тренировках и съемках похудел аж на 45 килограммов. Дэйв Хайнс был моим заменяющим — в голливудской терминологии это значит, что он стоял в тех местах, в которых в фильме должен буду стоять я, пока команда настраивала освещение, расположение камер и все остальное. Дэйв произвел такое впечатление на Майкла Манна, что он дал ему в фильме роль Рахмана, брата Али. Во время одной из наших тренировок я случайно огрел Дэйва так сильно, что он заработал сотрясение мозга.
Мой братан Майк был сценаристом «Принца из Беверли-Хиллз». Я нанял его, чтобы он документировал всю нашу африканскую поездку. Ему казалось, что его сюда просто пригласили в гости, поэтому он, не стесняясь, припер с собой из Филли коробку «Сникерсов».
Даррелл от такой наглости прифигел.
— Нигга, ты че, жрешь сраный «Сникерс»?!
Майка это обращение озадачило по двум причинам: во‐первых, он-то думал, что он тут просто видеограф, а во‐вторых, он белый.
— Уилл собирается выйти на ринг против 106-килограммового мужика. Это вызов всей его жизни. Мы все пожинаем плоды его страданий, а ты только и думаешь о своем удовольствии. Ему не нужно видеть твою рожу, набитую конфетами! Ты или помогаешь, или мешаешь. А если ты не помогаешь, то вали на хрен отсюда домой.
(Заметка из Африки № 1: Майк в конце концов натренировался так, что оказался в лучшей форме в своей жизни. И слава богу, потому что сценарист-то он, конечно, отличный, а вот видеограф из него вышел хреновый: однажды на сафари за нами погнался слон, и Майк так перепугался, что даже не подумал взять в руки камеру, поэтому на память у нас осталась только аудиодорожка… на которой слышно только, как Майк вопит, а Чарли Мэк одиннадцать раз повторяет «е-мое, это ж реально слон!».)
Зато Даррелл с Джей-Элом были в полной гармонии. Джей-Эл понимал всю тяжесть моего начинания. За такой порядок в моей жизни он боролся годами. У Чарли Мэка отец был боксером, поэтому он всю жизнь проводил в боксерских клубах и спортзалах — он понимал, как важно поддерживать чемпиона ради коллективной победы (Чарли с Дэйвом даже стали звать меня «чемпионом»). Омар и так никогда никому не доверял, поэтому ему нравилось, что Даррелл нас защищает.
Этот дух боксерского лагеря и поддержки стал в нашей группе практически законом. Все стали бегать десятку с раннего утра. Все тренировались в зале. Все правильно питались. Все читали, учились и предлагали новые идеи. Все жили по распорядку, чтобы тянуться к лучшей версии самих себя — альтернативой было валить на хрен домой. Эта общая миссия, целью которой было рассказать о жизни Мухаммеда Али, сформировала для нашей группы качественно новый образ жизни, который продолжался еще долго после окончания съемок «Али».
Инфраструктура Мозамбика в то время не была рассчитана на такое крупное кинопроизводство. Нам буквально пришлось перестраивать и ремонтировать отели и дома, чтобы расселить всех актеров и съемочную команду. Большую часть этой команды пришлось привезти из соседней Южно-Африканской Республики. Это создало напряженную обстановку: работники из ЮАР были преимущественно белыми, а работали они на преимущественно афроамериканский ансамбль и съемочную команду, которую обслуживал на 100 процентов черный персонал из Мозамбика. Расовые и националистические трения возникли с первого дня производства.
Наш афроамериканский актерский состав очень сблизился с мозамбикцами. Джейми Фокс практически стал своим — он ходил тусоваться с местными каждый вечер. Джеффри Райт каждую свободную минуту проводил с местными художниками, поэтами и музыкантами — он постоянно приводил с собой на съемки кого-нибудь, кто поразил его до глубины души. (Заметка из Африки № 2: мой парикмахер Пирс влюбился и женился на прелестной мозамбикской девушке по имени Ива. У них родились двое прекрасных детишек, Мадиу и Гаэль.)
Нам всем особенно полюбился молодой ассистент по имени Хорхе Масиэл, который подкупал своим характером. Из-за того, что все его обожали, он фактически стал лидером среди наших мозамбикских ассистентов. (Заметка из Африки № 3: Хорхе сказал нам, что хочет переехать в Соединенные Штаты. Мы ответили: «Конечно, Хорхе, приезжай, поможем». Через шесть месяцев после окончания съемок «Али» Хорхе объявился в Лос-Анджелесе. Он поселился у Пирса, а я вложился в его клиниговую компанию, которая проработала пять лет, пока он не накопил достаточно деловых знаний, чтобы вернуться в Мозамбик и открыть бизнес на родной земле. Мы финансируем компанию грузоперевозок, которой он владеет и управляет до сих пор.)
Африканский опыт был духовным, преображающим и глубоко эмоциональным для всех нас.
Однажды Хорхе подошел к Чарли Мэку и сообщил, что один из белых южноафриканских членов съемочной группы напал на молодого мозамбикского ассистента. Южноафриканец отвечал за чистоту и состояние уборных на площадке. Судя по всему, мозамбикский парнишка оставил после себя капли мочи на туалетном стульчаке. Южноафриканец догнал его, схватил за шиворот, приволок обратно в туалет и ткнул в грязный стульчак лицом.
Чарли в ярости ворвался ко мне в трейлер.
— Так, пошли, эти суки охерели.
Я не понял, что за суки и почему они охерели, но знал Чарли достаточно давно, чтобы почувствовать — дело плохо. Новости разнеслись по площадке, и у туалетов стала собираться толпа. На место происшествия мы пришли вдесятером. Слева было пятнадцать мозамбикских ассистентов, справа — тридцать белых южноафриканцев. Чарли Мэк вышел в центр.
— Кто это сделал? — спросил он.
Мозамбикцы указали на виновника. Мы все повернулись к нему.
— Ты че, кого-то макнул головой в унитаз? — прогудел Чарли, возвышаясь над ним.
— Тебя это не касается, — ответил он.
— Еще как касается. Меня тоже макнешь? — сказал Чарли, теперь уже активно вторгаясь в его личное пространство.
Почувствовав себя неуютно от такого напора, парень сделал два шага назад. В ответ Чарли сделал три. Нас со всех сторон окружили южноафриканские члены съемочной бригады, и каждый из нас присматривал себе цель на случай драки.
— Че мне сделать, чтобы ты меня тоже макнул в унитаз?
Остальные стали пытаться как-то разрядить обстановку.
— Давайте успокоимся…
Но это только раззадорило Чарли.
— Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ МАКНУЛИ В УНИТАЗ! ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МЕНЯ МАКНУЛИ В УНИТАЗ? ТВОЯ МАМАША — ГРЕБАНАЯ СУКА! ТЕПЕРЬ МАКНЕШЬ? — проорал Чарли прямо в лицо провинившемуся.
— МАМАША ТВОЯ — СУКА ГРЕБАНАЯ И ШЛЮХА ПОДЗАБОРНАЯ! ТЕПЕРЬ МАКНЕШЬ МЕНЯ В УНИТАЗ? ТЕБЕ ЖЕ НРАВИТСЯ ВСЕХ МАКАТЬ! ДАВАЙ, МАКНИ МЕНЯ! НУ, ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ? ЕСЛИ Я ТЕБЕ ЗУБЫ ВЫБЬЮ, ТЫ МЕНЯ МАКНЕШЬ?
Тут, наконец, пришел сам Майкл Манн. Он услышал, что назревает инцидент. Наверное, он был единственным человеком во всем Мозамбике (не считая, возможно, Нельсона Манделы), который мог бы потушить этот пожар. Майкл показал на меня и на начальника южноафриканской бригады.
— Ты и ты. В мой офис. Живо. Остальные — работать.
— Того парня нужно немедленно уволить, — сказал я.
— Так не делается, — ответил представитель съемочной бригады. — При всем моем уважении, вас это совершенно не касается. Мы уладим дело между собой.
— Улаживайте как хотите, — ответил я, — только своего расиста отправьте куда подальше. Он уволен. Чтобы духу его здесь не было.
— Я согласен, — поддержал Майкл. — Я не потерплю подобного поведения у себя на площадке.
— Вы, лицемерные американцы, везде видите свой расизм, — сказал он. — Не все конфликты укладываются в ваше детсадовское представление о расе.
— Так, я что-то не понял, — сказал я. — Ты хочешь сказать, что с белым пацаном он бы повел себя точно так же?
— Я хочу сказать, что вы никогда не сможете до конца понять эту проблему.
— Ага, — сказал я. — Давай проще: тот козел уволен за то, что он мудак.
— В таком случае, если уйдет он, уйдем мы все.
Под «всеми» он имел в виду около сотни членов южноафриканской съемочной бригады. Их уход поставил бы крест на нашем фильме и спустил в трубу десятки миллионов долларов. Его угроза могла обернуться катастрофой. Я занервничал, мое сердце заколотилось — я ведь пообещал Мухаммеду Али, что расскажу миру его историю. Если я распущу бригаду, проект будет обречен.
Потом меня осенило левым хуком прямо с небес: это и есть Али. В этом моменте и заключается весь смысл. Мухаммед Али пожертвовал всем именно ради этого. Да пошел этот фильм. Али ни за что не допустил бы, чтобы ради его фильма семнадцатилетнего парнишку окунули головой в унитаз.
Я прозрел.
— Ну и валите на хрен домой, — сказал я. — Лучше я положу весь свой гонорар до последнего цента, чтобы привезти сюда съемочную бригаду из Америки. Но мы не допустим, чтобы на съемках фильма о Мухаммеде Али людей макали головой в унитаз. Проваливайте.
С этими словами я вышел из офиса Майкла.
Майкл меня полностью поддержал. В итоге ушло всего человек двадцать. Мы с Майклом скинулись, чтобы покрыть убытки. Нам обоим пришлось отдать по паре миллионов долларов, но тут даже думать было не о чем. Я начал понимать, в чем сила предназначения.
Предназначение и желание могут казаться одним и тем же, но иногда это абсолютно разные, даже противоположные явления.
Желание — это что-то личное, специфическое и насущное. Оно ведет нас к самосохранению, получению удовольствия или краткосрочной выгоды. Предназначение гораздо масштабнее, богаче. Оно требует заглядывать далеко вперед и думать о благе других людей. Это всеобъемлющая цель, за которую ты готов бороться. Много раз в жизни я действовал, движимый желанием, убеждая себя в том, что на самом деле это — мое предназначение.
Желание — это то, чего ты хочешь. Предназначение — это то, чем ты являешься. Желание со временем ослабевает, а предназначение становится лишь сильнее. Желания отнимают силы, потому что за одним всегда следует другое. Предназначение наделяет силой — это мощный двигатель. Предназначение придает смысл и ценность неизбежным жизненным страданиям. Как писал Виктор Франкл: «В каком-то смысле страдание перестает быть страданием, как только обретает значение — например, значение жертвы».
Благородная цель порождает позитивные чувства. Когда мы стремимся к тому, что считаем глубокой и важной целью, в нас и в окружающих людях пробуждаются самые лучшие черты.
Я от природы не склонен сожалеть о чем-то. До конца своей жизни Нельсон Мандела каждый год приглашал меня к себе. Я старый, не тяни.
Но я в глубине души считал себя недостойным. Целому миру нужен Нельсон Мандела — кто я такой, чтобы отнимать хоть секунду времени этого человека? За годы я много раз виделся с Мадибой — то на благотворительном мероприятии, то на церемонии награждения, — но всего минут по пять-десять.
Пятого декабря 2013 года я был в рекламном туре в Сиднее. Я смотрел телевизор, когда на экране появился тогдашний президент ЮАР Джейкоб Зума.
— Сограждане, — обратился Зума. — Наш дорогой Нельсон Холилала Мандела, основатель и первый президент нашей демократической нации, скончался.
Нельсон Мандела умер в Йоханнесбурге около девяти вечера по местному времени. Он был в окружении семьи и ближайших друзей. Ему было девяносто пять лет.
Мадибы не стало. Этот миг — одно из самых больших сожалений в моей жизни.
Как я мог не принять его приглашение? Я много лет искал в глубине своей души ответ на этот вопрос. Он относился ко мне с большой любовью и почтением. Меня это пугало. Он увидел во мне что-то, чего я сам еще не видел. Наверное, подсознательно я боялся долго быть рядом с ним, ведь он мог во мне разочароваться. А вдруг он попросит меня что-то сделать или изменить в моей жизни нечто, чего я не смогу или не захочу менять?
Мадиба считал меня особенным — мне не хотелось его переубеждать.
С тех пор он много раз являлся мне во сне, всегда с той же знающей улыбкой. Он как будто хотел сказать:
Когда ты будешь готов, я буду рядом.
Глава 17
Идеал
Я хотел сам сложить итоговые суммы, но подумал, что это может стать прикольным занятием для всей вашей семьи. Как видите, это, вероятно, самая эпичная череда успехов в истории Голливуда. (Примечание: редактор заставил меня против моей воли вписать слово «вероятно».)
Вся моя жизнь превратилась в боксерский лагерь. Даррелл теперь был не только моим тренером, но и наставником и защитником. «Али» принес мне первую номинацию на «Оскар» и тем самым оправдал мой новообретенный образ жизни.
(Забавный факт о семье Смитов: это была еще одна церемония вручения наград, которую я пропустил. Уиллоу был годик, она осталась дома с Гэмми, и ее пришлось срочно везти в больницу с температурой 39° — оказалось, отит. Мы с Джадой унеслись с «Оскаров» за шесть минут до того, как объявили категорию «Лучший актер». Отъезжая от места проведения церемонии, я увидел на огромном уличном экране, что награду получил Дензел Вашингтон.)
Следующие десять лет Даррелл всегда был рядом со мной. Он направлял меня, мотивировал и оберегал мое душевное здоровье все время, пока я был на вершине кинематографа. И он мог поставить на место кого угодно.
В то время вся моя команда была просто огненной. Никто не работал так, как мы. Все в Голливуде удивлялись, как нам удается всегда быть настолько продуктивными и успешными.
Ядро моей группы — Гарри, Джей-Эл, Чарли, Омар, Даррелл. Моя начальница штаба — Яна Бабатунде-Бей. Мои племянники — Кайл и Дион. Мой шурин — Калиб Пинкетт. Семейный менеджер — Мигель Мелендес. Моя помощница — Даниэль Демерелла. Все они приняли философию боксерского лагеря. Мы работали над собой, стремились к совершенству и требовали его друг от друга и от всех окружающих. Нашим девизом, прямо как в JBM, было «Прогнись или умри». Мы требовали этого как в профессиональных отношениях, так и в личных, с семьей и друзьями. Миа Питтс (управляющая недвижимостью), Фоун Бордли (креативный директор), Джуди Мердок (визажист), Пирс Остин (парикмахер), Роберт Мата (гардероб) — все, вплоть до наших автомехаников, должны были тянуться к совершенству, или мы с ними не имели дел.
Я — мечтатель и строитель. У меня есть великие мечты, и я строю системы, которые позволяют воплощать их в жизнь. Это — язык моей любви. Я хочу помогать любимым людям строить для самих себя невероятные жизни. Для этого они должны хотеть вкалывать и чем-то жертвовать, и, самое главное — довериться мне. А если они не хотят, я воспринимаю это как полный отказ от моей любви.
Члены команды стали называть себя «братвой на века». Мы были либо вместе, либо никак. От качества людей, которыми ты себя окружаешь, напрямую зависит качество твоей жизни.
С успехом связан один странный и тревожный парадокс. Когда у тебя нет ничего, ты боишься, что придется вкалывать, чтобы добиться поставленных целей. Но когда у тебя есть все, ты боишься это потерять.
У меня были жена, семья и свое имение. Я стал величайшей кинозвездой в мире, но начал замечать некую «невидимую болезнь» — боязнь оказаться в бедности. Я был тревожен и напуган, как никогда. Все казалось таким хрупким. Всего один несчастный случай или скандал, или провал фильма — и тут же придется переезжать обратно в Филли. А что, если биржевой крах 1929 года повторится снова? Лишь одна вещь может пугать сильнее, чем страх не добиться желаемого — страх все потерять.
Хуже всего уикенды, на которые приходится премьера фильма — это просто ад. Это как день выборов: все мечутся туда-сюда, пытаясь сравнить цифры, полученные в 6:00 из Майами, с цифрами за 7:45 из Питтсбурга. Сначала приходит информация о сборах с Восточного побережья. Потом все с ужасом ждут цифр из Чикаго, потом из Хьюстона. Не важно, насколько хорошие были прогнозы или насколько ты уверен в фильме, в глубине души ты знаешь, что все может пойти не так — на Среднем Западе случится снежная буря, из-за которой закроют сотни кинотеатров, и вы потеряете 12 % премьерных кассовых сборов. А может быть, Сискел и Эберт[7] нелестно отзовутся о фильме — и еще 6 % коту под хвост.
Раньше считалось, что премьерные сборы — заслуга кинозвезды, а итоговые сборы — заслуга самого фильма. Именно поэтому, несмотря на то что на выручку влияет множество разных факторов, и очень много людей останется без работы, если она окажется недостаточной, сильнее всего от этого пострадает именно тот человек, чье лицо изображено на постере. Не важно, насколько успешным был твой предыдущий фильм — если новый не сможет его переплюнуть, тебе конец. Из «Ее озера» вывезут твои коробки, а на коробках следующего хозяина поместья будет написано «Роберт Дауни-младший».
Когда мне было девять, папуля взял меня с собой на вызов в подвал супермаркета на перекрестке улиц сорок восьмой и Браун. Уверен, большинство из вас никогда не бывали в подвале супермаркета. Не думаю, что смогу точно описать, каково там было находиться, но все-таки попытаюсь. Представьте старую скрипучую деревянную лестницу, на которой не хватает пары ступенек. Папуля показал на их отсутствие пальцем, да и только, а в моем юном сознании эти провалы представляли собой не просто опасность подвернуть ногу, а настоящую дорогу в ад.
Лестница вела в плохо освещенное подземелье, где догнивали просроченные продукты. На мне лежала ответственность за фонарик — он был нам необходим, потому что несколько лампочек угрожающе мелькали под потолком, грозясь погаснуть в любой момент. Такие подвалы показывают в фильмах ужасов, а мы с папулей оба черные — по законам жанра, как минимум один из нас точно не выживет. Наши ботинки скрипели и хлюпали по полу, покрытому вековой грязью и какой-то липкой дрянью. Десятилетиями там копились разбитые бутылки кетчупа, протекшие банки консервов, гнилые пакеты и давно размороженные замороженные овощи. В общем, все, что невозможно было продать.
Такие погреба обычно плохо вентилируются и в них ужасно жарко. Вонь въедается в одежду и волосы… но папуля был доволен. Для него это аромат честной работы. Именно так ты и должен вонять, если делаешь все ради своей семьи.
Вдоль стен висело два ряда компрессоров — это такие моторы, от которых работают холодильники и морозилки в самом магазине. Я указал фонариком на едва различимые из-за наросшей пыли цифры возле одного из компрессоров.
— Ага, вот он, номер 19, — сказал папуля.
Повсюду лежали контейнеры с крысиным ядом — крысы едят его, и он сжигает их внутренности, оставляя за собой отвратительные выпотрошенные трупики. Ровно под компрессором № 19 лежала верхняя половина крысы, которая явно перебрала с ядом. Не раздумывая, папуля наклонился, голыми руками взял мертвую крысу и отбросил ее в сторону. Два хлопка руками по джинсам — видимо, для дезинфекции — и вот он уже лежит головой ровно на том же месте, где половинка крысы провела последний месяц. Отчетливо помню, что именно в тот момент я, пытаясь сдержать завтрак, который как раз отчаянно запросился наружу, внезапно понял, что папуля делает все это ради меня, моего брата и сестер, ради нашей семьи. Но еще мне подумалось, что, если бы на его месте оказался я, мои дети тем вечером остались бы без ужина.
Я уверен, что во многом из-за стресса и пожизненных финансовых проблем папуля не мог эмоционально поддерживать нашу семью. Если ты только что выкинул мертвую крысу и лег головой на то место, где она лежала, ты точно не захочешь слушать ничье нытье о том, как плохо прошел их день.
Своими глазами увидев страдания своей семьи, я понял, что финансовая стабильность — это залог любви и процветания в любой семье.
Я был в ударе — у меня шла череда крупнейших успехов в истории Голливуда. Я работал по семьдесят-восемьдесят часов в неделю. Праздники, выходные, даже «отпуск» были моей возможностью для продвижения. Я заметил, что многие люди возвращаются с рождественских каникул потолстевшими и расплывшимися. Поэтому для меня праздники стали временем работы над моей физической формой.
Я взял за правило возвращаться после новогодних праздников еще подтянутее, чем был до этого. Я качался, делал зарядку, иногда даже отказывался от рождественского ужина. Дарреллу очень нравился мой строгий подход.
— Если ты не ешь, то и я не буду, — говорил он мне.
Я проводил целые дни за подготовкой к очередной роли, переписыванием сценария или чтением книги, только иногда заглядывая к остальным на огонек.
Я решил устраивать пышные празднования Рождества и Нового года — это было плюсом для всех. Джада с детьми могли пригласить всех своих друзей и родственников на неделю веселья в горах. Я зазывал своих бизнес-партнеров на великолепные лыжные курорты, которые оплачивал сам. У всей их семьи получался бесплатный отпуск. А у меня под рукой была вся моя команда в замкнутом пространстве — эдакие заложники — для ежедневных совещаний, обсуждений планов и подготовки к грядущему году работы.
У меня все было на мази, я во всем побеждал, а победа в моем понимании означала, что все в моей жизни идеально и все вокруг меня счастливы.
Но все не было идеально, и они не были счастливы.
Утро всегда было для нас с Джадой временем сближения, общения и работы над отношениями. Обычно мы просыпались до рассвета и болтали часами. Мы обсуждали наши сны, новые идеи, спонтанные мысли. Мы разговаривали о детях и проблемах в наших семьях.
Но в те дни я почувствовал, как что-то изменилось. Джада плакала почти каждый день. Теперь по утрам она просыпалась в слезах. Как-то раз она прорыдала без остановки целых сорок пять дней.
— Уилл, чем вы объясняете свой головокружительный успех?
— Ну, я не считаю себя особенно талантливым человеком. Я преуспеваю благодаря своей непоколебимой дисциплине и трудолюбию. Пока кто-то другой ест, я работаю. Пока кто-то спит, я работаю. Пока кто-то занимается любовью, я, ну… я тоже занимаюсь, но я очень стараюсь.
Журналисты обожали этот ответ, и хотя он и был «шуточным», настоящая формула успеха была действительно настолько проста: если я могу встать на час раньше остальных, лечь спать на час позже и поработать вместо обеденного перерыва, тогда у меня будет на пятнадцать часов в неделю больше, чем у конкурентов. А это плюс 780 рабочих часов в год — целый дополнительный месяц. А если у меня есть на месяц больше, чем у других, они меня никогда не догонят. Если уж им так важны выходные и отпуска, ради бога, пусть отдыхают, восстанавливаются и поддерживают свой жалкий «баланс между работой и личной жизнью», вот только смотреть они будут мне вслед.
Был канун Рождества.
Мы арендовали дом в Аспене, Колорадо. Эти две недели вокруг Рождества были для Джады единственной мотивацией, чтобы пережить остальной год. Она ставила два железных условия: вся семья должна быть вместе все две недели, и проводить их мы должны там, где есть снег. Каждый год мы бывали в разных местах в зависимости от вероятности осадков. Для Джады не было других праздников, событий и поводов важнее и ценнее, чем семейное Рождество. В ее детстве празднования Рождества были «не очень торжественными», мягко говоря. Она хотела нагнать упущенное. (Примечание: Шери провела с нами каждое Рождество за последние двадцать лет. Куинси не наврал.)
Все должны были наряжаться в рождественские наряды, которые выбирала Джада. Пижамы-комбинезоны с тапочками, нелепые свитера, оленьи уши, сани с лошадью, рождественские хоралы — все это было обязательно. В каждой спальне были лампы с черным Санта-Клаусом, а на кухне стоял олень Рудольф, который включался от движения, пугая тебя до смерти, когда ты решил посреди ночи утянуть рождественскую печеньку. И конечно, двенадцатиметровая новогодняя елка, втиснутая в нашу гостиную, словно Шакил О’Нил в «Приус».
Весь год Джада была как Пичес из «Пропавших миллионов» — суперзвезда из гетто — но стоило зазвенеть рождественским колокольчикам, как она превращалась в белую тетеньку средних лет.
В том году Джада решила, что мы всей семьей должны сыграть в «Монополию». Чтоб вы знали, я — мастер «Монополии». Я не шучу. Я не понтуюсь. Я не преувеличиваю. Я изучал эту игру, я работал с профессиональными инструкторами, я даже собирался участвовать в международных турнирах по «Монополии». Когда выпадают кубики, мне даже квадратики считать не надо. Я знаю, что от Стейтс-авеню шесть клеточек до Нью-Йорк-авеню, мне не надо их отсчитывать, я просто беру фишку и двигаю ее. Еще я знаю, что если у тебя много собственности и ты стоишь на клетке «Вперед», тебе ни в коем случае нельзя выкидывать семь на кубике, потому что тогда ты попадешь на клетку «Шанс», а там все время приходится платить налоги. А уж если на Кентукки-авеню выпало девять, придется опять возвращаться в тюрьму и повторять весь путь, не получив свои двести баксов.
Мы все уселись, и игра началась. Я сразу попал в незавидное положение, получив в собственность Набережную и Парк-плейс. Новички думают, что это элитная недвижимость, не понимая, что она влетает в копеечку. Ценность собственности растет, пока ты идешь вокруг всего поля. Набережная и Парк-плейс — самая дорогая собственность в игре, и строиться на них тоже дороже всего. И, поскольку их всего две, ты теряешь 40 % вероятности, что на них попадут другие игроки. Ты инвестируешь в них кучу денег, строительство затягивается. В это время ты постоянно попадаешь на чужую собственность, а мимо твоей все пролетают, и ты ничего не получаешь. Короче, Набережная и Парк-плейс — это собственность для лохов. Из-за нее ты к концу игры остаешься в ужасном положении, молясь, чтобы хоть кто-нибудь тебе что-то заплатил.
И тем вечером я оказался именно в этом жалком положении.
Уиллоу было семь лет — первая монополия установилась у нее в Иллиноисе, это собственность красного цвета. У меня Вирджиния и Стейтс (фиолетовые), Набережная и Парк-плейс, а еще три железные дороги. Но я — банкрот. Джейден боится моего мастерства, поэтому не хочет заключать со мной сделки. Ему девять, и он отказывается от всех моих предложений выкупить у него Сент-Чарлз и завершить мою фиолетовую монополию. У Джады собственности зеленого цвета, но у нее тоже нет денег на строительство, поэтому она мне не угроза. У Трея собственности сливового цвета, те, что сразу после клетки «Вперед», а еще полный набор светло-голубых собственностей. У него целый квартал — конечно, он потратил почти все, чтобы его отстроить, зато теперь он на поле просто король. Иметь целый квартал на поле — это просто мечта любого игрока, потому что тогда на твои собственности постоянно попадают все игроки.
Пока по всему полю возводились дома и гостиницы, мои жалкие Набережная и Парк-плейс все сильнее вгоняли меня в долги. Петля на моей шее затягивалась все туже. Мне срочно нужно было чудо.
И тут Джада попадает на Пацифик.
— ЕСТЬ! — выкрикнул я и хлопнул в ладоши, заставив механического Рудольфа включиться и медленно повернуться в мою сторону, чтобы посмотреть, кто там шумит.
Пацифик — собственность Джады, поэтому никто не понял, чему я так радуюсь. Неопытному игроку покажется, что ничего не случилось. Но они-то новички, а я — мастер. Кажется, я даже саму Джаду напугал своим восторгом.
— Ты чего радуешься? — спросила она.
— Ты только что попала на Пацифик! — радостно воскликнул я.
Мне не терпелось посвятить всех в то, как глубоко я вник в секреты «Монополии».
— Пацифик находится в шести клетках от Парк-плейс и в восьми от Набережной. Шесть и восемь — статистически самые частые результаты, выпадающие на паре кубиков. Есть шесть вариантов того, как выпадет шестерка — пять и один, четыре и два, три и три, три и три, один и пять, два и четыре. У восьмерки те же шансы — шесть и два, пять и три, четыре и четыре, четыре и четыре, три и пять, два и шесть. Когда ты в следующий раз кинешь кубики, есть 13.89 % вероятности, что выпадет шесть, и столько же, что восемь. А это — почти 30 % вероятности, что, когда ты кинешь кубики, тебе выпадет шесть или восемь! Когда они тебе выпадут, ты попадешь на одну из моих собственностей, на каждой из которых будет по три дома. И тогда тебе, милочка, конец — такого ты себе позволить не сможешь!
Я тут же стал закладывать свои остальные собственности — по сто баксов с железных дорог, семьдесят за Стейтс, восемьдесят за Вирджинию. Еле наскреб, чтобы построить по третьему дому на каждой из своих клеток, что в «Монополии» дает неслабую прибавку: построив третий дом, ты получаешь максимальную прибыль со своих инвестиций.
— Ты уверен, что хочешь так сделать? — спокойно спросила Джада.
— А как же, конечно! — ответил я в предвкушении и подал Джейдену — нашему банкиру — четыреста долларов для совершения моей безумной транзакции. — Тебе точно выпадет шесть или восемь!
Джада все еще была в полном спокойствии и не отрывала от меня взгляд.
— Ты уверен, что хочешь на Рождество выставить свою жену из семейной игры в «Монополию» с детьми?
Я наконец повернулся и встретился с ней взглядом. Я был совершенно уверен, что так и хочу поступить, пока она не сказала это именно так, поставив акценты именно на эти ключевые слова. Жена, семья, дети, Рождество — после этих слов я стал просто уверен, не совершенно.
— Если тебя так задевает игра в «Монополию», тебе не стоит в нее играть, Джада, — в шутку ответил я.
Джада кивнула, медленно взяла кубики в ладонь, потрясла их дольше, чем было нужно, явно пытаясь дать мне шанс передумать. Но я уперся как бык.
Она кидает кубики в центр поля. Мифическая вероятность в 13.89 % стала реальностью на все 100 %.
Четыре и два.
Джада вручила всю свою собственность банкиру-Джейдену, поцеловала на прощание Уиллоу, погладила Трея по голове и отправилась спать.
Да, дорогой читатель, сейчас мне все понятно. Но в то время я работал на совершенно другой операционной системе. Тогда я мыслил следующим образом: как тренируешься, так и будешь драться. Мне казалось, что ради Джады и семьи я был обязан мыслить так и никак иначе. Ради них я должен был думать, как победитель. Ради них я должен был тренировать свой боевой инстинкт. Я был афроамериканцем в Голливуде — чтобы оставаться на высоте, я не мог оступиться ни разу.
Я всегда должен был быть идеален во всем.
У меня ушли долгие годы на то, чтобы понять — на самом деле Джада не играла в «Монополию». Она проводила время с семьей и наслаждалась нашей компанией. Видимо, один я играл в «Монополию». С тех пор я обновил свое программное обеспечение и разработал новую функцию: никогда больше не попадаться ей на глаза с «Монополией».
Папуля научил меня игре в шахматы, когда мне было семь. Когда наступало лето, мы играли с ним почти каждый день. Он выносил доску на заднее крыльцо и постоянно сновал туда-сюда между игрой и грилем. Иногда он играл против нашего соседа, мистера Джона. Со мной он тоже играл, как со взрослым — папуля не считал, что детям надо давать поблажки. Он видел в этом только негативное влияние на детское развитие и их будущую способность выживать в мире. Он уделывал меня игру за игрой, месяц за месяцем, мат за матом, год за годом, пока мне не исполнилось тринадцать.
Ни за что не забуду тот момент. Он обучил меня шахматному дебюту под названием «итальянская партия», или «джоко пьяно». Я много использовал эти ходы. Но сам я тем временем научился играть «испанскую партию» (или «дебют Руи Лопеса»), с которой он был не так хорошо знаком. С этого дебюта игра развивалась спокойно примерно до середины. У меня получалось сохранить сильную позицию. И папуля это понимал. Он больше не бегал к грилю, не отпивал виски из стакана. Он даже не прикасался к своей длинной сигарете, которая так и тлела в пепельнице.
Абсолютная тишина. Абсолютное внимание к каждому ходу.
Папуля безжалостно нападал на меня. Он всегда говорил:
— Суй фигуры противнику прямо в глотку! Прямо в глотку суй!
Но тем вечером он так не говорил. Сначала он отступил слоном, а затем судорожно стал уводить коня, пытаясь защитить короля.
Был мой ход. Я видел, что сейчас произойдет.
А он не замечал.
Я замер.
Я сидел над доской, сердце колотилось в груди, шли минуты. Я не мог заставить себя совершить фатальный ход.
— Вот черт, — проворчал папуля.
До него наконец дошло.
Папуля посмотрел мне прямо в глаза. Он знал, что я не решаюсь на ход вовсе не потому, что не вижу его. Он понимал, что мне просто страшно.
— Ходи давай, — сказал он.
Я взял своего коня и опасливо поставил на нужную клетку. Бархатная подложка фигуры опустилась, как топор палача.
— И что это? — спросил он.
Я не мог заставить себя это выговорить.
— Э-э-э, шах?..
— Ты сам прекрасно знаешь, что это никакой не шах. Что это?
— Мат?..
— Что ты меня-то спрашиваешь? А ну, говори нормально!
— Мат.
— Вот именно. Молодец.
Папуля пожал мне руку, забрал сигарету и стакан и пошел в дом.
Больше мы никогда не играли в шахматы. Я много лет думал, что он на меня дуется. Но, узнав его получше, понял, что он хочет оставить мне идеальное воспоминание о том, как мы с ним в последний раз сыграли. Он хотел, чтобы мое сознание было запрограммировано побеждать и упиваться победой. Моя тренировка с ним была окончена. Я прошел обряд посвящения, и ему было больше нечему меня учить.
— Мне в нашей жизни ничего не принадлежит, — сказала Джада. — Я не хотела так жить. Я хотела спокойно жить на маленькой ферме.
— Я понимаю, но как есть, так есть. Как нам все исправить? Детка, ты можешь делать все, что угодно. Чего же ты хочешь?
Джада в подростковом возрасте обожала музыку жанра металл. У нее был очень необычный музыкальный вкус, и она всегда мечтала играть в группе. Однако в один прекрасный день она все равно умудрилась меня огорошить, заявив, что собирает хэви-метал-группу.
Джада — гениальная поэтесса и мыслительница. Глубокий смысл ее песен всегда трогал меня за душу. Я старался демонстрировать ей свою поддержку, поэтому молча одобрил ее выбор, а она в ответ вручила мне книгу «Бегущая с волками» Клариссы Пинколы Эстес. Джада в ней пометила для меня рассказ «La Loba, женщина-волчица»:
Единственная работа La Loba — это собирание костей. Она охотно собирает и хранит то, что может навсегда пропасть из мира… Собрав целый скелет… она… воздевает над ним свои руки и поет… так громко, что земля в пустыне начинает трястись, и от этой песни волк открывает глаза, вскакивает и убегает прочь… Волк внезапно превращается в смеющуюся женщину, которая свободно мчится к горизонту.
Развалившийся на части скелет лежит, скрытый под песком. Наша задача — спасти эти части… отыскать неразрушимую жизненную силу, те самые кости… Это — история чуда… история воскрешения… Спев свою песню, мы сможем призвать останки дикой души и вернуть ей живую форму.
Вдохнуть жизнь в то, что сломано и требует лечения, опустившись в глубины ощущения великой любви, и излить свою душу… Это и есть песня над костями. Пытаться вызвать это великое чувство любви у возлюбленного — большая ошибка, поскольку это женская доля — находить и петь оду сотворения. Это одиночная работа, которую следует выполнить в пустыне души.
Идея о том, что женщина-волчица должна спеть над костями, чтобы воскресить умершую часть своей души, была мне невероятно близка. Убив часть женской души, ты убиваешь ее целиком. Волчица собирает «развалившийся скелет» расколотой женственности и песней начинает возвращать ее к жизни. Джаде пришлось уничтожить части себя ради нашей семьи. И ее группа Wicked Wisdom — «Ведьмина мудрость» — должна была выпустить наружу ее волчицу, чтобы возродиться вновь.
Но вот рок-фестиваля «Оззфест» я точно не ждал.
— Я справлюсь, папа.
Джейден любил валяться со мной в кровати, пока я читал сценарии, выбирая, в какой воображаемый мир отправиться дальше. Он любил слушать мои истории, а я любил их рассказывать. Он восхищенно смотрел на меня, пока мое сознание буйствовало, пытаясь примерить на себя новую роль.
— С чем справишься? — уточнил я.
— Я слышал, как ты говоришь с тем человеком по телефону.
«Тем человеком» был Габриэле Муччино, итальянский режиссер, которому только что поручили снимать «В погоне за счастьем». Габриэле не говорил по-английски — для нашей встречи нам понадобился переводчик. Лучшие режиссеры Голливуда претендовали на этот фильм, но выбор остановился на нем…
Джей-Эл в новостях видел сюжет о парне по имени Крис Гарднер. Сначала он был бездомным и жил на улицах Сан-Франциско со своим маленьким сыном, а потом стал успешным биржевым брокером. Сценарий был просто великолепный — настоящий путь героя.
Мы могли выбрать любого режиссера, но мне очень понравился фильм «Последний поцелуй» Габриэле Муччино, поэтому я попросил Джей-Эла организовать нам встречу. Я был почти уверен, что у нас ничего не выйдет, но я давно научился верить в силу и важность попытки. Устраивать встречи с творцами мирового уровня стало для нас обычным делом.
Встреча прошла отвратительно. Габриэле не хотелось работать с переводчиком. Он пытался говорить по-английски сам, но не умел. Мы с Джей-Элом даже не стали пытаться говорить по-итальянски, потому что мы тоже не умели. Но артистический пыл Габриэле принес два важных результата: во‐первых, он дал нам посмотреть фильм итальянского режиссера Витторио Де Сики «Похитители велосипедов», который получил почетный «Оскар» за лучший иностранный фильм в 1950 году, и сказал нам через переводчика, что именно такой фильм он хочет снять. Во-вторых, он поразил меня в самое сердце своими словами:
— Если не возьмете меня на этот фильм, прошу вас, только не берите на него американского режиссера. Американцы не понимают, как прекрасна американская мечта.
Так мы и наняли Габриэле.
— И почему ты думаешь, что справишься? — спросил я Джейдена.
Джейдену было шесть лет, и раньше он никогда не проявлял интереса к киносъемкам, не считая домашних видеороликов.
— Тот человек сказал тебе, что он не может найти мальчика на роль твоего сына. Это потому что я твой сын, пап!
— Это действительно так, — засмеялся я. — Но тут ведь надо играть, притворяться.
— Притворяться твоим сыном, пап. Что тут сложного! Я же и так твой сын, все время.
Габриэле Муччино не удавалось найти идеального актера на роль моего сына. Он забраковал уже пять сотен мальчишек. Габриэле был инстинктивным, интуитивным творцом — он должен был чувствовать, что нашел подходящего актера. Мы с Джадой решили отвести Джейдена на прослушивание.
— Грацие, грацие, грацие, — воскликнул Габриэле. — Я с самого начала хотел Джейдена на эту роль, но студия мне запретила у тебя просить.
— Что? Почему?
— Студия решила, что это станет смертным приговором фильму с точки зрения маркетинга. Они решили, что люди не смогут проникнуться фильмом, если вы с Джейденом будете на экране играть отца и сына.
Еще они боялись, что людям это покажется кумовством, и мы с самого начала поставим себя в невыгодную позицию. Но Габриэле взмолился, и они согласились опробовать нас с Джейденом в одном кадре для проверки на совместимость.
Ситуация была такая щекотливая, что мы с Джадой решили не участвовать в принятии окончательного решения. Мы позволили Габриэле следовать своему инстинкту и брать на роль того, кого он посчитает нужным. Поскольку мы были продюсерами, и я играл главную роль, куда ни глянь, возникал конфликт интересов. Поэтому мы с Джадой решили просто быть родителями.
В итоге Джейдена приглашали на прослушивания целых девять раз — беспрецедентный случай. Студия просто не хотела решать все проблемы, которые возникли бы, если бы его взяли. На каждом прослушивании он представал во всей своей невинной шестилетней красе и демонстрировал, что идеально подходит на эту роль. Но после девятого прослушивания студия назначила десятое.
У Джады лопнуло терпение. Она оповестила Габриэле и студию о том, что Джейден более не доступен для роли. В этот миг Габриэле — творец до мозга костей — решил, что он эмоционально не способен снимать фильм без Джейдена.
Студия уступила и предложила Джейдену роль Кристофера-младшего в фильме «В погоне за счастьем».
Для меня все сложилось идеально — я буду на площадке, на работе, вместе с сыном. Именно так я мечтал его воспитывать: в пылу боя, с реальными ставками и последствиями, на реальной охоте. Я смогу исправлять ошибки в режиме реального времени и давать уроки на конкретных примерах из жизни.
Так я и представлял себе родительскую любовь.
«Оззфест» — это путешествующий рок-фестиваль. В 1996 году его основали Оззи Осборн и его жена, Шэрон. В нем были представлены все разновидности металлов: трэш, индастриал, хардкор-панк, дэткор, металкор, пост-хардкор, альтернатива, дэт, готик и ню. Шэрон увидела группу Джады и прониклась до глубины души. Так они подружились, и Шэрон вписала Wicked Wisdom на «Оззфест» летом 2005-го.
«Оззфест» — максимально неафроамериканское событие. Хуже него разве что та фигня с зимних Олимпийских игр, где мужики бегают на коньках по льду с огромными палками и шайбой.
— Детка, ты точно не хочешь петь ар-н-би? — тихонько спросил я, внутренне исходя криком.
— Эта музыка отражает мои чувства, — тихонько ответила она, внутренне исходя криком.
Короче, мы собрали детей и отправились по дорожке из черного кирпича в волшебную страну Озз.
Я никогда раньше не видел эту сторону Джады.
Ее волчица рвала и метала. На фестиваль приходила публика, которая поначалу относилась к ее группе скептично и пренебрежительно, но на каждом ее выступлении люди сначала затихали, а потом проникались уважением. Креативная энергия Джады стала возвращаться. У нее начали появляться идеи для телесериалов и фильмов, которые ей хотелось писать и режиссировать. Она исписывала целые блокноты поэзией и рисунками. Я с замиранием сердца следил, как ее кости начинают возрождаться. С каждым плевком, ругательством и рыком Джада становилась все более живой.
Еще в начале нашего брака мы с Джадой договорились, что никогда не будем работать одновременно. Один из нас всегда должен быть полностью свободен ради детей. «В погоне за счастьем» готовился к началу съемок осенью 2005-го. Выступление Джады на фестивале было настолько успешным, что Guns N’ Roses пригласили ее группу в совместный тур. К сожалению, их тур должен был проходить одновременно со съемками моего фильма.
В то время мне казалось, что у Джады был выбор — у нас были мамуля и Гэмми, и я готов был ее поддерживать во всем. Мы с Джейденом на съемках должны были жить в одном трейлере — все его сцены были вместе со мной.
Но теперь я вижу правду — Джада оказалась в ужасной ситуации. Она никак не могла оставить своего шестилетнего сына без мамы на его первой работе в кино.
Джада отказалась от тура с Guns N’ Roses.
«В погоне за счастьем» вышел в 2006 году. Он имел успех у критиков и разгромил кассовые сборы, заработав мне вторую номинацию на «Оскар». Если раньше мне только казалось, что я непобедим, то теперь я это действительно почувствовал. Я только что снял простой фильм о бездомном черном парне, который нашел работу, и все равно умудрился сорвать кассу и уделать все остальные фильмы, которые тогда вышли.
Я просто физически не мог промахнуться.
Череда успехов продолжалась. «Я — легенда» стал самым кассовым декабрьским фильмом в истории. В нем вообще никого не было на экране, кроме меня и собаки — и все равно он собрал 600 миллионов долларов.
Затем был «Хэнкок» по сценарию Винса Гиллигана, создателя знаменитого сериала «Во все тяжкие». Эта история об алкоголике-супергерое тоже собрала более 600 миллионов всего через шесть месяцев после успеха фильма «Я — легенда».
Меня было не остановить. Это была самая длинная череда невероятных успехов среди всех голливудских актеров в истории. Я стал самым прибыльным актером в мире. И мне еще даже сорока не исполнилось.
Проблема была в том, что я связывал успех с ощущением любви и счастья.
А на самом деле это три совершенно разные вещи.
Из-за того, что я их связывал, моя «невидимая болезнь» развилась в свою более гнусную форму, которую я могу назвать лишь «еще, еще, еще, еще».
Если я буду еще успешнее, я буду еще счастливее, и люди будут любить меня еще сильнее.
Я пытался заполнить внутреннюю эмоциональную пустоту внешними, материальными достижениями. Но такую одержимость ничем нельзя утолить. Чем больше у тебя есть, тем больше ты хочешь, и неудовлетворенность никогда не пропадает. Твое сознание не перестает думать о том, чего еще у него нет и что еще ему не досталось, все дальше скатываясь по спирали и не умея насладиться тем, что у него есть.
«Я — легенда» был самой крупной декабрьской премьерой в истории. Когда Джей-Эл позвонил мне с новостями о сборах за выходные, он был в непривычном восторге.
— За три дня мы собрали 77 211 321 долларов, это с 3600 кинотеатров. Больше 21 тысячи долларов с каждого кинотеатра. Такого успеха никто никогда не добивался.
Я немного помолчал и почувствовал некоторую неудовлетворенность.
— Как думаешь, почему не дотянули до восьмидесяти?
— В смысле? — переспросил Джей-Эл.
— Думаешь, из-за концовки? Мне кажется, если бы мы немного изменили концовку, чтобы было типа как в «Гладиаторе»…
— Ты охерел, что ли? — возмутился Джей-Эл. — Это самая прибыльная премьера. За все время.
— Да я понял, Джей, я просто спрашиваю…
Это был единственный случай, когда Джеймс Ласситер в разговоре со мной бросил трубку. За все время.
Я сидел с Уэйном Гретцки и Джо Монтаной. Их сыновья, Тревор и Ник, были на поле с Треем. По громкоговорителю объявили: «Монтана делает пас Смиту и… тачдаун!»
Трей играл в позиции принимающего в лучшей школьной футбольной команде в Калифорнии, «Оукс Кристиан». Сын Джо Монтаны, легенды американского футбола, только что сделал пас моему первенцу, и тот заработал тачдаун. Если бы моя жизнь была фильмом, я бы посмотрел прямо в камеру, пробивая четвертую стену, и спросил: «Кто придумывает эту херню?!»
Так, давайте-ка разберемся: вы хотите, чтобы я поверил в то, что мой персонаж вырос, пакуя лед в Филли, а потом получил первую в истории «Грэмми» за рэп. Затем он стал звездой телевидения, потом — величайшей звездой кино, каждый раз бил все рекорды кассовых сборов, когда у него выходил очередной сраный фильм. Женился на красотке-актрисе, художнице, певице, поэтессе. Родил троих гениальных детей, а теперь величайший хоккеист в истории, Уэйн Гретцки, похлопал его по спине, потому что его сын только что забил тачдаун, а мяч ему спасовал сын величайшего защитника в истории американского футбола, Джо Монтаны?
Да в это ж никто не поверит! Мы ни слова из этой херни снимать не станем. А ну-ка наберите мне Аарона Соркина по телефону. Эту херню нужно срочно переписывать. И спросите, сможет ли Роберт Дауни-младший в этом сняться!
Не знаю, может быть, это из-за моего отсутствия спортивной подготовки в молодости, или из-за волшебной энергии огней ночной пятницы, или из-за неожиданного развития физических талантов и способностей Трея. Но мне ничто в жизни так не нравилось, как наблюдать за игрой сына в футбол. Трея пытались заполучить лучшие спортивные колледжи — Уэйн и Джо помогали мне с этим разбираться. Наши дети росли, и нам с Джадой нужно было менять стратегию. У каждого из детей в жизни происходило что-то важное. Трей готовился к футбольному сезону и выпускному классу, а Джейдена как раз взяли сниматься в фильме «Карате-пацан» с Джеки Чаном. Вся семья была в восторге.
Тут мы поняли: съемки пройдут в Пекине и продлятся три месяца. А игры Трея — в Южной Калифорнии. Мы все считали, что Джейдену нельзя отказываться от такой возможности. Мы будем поддерживать его всей семьей. Но в прошлом году вся наша семья побывала на каждой игре Трея, и мысль о том, что Трею придется играть в этом году одному была для нас неприемлемой.
В то время становилось все понятнее, что у Wicked Wisdom практически нет шансов вернуться на сцену, и все из-за Идеальной Семьи Смитов™. Но я тогда все еще считал, что у каждой проблемы есть решение. Нам всем придется попотеть, чем-то пожертвовать, немного пострадать, но у меня есть мечта, и если все будут меня слушаться, мы продолжим побеждать и все останемся счастливы. Мы побеждали даже на обложках журналов: на фотографиях теперь Джада была справа от меня, а Шери — слева. Мы были идеальной смешанной семьей. Никто не мог добиться того же, чего добились мы (да мы и сами не могли).
Я решал проблемы путем расстановки приоритетов. Я выбирал, какие из проблем требуют скорейшего решения, и фокусировался на них — вот только я не понимал, что проблемы у всех разные.
Мы с Джадой, Уиллоу и Джейденом отправились в Пекин в июне 2009-го. Трею надо было в школу в сентябре. Все его десять футбольных матчей выпадали на то же время, что и съемки «Карате-пацана».
И тут Господь спас нас, явившись в виде смены часовых поясов. Лететь из Пекина в Лос-Анджелес двенадцать часов. В десять часов вечера пятницы мы вылетали из Пекина, пересекали линию перемены даты и приземлялись в Лос-Анджелесе в десять утра пятницы — как раз хватало времени на то, чтобы доехать до дома, отдохнуть и отправиться на игру Трея в шесть вечера. Затем в четыре часа утра субботы мы летели обратно, прилетая в Пекин в четыре утра понедельника, как раз перед началом рабочего дня. Так мы с Джейденом летали целых десять недель подряд, из Пекина в Лос-Анджелес и обратно, не пропустив ни одной из игр Трея.
Я обожал свою жизнь. Я чувствовал себя настоящим мастером.
Опра Уинфри пригласила нас на свое ток-шоу — меня, Джаду, Трея, Джейдена, Уиллоу, даже Шери и ее нового мужа, Террелла. Весь выпуск был посвящен Идеальной Семье Смитов™. Я был величайшей кинозвездой в мире. «Карате-пацан», первый полнометражный фильм, в котором Джейден играл главную роль, вот-вот станет самым кассовым фильмом по мировым сборам. Первый сезон нового сериала Джады «Сестра Готорн» только что вышел в эфир. Уиллоу как раз подписала контракт с компанией Roc Nation на запись своего первого альбома. Трей был звездой своей школьной футбольной команды. И вишенка на торте — моя бывшая жена рассказывает, как вместе с Джадой работает над воспитанием всех наших детей.
Я наконец добился этого — у меня был мой собственный «Даллас». Картинка сложилась, и она была идеальной. Я построил свою семейную империю. Это было за гранью моих самых смелых фантазий.
— Я чувствую себя, как Джей-Ар Юинг, — сказал я Джаде в шутку.
— Ты ведь знаешь, что его подстрелили? — ответила она.
Глава 18
Бунт
- Проснулась с утра и сразу на стиле
- А все, кому не нравится, ну-ка отвалили
- Потому что я стряхну вас шевелюрой…
Пластинка Whip My Hair («Трясу шевелюрой») стала платиновым глобальным хитом. Майкл Джексон и Стиви Уандер были единственными в истории исполнителями, которые выпустили более успешный сингл в более юном возрасте, чем Уиллоу Смит. Пластинка вышла за две недели до ее десятого дня рождения. Все маленькие девочки в мире принялись трясти волосами — железо раскалилось, и пришла пора его ковать.
Мы с Джадой никогда не заставляли детей заниматься шоу-бизнесом. Поскольку Джаде всегда была некомфортна слава и известность, то, что ее дети были знамениты, вызывало у нее противоречивые чувства. Но я мечтал сделать «Ее озеро» креативным пространством, прибежищем для творческих людей. Я хотел сократить расстояние, которое человек проходит от зарождения идеи до ее воплощения в жизнь. Я построил музыкальную студию. У нас были видеокамеры и монтажные рубки. В каждой комнате лежал альбом для рисования, краски, кисти и карандаши. В конце концов даже наша гостиная стала студией для ток-шоу Джады «Беседы за красным столом». Так что мы нисколько не давили на детей — просто они выросли в такой атмосфере. Я рос, работая в цеху папули, поэтому мне казалось нормальным, что дети занимаются тем же, чем их родители. Отец продавал лед, поэтому я его паковал. А Трею, Джейдену и Уиллоу было привычно находиться на съемочной площадке фильма или в студии звукозаписи. Это было наше семейное дело и нормальная для них обстановка.
Так что нет, я не заставил своих детей пойти в шоу-бизнес, потому что я безумный отец-тиран. Я им стал только после того, как они сами решили пойти в шоу-бизнес.
Когда Уиллоу исполнилось восемь, она очень полюбила петь. Это не редкость для маленькой девочки. Во всем мире восьмилетки любят петь и мечтают выступать на сцене.
Разница была лишь в том, что обычный отец отправил бы ее в церковный хор или записал на уроки пения.
Я обычным отцом не был.
В то время я считал, что нет смысла браться за какое-то дело, если ты не готов попробовать стать в нем лучше всех на свете. Я думал, что нужно всегда стремиться к вершине, карабкаться на самый пик любой горы. Ничего нельзя делать, спустя рукава.
Уиллоу пригласили поехать на гастроли, чтобы целый месяц выступать на разогреве у Джастина Бибера. Это был очень важный момент для нашей семьи. Наша малышка приняла серьезный вызов — вот тебе и тряхнула шевелюрой. Все сходили с ума по Whip My Hair. Уиллоу приглашали на телевидение, на обложки журналов, на красные дорожки, церемонии награждения, фотосессии… Она была на передачах у Джимми Фэллона и Эллен Дедженерес, светилась на ТВ по всей Европе. Вся наша семья полетела на первый концерт Уиллоу на «Бирмингем Арене» в Англии, куда были распроданы все билеты. Дочка отожгла на полную.
Дальше она выступала в Дублине. Те же песни, тот же эффект. Оглушительный успех. Все билеты снова были проданы, и на трибунах поднялось настоящее цунами рыжих волос — никогда еще в Ирландии так сильно не трясли шевелюрами.
Турне продолжалось, и я видел, как она растет день ото дня. Ее голос креп, ее сценический образ становился живее, она училась раззадоривать толпу, она пела и танцевала все лучше и лучше.
Я себя чувствовал гением.
Джаде пришлось вернуться в Лос-Анджелес, так что я остался за главного. В последний вечер турне Уиллоу спустилась за кулисы в полном блаженстве после концерта и бросилась мне в объятия.
— Малышка, ты просто бомба! — сказал я.
— Спасибо, папочка! — пропищала она.
— Тебе понравилось?
— Да, папочка! Там был полный зал девчонок! Они все мне подпевали!
— Это точно! Круто, да? — сказал я, вспоминая ощущение от того раза, когда толпа в Детройте спела вместо меня «Родителей». — Ну что, рванем домой на пару дней, а дальше будем записывать альбом. Ты так понравилась команде Джастина, что они хотят позвать тебя с собой снова… в Австралию!
— Не, пап, я все! — воскликнула она с такой радостью, что до меня не сразу дошел смысл ее слов.
— Что ты сказала, горошинка?
— Я говорю, я все, пап. Поехали домой.
— Ну да, конечно, на несколько дней все закончилось, милая, но на самом деле это только начало. Надо будет поработать еще пару недель, — сказал я стандартным родительским тоном, который означает «я не слушаю своего ребенка».
— Нет, папа, нет, я все.
— Да, горошинка, пока все. Но ты же пообещала дяде Джей-Зи, что запишешь целый альбом и еще несколько клипов…
— Нет, папа, это ты пообещал дяде Джей-Зи… — сказала она, довольная тем, что уела отца.
— Малыш, мы вместе пообещали. Если ты что-то начала, надо это довести до конца.
— Папа, тебе все равно, что я больше не хочу? — спросила Уиллоу.
— Нет, конечно, нет, милая, но останавливаться нельзя.
— А почему, пап? Мне было весело, но я больше не хочу.
— Я понимаю, но можно будет закончить только тогда, когда сделаешь все, что пообещала.
Эта идея была для нее совершенно чуждой. Она посмотрела на меня без обиды, без злобы — просто с легким недоумением. А потом уступила:
— Ну ладно, пап.
Мы полетели домой.
Семья Смитов оглушительно покорила Европу. Я стал готовиться к следующей операции — установлению мирового господства. Одним прекрасным утром в «Ее озере» я как раз договорил по телефону с Джей-Зи, и тут Уиллоу прискакала на кухню завтракать.
— Доброе утро, пап, — весело сказала она, залезая в холодильник.
Моя челюсть отвисла, отвалилась и упала на пол кухни. Моя трясущая шевелюрой царица мира, будущая мировая суперзвезда, сверкала лысиной. Ночью Уиллоу обрила голову налысо. Мои мозги замкнуло — как же она теперь будет трясти шевелюрой? Кто захочет за деньги смотреть, как лысый ребенок просто трясет головой?
Но не успел я ничего сказать, как почувствовал: что-то в моем сознании медленно сместилось и встало на место. В этот миг божественного озарения она смогла до меня достучаться. Я не был зол, я был потрясен. Это было то чувство, когда ты рассеянно глядишь в телефон, ступаешь с тротуара прямо под автобус, но в последнюю секунду кто-то тебя спасает.
Именно так Уиллоу спасла меня, словно маленький ловец над пропастью во ржи. Я наклонился, посмотрел ей в глаза и сказал:
— Я все понял. Прости меня, пожалуйста. Я тебя услышал.
Как бы странно это ни звучало, но в тот момент я обнаружил, что существует такая странная вещь — чувства.
Папа, тебе все равно, что я больше не хочу?
Я знаю, что это странно звучит, но от слов Уиллоу мое мировоззрение треснуло, как колокол Свободы. Один простой вопрос, который дочка задала отцу, затронул гораздо более серьезную проблему. На самом деле она спросила меня: «Неужели тебя не волнуют мои чувства?» Это был очень глубокий вопрос о человеческом существовании. Возможно, это вообще самый важный вопрос для людей. Ты думаешь о моих чувствах?
Хоть ей и было всего десять лет, и на деле я уже ответил ей, что мне не все равно, и не стал дальше на нее давить, про себя я задумался — а как бы я ответил на самом деле? Я всерьез стал рассуждать, каково мое мировоззрение касательно чувств других людей. И вывод, к которому пришел, поразил меня самого.
Вслух я бы этого никогда не сказал, но мой честный ответ на «ты думаешь о моих чувствах?» звучал бы как-то так:
Вообще-то нет, дорогая моя. В списке моих забот твои чувства стоят на седьмом месте, вот смотри:
1. Еда
2. Крыша над головой
3. Безопасность
4. Ум
5. Сила
6. Работоспособность
Во-первых, я забочусь, чтобы ты ела… каждый день. Во-вторых, я забочусь о том, чтобы тебе было, где жить. В-третьих, я забочусь о твоей безопасности. В-четвертых, я забочусь, чтобы ты была умной и твой разум был способен решать проблемы, которые возникают в жизни. В-пятых, я забочусь, чтобы ты была сильной, потому что жить в мире нелегко. И в‐шестых, я забочусь, чтобы ты умела работать — я хочу, чтобы ты сделала свой вклад в судьбу человечества. И я уверен, если у тебя все это будет, то и с чувствами у тебя все будет прекрасно.
Если я обеспечу тебя всем с первого по шестой пункт, седьмой сложится сам собой.
И это касается не только тебя одной. Меня не заботят даже мои чувства. Многие мои чувства мешали моей мечте и процветанию нашей семьи. Мне не хочется бежать десять километров в пять утра. Мне не хочется работать восемьдесят часов в неделю. Мне не хочется, чтобы на сцене меня освистывали, забрасывали дерьмом и динамитными шашками. Если я буду думать о своих чувствах, я не смогу кормить, одевать, обеспечивать и защищать свою семью. Когда я нахожу дело, которое поможет нам выживать и процветать, мне все равно, хочется мне это делать или нет. Главное, что оно принесет нам огромную выгоду, а на мои чувства мне наплевать. Когда люди слишком переживают о своих чувствах, они никогда не почувствуют то, что очень хотят почувствовать.
Примечание: дорогие читатели, которые почувствовали ужас от этих моих слов — мне все равно, что вы там чувствуете.
Ребята, я шучу. Это такая шутка.
Дело такое: я видел, как негативные эмоции отца перехватывали контроль над его могучим интеллектом и заставляли его снова и снова тиранить нашу семью. Еще я как-то раз сидел в церкви, и тут мисс Мэми преисполнилась святым духом. Ее так охватили «положительные эмоции», что она в экстазе вскочила со своей скамьи и сильно взмахнула левой рукой, едва не сломав мне нос (и даже не заметила).
Мое отношение к чувствам изменилось и углубилось, но мне до сих пор непросто, когда я или кто-то другой испытывает сильные эмоции. Чувства — это невероятно ценные инструменты для того, чтобы маневрировать в мире и самовыражаться. Они подобны огню, которым можно готовить еду, согревать и очищать. Но когда сильные эмоции выходят из-под контроля, по моему опыту, они способны спалить ваши мечты дотла.
К сожалению, тогда я не обладал ни мудростью, ни красноречием, чтобы предотвратить многочисленные пожары, которые разгорались в моей жизни.
Протест Уиллоу положил начало периоду в нашей семье, который я называю «Бунтом». Давление нагнеталось много лет. Я пытался предотвратить бедствие, но это было невозможно.
Мы сидели на кухне. Я, Джада и Уиллоу. Уиллоу ела мороженое с вареной сгущенкой. Левой рукой она теребила мою бороду, а в правой держала ложку.
Ее голосок звучал очень мило, но устами младенца…
— Мамочка?
— Да, милая?
— Мне так грустно, — сказала Уиллоу.
— Почему, малышка?
— У папы в голове есть картинка семьи. И это не мы.
Я был на вершине горы. Я превзошел все свои мечтания. Я добился каждой цели, преодолел все препятствия и еще немного.
Но все вокруг меня были несчастны.
У папы в голове есть картинка семьи. И это не мы!
Уиллоу посмотрела мне в глаза с невероятным сочувствием. Ей было искренне меня жаль. Вареная сгущенка стекала вниз по ее руке. Джада милосердно отвела взгляд, притворяясь, что увидела что-то очень важное в области холодильника.
Уиллоу все гладила меня по лицу.
— Ничего, папа. Ничего. Все будет хорошо.
Мороженое с вареной сгущенкой по сей день запрещено в моем доме.
Я начал замечать чувства повсюду. Например, на деловой встрече кто-нибудь говорил: «Ничего личного… это просто бизнес». И я вдруг понимал — о черт, нет никакого «просто бизнеса», на самом деле все — личное! Люди чувствуют ярость, возбуждение, надежду, безнадежность, разочарование, страх, стыд — и это все в рамках «деловой встречи». Все погружены в свои чувства и постоянно принимают все свои решения только на основе того, что они чувствуют. Даже мое отвращение к сильным чувствам… основано на моих чувствах по отношению к чувствам. Я чувствовал себя как Христофор Колумб, который думал, что «открыл» новое место, а там всегда были люди. Политика, религия, спорт, культура, маркетинг, еда, покупки, секс — все замешано на чувствах.
А потом истина ударила меня, как пушечное ядро: всем на все плевать кроме своих чувств. Все хотят чувствовать себя хорошо, везде, всегда. Мы выбираем слова, действия и поступки, чтобы испытать приятное чувство. Нет ничего важнее, чем чувствовать то, что нам хочется. И люди определяют, любишь ли ты их, по тому, насколько ты чтишь их чувства.
Вот в чем заключалась запутанная головоломка большинства моих отношений во взрослой жизни. Меня никогда особо не заботило то, что чувствуют другие люди прямо сейчас, потому что я больше переживал об их общем благополучии. Люди вокруг меня постоянно жаловались на то, что я не считаюсь с их чувствами. Когда эта проблема не получала решения, их обида зачастую превращалась в ощущение того, что я их не люблю.
Ради своих любимых я готов броситься в огонь. Я всегда готов положить свою жизнь ради семьи. Но нет, я не всегда обращал внимание на их чувства. Я не доверяю чувствам — они приходят, уходят и меняются, как погода. Они непредсказуемы. Если кто-то что-то чувствует, это еще не значит, что это правда. Как ни странно, если у вас что-то вызвало сильную эмоциональную реакцию, то вы, скорее всего, предвзято относитесь к ситуации.
Собственные чувства для человека весомее любых аргументов, фактов, истин, вероятностей и намерений, и он обидится, если ты проявишь неуважение к этим чувствам. Поэтому, когда мы просим человека мыслить объективно, наш собеседник обижается, что мы к нему не прислушались, хотя он распинался десять минут. Или, если мы говорим: «Посмотри правде в глаза», собеседник думает — вот ты сволочь, я же тебе выложил всю свою правду. Вот еще примеры классических неудачных фраз: «На самом деле», «В конечном итоге», «В действительности», «По сути дела», «Фактически». Скажи любую из них, и дело — труба. Люди воспринимают эти слова как полный игнор того, что они только что сказали, и полное неуважение к их чувствам.
Всем плевать на то, что ты думаешь и что ты чувствуешь. Всех заботит то, что они думают и они чувствуют.
За вопросом «Ты думаешь о моих чувствах?» следуют и другие. Если ты ответил «да», следующий безмолвный вопрос — насколько они тебе важны?
А потом — как ты мне это продемонстрируешь?
И какими своими планами ты пожертвуешь, чтобы мне удалось выполнить мои?
Ты готов поступиться своими мыслями и чувствами, чтобы позаботиться о моих?
В общем, люди хотят, чтобы вы вели себя как-то иначе, чтобы они почувствовали себя лучше. То, насколько вы готовы измениться, докажет им, насколько вы их любите.
Трею было двадцать, Джейдену — четырнадцать, Уиллоу — двенадцать. Я начал экспериментировать со своим подходом к воспитанию, чтобы переоценить мои отношения с детьми с точки зрения заботы и интереса о их чувствах.
Я был прекрасным защитником и добытчиком. Я был превосходным наставником. Но теперь я научился замечать в них скрытые и видимые детские эмоциональные травмы. Утешало лишь то, что я видел, как у меня начинает лучше получаться. В воспитании Трея я вел себя максимально невежественно. Джейдену достался «Папа Уилл 2.0» с небольшим апгрейдом. А вот с Уиллоу, хоть ей и пришлось обрить голову, я не успел наделать непоправимого.
В одиннадцать лет Уиллоу, по сути, ушла из индустрии развлечений. Я знал, что частично в этом виновато внутреннее давление самого бизнеса, но в основном на ее решение повлияло то, что она чувствовала себя беззащитной. Она не могла описать этого словами, но ей не хотелось заниматься тем, что отвлекало бы меня от ее чувств.
Я чувствовал, что моя семья от меня отворачивается, усомнившись в моем лидерстве и даже в моей любви. Однажды за ужином Трей спросил меня:
— Папа, во что ты веришь?
Шери недавно заново открыла для себя церковь. В Христе она нашла утешение и преображение — это было прекрасное и искреннее чувство. И хотя я радовался, что она вновь обрела веру и ориентир, мне было до жути обидно, что она начала сомневаться в моих жизненных решениях. Когда кто-нибудь во взрослом возрасте открывает для себя веру и начинает указывать на твои проступки и способ их искупления, мы в черном сообществе таких называем «святошами». И мало что бесит сильнее, чем когда один из твоих бывших партнеров по грехопадению начинает указывать тебе на нынешние грехи.
Мне нравилось, как Трей относился к Библии — у него была чистейшая душа. Я с радостью обсудил бы с ним Авраама и Исаака, праведность Давида и смысл притчи о Лазаре. Я был открыт к размышлению о жизни Христовой в духовном, историческом и даже мифологическом контексте, если ему, конечно, захочется. Но у меня не было ни сил, ни желания разговаривать о том, что мои собственные решения шли в разрез со Священным Писанием.
— Я верю в Бога, — сказал я.
— Ты уверен?
— Знаешь, что, сынок. У тебя Библия совсем свежая, некоторые страницы ты даже еще не открывал. А моя — старая и зачитанная, я прочитал ее от корки до корки. Давай ты свою хоть немного потреплешь, а потом поговорим, лет так через пару?
Я отмахнулся от его вопроса, но не мог перестать о нем думать. Я зарабатываю тем, что даю интервью. Тридцать пять лет вопросов на пятидесяти языках. Но самым потрясающим вопросом из всех них был: «Во что ты веришь».
А на втором месте был вопрос: «Ты уверен?»
Я решил, что нам нужен семейный проект. Обычно мы сплачивались, если перед одним из нас стояло важное испытание — когда Трей играл в футбол, Уиллоу исполняла музыку, Джейден снимался в «Карате-пацане», или мы с Джадой были на съемках. Фильм «После нашей эры» должен был восстановить связь между всеми нами.
Я как-то видел телесериал под названием «Я не должен был выжить» о жутких, смертельно опасных испытаниях и невероятных ситуациях, когда люди оказывались на волосок от смерти. Одна из историй была об отце и сыне, которые заблудились в дикой природе, далеко от цивилизации. Отец был ранен после аварии, и сыну-подростку пришлось одному идти по опасной местности, чтобы найти помощь и спасти папу.
Когда я смотрел ту серию, я все представлял, как сам буду ранен и беспомощен, а Джейден будет пробираться по пересеченной местности, чтобы достичь цивилизации и спасти меня. Этот сценарий засел у меня в голове — история взросления юноши, который старается спасти отца. Идея переросла в фильм еще и об отце, который учится доверять и рассчитывать на своего сына. Это будет метафора, способ исцелить их отношения.
В то время я также экспериментировал с переносом истории в другое время и место. Можно ли взять берлинский ночной клуб 1940-х годов, со всеми человеческими проблемами и конфликтами, и перенести его на 1200 лет в будущее, сохранив основной посыл? Я отправил эпизод передачи «Я не должен был выжить» М. Найту Шьямалану. Ему очень понравилось, и он тоже подумал, что из этого можно сделать фильм. У Найта был принцип — все павильонные съемки своих фильмов он проводит исключительно в Филадельфии. Я решил, что это знак свыше.
Найт жил совсем недалеко от Филли. Мне никогда еще не доводилось работать над фильмом в моем родном городе. Вся моя семья, близкие и дальние родственники проведут вместе целых три месяца. Затягивать с началом не хотелось.
Я также согласился обучить брата Джады, Калиба Пинкетта, разработке сценариев. Он прекрасно разбирается в истории, а историкам обычно легко дается написание сюжетов и персонажей. Он был идеальным учеником и моим шурином. Семья, семья, семья.
Джей-Элу не понравилась идея. Джей-Элу не понравился сценарий. Джей-Элу не понравилось выбранное время. Джей-Элу во всем этом проекте ничегошеньки не понравилось.
— Это просто набросок, — сказал Джей-Эл. — Допишите сценарий. Закончите историю. Давайте не будем браться за что-то, пока мы не понимаем, что это.
Но я его не послушал. Мне нужен был этот проект, чтобы спасти мою семью. И у меня была тайная клятва, мой скрытый план: я собирался сделать так, чтобы Джейден чувствовал себя любимым, защищенным и окруженным вниманием на каждом этапе этого процесса. Он ясно поймет, что его отцу небезразличны его чувства.
Действие фильма разворачивается в XXXI веке, где человечество сделало нашу планету необитаемой. Отец с сыном терпят крушение в самом опасном месте во Вселенной — на Земле. Съемки в павильонах проходили в Филли, а натурные — в городе Моаб в штате Юта, а также в Коста-Рике. Персонаж Джейдена по имени Китай должен был пробираться через джунгли, реки, равнины, каньоны и потоки вулканической лавы, чтобы спасти раненого отца.
Я был решительно настроен окружить Джейдена любовью и комфортом. В Коста-Рике было жарко (в прямом и переносном смысле). Я распорядился, чтобы на всех локациях установили огромные палатки с кондиционерами, чтобы Джейден мог остыть и отдохнуть между съемками, поиграть в пинг-понг, поесть, послушать музыку или прикорнуть.
— На хрена здесь палатки? — спросил Даррелл, отведя меня в сторонку.
— Тут жарко, Даррелл. Я просто хочу, чтобы ему было комфортно.
— Комфортно? Да ты из пацана сделаешь тряпку. Твой персонаж — главный генерал во Вселенной. Как мальчишке спасать твою задницу, если он торчит в гребаной палатке? Пусть жарится на солнце вместе со всеми.
Даррелл к тому времени уже десять лет был моим наставником, тренером и близким другом. Он толкал, пинал и тянул меня к самым безумным мечтам. Он знал, как куются победители — он лично видел бой Шугар Рэя против Марвина Хаглера. Он умел делать из людей настоящих солдат. Не знаю, почему я просто не сказал ему, что у меня на уме и на душе. Наверное, мне было стыдно, или я решил, что он меня не поймет. Но Даррелл счел мои действия чистым саботажем. Я нарушил все правила, на которых строились наши победы.
Из-за этого между нами возник холодок, который впоследствии превратился в непонимание и раздор. Мы перестали работать вместе. Тогда мне не хватило смелости поговорить с ним открыто. Невероятно успешное партнерство, которое продолжалось десять лет, окончилось без слов.
Позже Даррелл признался:
— Ты разбил мне сердце и даже не сказал, почему.
Зато с точки зрения моих отношений с Джейденом съемки вышли идеальными. Когда я приходил на площадку «Карате-пацана», Джейден сдувался и увядал, как будто перед лицом злейшего врага. Он считал меня человеком, который давил на него, заставлял снимать еще один дубль, продлевал съемки в Китае на месяц, потому что мне не понравилась какая-то сцена. Но теперь я не позволял съемкам длиться ни на минуту дольше, чем было заложено в график. Я защищал его.
Однажды на съемках произошло лучшее событие за все время воспитания Джейдена. Он снимался в экшен-сцене в павильоне синхронной съемки. Я не участвовал в том эпизоде, но у меня был монитор, на котором я мог видеть все, что он делает. Один из координаторов просил его сделать движение, которое Джейдену не нравилось. Сын несколько раз пытался объяснить, что не хочет этого делать, но координатор его не слушал. Я увидел на мониторе, что они препираются, поэтому включил звук.
— По-моему, это выглядит нереалистично, — вежливо сказал Джейден.
— Давай сделаем хотя бы пару дублей, — настаивал координатор.
И тут Джейден сказал самые лучшие слова, которые я когда-либо от него слышал:
— Кто-нибудь может позвать моего папу, пожалуйста?
Каждый раз, когда я об этом вспоминаю, на мои глаза наворачиваются слезы. Я преобразил наши отношения. В его восприятии я избавил свой образ от негатива. Я больше не был монстром, который его мучает и наказывает. Я стал человеком, которого он зовет в трудную минуту. Я помню, как уверенно он стоял там. Он как будто знал, что у него есть лев, который его защитит — он не собирался ни на кого его науськивать, но знал, что такая возможность есть.
Когда я был маленьким, у меня тоже был лев, но мне не нравилось, что он иногда кусал меня самого.
На съемках «После нашей эры» мы с Джейденом волшебным образом сблизились. Он был еще подростком, и момент был подобран удачно. Я успешно продемонстрировал ему, насколько глубоко ценю и интересуюсь им. Но занимаясь вопросами его благополучия, я отвлекся и не уделил свойственного мне внимания сюжету, сценарию и общей структуре фильма. В результате наш сыновне-отцовский медовый месяц оказался недолгим. «После нашей эры» отвратительно показал себя в прокате и был обруган критиками. Хуже того, все удары посыпались на Джейдена. Публика и пресса оказались беспощадны. О Джейдене говорили и писали такую дрянь, я даже повторять не буду. Джейден прилежно делал все, что я велел, и своими наставлениями я привел его к жесточайшему разносу, который когда-либо на него обрушивался.
Мы никогда этого не обсуждали, но я знал — ему казалось, что я его предал и подтолкнул к провалу. Он потерял веру в мои способности быть лидером. Джейдену нравится побеждать, и он не против немного пострадать ради успеха. В этом заключается одна из вечных проблем воспитания — единого универсального подхода для всех просто не существует. Каждый ребенок требует чего-то своего.
Я читал, что мальчик становится мужчиной, когда отделяется от отца и понимает, что отец — не Супермен, а обычный, несовершенный человек. В этот момент принимается тяжелое решение стать самостоятельным и нести ответственность за собственную судьбу.
Отец не должен сопротивляться этому процессу, как папуля во время нашей с ним партии в шахматы. Но когда в пятнадцать лет Джейден потребовал эмансипации, я почувствовал, как мое сердце разбилось. В конце концов он передумал, но я уже не смог забыть, что причинил ему такую боль.
Тогда я сделал сомнительный вывод, что эмпатия и победа — понятия несовместимые. Ты либо заботишься о чувствах людей, либо побеждаешь.
Но нужно выбрать что-то одно.
В ночь на тридцать седьмой день рождения Джады мне было видение. Я увидел, как мы празднуем ее сорокалетие — огромное, невероятное мероприятие. Это был Тадж-Махал из мира вечеринок в честь дня рождения. Такого празднования она никогда не забудет. Я публично продемонстрирую ей свою любовь и обожание, и тогда все наладится.
Все три года я планировал.
Я люблю организовывать зрелищные мероприятия, вызывающие незабываемые эмоции. Я считаю, что жизнь удалась, только если у тебя осталось много ярких воспоминаний, поэтому всегда стараюсь делать то, что людям запомнится.
В детстве у Джады были очень близкие отношения с бабушкой. К сожалению, пару лет назад бабушка скончалась. Я тайком связался с тетей Джады, Карен, которая заведовала семейным архивом. У Карен в закромах хранились фотографии, видеозаписи и письма, а еще она как раз недавно обнаружила аудиокассеты, на которые бабушка Джады записывала свои мысли в последние недели жизни. Никто в семье их еще не слышал. Они должны были стать моим главным подарком Джаде на день рождения.
У меня в голове сложился блестящий план — сделать документальную короткометражку о жизни Джады. Я нанял команду исследователей, чтобы те изучили генеалогию ее семьи и проследили род ее бабушки до самой эпохи рабства. Потом я нашел режиссера, который скомпоновал информацию и сделал фильм.
Но для Тадж-Махала одного только фильма недостаточно.
Джаде нравился город Санта-Фе в Нью-Мексико и тамошние художники. Я решил устроить сюрприз и провести с ней там трехдневный уикенд. Я выкупил в городе целый отель, куда пригласил десятки наших ближайших друзей и родственников. Каждую ночь мы должны были роскошно ужинать под звездами, а после этого нас всех ждал сюрприз. В пятницу вечером — закрытый арт-показ. Утром в субботу — духовное паломничество, пеший поход в национальный парк Пикачо-Пик. Я пригласил любимых художников Джады, чтобы они написали для нас картины и провели мастер-классы для всей семьи. Мэри Джей Блайдж любила Джаду и согласилась в качестве сюрприза выступить в субботу вечером. А венцом уикенда стал бы просмотр документального фильма о Джаде.
Это должен был быть триумф, который поможет мне вновь завоевать сердце моей жены.
Первый вечер был прекрасен — уютный ужин при свечах в антураже загородной уличной террасы. Нас там было, наверное, человек двадцать. Я хотел, чтобы людей было достаточно немного для Джады, но достаточно много для меня. Мы ужинали под музыку виолончели. В воздухе витали любовь и спокойствие. Все рассказывали свои любимые истории о Джаде. Все прошло идеально. Вечер пятницы задал праздничное настроение. Суббота же должна была сорвать крышу.
Утром в субботу прибыли остальные гости. Я запланировал множество развлечений — гольф, поход, бранч, спа. Я хотел, чтобы все могли свободно заниматься, чем хотят, до самого заката — момента моего триумфа.
К шести вечера все собрались в ресторане. На этот раз уже было сорок человек.
Ужин прошел без сучка, без задоринки. Все нахваливали убранство и вкусную еду. Некоторые женщины подкалывали мужей:
— Когда мне исполнится сорок, устрой мне такой же праздник, как Уилл.
— Мои сорок лет мы отметили кое-как, но если я от тебя не уйду, организуй мне вот такое пятидесятилетие.
— Может быть, Уилл с Джадой меня к себе возьмут?
Я показал себя идеальным мужем. И ведь они еще не знали, что это только начало. Этот ужин был всем, о чем можно было только мечтать — абсолютным проявлением любви, которое одобрил бы даже Шах-Джахан. Как раз перед тем, как должны были подать десерт, я постучал ложкой по бокалу. (Я такое видел в кино, но сам никогда так не делал. Это работает!)
— Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли отметить с нами сорокалетие Джады. Прошу всех следовать за мной — десерт нам подадут в саду.
Я чопорно показал дорогу. На протяжении всего обеда двадцатиметровая цветочная арка была скрыта от взглядов. Увидев ее, толпа так и ахнула. Внутри арки были развешены фотографии Джады. Это была галерея, восхваляющая ее силу, красоту и вклад в наши жизни. Идеальное освещение озаряло не только фотографии, но и качество и изобилие моей любви.
Арка вела в театр на открытом воздухе. Толпа вновь испустила восторженный вздох. Джаде вроде все нравилось, но она как-то притихла — я не мог понять, что она обо всем этом думает. Но это было не важно — я знал, что документалка безоговорочно попадет в цель.
Я сопроводил Джаду на ее место в первом ряду. Гэмми тоже никогда не видела и не слышала этих записей своей матери, поэтому я усадил ее рядом с Джадой. Остальные гости спешили занять места. Они чувствовали, что сейчас произойдет нечто невероятное.
Я нашел всех предков Джады вплоть до времен рабства. Я разыскал фотографии и истории о героях Армии Союза, бизнесменах с Черной Уолл-стрит, рабах, врачах, художниках. Я тайно слетал с Джейденом в церковь на Ямайке, где познакомились и поженились прадед и прабабушка Джады.
Самым смешным был момент, когда мы с Джейденом и братом Джады, Калибом, встретились с потомком семьи рабовладельцев, которые когда-то владели семьей Джады. Только представьте: вы очень милый шестидесятисемилетний бухгалтер из пригорода Кливленда. Сегодня самая обычная среда, вы с любимой женушкой смотрите «Поле чудес». Вы как раз похвалили тушеное мясо, которое она приготовила, и тут раздался стук в дверь. У вас на пороге стоят Уилл Смит с Карате-пацаном и дядей Карате-пацана.
И съемочной группой.
Мужичок и его жена оказались отличными ребятами. Он как раз занимался архивом их семьи. Он знал все истории и имена людей, о которых мы говорили. Он показал нам всякие фотографии и вещи, и мы даже уговорили его официально извиниться на камеру.
— С днем рождения, Джада, — сказал он. — Извините, что так вышло.
Публика ревела от хохота. Люди не верили, что я на такое пошел. Я слышал, как они говорили: «Уилл вообще псих» и «Это невероятно!», и «Что же он на следующий год выкинет?».
Но я еще не закончил.
Все притихли, когда послышался голос любимой бабушки Джады. Ее слова были адресованы конкретным членам семьи, многие из которых присутствовали прямо там. Впервые после смерти бабушки Джада услышала, как она обращается к ней.
На тот момент я видел свой фильм сотни раз, поэтому смотрел только на Джаду. Все присутствующие были в слезах — ее родственники, мои родственники, вообще все. Кроме Джады. Она сидела неподвижно, отказываясь на меня смотреть. Видео закончилось — семья и друзья разразились стоячими аплодисментами.
Экран уехал вверх, и перед публикой предстала Мэри Джей Блайдж.
Мы вернулись в гостиничный номер. Джада так ничего и не сказала. Ни «спасибо», ни «мне понравилось». Ничего. Она отправилась в душ. Я сидел и ждал ее.
Где-то через полчаса Джада вышла.
— Я ничего не хочу завтра делать, — сказала она. — Можешь отменить все планы.
Я опешил.
— Ну ладно, — ответил я, скрывая нарастающее разочарование. — Уже поздно, давай подождем до завтра и посмотрим, что ты скажешь.
На следующий день у меня был запланирован групповой урок рисования с одной из ее любимых художниц, Бет Эймс Шварц, которую я привез специально по случаю.
— Я уже все сказала. Я не хочу ничего делать, — сказала Джада.
— Ну ты же не знаешь, что там будет, поэтому не можешь знать, хочешь ты этого или нет.
— Это мой день рождения! Отмени и все, — отрезала Джада.
— Я отменю с утра. Ложись спать, а там посмотрим, — огрызнулся я.
— ОТМЕНЯЙ СЕЙЧАС ЖЕ! — взвизгнула Джада.
— Да какая тебя муха укусила?! — спросил я.
— Это была самая отвратительная демонстрация эгоизма, которую я когда-либо видела в своей жизни! — ответила она.
— Кто эгоист? Я эгоист? Ах ты неблагодарная… Да я для тебя ни хрена больше в жизни не сделаю.
— И пожалуйста. Мне от тебя ни хрена и не нужно!
К этому моменту мы уже просто орали друг на друга, что было для нас совершенно не характерно. Мы оба выросли среди скандалов и ругани, и очень старались не тащить их во взрослую жизнь. Ничего подобного не случалось ни раньше, ни потом. Давление наконец разорвало наши идеальные с виду отношения.
Мы так разгорячились, что забыли, что в одном номере с нами жила Уиллоу. Над нашей спальней был ее маленький лофт. Уиллоу слышала каждое слово.
Она медленно спустилась, перепуганная, дрожа от слез и зажимая руками уши.
— Хватит! Хватит! Пожалуйста!
С тех пор как я стал отцом, я никогда не чувствовал себя хуже. Я тут же замолчал и бросился утешать дочку. Она отшатнулась, не позволив мне себя коснуться.
— РАЗБЕРИТЕСЬ УЖЕ! Сделайте что-нибудь со своими отношениями!
С этими словами Уиллоу ушла спать к Джейдену.
В Санта-Фе мы с Джадой больше не перемолвились ни словом. Как и в самолете обратно в Лос-Анджелес. И дома мы не разговаривали еще несколько дней.
Наш брак не работал. Притворяться было бессмысленно. Мы оба были несчастны, и что-то явно нужно было менять.
— Я сдаюсь, — сказал я. — Я больше не буду пытаться сделать тебя счастливой. Ты свободна. Делай сама себя счастливой. Докажи мне, что это вообще возможно. Но я сдаюсь. Делай что хочешь, и я тоже буду делать, что хочу.
Мы с Джадой переживали мучительную смерть наших романтических фантазий, разрушение иллюзии идеального брака и семьи.
Никто из нас не хотел разводиться. Мы знали, что любим друг друга, и какая-то часть нашего союза была волшебной. Но структура жизни, которую мы построили, давила на нас обоих. Мы поженились, когда нам было двадцать, а теперь нам исполнилось сорок. Наши несчастные внутренние дети пытались передушить друг друга. И этому надо было положить конец. Нам обоим нужно было работать над собой, и мы согласились, что делать это придется по отдельности. Мы обнаружили, что были двумя разными людьми, которые идут двумя разными, не зависящими друг от друга путями. Просто так получилось, что часть пути мы прошли вместе.
Мы поплакали навзрыд, обнялись и договорились отпустить друг друга.
- Отдайте свои сердца друг другу, но не навсегда,
- Ведь лишь рука Жизни может держать ваши сердца.
- И будьте рядом, но не слишком близко —
- Ведь и колонны храма стоят врозь.
Джада прислала мне эти строки Халиля Джебрана, снова и снова повторяя: «То, что истинно, останется».
Мы сделали вывод, что никто не может сделать человека счастливым. Можно заставить человека улыбнуться. Можно помочь человеку почувствовать себя хорошо в какой-то момент. Можно рассмешить человека шуткой. Можно создать обстановку, где человек почувствует себя в безопасности. Мы можем и должны помогать другим, сеять добро и любовь. Но мы не можем полностью контролировать, счастлив ли другой человек. Каждый должен вести одиночную внутреннюю борьбу за свое собственное счастье.
Мы согласились, что Джада несет ответственность за свое счастье, а я — за свое. Мы будем искать наше особое, внутреннее личное счастье, а потом вернемся друг к другу и к нашим отношениям уже счастливыми. Мы больше не станем выпрашивать счастье друг у друга как попрошайки. Такие вампирские отношения казались нам несправедливыми, нереалистичными, разрушительными — и даже насильственными. Если возложишь ответственность за свое счастье на кого-то, кроме себя самого, получишь только горе.
Глава 19
Ретрит
Я добился всего, о чем когда-либо мечтал: карьера, семья, бизнес, здоровье, статус мегазвезды, собственное имение. Если уж на то пошло, у меня в жизни все было даже лучше, чем в мечтах. Больше денег, больше славы, больше имущества, больше успеха. И я всего добился сам. Я достиг вершины горы — и, обнаружив там, что за облаками спрятан еще более высокий пик, взобрался и на него. Чего еще вам от меня надо? Воскресить кого? Я был более велик, крут и невероятен, чем кто угодно другой до меня. Может, и после меня таких уже не будет.
Так какого же хрена все такие грустные? Как такое вообще возможно, что моя жизнь… снова начала рушиться?!
Что я упускаю?
А вы тоже звоните своим бывшим, когда проходите через расставание или трудный период в отношениях? Или это только я?
По-моему, становится легче, если поговоришь с кем-то, кто теперь ненавидит тебя не так сильно, как раньше. Они уже прошли через этап разочарования и отвращения, время и расстояние залечило душевные раны, и теперь они готовы признать 12–15 % своей вины в случившемся (хотя на самом-то деле там все 50 %). В результате в голове остается картинка о «хороших временах», а звонок с твоего номера вызывает у человека приятное ностальгическое покалывание. И не забывайте, что прямо сейчас ваш бывший партнер ненавидит своего нынешнего избранника, поэтому вы на его фоне не так уж плохи.
Таня после нашего разрыва переехала в Тринидад. Она хотела убраться из Лос-Анджелеса — слишком много шума, слишком много воспоминаний, кругом один Уилл. Но мы расстались по-дружески, я ей даже переезжать помогал. Мы не виделись пару лет — с тех пор она вышла замуж и родила двух прелестных карамельных ребятишек, Марли и Секай.
По телефону ее голос звучал по-другому, его явно изменил пляжный образ жизни — в нем появилась солнечная мягкость, спокойствие. Изменения коснулись даже ее имени: теперь она звалась Тьяна, сокращенно Тай. Таким образом она показывала, что ее сущность осталась прежней, но яд прошлого уже покинул организм.
Тай с семьей навещали Лос-Анджелес на День благодарения.
— Вам со Скоти обязательно надо познакомиться! Я тебе обещаю, вы поладите! — Она мне это уже несколько лет твердила.
Ее муж, Скоти Сардинья, был художником из Тринидада и Тобаго — уж куда лучше всех этих продюсеров, спортсменов и рэперов/актеров, с которыми она раньше встречалась. Скоти был вообще не такой (и она его даже не ненавидела — совсем наоборот). Я постоянно слышал о нем и о красотах Тринидада от общих друзей, которых Тай приглашала к себе на райские острова. Куин Латифа как раз оттуда вернулась и не могла перестать восторгаться. У нее великолепный вкус и она очень щепетильна в вопросах проживания, так что если она говорит, что где-то круто, можно верить на слово.
— Одолжи-ка мне своего муженька, — сказал я.
Не знаю, почему я так выразился — возможно, хотелось повыделываться. Обожаю шокировать людей своим странным выбором слов, будто выжигая всякую фигню у них в памяти. Это как-то разряжает обстановку. А если получится ввернуть что-то особенно удачное, то моя фигня даже не кажется такой уж фигней.
— Ну блин, и на сколько тебе его дать? И, что еще интереснее, что ты с ним собрался делать?
Нам с ней всегда было весело.
— Я не бывал в Тринидаде, а Куин сказала, что там круто.
— О, шикарно, — радостно ответила Тай, явно уже воображая пляжные вечеринки и выставки, на которые меня можно сводить. — Поехали через месяц, на Рождество.
— Мне надо завтра, — настойчиво сказал я. — Не могу больше сидеть в Лос-Анджелесе.
— Чувак, ты сдурел что ли? Завтра же День благодарения!
Она знала меня достаточно давно, чтобы понять — со мной что-то не так. И она достаточно долго меня любила, чтобы хотеть мне помочь.
— Ну блин, пожрете спокойно, а поедем вечером, — решил успокоить ее я.
— Я завтра не могу.
— Так я и хотел поехать со Скоти.
Ту-дук.
Ту-дук.
Ту-дук.
— Ну так что?
Скоти Сардинья никогда раньше не летал частным самолетом. А я уже пятнадцать лет никуда не отправлялся без охраны.
— Это мой остров, мэн. Я тут всех знаю. Не бойся. Все будет нормально. Не грузись.
Скоти говорил с безмятежным карибским акцентом, и его дреды были собраны в хвост на затылке.
Я обычно не тусовался с парнями типа Скоти. Он был на расслабоне и не суетился по пустякам. Я-то привык сражаться и гнуть под себя мир чистой дисциплиной и усилием. Скоти было не важно, в какую сторону гнулся мир. Он просто сидел, дышал и смеялся над этим.
— Я покажу тебе настоящий Трини, — заявил Скоти где-то над Мексиканским заливом.
Я уже лет двадцать не прилетал в места, где все не было заранее подготовлено к моему прибытию.
— Все точно будет нормально, когда мы приземлимся? А то я знаменитый, — сказал я.
— Да не, мэн! Я тебе отвечаю, в Трини народ спокойный. Ты таких спокойных не видал! Там ни к кому особо не цепляются. Им будет все равно, что ты — Уилл Смит. Все будет хорошо, обещаю.
Мы приземлились в тринидадском международном аэропорту Пиарко примерно в два часа дня.
И тут начался дурдом.
На посадочной полосе выстроился весь персонал аэропорта. Охрана окружила нас и отвела в приватную комнату. Скоти был в шоке — с ним в жизни никогда подобного не происходило.
— Я не понимаю, че они тут устроили, мэн. Как будто тут невидаль какая-то. Просто дичь!
Скоти достал мобильный, чтобы позвонить своему другу Джейсону, который должен был нас встретить.
Скоти просто не знал Правила Кинозвезд™, а именно пункт 4а, подпункт II: всегда планируй все свои поездки заранее. Кинозвезд очень сложно перемещать, потому что вокруг них образуются толпы. Примечание: другу, который встречает в аэропорту вас с кинозвездой, надо звонить до того, как самолет уже приземлился.
— Джейсон! Нееее, мээээн, я ж тебе говорил, мы летим! Нееет, Джейсон! Я те говорил, мы уже в самолете — я прям с самолета звонил. Да ну не, мэн! Это ж частный, персональный самолет! Че ты, где? Далеко? Джейсон! Ну неееет! Это далекооооо. Давай рули побыстрее!
Скоти особенно очарователен тем, что он не делит людей на «важных» и «не важных». Ему все важны. Я не помню, когда я в последний раз сам нес свой багаж. Как бы банально это ни звучало, но оказавшись без охраны и ассистентов в чужой стране, я чувствовал, что отправился на поиски пугающих и невероятных приключений.
Сорок минут спустя охрана аэропорта сопроводила нас к машине Джейсона, и мы благополучно отправились в дом детства Скоти.
Я и сам не знал, чего ищу, но сказал ему:
— Никаких отелей, никаких водителей, никаких официальных встреч.
Я хотел оказаться в его жизни, в его доме, с его друзьями, занимаясь тем, что он бы обычно делал, если бы не явился Фреш Принц.
Один его друг, Че Лавлейс, был сорокатрехлетним художником из известной в Тринидаде творческой семьи. В тот вечер у него была выставка. Мы кинули сумки дома у мамы Скоти и покатили к Че в галерею «Акварела». Скоти сел за руль.
— Просто расслабься и будь как дома, мэн! Мои ребята тебя не побеспокоят. Все уважают твое личное пространство.
— Ну не знаю, Скоти, — ответил я. — Я здесь никогда раньше не бывал, но нам лучше подготовиться к тому, что люди возбудятся.
— Неееее, мэн, не здесь. Тут вообще другая картина. Это мои ребята, они совсем не такие. Наши люди так себя не ведут.
Мы прибыли на выставку. Стоило мне сделать два шага из машины, как тут же образовалась огромная толпа. Две сотни людей вопили, толкались, хватали, визжали. Они делали это от любви, но, как известно, любовь причиняет боль. Взволнованная толпа бывает опасна. Скоти попытался изобразить из себя телохранителя, ведя меня через наэлектризованную толпу «его ребят».
Меня впервые в жизни сопровождал «телохранитель» в шлепках.
Еще это был первый раз в моей жизни, когда меня никто не защищал. Не было охраны, некого было позвать на помощь. Я не знал, где нахожусь, где выход, где посольство США. Полный ноль. Мне даже казалось, что я их английского не понимаю. Наверное, так себя чувствует младенец, который только что покинул материнскую утробу.
Я был сорокадвухлетним новорожденным.
Кое-как мы прошли через галерею. Оказавшись в безопасности VIP-комнаты, я познакомился с Че и его семьей: его сыном Роско, младшей сестрой Ашей «Лулу» Лавлейс и ее дочками Айлой и Эвой. Тринидадское солнце подпекает детишек до идеального цвета — никогда еще я не видел таких красивых детей.
Че занимался фигуративным искусством, его работы совмещали в себе реализм с абстракцией. Обычно он рисовал участников местного Карнавала пастельными красками и пудровыми пигментами на досках, ярко запечатлевая красочность жизни на Карибских островах. Я утонул в нарисованных глазах девушки с картины, которую он назвал «Королевой танцевального зала». Мне показалось, что она радостно встречает меня на этом острове. На выставке было много народу, и разношерстность тринидадской публики сама по себе была живописным холстом.
В конце концов мы отправились домой к Лавлейсам. Посиделки на веранде, музыка, еда, разговоры. Утопающий в зелени уютный дом находился в живописном районе под названием Каскад и практически терялся среди окружающих его деревьев. Гости собирались «лаймить» (это тринидадское слово означает «тусоваться» и «проводить время вместе») на крытой деревянной веранде, которая тремя сторонами выходила в холмистый сад и долину Каскад. Под крышей стоял обеденный стол, откидывающиеся кресла и мое любимое местечко — классический тринидадский гамак.
Лавлейсы — семья творцов, поэтов, интеллектуалов. Глава семьи, Эрл Лавлейс — известный писатель, журналист, сценарист и поэт. Лулу — профессор кинематографа в Университете Вест-Индии. Старший брат, Уолт — кинематографист. Сам дом был полон художественных работ Че. Мы вели незабываемые глубокие разговоры.
— Что это за сладкий запах? — спросил я.
— Это пахнет иланг-иланг, — ответила Лулу. — В это время года его аромат чувствуется лучше всего, потому что ветер дует с запада.
Музыку, которую включила Лулу, я никогда раньше не слышал: сенегальские певцы Исмаэль Ло, Бааба Мааль и Йуссу Н’Дур. В гармонии с ароматом иланг-иланга они наполняли меня сладкой негой. Вкусные кушанья, карибский ветерок, звонкие голоса, топот карамельных ребятишек.
— Ты останешься с ночевкой? — невинно спросила шестилетняя Айла.
Я издал такой смешок, который всегда издают взрослые, когда на самом деле не смеются.
Видишь ли, Айла, не считая той одной ночи в Белом доме после инаугурации Билла Клинтона, я не оставался ни у кого с ночевкой с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Я даже у своих родителей не ночую, когда приезжаю в Филли. Я знаю, Айла, что тебе всего лишь шесть лет, но пойми, перевозить «глобальную икону» по всему миру очень тяжело с точки зрения логистики. Во-первых, со мной ездят минимум десять человек, а значит, нам нужно минимум одиннадцать комнат. И если это возможно, из соображений безопасности обычно для меня выкупают целый этаж в лучших отелях мира. Конечно, мой номер находится в самом конце коридора, тот самый, с двустворчатой дверью…
Не говоря уже о том, что я никого из вас совсем не знаю. Я со Скоти-то едва знаком. Я здесь один, а я никогда не был один. Поэтому мысль о том, чтобы заночевать с незнакомцами — даже такими добрыми и прекрасными, как члены твоей семьи — пугает меня до полусмерти.
Так что да, Айла, конечно, я останусь с ночевкой.
— Где моя комната? — спросил я у нее.
Меня отправили спать в «подземелье». Это была бывшая кладовка, больше похожая на гараж, которую переделали в гостевую комнату. Все было заставлено книгами, старыми виниловыми пластинками и керамическими поделками. Из мебели там стояла только большая деревянная кровать, которую, как я потом узнал, смастерил Скоти своими руками. Белая штора развевалась над кованой рамой окна, в котором не было стекла — в теплые карибские ночи ничего больше и не надо.
Мои сумки остались дома у мамы Скоти.
— Я их завтра утром привезу, — сказал Скоти и уехал, оставив самую большую кинозвезду без зубной щетки в чужом доме.
Когда я согласился переночевать, я думал, что всем понятно — я соглашаюсь остаться только вместе со Скоти. Неужели этот олух меня правда тут бросил… Подожди, вот узнает Чарли Мэк, он уж макнет его головой в унитаз.
Обычно я легко ориентировался в пространстве. Папуля меня выдрессировал. В моем детстве он мог в любой момент спросить: «Где север?» или «Покажи на восток». Он учил нас, что пассажир в любом транспортном средстве выполняет функцию навигатора. Водитель выбирает радиостанцию и включает печку, а вот пассажир/навигатор следит за маршрутом по карте и подсказывает, где нужный поворот (и еще выдает перекус — папулю за рулем полагалось подкармливать).
Но в ту ночь луна скрывалась за облаками, а я не следил за дорогой по пути в машине до дома. Ориентироваться по звездам я, честно говоря, не умел. Лежа в тридцати сантиметрах от бетонного пола где-то в Карибском море, я начал хихикать — так у меня всегда проявляется тревога и страх. Хихиканье превратилось в хохот, хохот — в ржание, а ржание переросло в самую настоящую истерику.
Где я, блин? Что я делаю? Что происходит? Как меня жизнь сюда завела? Я даже не знаю, что это за место. Никто из моих близких не знает, где я. Сейчас меня легко можно было бы убить. Хотя, чего меня убивать — «Дикий дикий Запад» был не настолько плох.
А вдруг сюда сейчас войдет женщина? Вдруг на ней будет длинная белая прозрачная ночнушка? Вдруг она приложит палец к губам. — Тссс. Вдруг она меня поцелует? Вдруг она скажет мне, что я на правильном пути?
Вдруг я ей поверю?
Я проспал почти двенадцать часов.
Я уснул сорокадвухлетним, а проснулся, чувствуя себя на двадцать восемь. Я бы спал и дольше, но ароматы томатной чоки, копченой селедки, лепешек сада роти, домашнего хлеба и незнакомых местных фруктов просто не дали мне проваляться ни секундой дольше. Я бесстыже сожрал три полные тарелки и доел за Айлой ее половину лепешки, и тут Скоти наконец приехал.
Все еще без зубной щетки.
— У моего братана Джонатана есть яхта, — объявил Скоти. — Мы думаем отправиться постравам.
Вся семья Лавлейсов одобрительно захлопала и заохала — очевидно, «постравам» — это что-то хорошее.
— Что такое «постравам»? — решил уточнить я.
— По островам.
Мы отчалили в девять утра — я, Скоти, Че, Лулу, Роско, Айла, Эва и Джонатан. Минут через сорок мы прибыли в уединенную бухту на острове Чакачакаре. Скоти, Че и Джонатан прыгнули в воду еще до того, как якорь успел достичь дна. Я старался не уснуть, но то ли нежное покачивание яхты, то ли мое утреннее чревоугодное нападение на объедки Айлы отправили меня обратно в страну дремы.
Двумя часами позже я очнулся и обнаружил, что лодка пуста. Все были в воде, не считая Роско, пятилетнего сына Че. Он всем лицом ел спелое манго, а может быть, манго ело его — короче, он весь уделался мякотью и соком.
Я крикнул Скоти и остальным:
— Йооооу! Какие планы?
— В смысле, мэн?
— В смысле наш план на сегодня — чем мы будем заниматься?
— Тут будем, — ответил Скоти, широким жестом обводя горизонт.
— Я понял, но что делать-то будем?
Они все переглянулись. Че ему надо?
— Ну какие-нибудь водные лыжи, может, у вас есть? — спросил я. — Что тут интересного в округе? Что можно поделать?
— Оглянись кругом, мэн. — Скоти крикнул из воды. — Мы просто лаймим и хорошо проводим время все вместе.
Что бы это значило?
Роско и его манго внимательно следили за нашим разговором. Я вернулся внутрь, прилег на диван и прикорнул еще на полчасика.
Эти олухи реально собрались весь день ни черта не делать. Я помирал со скуки. Мой телефон не ловил сигнал, поэтому я не мог никому позвонить или написать. До суши нужно было добираться час, а до аэропорта — полтора. Я оказался в ловушке. Я чувствовал себя зверем в клетке. Меня это начинало злить. Как они смеют разбазаривать мое драгоценное время?
Я поднялся и снова отправился на палубу. Они так и были все там же, просто торчали в воде и чесали языком. Я не мог понять, что происходит. Меня всего трясло, я не мог найти себе места и постоянно проверял часы на телефоне. И тут я одернул себя. Я заметил, какой хаос у меня творился в голове и насколько он не соответствовал спокойной обстановке вокруг. Я подумал: «Блин, да я веду себя, как наркоман». Я не мог усидеть на месте. Мое сознание было возбужденным — мне хотелось что-то поделать, поставить цель, выполнить миссию, отправиться на поиски приключений. Ну хоть что-нибудь.
Я встретился взглядом с Роско, который выглядывал из-за румяного бока очередного манго — на этот раз оно было размером с его голову. Он смотрел на меня с большим интересом, как будто хотел сказать: «Дядя совсем сбрендил».
Тут я задался вопросом: у меня что, зависимость? Я не принимал наркотиков, никогда особо не пил, не был помешан на сексе, как какой-нибудь похотливый кобель. Но я вообще не мог заставить себя посидеть смирно, помолчать или побыть одному. Я был зависим от одобрения окружающих, а чтобы его добиваться, я пристрастился к победам. А чтобы поддерживать регулярный поток моих огромных побед, я подсел на работу, труд и маниакальное стремление к совершенству.
Но тут скрывалась проблема и посерьезнее. Отдых я считал своим врагом, который может все у меня отнять. Когда я один раз оставил Мелани, она мне тут же изменила. Папуля не разрешал мне отдыхать на работе, потому что считал это ленью. Даррелл не позволял без дела сидеть в спортзале — для него отдых был все равно что «Сникерс» во рту друга, мешающий моей тяжелой работе. Мне никогда не хотелось, чтобы Джефф вставлял на альбомы интерлюдии, ведь пауза между песнями могла заставить людей бросить слушать альбом. Я не оставлял времени на отдых между съемками сериала, новым фильмом, новым альбомом. Я не хотел, чтобы люди за время моего отсутствия забыли обо мне и зафанатели от Дуэйна «Скалы» Джонсона.
Возмутительнее всего было то, что, заполняя каждый свободный момент действиями, я не оставлял места для чувств.
Я вспомнил тот телефонный разговор с Джей-Элом по поводу «Я — легенды». Фильм побил все мыслимые рекорды, но я остался недоволен. «Невидимая болезнь» вылезла наружу во всей красе. Я спрашивал себя, сколько должен был заработать фильм, чтобы я был счастлив? Сколько бы мне хватило? Сколько еще мне надо сделать фильмов, которые поднимутся на первое место? Сколько денег мне потребуется, чтобы наконец успокоиться? Сколько «Грэмми» и «Оскаров» я должен получить, чтобы почувствовать себя любимым и уважаемым? Насколько здоровее должны быть мои дети? Сколько раз Джада должна сказать мне «Я люблю тебя»? Когда мне будет всего вдоволь?
Чем больше у тебя есть, тем больше тебе хочется, в этом-то и есть суть проблемы. Точно так же невозможно напиться соленой водой. Развивается привыкание и приходится постоянно повышать дозу.
Я вдруг понял, что это все — игра, трюк, безумие, приманка. Я никогда не любил фильмы про вампиров, но внезапно понял их суть — это метафора неутолимого человеческого голода, хронического неудовлетворения. Мы пытаемся заполнить душевную пустоту материальными вещами.
Получается, несравнимые победы и исполнение всего, о чем я мечтал, не принесло мне полного счастья и абсолютного блаженства? А что же тогда принесет?
Я снова посмотрел на Роско. Вот он точно знал, что ответ на этот вопрос — манго.
— Давай к нам, вода теплая! — крикнула Лулу.
— Я не умею плавать, — ответил я.
Было совершенно очевидно, что они слышат эту фразу из уст живого человека впервые в жизни. Сначала они засмеялись, но потом до них стало медленно доходить, что я не шучу. А потом они уставились на меня, словно я снимаюсь в благотворительной рекламе ЮНИСЕФ: «Пожалуйста, помогите спасти этого стереотипного афроамериканского городского жителя. Всего один доллар в неделю поможет этому лоху научиться плавать».
Я всегда был в ужасе от бескрайнего и непредсказуемого океана. Сначала он кажется спокойным и прекрасным, а в следующее мгновение делается жестоким и опасным. Даже ребенком я держался подальше от воды во время семейных поездок в Атлантик-Сити.
Помню, как мамуля сказала про Большой каньон:
— Весь этот каньон проделала вода.
Меня эта фраза ужаснула. Вода и океан — вообще не моя стихия.
В детстве я как-то раз чуть не утонул в общественном бассейне, и это травмировало меня на всю жизнь. Все еще помню, как я был дезориентирован под водой — не мог понять, где верх. Я давился и понимал, что сейчас умру. Мамуля вскочила с шезлонга и бросилась в воду. Я видел, как ее руки приближаются ко мне. Она схватила меня под мышки, вытащила из воды и отволокла в сторону.
Годами позже я пересказывал одной из маминых подруг эту историю о том, как оказался на волосок от смерти. Мамулино лицо выражало полное недоумение. Она пыталась понять, притворяюсь я или нет. Мы с ней много раз играли в эту игру, но сейчас что-то было не так.
— Ты ведь знаешь, что это неправда? — осторожно спросила мамуля.
— В смысле?
— Уиллард, такого никогда не происходило, — ответила она более строгим тоном.
— Мам, я же все помню.
— Ты никогда не плавал ни в бассейне, ни в океане. Однажды мы отправили тебя на урок плавания, но ты даже ноги отказался мочить.
— Но мам, я помню каждую деталь. У тебя была прическа афро и синий купальник.
— Значит, это была твоя другая мама, потому что со мной такого никогда не случалось.
Я начал пристально вглядываться в свое воспоминание, как детектив — в место преступления. А потом до меня дошло: если я был под водой и дезориентирован, как я мог видеть маму, прыгающую в бассейн? Дальше подключился мой киношный опыт: я понял, что представляю себе все это происшествие не от первого лица. В моем сознании эта сцена выглядела так, будто я наблюдал за ней с бортика. Два кадра со мной и мамулей, которые отпечатались у меня в голове, просто невозможны — это ложное воспоминание. А вот моя боязнь океана, страх и отвращение к воде реальны на 100 процентов.
Это открытие потрясло меня. Неужели моя память настолько ненадежна? Мне это приснилось, что ли? Я все выдумал? Может быть, это воспоминание из прошлой жизни? А если так, то какого черта там делала мамуля, да еще и с афро на голове?
Короче, все это было не важно. Просто я ненавидел океан.
Память — это далеко не идеальная хроника произошедших событий. Это не видеозапись. Даже не фотография. Ваша психика художественно обрабатывает произошедшее. Воспоминание больше похоже на абстрактную импрессионистскую картину, чем на правдивое изображение произошедшего. Кроме того, память не вечна — это картина, которая со временем меняется, бледнеет или наоборот, расцветает новыми красками. Порой в воспоминание добавляются детали, которых не было там год назад, или пять. Иногда несколько воспоминаний вообще могут склеиться и превратиться в одно.
При этом большинство людей не подвергает сомнениям свои воспоминания. На основе этих воспоминаний мы делаем выводы о текущих событиях, добавляя к ним эмоции, реакции и поступки, которые кажутся уместными. Исходя из наших ложных суждений мы продолжаем жить, пожиная плоды своих ошибок.
Я доверяю воспоминанию о том, что чуть не утонул. Даже больше — я живу этой историей. Вода таит в себе опасность, ведь в детстве она пыталась меня убить. Поэтому, когда брат с сестрами играли в океане, я один торчал на пляже. А будучи уже взрослым, я не пускал собственных детей купаться без присмотра. Страх и тревога завладели моим разумом и подорвали мою способность наслаждаться красотами 70 % поверхности нашей планеты.
— Просто расслабься, мэн!
Я был всего в девяти метрах от берега, но океан был неспокойным, и вода была мне уже по пояс. Скоти сел, погрузившись по самую шею.
— Окунись и не нервничай, с головой тебя не накроет.
— Слышь, там что-то меня за ноги трогает, — нервно пожаловался я.
— Это водоросли, мэн! Саргасс называется. У нас с этим тут небольшая проблема, но мы с ней разбираемся. Не переживай.
Скоти наклонился, выхватил из воды пучок этого саргасса, что бы это ни было, и выкинул его подальше от меня. Как будто мне станет легче оттого, что оно теперь плавает от меня в трех метрах. Я глубоко вдохнул и сел. Морская вода была почти прозрачной и теплой, как в ванне. Волны качали, толкали и пихали меня в разные стороны.
— Не сопротивляйся, мэн, — сказал Скоти. — Это просто поток. Он тебя может немного унести, но потом принесет обратно.
Скоти держался в воде спокойно, в полной гармонии с ритмом моря, а меня бросало во все стороны. И хотя мне так и не удалось до конца расслабиться, я начал понимать отношения человека с океаном.
Мы просто лаймим и хорошо проводим время все вместе.
Переменчивые приливы и отливы — это сердцебиение всей планеты. Сидя целыми днями в океане, эти ребята настраиваются на частоту самой Земли. Такая гармония для Скоти была важнейшим человеческим состоянием. Когда он проводил время с любимыми людьми, ему хотелось делать это в океане — кататься на серфе, ловить рыбу, плавать на лодке или водных лыжах, купаться, лаймить и хорошо проводить время всем вместе.
Когда я уехал из Тринидада, мне было ясно одно — я упустил что-то важное в жизни, в отношениях, может быть, даже в самом себе.
Но я не знал, что именно.
Однако больше я не собирался полагаться на свою старую систему верований. Я допустил мысль о том, что обстановка боксерского лагеря в домашних условиях — возможно, не самый оптимальный подход к отношениям. Я пока не знал, из каких верований будет состоять моя новая система, но был готов отправиться на их поиски.
Почему ты так боишься тишины?
Тишина — это корень всего.
Если ты спустишься в эту бездну, сотня голосов обрушится на тебя словами, которые ты жаждешь услышать.
— Руми.
Ненавижу, когда люди в Инстаграме пересылают мне всякие типа глубокомысленные цитаты. Они еще всегда в такой красивой рамочке, на лиловом фоне, написаны моднючим нечитабельным каллиграфическим шрифтом. Ну а если они по-настоящему хотят, чтобы ты прочувствовал написанное, то добавляют еще фотографию очень, очень старого азиата.
Вот на хера мне присылать, что тишина — корень всего? Я, блин, шумом зарабатываю на жизнь. Я так очешуел, что написал ответку: «Чезанах?????????»
У меня тут же зазвонил телефон. Это был мой братан Антуан.
— Слышь, чувак, давай-ка ты не будешь мне слать всякую псевдовдохновляющую буддийскую хероту, — возмутился я. — Если хочешь кидать цитаты, присылай что-нибудь из Талиба Квели.
— Я только из Индии вернулся, — сказал он, сдерживая смех.
Он прекрасно знал, как я отреагирую на эту хрень.
— Ну и че… А ты чего делал в Индии?
— Есть одна штука, называется випассана. Это такой лагерь, где все молчат. Живешь там десять дней без телика, телефона и разговоров. Было офигенно. Тебе обязательно нужно тоже попробовать.
— А? Молчать десять дней? Как ты там это назвал?
— Випассана — переводится «видеть все таким, как оно есть».
Мы с Антуаном не разговаривали уже больше года, так что ему, видимо, очень хотелось с кем-нибудь поговорить.
Удивительно, как другие люди обычно чувствуют, что ты находишься в поиске — как будто от тебя исходит какая-то особая энергия на иной частоте. Если ты открыт к чему-то новому, твоя душа словно сама кричит в космический громкоговоритель: «Йоу, где все? Вы понимаете, что я тут страдаю?»
— Ну не знаю, чувак. Как-то я не готов поехать в Индию, — ответил я. — Хотя идея видеть вещи, как они есть, мне нравится.
Все детство мы с Гарри жили в одной комнате. Если начертить график со дня моей встречи с Мелани, когда мне было четырнадцать, и до настоящего момента, я провел в одиночестве всего пятнадцать дней. Я ненавидел оставаться один.
Поскольку я хотел дать Джаде спокойно побыть одной в Лос-Анджелесе, сам я решил провести пару недель наедине с самим собой — мне было даже интересно, выдержу ли я собственную компанию. Без телевизора, без телефона, без людей.
Без разговоров.
Я отправился в наш дом в горах Юты. На высоте 2500 метров он был в полном отрыве от цивилизации. Я договорился, чтобы еду мне привозили под дверь, но не вступали со мной в контакт. На протяжении четырнадцати дней я выходил из дома только на уединенную утреннюю прогулку, все остальное время я сидел в доме.
Антуан выдержал всего десять дней, должен же я был его переплюнуть.
В первый день было классно. Никаких сообщений, электронной почты и звонков. Впервые за тридцать лет я сам себе приготовил еду — получилась дрянь, но я был горд собой. Телевизора и компьютеров не было, не считая айпада, полного книжек. Впервые в жизни я прочитал целую книгу за один день: «Когда все рушится» Пемы Чодрон.
Второй и третий дни длились по ощущениям каждый часов по сорок, что было бы не так уж плохо, если бы не постоянная болтовня моих внутренних голосов.
На четвертый и пятый дни я чуть не сдался. Мне хотелось лезть на стену. Я уже подумывал начать принимать снотворное, чтобы на весь день забыться сном. Но что-то подсказывало мне, что эта практика не одобрялась в випассане. Я пообещал себе выдержать четырнадцать дней, и я давно усвоил, что могу нарушить обещание, данное другим, но ни за что не нарушу обещание самому себе.
На шестой день я стоял у зеркала и выщипывал брови. Дело было плохо.
На седьмой день я щеголял шикарными бровями. Оказывается, у этого есть название: трихотилломания, то есть расстройство, при котором ты выдергиваешь на себе волосы. На самом деле у меня его не было, но все еще впереди!
День восьмой:
Ну все, надо кому-нибудь позвонить.
Черт, нет, ни за что.
Почему мне хочется рыдать?
Сраная випассана.
Так, а во сколько я начал? Надо считать с полуночи или с того часа, когда я на самом деле начал? Так сегодня восьмой день или девятый?
Антуан — мудак полный.
И Руми тоже.
На девятый день я заметил, что мои сны стали ярче, и из меня посыпались новые идеи. Я исписывал блокнот за блокнотом стихами и песнями, мыслями, рассуждениями, фильмами и поэмами.
А еще я начал читать о медитации, и меня заинтриговала идея «наблюдения за собственным сознанием». Я впервые увидел термины вроде «самонаблюдения», «самопогружения», «сознания» и «осознанности». Я почувствовал мимолетное новое ощущение, которое, как потом узнал, было «покоем». Оно длилось всего миг, но я успел взять его след.
За время, проведенное в Юте, я прочитал больше книг, чем когда-либо, и продолжал читать запоем следующие несколько лет. Вот совсем не полный список того, что я прочел: «Автобиография Малкольма Икс», «Бхагавад-гита как она есть», «Непроторенная дорога», «Дон Кихот», «Душа освобожденная», «Учения Будды», «Одиссея», «Моби Дик», «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Пять языков любви», «Как человек мыслит», «Единство со всей жизнью», «Дзэн в искусстве стрельбы из лука», «Государство» Платона, «Путь настоящего мужчины», «Железный Джон», «Вдохновляй: как отыскать свое предназначение с помощью силы слова», «Я знаю, отчего птица поет в клетке», «Путь силы», «Человек в поисках смысла», и еще много, много других. С тех пор я прочел не меньше сотни книг.
На десятый день я впервые попытался медитировать.
На одиннадцатый я завязал с медитацией. Мне буквально казалось, что собственный разум пытается меня атаковать.
На двенадцатый день я дал медитации еще один шанс.
Я прочитал «Как медитировать. Подружитесь со своим умом. Практическое руководство» Пемы Чодрон.
Я думал — а что, я люблю заводить новых друзей. Я начал прислушиваться и наблюдать за тем, что творилось у меня в голове, и на меня снизошло мучительное озарение: мне не нравилось быть наедине с самим собой. Мне хотелось сбежать от себя как можно скорее.
Ну а если я сам не хочу с собой быть, с чего бы другим людям этого хотеть?
Глава 20
Капитуляция
— Что бы сделало тебя счастливым? И я не про «Уилла Смита», потому что у него огромный эмоциональный груз. Я спрашиваю именно о тебе — если бы ты был всемогущим и мог щелкнуть пальцами, чтобы получить жизнь своей мечты, как бы она выглядела?
Это был тяжелый вопрос.
Микаэла Боэм — одинокая, кудрявая, рыжеволосая женщина чуть выше полутора метров ростом. Ее австрийский акцент заставляет все слова звучать по-психоаналитически убедительно. Она — автор, оратор и психотерапевт с тридцатилетним стажем, отработавшая с пациентами более 35 000 часов. У нее были не только глубокие познания в области юнгианской психологии, душевных травм и проблем в отношениях, но и опыт в сфере тантрической сексуальности.
Даже простой поиск ее имени в интернете заставил меня почувствовать себя ранимым и уязвимым, поэтому, когда она вошла в комнату с усыпанной серебром марокканской сумкой, покрытой мехом неведомого животного, и сходу спросила: «Что бы сделало тебя счастливым?», меня это сбило с толку. Что она имеет в виду? С чего она вообще взяла, что я несчастлив? (Ну, не считая того, что я ей сказал: «Пожалуйста, спасите меня, я несчастлив».)
Я считал кощунством даже воображать какую-то другую жизнь кроме той, которую создал для себя. Мое воображение — это американские горки возможностей и потенциала. Но по какой-то причине этот вопрос привел меня в уголок сознания, где повсюду висели предупреждения об опасности, а все проходы были перекрыты полицейской лентой. Ответ на него можно было найти только в той темной, грязной и страшной подворотне моей психики, где ошивается всякая шпана. Я сам себе не позволял даже думать об этом месте, и уж точно не хотел о нем разговаривать.
А вдруг я снесу все баррикады, ограждения и препятствия, и тогда чудовище, от которого я защищался, вырвется на свободу? Что, если я не смогу запереть его обратно? Вдруг ему понравится на воле?
Но я пришел в эту темную подворотню. Я хотел узнать, что же там находится. Я пролез под первым слоем полицейской ленты. О чем же она меня на самом деле спрашивает?
Какую жизнь я создал бы для себя, если бы мне было плевать на все?
Тень ответила мне: «Я бы собрал гарем».
Разоблачение моих необработанных, неотфильтрованных фантазий сначала заставило меня смутиться, а потом разозлиться — как будто Микаэла меня обманула.
Возможно, она — ведьма. Как иначе ей удалось так быстро раскрыть мой грязный тайный внутренний мир?
Микаэла и глазом не повела. Она достала тетрадь и ручку из своей разноцветной ведьминой сумки и ответила:
— Хорошо, значит, гарем. Любопытно. И кого ты в нем видишь?
— В смысле?
— Кто состоит в твоем гареме? Что за женщины? Назови мне их имена.
Микаэла в ожидании моего ответа держала ручку над тетрадью.
Это все какой-то сраный джедайский обман разума, юнгианское психотантрическое вуду-колдунство. Она меня этим не проведет.
— Не делай вид, что у тебя нет ответа. Ты прекрасно знаешь, каких женщин себе представляешь. Ты не впервые об этом думаешь, ты фантазируешь о них постоянно, снова и снова… Как их зовут?
— Я не… То есть я не понимаю, зачем вам знать, кто они.
— Мне нужно знать, потому что я буду заправлять твоим гаремом, — сказала она так, словно это была настоящая профессия. — Слушай, ты — хренов Уилл Смит. Один из самых богатых и знаменитых людей на земле. Если ты не можешь добиться жизни, о которой мечтаешь, на что остается надеяться всем остальным?
— Мисти Коупленд, — ответил я, решив взять Микаэлу на слабо. — Это такая чернокожая балерина…
— Я знаю, кто такая Мисти Коупленд, — ответила она, записывая имя в тетрадь. — Кто еще?
— Холли Берри, — сказал я с каменным лицом.
Ну давай поиграем, тетя, что еще тебе выдать?
— А ты знаешь, что гаремы не только для секса? — сказала Микаэла. — Гаремы — это источник вдохновения. Туда берут докторов, художниц, архитекторов, адвокатов, музыкантов, поэтесс. И не только американок — ты должен слышать речь на разных языках. В твоем гареме должны быть самые умные, талантливые и сильные женщины со всего света. Твоей обязанностью будет обеспечивать их ресурсами и поддерживать их личностный рост и процветание. Они, в свою очередь, будут тебя кормить и осыпать своими женскими дарами, а потом отправлять тебя обратно в мир сытым и вдохновленным.
Следующие два часа Микаэла что-то лихорадочно писала. Затем она достала свой ноутбук — видимо, ведьмам не чужды современные технологии! — и стала показывать мне фотографии, видеозаписи, выступления спикеров TED, на которых были невероятно энергичные и талантливые женщины со всего мира. Я ходил туда-сюда по комнате, смеялся и вдохновлялся. Я пустился в пляс в своей темной подворотне. Микаэла каким-то образом зажгла там свет, и мое внутреннее опасное и злое чудовище, о котором я боялся даже подумать, оказалось вовсе не таким страшным. Когда мы закончили, у меня набралось примерно двадцать пять имен. Мы придумали маршруты поездок на мировые события, которые нужно было посетить, вроде Карнавала в Рио-де-Жанейро или индийского Холи. Мы составили список людей, которых я должен представить своему гарему. Мы с Микаэлой дали друг другу «пять» и договорились, что я начну звонить женщинам по списку первым же делом с утра понедельника.
У меня была пара дней на раздумья, и к вечеру вторника я сдался. С каждым часом мой энтузиазм все сильнее улетучивался. Как ни посмотри, гарем казался мне просто ужасной идеей. Если я не могу поддерживать личностный рост и процветание одной женщины, какого хрена я вдруг решил, что справлюсь с двадцатью пятью?
— Я больше не хочу гарем, — сказал я.
— Ну конечно, не хочешь, — ответила Микаэла. — Но почему ты думал, что хочешь?
— Наверное, мне казалось, если у меня будет много женщин, я всегда смогу найти среди них хоть одну, которой я буду нравиться.
— Пока ты пытаешься все делать ради женского одобрения, ты не освободишься. Это прямая дорога в ад. И вот, что я тебе скажу — когда женщина понимает, что тебя можно согнуть, она перестает в тебя верить. Ты должен быть тверд. Твое «да» всегда должно значить «да», а «нет» — значит «нет». Если ты постоянно крутишься и извиваешься, и продаешься ради чужой любви, тебе нельзя доверять.
Микаэла стала называть мою персону «Дядей Пушистиком». Он олицетворял мою версию «хорошего парня», внутреннего «ублажателя», ту часть меня, которая была обязана улыбаться вне зависимости от того, как я себя чувствовал, и делала то, чего мне не хотелось, ради сохранения мира. Ему не разрешалось быть в скверном настроении, и у него не бывало плохих дней. Дядя Пушистик ненавидел конфликты, поэтому он готов был врать, чтобы их избежать. Он каждому ставил автограф, жал каждую руку, чмокал каждого ребенка. Пушистик был веселым, талантливым, умным и щедрым. Дяде Пушистику было необходимо, чтобы все его любили.
Я такой классный, я очень добрый и отзывчивый, не переживайте. Я вас не обижу, мне можно доверять. Я позабочусь обо всех ваших нуждах.
Дядя Пушистик стратегически появился на свет в моем детстве. Я думал: если буду достаточно смешным, добрым, безобидным и забавным, мне не будет больно, моя мама будет в безопасности и моя семья будет счастлива — никто от меня не уйдет.
Пушистик хотел, чтобы его одобряли. Для него это — единственное определение безопасности. Во взрослой жизни он стал моей броней и щитом. Я подавлял в себе правду ради чувства безопасности, одобрения и любви.
— Я хочу, чтобы ты узнал себя в отрыве от необходимости в одобрении, — сказала Микаэла. — Кто ты такой на самом деле? Чего хочет твое сердце? Каковы твои главные ценности и настоящие цели? Проблема с Пушистиком в том, что ты никогда не даешь себе принять честное решение, идущее из глубины твоей души. Пушистик заставляет тебя идти на компромиссы и делать вещи, которые вызывают одобрение окружающих, повышают продажи и собирают много «лайков». Креативность Уилла подавляется необходимостью Пушистика в одобрении. А что чувствует сам Уилл? О чем он думает, в чем нуждается, к чему стремится?
Я был согласен с тем, что в детстве создал для себя иную личность — я решил, что существует определенный способ вести себя, чтобы выживать и продвигаться в своем окружении. Я также замечал, что мое поведение часто идет вразрез с моими мыслями и чувствами.
Но Дядя Пушистик делал и прекрасные вещи. Он построил «Ее озеро». Он позволил Уиллоу перестать трясти шевелюрой, когда она этого захотела. Он умолял Джеффа и Джей-Эла переехать в Лос-Анджелес. Он стал платить Шери в два раза больше алиментов, когда Трей поселился у Уилла. Он решил пройти прослушивание на вечеринке Куинси Джонса, когда Уиллу стало слишком страшно и захотелось уйти. Уважение к Мухаммеду Али убедило Пушистика сняться в фильме, в котором боялся сниматься Уилл.
— Дядя Пушистик был тебе замечательным другом, — сказала Микаэла. — Просто он должен работать на тебя, а не наоборот.
Дядя Пушистик был основан на лжи и ложном предположении, что со мной что-то не так, что я трус. Его задачей было вечно извиняться за мои недостатки и гарантировать, что я всегда буду защищен и любим. И хотя мне становилось все понятнее, что его существование изжило себя, факт оставался фактом: Дядя Пушистик приносил мне много денег.
Ситуация с Пушистиком усложнялась еще и тем, что у него был злой двойник, которого Микаэла назвала «Генералом». Когда Пушистик исчерпывал свои запасы шарма и щедрости, не добившись при этом всеобщей любви, в дело шел Генерал. Его задачей было добраться до вершины горы во что бы то ни стало и тайно (а иногда вовсе не тайно) наказать диссидентов, даже если в их числе был я сам. Короче, когда я подавлял свои настоящие потребности слишком сильно и долго, но не добивался при этом любви и одобрения, моя боль от этого выражалась в лице Генерала.
Поскольку Пушистик скрывал мои настоящие чувства (которых я и без этого не понимал), при появлении Генерала окружающие пугались и не понимали, в чем дело. У меня всегда сначала был пряник, пряник, пряник, а потом кнут, кнут, кнут.
— Эти персоны ткут паутину, в которой ты застрял, — сказала Микаэла. — Она соткана из требований, обязательств и ожиданий. А если ты посмеешь отклониться от этих конструктов, то получишь ровно то презрение и неодобрение, которых так боишься. Но ни одна из этих личностей на самом деле — не ты. Вопрос вот в чем: сможешь ли ты отыскать безопасность в самом себе, а не во внешнем источнике одобрения? Сможешь ли ты стать свободным, независимым человеком?
Следующие пару лет мы с Микаэлой вместе работали над этим. Ее план был построен вокруг идеи моего становления Независимым Человеком. Независимый Человек должен осознавать себя, полагаться на себя, мотивировать самого себя, быть уверенным в себе и не зависеть от одобрения окружающих. Он знает, кто он такой и чего хочет. Благодаря этому он готов пожертвовать своими дарами в пользу других людей.
— Ты должен начать чувствовать свой внутренний мир и хорошо понимать, кто ты есть на самом деле, чего ты хочешь и в чем на самом деле нуждаешься, — сказала Микаэла. — Когда кто-то спрашивает, что ты чувствуешь, не отвечай, как Пушистик, а подумай над ответом. Озвучивай свои чувства хотя бы самому себе.
Микаэла хотела добиться, чтобы я ставил честность и достоверность выше моей потребности в одобрении ради того, чтобы я развивал веру в самого себя и заслуживал доверия других.
Поначалу я плохо справлялся с неодобрением, мне было тяжело видеть разочарование в глазах людей или чувствовать их злость, когда я отказывался исполнять их желания. Я пытался научиться быть верным себе, не предавать себя и не игнорировать свои чувства. Мне было невыносимо заставлять себя не говорить «да», если я хочу сказать «нет», и перестать отказываться от вещей, которых мне на самом деле хотелось.
Первым делом я должен был избавиться от правила о том, что я не мог отказывать фанатам в любой их просьбе. Если кому-то хотелось со мной сфотографироваться, взять автограф, пожать руку, обняться — не важно, ел ли я в это время, разговаривал с кем-то или плохо себя чувствовал — я обязал себя исполнять обещание, данное моей персоной.
В 2017 году я был членом жюри на Каннском кинофестивале. Вместе со мной там были испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, актриса Джессика Честейн, французская актриса и режиссер Аньес Жауи, итальянский режиссер Паоло Соррентино и франко-ливанский композитор Габриэль Яред. В это время я как раз учился устанавливать и уважать свои личные границы. Я собирался искренне говорить людям о том, что чувствую, и честно говорить «нет» и «да».
Шел пятый день, мы посмотрели уже четырнадцать фильмов, десять из которых были на иностранных языках с субтитрами, а шесть — «экспериментальными». В дискуссиях с другими членами жюри я узнал о кино больше, чем за всю жизнь, но смотреть и обсуждать по три фильма в день было очень тяжело как физически, так и морально.
Перед ужином оставалось посмотреть еще один фильм, и мне очень нужно было передохнуть в тишине. У меня было полчаса на то, чтобы сходить в спортзал, прежде чем вернуться в жюри. Я сказал себе, что это мое личное время, только для меня одного, и пообещал себе, что никому не позволю его у меня отнять.
Я зашел в абсолютно пустой спортзал. Хвала небесам. Я пошел к тренажеру для пресса — мне хотелось пятнадцать минут покачаться, пятнадцать минут побегать и свалить. Идеально.
Я как раз принялся делать второй подход, когда в зал зашел молодой черный парень. Он тут же заметил меня, вытащил свой телефон и судорожно стал включать камеру.
— Эй, Уилл, — заговорил он с британским акцентом, поворачивая свой телефон горизонтально. — Передай привет моему братишке!
Он подошел совсем близко. Я протянул руку и закрыл его камеру ладонью.
— Извини, дружище, но я занят.
— Да делов-то, одно коротенькое видео, — ответил он. — У моего братишки синдром Дауна. Он тебя обожает. Я обещаю, всего пару секундочек. Фреш Принц — одна его радость в жизни.
Дядя Пушистик: Уилл, запиши видео. Это даже не для него самого. Это для мальчонки с синдромом Дауна.
Я: Но я пообещал себе, что это мое личное время. Нельзя же меня снимать без спроса.
Дядя Пушистик: Он так обрадовался тебе. Он явно большой фанат. У парня одна радость — Фреш Принц. Не будь козлом.
Я: Я и не козел. Я стараюсь держать данное себе слово. Я имею право не записывать видео, когда не хочу этого делать. Могу же я беречь личное пространство?
Дядя Пушистик: Да у тебя этого пространства хоть отбавляй — дома, лимузины, пентхаус в отеле, частные самолеты. Кстати, всего этого дерьма у тебя бы не было, если б ты раньше начал загоняться этим своим «поиском себя»…
— Уилл, да тут больше нет никого, только мы двое. Пожалуйста, просто передай привет…
Для этого парня я выглядел как полный псих. Я так и продолжал закрывать камеру его телефона рукой, глядя в пустоту, пока в моем сознании шла ожесточенная перепалка.
— Прости, парень, но мой ответ — «нет».
Я навсегда запомнил его обиженный взгляд. У меня до сих пор слезы на глаза наворачиваются, если я об этом думаю. Он смотрел на меня и не верил — Уилл Смит ведь не такой…
— Почему нет? — спросил он.
Я помолчал, подбирая самый честный ответ.
— Потому что мне не хочется.
Он покачал головой в отвращении, повернулся и ушел из зала. Я, конечно, сдержал свое слово, но в моей войне с самим собой пострадал невинный человек.
До пробежки у меня дело так и не дошло. Я отправился в свой номер и не мог перестать рыдать.
Следующие два года мы с Микаэлой были неразлучны. Она раз за разом повторяла: «Исследуй. Испытывай. Экспериментируй. Раскрывайся». Она выпустила на волю моего внутреннего необузданного следопыта, которому заслоняли обзор обязательства и ожидания, предъявляемые «Уиллу Смиту». Микаэла посоветовала мне «пробовать новое» и «знакомиться с новыми людьми», чтобы вновь распалить мой дух исследователя и искателя приключений. Я буквально рвал с ветвей и пробовал новые плоды — гуаву в Колумбии, дикую малину в Швеции, лучшее личи на моей памяти в Тайпэе. Особенно мне понравился целый фруктовый салат где-то в окрестностях Сан-Паулу. Как-то раз мне предложили попробовать банан в Барселоне, но я плоховато говорю по-испански, и, может быть, что-то неправильно расслышал.
— Когда ты вырвешься из плена «Уилла Смита», мы внимательно рассмотрим все убеждения, конструкты и парадигмы, которыми ты себя ограничивал, — сказала Микаэла. — Например, ты часто повторяешь «Девяносто девять процентов — это все равно, что ноль».
— Да. Так мой папуля всегда говорил.
— Понимаешь, с точки зрения математики девяносто девять процентов — это полная противоположность нулю.
Я тысячу раз использовал эту фразу в своей речи, но почему-то, услышав ее из уст Микаэлы, впервые в жизни задумался над ее смыслом. На этом стабильном правиле строилась вся моя операционная система. Но его ошибочность оказалась такой очевидной, что я начал переоценивать и пересматривать все свои убеждения. Если 99 процентов — это не то же, что ноль, то что тогда представляют собой 72 процента, или 23, или 84,69? Блин, а что такое ноль? Вместо того чтобы видеть в каждой ситуации лишь два исхода, я внезапно обнаружил бесконечные возможности.
Я понял, что повидал весь мир, но никогда нигде не бывал в отпуске. Поэтому я начал путешествовать просто так, не пытаясь извлечь из этого материальную выгоду. Я проводил время с людьми, которых очень уважал и хотел узнать поближе, не ставя никаких финансовых или деловых целей для этих встреч. Я съездил к знаменитому иракско-британскому архитектору, «королеве кривых линий» Захе Хадид. Я подружился с джаз-роковым пианистом Эриком Робертом Льюисом. Он рассказал, что строгое классическое образование и жесткие рамки довели его до нервного срыва. Когда он находился в психиатрической больнице, ему явился дух Брюса Ли и посоветовал использовать пианино для борьбы с его собственными демонами. Он взял себе имя «Элью» и изобрел стиль фортепианной игры в духе боевых искусств. Он избавился от стульчика, вооружился стальными нарукавниками, принял стойку ката и начал играть в своем собственном уникальном стиле, не ограниченном никакими рамками.
Микаэла взялась за меня всерьез, когда узнала, что я не умею плавать.
— Ну, это уже слишком, — сказала она.
Мне наконец-то удалось ее удивить. Когда я заявил, что хочу гарем, она и бровью не повела. Но когда я признался, что не умею плавать, она начала лихорадочно строчить сообщения моему агенту Мередит О’Салливан-Вассон, которая знала четырехкратную олимпийскую золотую медалистку по плаванию, Джанет Эванс.
— Ты наладишь отношения с океаном, Великой Матерью, — сказала Микаэла. — Океан — это первичная женщина, великая женственная среда. Если ты поймешь ее, ты поймешь нас всех. Океан содержит в себе все хаотичное великолепие Матери-природы, и нет такой силы или интеллекта, которые могли бы ее себе подчинить. Ей все равно, что ты чувствуешь и чего ты от нее хочешь. Все в душе и теле женщины подобно океану. Красота, штормы, способность питать, опасность, настроение и погода, рождение и смерть. Великая Мать не может быть побеждена или подчинена. Если хочешь по-настоящему насладиться ею, можешь только любить ее, уважать ее и уступать ей.
Тебе это будет очень полезно, потому что это совершенно новый опыт. Тебе придется научиться ориентироваться в ее настроениях и эмоциях, и понимать, когда нужно уступить позиции.
Я принялся обхаживать Великую Мать. Наше первое свидание прошло в часе от острова Лизард, на Большом Барьерном рифе.
Я научился плавать и занялся нырянием с аквалангом. Когда наши отношения стали чуть более серьезными, я отправился на Мальдивы и погрузился в мир мультика «В поисках Немо». Когда мне захотелось изучить ее вздорную натуру, я стал нырять с четырехметровыми трехсоткилограммовыми тигровыми акулами на Тигровом пляже на Багамах. А когда я почувствовал, что готов вкусить ее глубины, я опустился на подводном аппарате «Тритон» исследовательской группы OceanX в батиальную зону, ниже пояса биолюминесценции, на глубину тысячи метров, где передо мной предстала совершенно иная планета. В ней скрывались глубоководные создания, которые не укладывались в рамки моего понимания, как будто их создал какой-то другой Бог.
Общение с Великой Матерью помогло мне понять течение жизни. Я понял, что если мне хочется наслаждаться ее красотой и богатствами — и не погибнуть по ее милости — я должен быть с ней в полной гармонии, уделять ей все свое внимание и бросать все свои силы на то, чтобы ее понять. Мне пришлось признать собственное бессилие, и это удивительным образом подарило мне свободу.
Мне всегда казалось, что «уступить» — это плохое слово, то же самое, что «проиграть», «провалиться» или «сдаться». Но бурные отношения с океаном показали мне, что мое ощущение контроля на самом деле было иллюзией. Слово «уступить» превратилось из синонима слабости в концепцию безграничной силы. Раньше я всегда стремился к деятельности — напирать, рваться, бороться, прилагать усилия, делать — но потом начал понимать, что противоположность деятельности несет в себе точно такую же силу — бездействие, принятие, восприимчивость, уступчивость, бытие. В остановке было столько же силы, сколько в движении. Отдых был так же эффективен, как тренировка. Тишина имела ту же силу, что и речь.
Отпускать было так же важно, как держать.
Слово «уступить» больше не значило для меня поражение. Оно стало таким же важным инструментом воплощения мечты в жизнь. Для моего роста и развития поражение равнялось победе.
Я начал понимать загадочную фразу, которую любила повторять Джиджи: «Отпусти с Богом». Она всегда казалась мне неправильной, как будто подразумевала отказ от обязанностей — что-то такое люди говорят, когда им лень стараться ради исполнения своей мечты. Но внезапно эти слова обрели новое магическое значение.
Даже во время сна расходуется энергия — и это та же энергия, что распаляет солнце, приводит в движение океан, заставляет биться сердце. Необязательно самому делать все и вся. Наоборот, ко многим событиям ты не имеешь никакого отношения. Это даже хорошо, что ты спал, ведь ты наверняка бы накосячил, если бы попробовал вмешаться.
А потом мне пришла в голову новая формулировка аксиомы Джиджи. «Отпусти с Богом» значит «отпусти и позволь Богу делать его работу». Серфер и океан — это одна команда. Горы и альпинист — напарники, а не соперники. Великая река выполняет 99 % работы, а тебе остается 1 % на то, чтобы изучить ее, понять, проявить уважение к ее силе и найти способ двигаться по ее течению и по ее законам.
Действуй, когда Вселенная открыта. Когда она закрывается — отдыхай.
Я никогда раньше об этом не слышал. Я в жизни не курил травку, не нюхал кокаин и не глотал никакие таблетки. У меня были анализы, как у велогонщика перед «Тур де Франс», я разве что мог позволить себе иногда водку с клюквенным соком. Поэтому когда моя подруга Вероника заговорила об этом, я вежливо улыбнулся и ответил:
— Нет, спасибо. Я с наркотиками дел не имею.
— Я тоже, — сказала она. — Аяуаска — не наркотик. Это лекарство.
Я знал Веронику много лет. Мы никогда с ней не спали, но ругались как страстные любовники. Мы могли сцепиться по любому поводу. Меня выводил из себя ее пессимизм, а ее, наоборот, бесил мой оптимизм. Но нам обоим не приходило в голову просто пообщаться с кем-нибудь другим. Наверное, мы проверяли друг на друге свои соображения насчет жизни. Мы никогда друг другу не уступали, поэтому если идею не удавалось разнести в пух и прах, она имела право на существование.
Но в тот раз что-то изменилось. Ее взгляд стал другим, в ее поведении на смену сопротивлению пришла гибкость. У нее было трудное детство, и я уверен, что это сыграло свою роль, сделав ее воинственной. Но теперь она вдруг стала спокойной, стабильной, и — я это чувствовал — счастливой. Она была полна новых идей и энтузиазма, как человек, который побывал в каком-то невероятном месте и полностью преобразился.
Я заслушивался каждым ее словом. Она стала необычайно мудрой. Ее сердце всегда было закрыто и непроницаемо для внешнего мира, но теперь оно открылось и потеплело. В прошлом я сам себе казался ее родителем, который с боем пытался вернуть ее в реальный мир. А теперь я чувствовал себя Мэттом Деймоном, который слушает Робина Уильямса в фильме «Умница Уилл Хантинг». Она полностью завладела моим вниманием. Я был заинтригован. Мне было очень интересно.
— Рассказывай, что ты сделала. Я тоже должен попробовать, — потребовал я.
Вероника усмехнулась как учитель, который говорит с учеником. Она помолчала, а потом попыталась объяснить необъяснимое.
— Аяуаска изменила мою жизнь.
— Как она работает?
— Это церемония, которая длится от заката до рассвета. Традиционно она проходит в джунглях Южной Америки, в наши дни чаще всего в Перу. Но где бы она ни проходила, ее проводит шаман. Все начинается с того, что ты пьешь самый отвратительный чай, который только можешь себе представить. Где-то через час напиток начинает действовать, и тогда…
Она покачала головой и вздрогнула, как будто видела то, что никогда уже не сможет развидеть.
— Что тогда?
— Ну… ты оказываешься заключен в собственном сознании.
— Ой, это вообще не круто.
— Лекарство начинает действовать прямо на твои проблемы. Оно показывает их тебе, заставляет тебя посмотреть на них, прожить их и в конце концов исцелить их. Я никогда тебе этого не рассказывала, но в ранней юности я сделала аборт. Это было самое тяжелое решение в моей жизни. Мысли об этом не давали мне покоя и мешали жить — я много лет ходила к психотерапевту, но так и не смогла избавиться от вины.
На церемонии аяуаски я встретила своего ребенка. Он был в раю. Он был таким счастливым, таким славным, таким прекрасным. Я рыдала и оправдывалась много часов подряд. Он простил меня и даже попросил дать ему имя. Я назвала его Зионом. И вот так, за одну ночь я избавилась от огромного груза вины.
Я почувствовал, что она хочет поделиться опытом, но отчего-то сомневается.
— Это охренительно тяжело, — сказала она наконец. — В конце тебя ждет откровение и исцеление, но к нему придется идти самыми мрачными тропами твоего сознания. Это ужасно, но это поможет тебе найти то, что ты ищешь.
Аяуаска — это «священный отвар». Его тысячелетиями использовали племена аборигенов в амазонских джунглях в ходе духовных церемоний и шаманских ритуалов. Это что-то вроде чая из коры и стеблей тропической южноамериканской лианы. Иногда туда добавляют и другие психотропные растения.
Его название происходит из языка кечуа, где «ая» означает «дух», а «уаска» — это «лиана» (целиком переводится как «лиана духов»). Аяуаска содержит меняющий сознание компонент диметилтриптамин (ДМТ) и считается священным лекарством, которое используют для духовного поиска, а не для развлечений.
Исцеляющие свойства аяуаски в настоящее время используются для лечения посттравматического стрессового расстройства, наркотической зависимости, депрессии и тревожности, наряду с другими физическими и психологическими заболеваниями.
Я не одобряю и не предлагаю использовать аяуаску или любую другую субстанцию без разрешения врача и без наблюдения специалиста. Я долго сомневался, стоит ли мне вообще рассказывать о моем опыте с аяуаской в этой книге — и пишу здесь о нем только потому, что это правдивая часть моей истории.
В помещении было темно. Это была маленькая хижина — одна комната да туалет. Из маленькой колонки в углу негромко доносились древние перуанские племенные напевы и священные мелодии. Стены покрывали изображения божеств. На деревянном алтаре были разбросаны самодельные инструменты. Пол устилали одеяла, подушки, матрасы и коврики.
Там жила шаман. Ее звали Беата, на вид ей было лет сорок пять. Она показалась мне похожей на Мерил Стрип (если бы Мерил Стрип в свой двадцать первый день рождения переехала в Перу, чтобы изучать ботанику и духовные исцеляющие практики). Она вручила мне ведро и небольшую глиняную чашку.
Запах аяуаски снимал все вопросы о предназначении ведра.
Беата заняла свое место перед алтарем. Мы перебросились всего несколькими словами, и мне захотелось предупредить ее, что я никогда ничего подобного не делал. Основные инструкции я выполнил: никаких лекарств, наркотиков или алкоголя за две недели, ничего не есть после двух часов в назначенный день, ничего не пить после пяти. Явиться надо было в полвосьмого в свободной одежде. Церемония начиналась в восемь. Но мне как-то хотелось, чтобы шаман говорила побольше. Дело-то серьезное, нельзя вот так пускать все на самотек. Эй, дамочка, я тут немного зассал, если вы не заметили.
— Я так-то ничего не знаю о аяуаске, — сказал я. — Только немножко читал. Разве вы не будете проводить инструктаж или ориентацию?..
Беата улыбнулась как учитель, который говорит с учеником.
— Нет, — мило ответила она.
Этот ответ меня, мягко говоря, не удовлетворил.
— Мне просто хотелось бы знать конкретно, как… и чего мне следует ожидать, — промямлил я.
— Лиана направит тебя, — сказала Беата успокаивающим тоном. — Просто доверься ей. Позволь ей себя вести. Я здесь только для того, чтобы помочь тебе пройти этот путь.
— Это я понял, — сказал я, ничего не понимая. — И что мне делать дальше?
Она показала на рыжую глиняную чашку.
— Как только будешь готов…
Я проглотил отвар.
Десять минут… ничего.
Двадцать пять минут… ничего.
Сорок минут… по нулям.
Может, оно на меня не действует.
Где-то через час мне надоело ждать, и я решил, что у меня просто иммунитет. Было девять часов вечера, и до меня дошло, что я пообещал торчать там до самого рассвета. Мой небольшой матрас на полу выглядел удобным, поэтому я решил — хрен с ним, лягу спать.
Проснувшись, я обнаружил, что плыву где-то в открытом космосе.
Я находился в триллионах световых лет от Земли. Это ужасно далеко — я понимал, что больше никогда не увижу ничего и никого из тех, кого люблю. Мне суждено было остаться там на веки вечные.
Мирясь со своим тяжелым положением, я поплыл среди бесчисленных звезд. Они выглядели не так, как мы привыкли, а как будто Пикассо нарисовал открытый космос. Кругом цвета, кубы и углы — это великолепное зрелище проняло меня до глубины души. Я никогда еще не бывал в таком прекрасном месте. Охваченный благоговением, я вдруг почувствовал, как кто-то стоит у меня за спиной.
Это была женщина. Я повернулся, чтобы увидеть ее, но ничего не вышло. Я ощущал ее тепло позади себя, так близко, что мог бы ее коснуться. Она была рада, что я здесь. Я понял, что она никогда меня не оставит. Откуда-то я знал, что она меня ждала.
Ее голос раздался прямо у меня за правым ухом, как будто ее губы находились всего в нескольких миллиметрах от меня. Я вновь обернулся в надежде хоть краем глаза узреть эту великолепную богиню, но она двигалась синхронно со мной. Я понял, что мне не суждено ее увидеть. Но я не был против, ведь каждая секунда в ее компании утоляла жажду, которой я мучился всю жизнь.
Она была всем: любовницей, наставницей, матерью, защитницей, проводницей. Она — это все, о чем я когда-либо мечтал и что когда-либо хотел. Я чувствовал — она знает все, что я должен знать, и покажет дорогу туда, куда я должен попасть. Она — моя цель, мое решение, мой ответ. Она — вершина горы и небо над ней.
— Где мы? — тихо спросил я.
— В смысле, глупенький? — ответила она голосом, который оставил после себя лишь блаженство.
— Какое красивое место!
— Это не место, глупенький.
Она опять ласково назвала меня глупеньким.
— Я никогда не видел ничего прекраснее.
Она засмеялась.
— Почему ты смеешься? — спросил я.
— Это же ты, глупенький, — ответила она.
— А? В каком смысле?
— Это не место. Это ты.
Мое сердце забилось быстрее, когда я осмотрелся по сторонам, наблюдая великолепие этого бесконечного райского сада.
— Стой. То есть, это все — я?
— Да, глупенький.
— Это я такой красивый?
— Ну конечно, — сказала она.
Ее слова открыли во мне шлюзы, сдерживавшие эмоции до этого момента. Я безудержно зарыдал — из меня потоком хлынули все сомнения, комплексы и страхи, копившиеся внутри столько лет. В то же время осознание собственной внутренней красоты наполнило мое сердце и разум возможностями.
Если я настолько красив, мне не нужно сниматься в самых лучших фильмах, чтобы хорошо к себе относиться. Если я настолько красив, мне не нужно записывать хитовые пластинки, чтобы чувствовать себя достойным любви. Если я настолько красив, мне не нужна ни Джада, ни кто-то еще, чтобы мое существование было оправдано. Если я настолько красив, и у меня внутри всегда есть это пристанище, то мне не нужно ничье одобрение. Я себя одобряю. Я хорош таким, какой я есть.
Так я впервые ощутил вкус свободы. С моей шеи свалилось невидимое ярмо. Все, в чем я нуждался, за что хватался, за что цеплялся, чего желал, и требовал, и манипулировал, и стремился, и хотел — все неутолимые желания, которые заставляли меня бегать, подобно белке в колесе несчастий, улетели прочь. Мне больше не нужно было гнаться за пресловутой морковкой на палочке.
Я больше ни в чем не нуждался.
За все пятьдесят с хвостиком лет на этом свете я никогда не испытывал ничего лучше.
За следующие два года я участвовал в церемонии четырнадцать раз. В восьми из них появлялась женщина, которую, как я узнал, зовут «Матерь». Каждый раз она давала мне подобные советы и наставления. Те три раза, когда она не появлялась, были просто адскими.
На моей второй церемонии Матерь повторяла часов пять подряд:
— Замолчи.
Она произнесла это столько раз, что мне захотелось биться головой об пол. Она имела в виду постоянную болтовню внутреннего голоса, который не умолкает у меня в голове — он планирует, строит стратегии, спорит, оценивает, критикует, осуждает, придирается, сомневается. Она буквально избила меня этим словом: «Замолчи».
И в какой-то момент, прямо перед рассветом, я понял, что наступила тишина. Мои внутренние соседи перестали трепаться. Я испытал эйфорию. Матерь позволила мне блаженствовать в мире и спокойствии моей внутренней тишины где-то минут сорок. Затем она безмолвно объяснила мне, почему я должен был замолчать.
Если коротко, она сказала, что я должен замереть и замолчать, чтобы лучше увидеть и понять окружающих меня людей и обстоятельства. Она наблюдала, как я много лет расшибаюсь об стенку, чтобы подчинить мир своей Воле. Она хотела сказать, что, если я перестану так много болтать и думать, я увижу и почувствую движение вселенских волн и смогу под них подстроиться, чтобы добиться вдвое большего меньшими усилиями. Я вспомнил, как Джиджи сказала мне то же самое много лет назад: «Если бы ты не был таким болтливым, тебе бы, может быть, поменьше доставалось».
Я стал практиковать молчание для того, чтобы стать максимально осознанным. Я всегда считал мир своим полем боя. Теперь я понял, что настоящим полем боя был мой разум.
Глава 21
Любовь
— Хроническая обструктивная болезнь легких. Идиопатическая сердечная недостаточность. Коронарная недостаточность. Фибрилляция предсердий. В норме фракция выброса крови с каждым сердечным сокращением составляет 55–60 %. У вашего папы она уменьшилась до 10 %. Он всю жизнь курил, вдыхал хладагент, работал с токсичными химикатами, еще и злоупотреблял алкоголем…
— Сколько ему осталось? — спросил я.
— Вам нужно вернуться домой.
Доктор Ала Стэнфорд была нашим семейным врачом уже несколько лет. Она пыталась заставить папулю кардинально изменить образ жизни, чтобы его старость была долгой и счастливой. В моем детстве папуля перенес два инфаркта. Он с гордостью рассказывал об этом. Приближение второго сердечного приступа, по его словам, он почувствовал заранее. Его левая рука отказала, поэтому он вел машину до больницы одной правой. Когда доктор Ала умоляла его отказаться от вредных привычек, он отвечал: «Да ну к черту, если я перестану пить и курить, я сам брошусь под автобус».
— Сколько, Ала? — снова спросил я.
— Шесть недель.
У меня только что закончились съемки фильма «Призрачная красота». Это кино об отце, который переживает смерть своей дочери. Готовясь к роли, я последние пять месяцев внимательно изучал духовные, психологические и культурные ритуалы и практики исцеления, которые помогают людям преодолеть глубокую скорбь по ушедшим близким. Я встречался со священниками, имамами, шаманами, раввинами, гуру. Я прочитал кучу книг о смерти: «О смерти и умирании» Элизабет Кюблер-Росс. «Тибетскую книгу жизни и смерти», написанную буддийским наставником Согьялом Ринпоче. «Вторники с Морри или величайший урок жизни» Митча Элбома. «Год магического мышления» Джоан Дидион.
Вжившись в роль, я чувствовал себя готовым ко всему, уверенным, что могу изобразить триумфальный переход от трагической утраты к полному исцелению. Я помог своему персонажу пережить агонию от потери, но теперь мне пришлось помогать с этим самому себе.
Папуля понимал, что умирает.
Он ослаб, мышцы увяли. Кожа обвисла складками с исхудавшего тела. Его синевато-серое кресло было откинуто, на фоне тихо играл Дон Лемон, в пальцах — длинная сигарета. В жизни ему оставалось выкурить меньше одного блока. Папуля говорил доктору Але, что он может бросить либо пить, либо курить, на ее выбор. Она посмотрела на список его лекарств и запретила алкоголь.
— Привет, парень, — сказал он, оживившись, когда я вошел.
— Как дела, папуль?
Я подошел к нему, чтобы обменяться нашим ритуалом приветствия. Он наклонился вперед, а я взял его бритую голову в руки и поцеловал в макушку. Пять лет назад я посмотрел на его внушительную лысину с буйными вихрами по бокам и взмолился о том, чтобы он побрил голову: «Папуля, ты вылитый клоун — видок тот еще». Он сопротивлялся не меньше года, но как-то раз я подкараулил его на съемках «Людей в черном 3», насильно усадил в кресло парикмахера и обрил начисто. Новый вид ему понравился, и он продолжил брить голову до конца своих дней.
В «Тибетской книге жизни и смерти» Согьял Ринпоче описал основные доводы о том, как поддерживать и утешать умирающего близкого человека. Первой идеей, которая сразу же мне запомнилась, было то, что умирающему нередко требуется «разрешить умереть». Ринпоче утверждает, что иногда умирающие борются и пытаются остаться в живых, если им кажется, что без них вы не справитесь. Это может превратить их последние дни в мучение. Чтобы ваши близкие могли спокойно умереть, им нужно ясно дать понять, что после их ухода у вас все будет хорошо, они прекрасно прожили свою жизнь, а дальше вы разберетесь.
Также Ринпоче пишет: «Умирающему необходимо видеть, что вы его безоговорочно любите, не требуя ничего взамен». Эти идеи сформировали у меня в голове четкую и ясную миссию. Я отложу в сторону свои претензии, травмы и вопросы, и всю энергию направлю на то, чтобы обеспечить отцу самый сочувственный и милосердный переход в мир иной.
Где-то на третью неделю я приехал и, как обычно, чмокнул его в макушку. Я уселся на пол. По телевизору вещал Крис Куомо, но звук был выключен. Папуле становилось все труднее есть. Перед ним стоял нетронутый поднос с макаронами с сыром, тушеной говядиной и брокколи. Если уж папуля отказывается от макарон с сыром, ему, видать, действительно худо.
— Слушай, пап, — нервно сказал я. — Ты был молодцом.
— Когда это? — спросил он.
— Всю жизнь.
Кажется, он не ожидал такого услышать. Он затянулся своей сигаретой и повернулся обратно к телевизору. Похоже, он пока что не был готов об этом говорить. Зато я был.
— Я хочу сказать, что ты прожил прекрасную жизнь. И когда ты будешь готов уйти, я хочу, чтобы ты знал, что ты можешь идти. Ты вырастил меня хорошим человеком. Я справлюсь. Я позабочусь обо всех, кого ты любишь.
Папуля кивнул головой, не изменяя своей стойкости. Его глаза наполнились слезами, но он так и не отвел взгляда от экрана. Но я видел, что он меня услышал.
Его внутреннего солдата давно не стало.
Былому тирану теперь едва хватало сил держать в руках ложку. Он даже в туалет теперь ходил только с моей помощью. В последней попытке сохранить остатки своего боевого авторитета он подробно инструктировал меня: заблокировать колеса коляски, установить ее в точную позицию рядом с его креслом, аккуратно зафиксировать левую подножку, а правую оставить, чтобы он мог поставить на нее ногу, затем — чрезвычайно важно — поставить мое левое колено снаружи его правого колена, а мое правое колено между его ног, чтобы я мог спокойно поднять и переместить его, правой щекой к его щеке, сделать шаг назад, чтобы развернуться на сорок пять градусов и опустить его в коляску.
Как-то вечером, пока я аккуратно катил его из комнаты к туалету, мне в голову пришла шальная мысль. Наш путь проходил мимо лестницы. В детстве я всегда обещал себе, что однажды отомщу ему за маму. Что, когда я стану большим и сильным, когда я перестану быть трусом, я его одолею.
Я остановился возле лестницы.
Я мог бы столкнуть его вниз, и ничего мне за это не будет.
Я же Уилл Смит. Никто не поверит, что я нарочно убил своего отца.
Я один из лучших актеров в мире. Когда я буду вызывать скорую помощь, этот звонок будет достоин «Оскара».
Потом нахлынувшее чувство многолетней боли, злобы и обиды вновь отступило. Я покачал головой и покатил папулю дальше к туалету. Слава богу, о нас судят по поступкам, а не по внутренним вспышкам гнева, вызванного старыми травмами.
Я навещал его каждую неделю в течение следующих полутора месяцев. Есть нечто отрезвляющее в том, чтобы заглянуть в глаза человеку, который принял свою неминуемую смерть. Осознание смерти делает человека мудрее и заставляет забыть о пустяках. Необратимость придает каждому прожитому моменту великую важность. Каждое приветствие было как подарок с небес — нас обоих переполняла благодарность за возможность увидеться снова. А каждое прощание было идеальным и законченным, ведь мы прекрасно знали, что это может быть последний раз. Каждая шутка, каждый разговор приобретает вес и смысл перед лицом этого простого факта. Смерть превращает повседневность в чудо.
Приветствия и прощания такими и должны быть в обычной жизни, ведь никто не знает наверняка, настанет ли завтрашний день. Я стал принимать каждое «привет» с благодарностью и не бросать ни одного «пока» мимоходом. Между нами с папулей появились преданность, искренность и сопереживание, которые показали мне новую форму любви.
Папуле было обещано шесть недель, а протянул он целых три месяца. Помню, как на девятую неделю я приехал навестить его. Наши встречи были радостными и трогательными, но в тот день он был подавлен. Он сидел без рубашки и курил, сгорбившись над своим деревянным столиком, где стояла нетронутая еда.
Как всегда, я чмокнул его в макушку.
— Что такое, папуль?
Он отложил сигарету и задумчиво перевел взгляд на мост Бенджамина Франклина, возвышающийся над рекой Скулкилл.
— Блин, — заговорил он. — Так вот рассказал всем, что через шесть недель помру, а девять недель спустя все еще не откинулся. Позорище.
Это был второй раз в нашей жизни, когда нас накрыла волна истерического хохота.
— СНЯТО!
Десять дней спустя я был на съемках фильма «Яркость» — это был фэнтези-экшен-фильм про полицейских, срежиссированный Дэвидом Эйером. Мы снимали его в центре Лос-Анджелеса. Джоэл Эджертон, мой напарник по сюжету, был за рулем нашей патрульной машины.
Дэвид Эйер подошел к моему окну.
— Братан, срочно позвони отцу, — тихо сказал он мне. — С ним что-то случилось.
Сколько ни готовься к таким звонкам, все равно никогда не будешь готов. Мое сердце бешено колотилось. Я набрал номер папули.
— Привет, парень.
— Папуль, что стряслось?
— Кажется, сегодня.
Его слова ударили меня, как разряд тока.
— Понял, — спокойно ответил я.
«Тибетская книга жизни и смерти» подчеркивает важность создания спокойной обстановки для близких, которые покидают нас.
— Хочешь созвониться по видео? — спросил я его.
— Давай… Правда хрен его знает, как это делается.
— Сейчас я тебя наберу, только кнопку нажми.
— Эллен, сделай мне видеозвонок, сейчас Уилл позвонит… — крикнул он моей сестре, которая только что приехала к нему. Пока мы разговаривали, телефон держал мой кузен Рикки, пожарный из Филли, который ухаживал за папулей.
Было два часа ночи. Я находился на пустой парковке в центре Лос-Анджелеса. Я встал под самый яркий фонарь, чтобы ему лучше было видно мое лицо.
Мы просто смотрели друг на друга. Двадцать минут полной тишины.
В конце концов я услышал, как Эллен шепчет ему:
— Пап, ты просто смотришь. Ничего не хочешь сказать Уиллу?
Папуля попытался придумать свое последнее мудрое наставление. Последний кирпичик в стене. Но ничего не шло ему в голову. Он медленно покачал головой и окончательно сдался.
— Черт, если я за всю жизнь чего-то этому олуху не успел сказать, сегодня он от меня этого точно не услышит.
Мы в последний раз посмеялись вместе, попрощались, а через сорок пять минут папули не стало.
Одно из важнейших правил кинематографа — «знай свою концовку». Когда ты сам понимаешь, какого эмоционального, философского и морального финала должен достичь твой фильм, ты сможешь лучше придумать все события, которые к этому ведут. Понимание сюжета и его тематической финальной точки позволяет сценаристам работать с конца, чтобы придумать для публики более эмоционально удовлетворительный и интересный путь на протяжении всего фильма. Концовка фильма — это тоже своеобразный панчлайн, кульминация шутки. Тебе хочется, чтобы смысл, который ты пытаешься донести, покорил сердца зрителей.
Только представьте, каково пытаться рассказать шутку, не зная, чем она закончится.
В жизни все так и есть. Ты рождаешься, окруженный разными персонажами, все на тебя смотрят, а ты не можешь даже двух слов связать, не умеешь ходить, не можешь сам себя прокормить, но тем не менее всем очень интересно, чего же ты рано или поздно сумеешь добиться. То есть ты как будто начинаешь рассказывать шутку, вообще не понимая, в чем будет ее суть. Ты стараешься следить за зрителями — иногда они издают смешок, иногда тебя освистывают, но в глубине души все они надеются, что ты сможешь придумать хорошую концовку. Некоторые из нас с рождения окружены любящей и поддерживающей публикой, а другие, наоборот, оказываются на сцене среди толпы всем недовольных скептиков. Но большей части людей достается нечто среднее.
В свои последние дни папуля не переживал про свой бизнес. Не переживал о деньгах. Даже о еде он больше не беспокоился. Его волновал лишь один главный вопрос о его личной концовке: принесла ли его жизнь пользу? Ему было необходимо знать, что наши жизни стали лучше благодаря тому, что он был с нами. Ему хотелось верить, что, несмотря на все его проблемы, недостатки и ошибки, в конечном итоге плюсы перекрывали минусы, и прожитая им жизнь имела ценность.
Когда умерла Джиджи, все было совсем по-другому. Она была абсолютно уверена в своем вкладе в нашу семью, в своих заслугах перед обществом и в своей преданности детям божьим, поэтому она с нетерпением ждала, что отправится в рай. Для Джиджи «Бог» и «любовь» были синонимами. Они были неразделимы и неотличимы друг от друга. Любя всех окружающих, она чтила Господа. Любовь была единственной заповедью, которая ее волновала — она считала, если в твоем сердце живет любовь, другие заповеди тебе не нужны.
В ее смерти не было ни капли негативной энергии. Джиджи была настолько удовлетворена своей жизнью, что, когда она умерла, я даже не плакал. Она была готова уйти и чувствовала, что выполнила свою работу на земле.
Тогда я впервые по-настоящему взглянул за завесу тайны той самой «Улыбки». До этого я всегда неправильно понимал, как работает высшее счастье. Мне казалось, что его можно добиться, зарабатывая, побеждая, достигая, завоевывая, приобретая и преуспевая. Восемь фильмов на первом месте по сборам подряд, тридцать миллионов проданных пластинок, четыре «Грэмми», сотни миллионов долларов в кармане — это ли не счастье, правда же? Именно за это люди будут тебя любить, да? Фундаментальная ошибка этой теории заключается в предположении, что «Улыбку» можно получить из внешних источников, что ее можно купить. Ты думаешь, что люди могут любить и обожать тебя так сильно и глубоко, что у тебя появится «Улыбка».
Спойлер: никакие отношения, карьера или собственность не заполнят эту пустоту. В материальном мире не существует ничего, что смогло бы дать тебе чувство душевного покоя и удовлетворения. Правда заключается в том, что «Улыбки» можно достичь только через отдачу. Это не что-то, что можно получить, ее можно лишь развивать по мере того, как ты отдаешь. В конце жизни тебя не будет волновать, как сильно тебя любили другие — «Улыбку» ты сможешь получить, только если ты сильно любил других.
Механизмы любви и счастья контринтуитивны. До тех пор, пока мы зацикливаемся на необходимости что-то получать, требуя от людей и мира вокруг подстраиваться под наши нужды, мы всегда будем обречены на разочарование, злость и несчастье. Как ни парадоксально, необходимо получать удовлетворение от отдачи. Отдача должна предварять получение до тех пор, пока они не станут одним и тем же. Любить и быть любимым — высшая человеческая награда и счастье. Позволять лучшим аспектам себя служить окружающим и раскрывать их собственные лучшие стороны — это величайшее удовольствие, которое может испытать человек.
Открывать, развивать и делиться своими дарами и талантами, чтобы воодушевлять родных и близких людей, наделять их силой — вот, что я имею в виду, когда говорю «любить». «Улыбка» — это комбинация из понимания своих уникальных талантов и знания, что их ценность только возрастает, если ты ими делишься с другими.
Все люди страдают. У всех бывают тяжелые времена. Жизнь может быть беспощадной, жестокой, хаотичной и невыносимой. Наши сердца увядают. Любовь, отдача, помощь, служение, защита, забота, наделение силой и прощение — вот, в чем секрет «Улыбки». Можете ли вы представить себе, каково вам будет, если кто-то будет вас любить, давать вам все, помогать вам, служить вам, оберегать вас, заботиться о вас, наделять вас силой и прощать вас?
Многие из нас ответят на этот вопрос «нет». Но Джиджи знала, как знали и Нельсон Мандела, и Мухаммед Али, и папуля в последние моменты жизни — чтобы получить это, ты должен это же отдавать другим.
Папуля делился со мной всеми своими дарами. И в конце жизни он видел, что я воспользовался ими, чтобы построить свою жизнь. Он чувствовал удовлетворение от своей отдачи, и несмотря ни на что, был доволен тем, как проявлял ко мне свою любовь. А затем, по воле всевышнего, в его последние моменты, когда ему больше нечего было отдавать, мне выпала благословенная возможность поделиться своими дарами с ним.
Рождения, свадьбы и похороны всегда помогают отыскать золото среди грязи и камней. Папулина смерть послужила мне тревожным звонком. Когда я увидел Джаду на похоронах, меня накрыло осознание того, что однажды наступит день, когда одному из нас придется прощаться с другим. Я задался вопросом: какую концовку для нас мне хотелось бы видеть?
Жизнь порознь помогла нам обоим познать силу свободной любви. Мы с ней одновременно были навсегда связаны и навсегда свободны. Мы признали, что оба несовершенны, и согласились прикладывать все усилия, чтобы нести в мир радость. Друг от друга нам требовалась безусловная любовь и поддержка — не осуждение, не наказание, а полная, нерушимая преданность друг другу и нашему общему процветанию и благополучию.
Мы стали воспринимать наш брак духовной дисциплиной — тем, что Бхакти Тиртха Свами называл «школой любви». Наши отношения были уроками заботы, сопереживания и сочувствия даже в самых тяжелых ситуациях. Мало что в жизни сложнее, чем быть в браке. Близость обычно вытаскивает на всеобщее обозрение самую токсичную внутреннюю энергию.
Если мы научимся любить в этих условиях, то сможем любить в любых других.
Вопрос был в том, сможем ли мы любить друг друга безоговорочно, или наша любовь обусловлена конкретными поступками? Легко «любить» кого-то, когда они делают именно то, чего ты от них хочешь, именно так, как тебе это нужно. Но как ты отреагируешь, когда они выйдут за рамки твоих запросов? Как ты будешь обращаться с ними, когда они причинят тебе боль? Именно в такие моменты и становится ясно, на самом ли деле ты любишь человека.
Любовь трудна. Чтобы открывать перед кем-то свое ранимое сердце снова и снова в надежде на любовь, требуется огромная храбрость. Как всегда говорил Чарли Мэк, «запугиванием много не заработаешь». Любовь требует смелости и готовности пожертвовать всем.
Но смелость не значит, что тебе не будет страшно. Смелость — это умение продолжать идти вперед, даже когда ты в ужасе. Мы с Джадой согласились, что будем идти вместе до самого конца, несмотря ни на что.
Прыжок
— Сейчас мы станем свидетелями того, что никто никогда раньше не делал. Вы об этом читали, вы писали об этом в Твиттере, и вот этот момент наконец настал. Я — Альфонсо Рибейро, и перед вами «Уилл Смит: Прыжок», прямая трансляция с Большого каньона.
Сегодня, в свой пятидесятый день рождения, он посмотрит страху в глаза и спрыгнет с вертолета на канате с высоты 550 метров над землей. У меня от одной мысли об этом душа уходит в пятки. Вот псих…
— Йоу, Альфонсо, а ну завали! — огрызнулся Чарли Мэк.
— Чарли, у меня тут прямая трансляция, — прошипел Альфонсо.
— Насрать мне, Альф, не каркай тут! Че ты заладил, типа все плохо будет…
— Погодные условия тут на каньоне непредсказуемые. Вчера весь день была гроза, но нам помогает команда опытных профессионалов, которые следят за направлением ветра и температурой.
— Альфонсо, мы готовы, — крикнул продюсер.
— Серьезно, Альф, че ты нагнетаешь…
— Я просто работаю, Чарли! Уилл позвал меня быть ведущим! — сказал Альф, стуча правым ребром ладони об левую. — Я должен нагнетать напряжение, он меня просил!
— Ты не нагнетай так, будто он сейчас помрет!
— Так от этого и идет напряжение, Чарли!
С чего ты вдруг решил спрыгнуть с вертолета на канате в Большой каньон?
Когда мне впервые задали этот вопрос вслух, я подумал: Че непонятного-то! Меня тут кризис среднего возраста душит, что твой удав! Но меня на весь мир транслировали на YouTube, поэтому так я ответить не мог.
Вот что я ответил на самом деле:
— У меня всю жизнь были интересные отношения со страхом. Я испытал весь спектр страхов, от полного паралича до вдохновения, а иногда и откровенного безумия. Но когда ко мне пришла идея прыжка в каньон с вертолета, меня не парализовало, и я совсем не вдохновился, я подумал только: Ну это полный бред.
В детстве я ездил на Большой каньон, и эта поездка стала для меня очень важным опытом. Я на всю жизнь запомнил не только, как тут красиво, но и как тут страшно. Гарри подошел к краю так близко, что уронил туда свой барабан, а я держался в стороне и не смог насладиться величием каньона сполна.
По какой-то причине Господь поместил все прекрасные вещи в жизни позади наших самых больших страхов. Если мы не готовы оказаться лицом к лицу с тем, что больше всего нас пугает, перейти невидимую границу в страну ужаса, мы не сможем испытать все самое лучшее, что может предложить нам жизнь.
Поэтому я принял осознанное решение бороться с тем, что меня пугает. И вот это — страшно. Поэтому, когда Yes Theory[8] взяли меня на слабо и предложили прыгнуть, мое сердце ушло в пятки. А я знаю, что это ощущение — сигнал о том, что передо мной стоит возможность получить великий дар. Если уж сердце ушло в пятки, я знаю — надо непременно это сделать. Но я также обязан быть круче всех, поэтому, когда ребята сказали «спрыгнуть с вертолета», я добавил «над Большим каньоном и на мое пятидесятилетие».
Там были абсолютно все: мамуля, Джада, Шери, Трей, Джейден, Уиллоу, Гарри, Эллен, Пэм, Эшли, Кайл, Дион, Гэмми, Калиб, Джей-Эл, Чарли Мэк, Омар, Скоти и Тай, и все-все-все. Глядя на пейзаж Большого каньона, собравший всех моих друзей и родных, я представлял себе лица следующего поколения — детей Гарри, Эллен, Пэм, Джей-Эла, Чарли, Омара, Калиба, Скоти и Тай — и понимал, что оказался в эпицентре собственной мечты. Вот, чего я всегда хотел: все мои любимые здесь, вместе, одной семьей, собрались ради того, чтобы своими глазами увидеть бессмысленную и ужасную смерть своего дяди Уилла. Я так и представлял себе все эти новости: «Вчера утром Уилл Смит, предположительно в наркотическом угаре, скоропостижно разбился насмерть, пытаясь спрыгнуть на канате с вертолета в Большой каньон. Он оставил после себя жену, мать и троих детей, бесчисленное количество племянниц и племянников, множество родственников и друзей, а также незадачливого туриста, который проходил мимо и не понимал, отчего такой шум. Смиту было всего пятьдесят. В официальном заявлении представительства YouTube Смит был назван „настоящим американским идиотом“, конец цитаты».
Но случилось нечто иное: дети меня поняли. Они откуда-то знали, как важно работать над своими страхами и преодолевать их. Моя племянница Кейла держала меня за ногу, пока я шел к вертолету. А когда ей наконец пришлось меня отпустить, она крикнула мне вслед:
— Когда я вырасту, я хочу быть храброй, как ты, дядя Уилл!
Альфонсо: Уиллоу, что ты думаешь по поводу поступка твоего папы?
Уиллоу: Пусть делает то, что приносит ему счастье. Конечно, я волнуюсь, но раз он этого хочет, мы все его поддерживаем. Я просто хочу, чтобы он делал то, что ему нравится.
Трей: Я очень рад, что он делает то, что хочет. Прыжок с вертолета на канате в Большой каньон… Мне кажется, такого никто никогда не делал, поэтому мне интересно, как все пройдет. Он и нас научил преодолевать свои страхи.
Джада: Ты пытаешься своих детей до смерти напугать?
Уилл: Нененене, мои дети ничего не боятся…
Альфонсо: Чего твой папа боится сильнее всего?
Джейден: Он боится иметь страхи.
Альфонсо: Уилл, ты в этом бизнесе уже очень давно. У тебя полно фанатов, некоторые из них и сами очень знамениты, и все они хотят сказать тебе несколько слов. Вот, посмотри…
Леброн Джеймс: Значит, ты собрался прыгнуть из вертолета в каньон. Чувак, остепенился бы уже, чем такой фигней заниматься на старости лет…
Майкл Стрейхэн: Ну, стукнул тебе полтинник, ну и что, надо же как-то держать себя в руках. Если тебе нужно с кем-то поговорить, звони в любое время.
Джимми Фэллон: Пожалуйста, не делай этого. У тебя еще есть время, чтобы отменить все. Выкинь из вертолета манекен вместо себя. Придумай что-нибудь.
Куинси Джонс: Ну, с пятидесятилетием, бро.
Диджей Джаззи Джефф: Так, значит, раз тебе исполнилось пятьдесят, тебе нужно пойти к доктору, чтобы он сунул тебе палец в жопу. Все пятидесятилетние так делают. Уж я-то знаю.
Альфонсо: Ну да, замечательно. Джаззи Джефф всегда умеет поддержать.
Я ничего не хотел знать заранее. Я хотел сесть в вертолет, прослушать инструктаж и прыгнуть. Я хотел узнать все подробности в процессе, одновременно с аудиторией.
— Привет, Уилл, я — Ти-Джей, твой инструктор. Давай начнем с простых вещей: ты будешь прыгать с банджи, это резиновый канат длиной 60 метров. У тебя будет несколько добавочных страховок: одна на груди и две на поясе. Этот канат — чудо инженерии, он сделан из сотен отдельных резиновых волокон со специальным покрытием, которое уменьшает трение и износ. Чем больше волокон, тем надежнее канат. Ты весишь где-то 90 килограммов, правильно?
Где-то так, минус 8 кило жидкостей и прочих субстанций, которые из меня сейчас польются от ужаса.
— Во время прыжка на канат будет действовать тройная сила тяжести, а это, учитывая массу твоего тела, почти 300 килограммов. В момент максимального растяжения ты пролетишь почти 170 метров, потом тебя несколько раз подбросит и в конце концов ты повиснешь в ста метрах под вертолетом. Затем мы тебя опустим на землю, отцепим, все споют «С днем рождения», и ты поедешь домой. Вопросы?
— Так, погоди, мне в голову пришла ужасная мысль. А вдруг меня порубит лопастями, когда я полечу обратно вверх?
— Вот это будет номер! — ответил Ти-Джей, хихикая. — Я шучу. Такого просто не может быть. Разгоняясь под воздействием силы тяжести, ты набираешь кинетическую энергию. Канат растягивается, принимая на себя только часть этой энергии, а остальное превращается в тепло из-за трения и сопротивления воздуха. Таким образом невозможно отскочить обратно дальше, чем на первоначальную высоту.
— Ага, круто, я так и думал, что тут все совершенно безопасно…
— Ну… С обычными прыжками все довольно предсказуемо, но ты прыгаешь с вертолета, и это добавляет свои нюансы. Во-первых, вертолет не висит на одном месте, а постоянно двигается. Погодные условия должны быть идеальными, и нам нельзя приближаться к стенам или выступам. Но больше всего меня волнуешь ты, как главный фактор риска. Сам канат весит даже больше, чем ты. Когда мы взлетим, его будут держать три человека, чтобы тебя не перевесило. Но когда они его отпустят, рывок будет больше 360 килограммов, так что ты хочешь не хочешь, но вылетишь из вертолета. Самая большая опасность возникнет, если ты сам не спрыгнешь с вертолета, когда выбросят канат. Я буду вести обратный отсчет от пяти, и на счет «один» ты обязательно должен выпрыгнуть. Если ты не прыгнешь и тебя утянет за собой канат, мало не покажется.
Не буду я прыгать. Правда, тогда меня, наверное, засудят. Интересно, сколько придется заплатить? В среднем на съемку фильма тратится около 40 миллионов долларов, вряд ли уж YouTube заплатил больше пары-тройки миллионов за все это мероприятие. Плюс сколько, где-то миллион на возмещение убытков? То есть, если я прямо сейчас решу уйти, это будет мне стоить четыре миллиона.
Как-нибудь переживу.
Пока я думал, Ти-Джей прицепил канат к моей груди.
— Эй, стой, вы что же, не к ногам его привязываете?
Я-то думал, банджи всегда крепятся к ногам.
— Мы с тобой примерно одного возраста, — сказал Ти-Джей. — Помнишь старую рекламу, в которой люди прыгали в бассейн спиной вперед, раскинув руки в стороны?
— Да, помню, видел что-то такое в детстве.
— Когда я досчитаю до одного, прыгай, как в той рекламе.
— МНЕ ПРИДЕТСЯ ПРЫГАТЬ СПИНОЙ ВПЕРЕД???!!
Меня прицепили, все перепроверили три раза. Лопасти вертолета понемногу набирали обороты. Я полез в кабину.
Ти-Джей меня остановил.
— Из-за веса каната тебе придется стоять снаружи, на полозьях.
— В смысле, СНАРУЖИ? Пока летим?! — заверещал я, но быстро оборвал себя. Все-таки я — всемирно известный герой боевиков.
— Да. Просто убедись, что устойчиво стоишь на полозьях всей ступней. Схватись за ручки, не отпускай их и помни, что ты привязан, — ответил Ти-Джей, как будто меня это должно было успокоить, пока я буду торчать снаружи вертолета, летящего над Большим каньоном.
Следующий и самый страшный сюрприз обнаружился на взлете. Оказывается, висеть снаружи взлетающего вертолета очень неприятно. На высоте двух с половиной метров от земли аппарат накренился вправо. Я как раз посмотрел вниз, чтобы проверить, что надежно стою на полозьях, и тут земля подо мной исчезла, а на ее месте разверзлась полукилометровая пропасть. У меня подкосились колени. Я покрепче схватился за стальные перила, приваренные к днищу вертолета.
— Забыл сказать — не смотри вниз, — весело крикнул Ти-Джей.
Че ж ты еще забыл мне сказать?
Слева от меня мигала красная лампочка. Из множества раций доносилась какофония непонятного военного жаргона. Все пытались перекрикивать грохот лопастей и моего собственного сердца. Я мог расслышать только отдельные слова: «высота», «прием», «принял», «ветер», «есть», «гроза».
Какая еще гроза? Вот будет номер, если я прыгну, а в меня молния ударит…
А потом: «зеленый свет».
Красная лампочка, которая была барьером, сдерживавшим поток всего этого коллективного безумия, сдалась и сделалась зеленой. Чтобы я точно все правильно понял, Ти-Джей тыкнул мне под нос универсальный сигнал к действию: оттопыренный большой палец. А потом заорал:
— Все готово! Услышал? Все готово!
Я утвердительно кивнул. И тогда он начал обратный отсчет.
— ПЯТЬ! — скомандовал Ти-Джей, грозно показывая пять пальцев.
Оказывается, жизнь и вправду проносится у тебя перед глазами, когда ты уверен, что сейчас умрешь.
А вдруг я разобьюсь на глазах у моих детей? Какая нелепая смерть, да еще и испорченный день рождения. Зато на ютьюбе будет хит на все времена. Надо было, наверное, подумать обо всем этом заранее.
Интересно, что дети скажут на похоронах?
— ЧЕТЫРЕ!
Эх, а мы с Джадой только-только начали играть вместе в гольф. Ей так нравится — она всегда наряжается к игре еще до рассвета. Столько лет прошло, а мы все еще находим вещи, которые интересны нам обоим. У нас завтра игра. Я люблю играть с ней больше, чем с кем-либо другим.
Она — мой лучший друг на всем белом свете.
— ТРИ!
Че он так быстро считает?
— ДВА!
Короче, я или помру, или нет. Если я понадобился Господу сегодня, то ничего уже не поделать. Я даже не пойму ведь, что умер. Вопрос на самом деле в том, как я хочу жить?
— ОДИН!
Благодарности
Эту страницу мне писать труднее, чем всю остальную книгу. Количество людей, которых я хотел бы поблагодарить, просто зашкаливает. На этом пути меня поддерживали, защищали, вскармливали, спасали и придавали сил многочисленные ангелы. Поберегу бумагу, чтобы сделать свой крошечный вклад в сохранение окружающей среды. Если я забыл упомянуть ваше имя в книге, я напишу о вас у себя в Инстаграме. Подписывайтесь.
Глоссарий
ACRAC (Air-Conditioning, Refrigeration, Air Compressors) — название бизнеса отца Уилла Смита, связанного с установкой и ремонтом воздушных компрессоров, холодильного оборудования и производством льда.
Бибер — средняя школа неподалеку от дома Смитов, где Уилл любил проводить время в детстве.
Бомбардировка радикальной организации MOVE — инцидент с захватом полицейскими жилого дома, где располагались члены организации MOVE. Инцидент, начавшийся с перестрелки, окончился бомбардировкой дома с полицейских вертолетов. Пожарным в течение 1,5 часов запрещали тушить огонь, который в итоге вышел из-под контроля и уничтожил более 60 окрестных домов.
Воскресенская баптистская церковь — церковь, которую Уилл посещал со своей бабушкой Хелен.
Вудкрест-авеню — улица, на которой жила семья Смитов в районе Уиннфилд.
Законы Джима Кроу — широко распространенное неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в 1890–1964 гг.
Католическая школа имени Богоматери Лурдской — преимущественно белая школа при католической церкви, в которой Уилл получил среднее образование.
Овербрук — преимущественно черная общеобразовательная школа, где Уилл Смит учился в старших классах.
Слэм-данк — вид двухочкового броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.
Уиннфилд — район Западной Филадельфии со смешанным населением среднего достатка.
Филадельфия является агломерацией из 7 больших районов: Север (the North), Северо-Восток (the Northeast), Северо-Запад (the Northwest), Запад (the West), Юг (the South) и Юго-Запад (the Southwest) которые окружают Центральный район (the Center City). Таким образом, Западный Филли — это Запад Филадельфии.
«Бумеранг» (Boomerang, 1992) — романтическая комедия с Эдди Мерфи и Холли Берри.
«В погоне за счастьем» (The Pursuit of Happiness, 2006) — американский биографический фильм, основанный на мемуарах Криса Гарднера, с Уиллом Смитом и Джейденом Смитом.
«Даллас» (Dallas, 1978–1991) — телевизионная «мыльная опера» о состоятельной техасской семье.
«Добрые времена» (Good Times, 1974–1979) — ситком, в котором впервые на телевидении появилась афроамериканская семья.
«Лаверна и Ширли» (Laverne & Shirley, 1976–1983) — комедийный телесериал о жизни двух подруг, которые вместе работали на пивоваренном заводе в Милуоки в конце 1950-х годов. Спин-офф «Счастливых дней».
«Морк и Минди» (Mork & Mindy, 1978–1982) — ситком с Робином Уильямсом об инопланетянине с планеты Орк и его подруге с Земли. Спин-офф «Счастливых дней».
«Принц из Беверли-Хиллз» (The Fresh Prince of Bel-Air, 1990–96) — комедийный сериал, в котором Уилл Смит играет вымышленную версию себя в молодости.
«Последний дракон» (The Last Dragon, 1985) — фильм-мюзикл о молодом чернокожем любителе боевых искусств.
«Семейка Брэди» (The Brady Bunch, 1969–1974) — крайне популярный ситком о большой семье с шестью детьми.
«Счастливые дни» (Happy Days, 1974–1984) — комедийный телесериал Гарри Маршалла, который представлял собой иделизированный взгляд на жизнь Америки с середины 1950-х до середины 1960-х годов и породил множество спин-оффов.
«Сэнфорд и сын» (Sanford and Son. 1972–1977) — телевизионный ситком, прославившийся юмористическими ремарками, основанными на расовых предрассудках, сквозными шутками и коронными фразами.
«Трое — это компания» (Three’s company, 1977–1984) — ситком о молодом человеке, который живет в платонических отношениях одной комнате с двумя соседками-красотками.
«Я — легенда» (I Am Legend, 2007) — постапокалиптический фильм с Уиллом Смитом, экранизация одноименного романа Ричарда Мэтисона.
«Я мечтаю о Джинни» (I Dream of Jeannie, 1965–1970) — комедийный сериал о привлекательной блондинке-джинне из бутылки.
Бизи Би Старски (Busy Bee Starski) — псевдоним Дэвида Джеймса Паркера (род. 1962), олдскульного исполнителя хип-хопа из Нью-Йорка.
Грандмастер Каз (Grandmaster Caz или Casanova Fly) — сценический псевдоним Кертиса Брауна (род. 1960), рэпера, композитора и диджея, в том числе выступавшего с хип-хоп группой The Cold Crush Brothers.
Грандмастер Флэш — сценический псевдоним диджея Джозефа Саддлера (род. 1958), который вместе с группой Grandmaster Flash and the Furious Five стоял у источников хип-хоп музыки.
Куинси Джонс (род. 1933) — американский композитор, музыкальный продюсер, аранжировщик и трубач.
Кул Герк (Kool Herc, род. 1955) — сценический псевдоним ямайского диджея Клайва Кэмпелла, который считается предтечей многих музыкальных жанров, в том числе брейкбита и хип-хопа.
Кул Мо Ди (Kool Moe Dee) — псевдоним Мохандаса Дьюиса (род. 1962), американского олдскульного рэпера из группы Treacherous Three.
Леди Би (Lady B) — псевдоним Венди Кларк, рэпера и радиодиджея из Филадельфии, одна из первых женщин-рэперов и ведущая на радиостанции WHAT AM, где она занималась популяризацией хип-хопа в 1970-е.
Мелл Мэл (Melle Mel) — псевдоним Мелвина Гловера (род. 1961), вокалиста и композитора группы Grandmaster Flash and the Furious Five.
LL Cool J — псевдоним хип-хоп исполнителя, автора песен, продюсера и актера Джеймса Тодда Смита (род. 1968).
Эрик Би и Раким (Eric B. & Rakim) — хип-хоп дуэт из Нью-Йорка.
Beastie Boys — одна из самых известных и долгоживущих рэп-групп в мире, просуществовавшая 35 лет. Основана в 1979 г. в Бруклине, Нью-Йорк.
Mantronix — хип-хоп группа из Нью-Йорка 1980-х годов.
Ohio Players — фанк-группа, популярная в 1970-е. В книге идет речь об обложке альбома под названием «Honey» 1975 года выпуска.
Public Enemy — хип-хоп группа, известная своими политизированными текстами и активным интересом к проблемам афроамериканского сообщества. Основана в 1987 г. в Нью-Йорке. Чак Ди (Chuck D) — псевдоним рэпера, автора и продюсера Карлтона Дугласа Риденхура (род. 1960), лидера Public Enemy.
Run-DMC — нью-йоркская хардкорная рэп-группа, основанная в 1983 г.
Stetsasonic — одна из первых хип-хоп групп, которая выступала с полным оркестром и использовала живые инструменты на своих пластинках, комбинируя их с битбоксом и сэмплами. Сформирована в 1981 г. в Бруклине, Нью-Йорк.
Sugarhill Gang — американское хип-хоп трио из Нью-Джерси, чья композиция 1979 года Rapper’s Delight стала первым хип-хоп-синглом, вошедшим в лучшие 40 песен хит-парада журнала Billboard.
Treacherous Three — одна из первых хип-хоп групп, сформированая в 1978 г. в Нью-Йорке.
Universal Zulu Nation — интернациональная группа распространения идей хип-хопа в массы, созданная в 1970-е годы хип-хоп исполнителем Afrika Bambaataa.
Whodini — рэп-трио из Нью-Йорка, образованное в 1981 году, которое прославилось благодаря своим добродушным песням.
2 Live Crew — хип-хоп группа из Майами, отличавшаяся непристойными текстами песен и сценическими представлениями. Лидером группы был Лютер Родрик Кэмпбелл (род. 1960) по прозвищу Люк Скайуокер (Luke Skyywalker) или дядя Люк (Uncle Luke).
Музыкальные термины
Баттл — словесный поединок между двумя рэп-исполнителями.
Битбокс — жанр музыки, при котором исполнитель создает композиции без инструментов, издавая звуки только речевым аппаратом и голосом, симулируя барабанный ритм и другие звуковые эффекты.
Брейкбит/брейк — тип музыки, для которой используются сэмплы ударных партий из старых записей фанка, джаза или R&B.
Бумбокс — портативный стереомагнитофон с большими динамиками.
Вертушка — жаргонное название проигрывателя виниловых пластинок с музыкой.
Диджей (DJ, диск-жокей) — здесь: музыкант, который оперирует преимущественно виниловыми пластинками, в том числе на специальном оборудовании, на лету составляя из разрозненных звуковых фрагментов (сэмплов) полноценную оригинальную композицию.
Драм-машина — электронный музыкальный инструмент для программирования, редактирования и исполнения электронных барабанных партий («драм-лупов»).
Каттинг — диджейская техника, чаще всего использующаяся совместно со скретчингом. При каттинге диджей манипулирует громкостью звука, резко повышая и убавляя ее, тем самым создавая ритмичную музыкальную фразу.
Микстейпы — кустарный сборник песен, записанных на аудиокассету либо с радио, либо с живого выступления.
Микшер, микшерный пульт — электронное устройство для манипуляции звуковыми дорожками, регулировки громкости и наложении спецэффектов в диджеинге.
Панчлайн — строчка в рэп-куплете, которая содержит в себе неожиданный смысл, игру слов, аллюзию или шутку, вызывающую реакцию слушателей.
Ремастер — перевыпуск существующего альбома в улучшенном качестве, иногда с измененными или заново сведенными песнями
Саундчек — подготовительный этап перед концертом, во время которого исполнитель и звукооператор настраивают оборудование под формат площадки.
Сет — программа выступления диджея.
Сингл — здесь: грампластинка, на каждой стороне которой помещалась одна или две музыкальной композиции. Обычно основная стороная пластинки содержит заглавную песню, которую выпускают для радио, а обратная сторона («би-сайд» или «сторона Б») содержит дополнительную композицию, которая впоследствии чаще всего не входит в альбом.
Скретчинг/скретч — одна из базовых техник диджеинга, при которой виниловую пластинку вручную двигают взад-вперед на проигрывателе, а также название получаемого звукового эффекта.
Сэмпл — небольшой звуковой фрагмент, который используется для создания оригинальной композиции. Чаще всего в качестве сэмплов используются известные фразы из песен, мелодичные проигрыши или барабанный ритм. Музыкальный инструмент для работы с сэмплами называется сэмплером.
Флоу — термин, описывающий плавность, ритмичность и качество рифм в рэп-композиции.
Фристайл — импровизированный речитатив в рэпе без заранее подготовленного текста.
Хедлайнер — главный исполнитель на концерте с несколькими музыкальными коллективами, «гвоздь программы».
Эмси (MC, мастер церемоний) — в хип-хоп культуре — исполнитель рэпа.
Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, издаваемый еженедельным журналом Billboard и определяемый по данным продаж за неделю.
~
1971 год, папуля в своем офисе ACRAC. Скорее всего, по телефону тут с ним никто не говорит — просто хотел выглядеть покруче для фотки.
Мамуля и папуля на этой фотографии как раз собираются отправиться делать меня.
Наш дом на Вудкрест в Западном Филли. Тут я и вырос.
Мое полное имя — Уиллард Кэрролл Смит II. Я родился 25 сентября 1968 года. Под этой простынкой я совсем голый.
Я с Джиджи в ее доме на северной Пятьдесят четвертой улице.
Папуля постоянно нас чему-нибудь учил. Он хотел, чтобы мы умели работать и создавать вещи своими руками.
Мамуля с близнецами Гарри и Эллен. Я тащусь от ее афро.
В доме на Вудкрест с Пэм, Гарри и Эллен. Практикую фирменную улыбку с детства.
Автопарк ACRAC, на этой фотографии перегородивший улицу Западного Филли, которая теперь именуется «Дорогой Уилла Смита-старшего». (Темно-синий фургон с белыми буквами — тот самый, который Пол не уберег от воров.)
Я, мамуля, папуля, Пэм, Гарри и Эллен в доме на Вудкрест, ранние 1970-е.
На кухне дома на Вудкрест. Я был очень боязливым ребенком.
Та самая семейная поездка по стране в 1976 году.
Большой Каньон — самое невероятное место, которое я видел в жизни.
Старшая школа Овербрук носила прозвище «Замок на холме». Она занимала два городских квартала и нависала над окрестностями, как каменная крепость.
Джей-Эл в синей майке и Джефф вообще без майки, на крыльце дома мамы Джеффа.
Наша группа из Филли, с которой мы отправились в первое настоящее турне в 1986 году. По часовой стрелке, начиная справа сверху: я, танцор Омар, битбоксер Рэди-Рок, менеджер Джеймс Ласситер, диджей Джаззи Джефф и охранник в лице Чарли Мэка Олстона (который, если вы вдруг не заметили, держит нас с Джеффом на руках).
На заре хип-хопа «охраной» считался твой самый большой, высокий и угрюмый друг. На этой фотографии Чарли Мэк не при исполнении сидит рядом с Джеффом.
С Джей-Элом в Лондоне осенью 1987 года. Примерно этим и ограничился весь наш туризм.
Золотые пластинки, которые получили DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Слева направо: Джей-Эл, Джефф, Расселл Симмонс и Лиор Коэн. Расселл обожал нашу с Джеффом музыку.
Баки Дэвис был ростом метр с кепкой. Не представляю, зачем он вдруг пригнулся на этой фотографии.
Мими Браун — одна из величайших радиоведущих в истории Филадельфии. У нее был такой соблазнительный, томный голос, прямо из фантазий любого подростка, да и на вид она была хоть куда.
Мы с Таней. Мне на этой фотке все нравится, кроме того, что у меня штаны закатаны… и поза, в которой я стою… и что я без рубашки… и что на мне ночью солнцезащитные очки… и на что я вообще тут уставился?
Мы с Куинси Джонсом в декорациях гостиной на съемках первого сезона «Принца из Беверли-Хиллз».
По пятницам съемочная площадка «Принца из Беверли-Хиллз» превращалась в самый шикарный клуб в городе. Стоят, слева направо: Бенни Медина, Джозеф Марселл, Альфонсо Рибейро, Джеймс Эйвери, Тайлер Коллинз, Кадим Хардисон (из сериала «Другой мир»), я, Куинси Джонс, Эл-Би Шор. Сидят, слева направо: Татьяна Али, Джэнет Хьюберт и Керин Парсонс.
Мы с Керин на съемочной площадке «Принца из Беверли-Хиллз». Не мы такие, жизнь такая.
Шери Зампино из Нью-Йорка. То есть, конечно, не из самого Нью-Йорка, а из Скенектади (да что там, оттуда уже и до Канады недалеко). На фото мы с родителями на нашей свадьбе в 1992 году.
С Шери и Треем, 1993. У него мамины глаза и папины уши.
Эй, я тут ребенка нашел в бассейне, говорит, его Трей зовут. Заберите его у меня, пожалуйста, я не умею плавать.
Кажется, на мой костюм пошла вся лишняя ткань, которая не пригодилась для наряда Джады.
Каждого сильного мужчину окружают поколения сильных женщин. Я с Фоун, Гэмми, Джиджи, мамулей и Джадой.
— Марти-Мааааар!
— Большой Уилли!
Тот самый кадр из «Плохих парней», который превратил меня в кинозвезду даже несмотря на типичную ошибку новичка: палец на спусковом крючке держать не надо.
«День независимости» — спасаем мир вместе с Джаддом Хиршем (слева) и Джеффом Голдблюмом (справа). На солончаках Бонневиль жара стояла под 38 градусов, а солнце так отражалось от белой соли, что у людей обгорали шеи. (Не говоря уже об одном из членов съемочной команды, который ходил в мешковатых шортах, не поддев труселя.)
1997, канун Нового года. Глядя на это фото, я всегда думаю: «Кушайте тортик, да побольше — вас впереди ждет настоящий марафон, так что запасайтесь углеводами».
Джейден Кристофер Сайер Смит родился 8 июля 1998 года. Если бы имя выбирал Трей, его звали бы Луиджи.
Трей и малыш «Луиджи».
Джейден всегда был самым спокойным из всех моих детей.
Уиллоу Камиль Рейн Смит родилась в Хэллоуин 2000 года.
Джейден, Шери, Уиллоу, Трей и Джада.
С Джадой и детьми.
Мамуля и Джиджи во всей красе.
Мы с Дарреллом бежали на высоте 3000 метров в Колорадо. «Напиши его имя», — сказал Даррелл, а потом сделал это фото. «Не забывай, ради чего мы страдаем», — сказал он.
Приземлились в Мапуту, столице Мозамбика, чтобы снимать заключительные сцены фильма «Али». На фото слева направо: Джей-Эл, я, Чарли Мэк, Даррелл Фостер и Билал Салаам.
Меня поразило то, как хорошо я понимал Мухаммеда Али. У нас с ним похожее чувство юмора. Нам было невероятно комфортно друг с другом. Мой внутренний актер вдруг подумал: «Блин, кажется, я смогу…»
Один из лучших моментов в моей жизни: папуля, Трей и Шери познакомились с Нельсоном Манделой. Справа на фото режиссер «Али» Майкл Манн и его жена Саммер.
«О чем думаете?» — спросил я как-то раз Нельсона Манделу. Он посмотрел на меня, как будто пытаясь понять, что я на самом деле имел в виду и готов ли услышать ответ. «Если ты проведешь со мной некоторое время, — ответил Мандела, — я тебе покажу».
Я, Джада и Джей-Эл в Аспене.
Весь год Джада была как Пичес из «Пропавших миллионов» — суперзвезда из гетто — но стоило зазвенеть рождественским колокольчикам, она превращалась в белую тетеньку средних лет. Я с Джадой и мамулей — у меня на руках малышка Уиллоу.
Фото сделано сразу после того, как мамуля споткнулась и сломала лодыжку на руинах Эфеса в Турции.
Джада на сцене «Оззфеста» с ее группой Wicked Wisdom — #пресс.
Мы с Джейденом дрыхнем на съемках «В погоне за счастьем», Сан-Франциско, 2005. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь даже во сне не выходил из образа, а?
Мы с Уиллоу на съемках видеоклипа к песне Whip My Hair.
На сцене сороковой ежегодной премии «Грэмми» в 1998 году. В индустрии развлечений мало что настолько же взрывоопасно, как хитовый фильм в сочетании с хитовой песней.
Джей-Зи, Джада, Уиллоу, я и Бейонсе в день, когда Уиллоу подписала свой первый контракт на звукозапись со студией Roc Nation.
Если интересно, я тут играю песню Gin and Juice Снуп Догга.
С Микаэлой Боэм. Это не женщина, а копна рыжих кудрей полутора метров ростом. Ее австрийский акцент заставляет все ее слова звучать психоаналитически убедительно.
Скотти Сардинья был моим первым телохранителем, который выполнял свою работу в шлепках.
Я позирую, типа, «не обращайте внимания, я тут просто прилег у Тадж-Махала». На этой фотографии не хватает только пары тысяч долларов на земле передо мной.
Мы с папулей на съемках «Людей в черном 3».
Папуля в своем доме на реке в Филли.
День отца 2021.
Мамуля со всеми своими детьми и большинством внуков. Слева направо: Джейд, Эшли, Триш, Джейден, Доминик, Скайлер, Миа, Уиллоу, Лэнгстон, я, мамуля, Кайла, Пилар, Кайл, Пэм, Трей, Сабрина, Эллен, Дион, Эдди, Гарри, Шери и Тайлер.
~ ~
