Убийство Командора. Книга 2. Ускользающая метафора бесплатное чтение
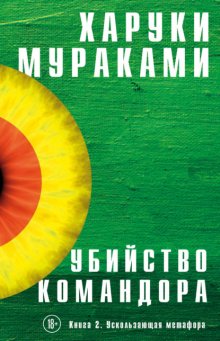
© 2017 by Haruki Murakami
© Замилов А., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
33
То, что на виду, мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто
Воскресенье тоже выдалось ясным, ветра почти не было. В лучах осеннего солнца переливалась листва самых разных оттенков. Расположившись на террасе, я наблюдал, как белогрудые птички, порхая с ветки на ветку, проворно клевали красные плоды. Красота природы беспристрастна и одинаково доступна как богатым, так и беднякам. То же и с временем. Хотя нет. Время – это нечто иное. Его богатеи приобретают за деньги, с запасом.
Ровно в десять, взобравшись по склону, перед домом возникла ярко-синяя «тоёта приус». На сей раз Сёко Акигава была в узких бледно-зеленых брючках из хлопка и бежевой обтягивающей водолазке. На шее поблескивала золотая цепочка. Прическа, как и прежде, – почти идеальная. Когда волосы покачивались, из-под них выглядывал затылок. Сегодня Сёко оставила прежнюю дамскую сумочку дома и взяла замшевую, с ремнем через плечо, на ногах – коричневые парусиновые туфли. Вся одежда простая, но наряд продуман до мелочей. Грудь у нее и впрямь красивая. Ее племянница сказала бы – «без подкладок». Можно сказать, бюст ее меня пленил – исключительно в эстетическом смысле.
А вот Мариэ Акигава сегодня выглядела совсем иначе, повседневно – в потертых голубых джинсах и белых кедах «Конверс». На джинсах местами зияли дыры, разумеется – нарочно проделанные с превеликой осторожностью. Сверху же на ней была плотная клетчатая рубаха – обычно такие носят лесорубы, а на плечи накинута тонкая серая ветровка. Бугорков груди по-прежнему не наблюдалось, а на лице – прежняя кислая мина. Как у кошки, у которой отобрали миску с едой, едва она принялась за еду.
Как и в прошлый раз, я заварил черный чай и принес его в гостиную. Затем показал гостьям три эскиза, которые набросал на прошлой неделе. Сёко Акигаве, похоже, они понравились.
– Какой ни возьми, Мариэ выглядит естественней, чем даже на фотографии. Прямо как живая.
– Это… можно взять? – спросила у меня Мариэ Акигава.
– Конечно, – ответил я. – Когда картина будет готова. Пока же эскиз может мне пригодиться.
– Как ты себя ведешь?.. – укоризненно сказала племяннице тетушка и обратилась ко мне: – Что, действительно можно? – обеспокоенно спросила она.
– Не имеет значения. Завершу портрет – и они мне не нужны.
– Значит, какой-то вы используете для наброска? – спросила Мариэ.
Я покачал головой:
– Ни один не стану. Эти эскизы я сделал лишь для того, чтобы нащупать твой объемный образ. На холсте же я буду писать другую тебя.
– Выходит, образ уже сложился у вас в голове?
Я опять покачал головой:
– Нет еще. Мы с тобой будем создавать его вместе.
– Нащупывать меня объемно? – уточнила Мариэ.
– Именно, – ответил я. – Материально холст – поверхность плоская. А портрет нужно писать в объеме, понимаешь?
Мариэ нахмурилась. Мельком взглянув на обтянутую водолазкой грудь тети, она перевела взгляд на меня, и я предположил, что при слове «объемный» она, вероятно, задумалась о форме собственной груди.
– Как удается так умело рисовать?
– Ты про эскиз?
– И про эскиз, и про кроки на занятиях.
– Практика. Рисуя, постепенно набиваешь руку.
– Но ведь немало и тех, у кого так не получается, сколько б ни рисовали.
Она была права. Сколько моих сокурсников практиковались – но рисовать так и не научились. Как ни старайся, способности людей во многом зависят от их врожденных качеств, хотя об этом сейчас благоразумней умолчать, иначе разговору не будет ни конца, ни края.
– Но это не значит, что можно не практиковаться. Вне сомнения, существует немало талантов и качеств, которые не проявятся, если их не развивать.
Сёко Акигава была полностью со мной согласна, а Мариэ лишь поджала губы, как будто не торопилась принять мои слова на веру.
– Ты ведь хочешь научиться рисовать? – поинтересовался я у Мариэ.
Она кивнула.
– Что на виду, мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто.
Я посмотрел ей в глаза и заметил в них некий блеск. Я не очень понял, что она имела в виду, но привлекли меня даже не ее слова, а искорки в глубине ее глаз.
– Весьма странное замечание, – отозвалась Сёко Акигава. – Прямо загадками ты говоришь.
Мариэ, ничего на это не ответив, разглядывала свои руки. Вскоре она подняла голову: блеска у нее в глазах как не бывало. Вспышка эта длилась лишь миг.
Мы с Мариэ Акигавой ушли в мастерскую. Сёко достала из сумочки тот же, как мне показалось, покетбук и, откинувшись на спинку дивана, тут же погрузилась в чтение. Похоже, читала она запоем. Мне еще сильнее захотелось узнать, что это за книга, но спросить название я постеснялся.
Мариэ и я, как и в прошлый раз, расположились в паре метров друг напротив друга. Только теперь передо мной стоял мольберт с холстом, но время кистей и красок пока не пришло. Я попеременно смотрел то на девочку, то на чистый холст и размышлял, как перенести ее облик на него объемно. Ведь для этого требуется некая история. Банальное копирование – не творчество: тогда у меня получится удачный портрет, но никак не произведение искусства. Мне же предстояло не просто перенести ее облик на холст как есть, а именно отыскать ту историю, что должна быть там отображена. И это станет для меня важной отправной точкой.
С высоты своего табурета я долго смотрел на лицо Мариэ Акигавы, которая сидела на стуле из столовой. Она не отводила глаз и почти не моргала в ответ на мой взгляд. Смотрела на меня она не вызывающе, но в ее глазах читалось решительное «не отступлю». Правильные, буквально кукольные черты лица, как правило, создавали у людей ошибочное впечатление, но характер у девочки был крепкий, в ней чувствовался стержень. Такая неколебимо пойдет своим путем, ее с него не собьешь.
Если присмотреться, было в ее взгляде нечто от Мэнсики. Это я ощущал и прежде, но сейчас это сходство поразило меня вновь. Странный блеск ее глаз – его так и подмывало назвать «оледеневшим пламенем», – пылкий и одновременно всецело спокойный, напоминал какой-то драгоценный камень, что мерцает сам в себе. Во взгляде этом остро сталкивались две силы: он искренне звал к открытости и был направлен внутрь, как бы стремясь к завершенности.
Однако подобная трактовка вполне могла возникнуть у меня и после недавнего признания Мэнсики в том, что девочка, возможно, – его родная дочь. А раз такая связь существует, возможно, я неосознанно стараюсь обнаружить и нечто схожее между ними.
Так или иначе, мне предстояло изобразить на портрете эту изюминку ее взгляда. Саму суть выражения ее лица, нечто, приоткрывающее потайную дверку всей ее внешности – вот что важно. Однако я пока не мог отыскать тот контекст, какой мог бы вписать в ее портрет. Не постараюсь это сделать – выйдет лишь холодная стекляшка, а не самоцвет. Мне же нестерпимо хотелось узнать, откуда взялся тот источник тепла у нее во взгляде и куда он устремлен.
Минут пятнадцать я смотрел то на холст, то на лицо девочки, а после оставил эту затею. Отодвинув мольберт в сторону, я несколько раз глубоко вдохнул.
– Давай поговорим, – произнес я.
– Давайте, – ответила Мариэ. – О чем?
– Хочу побольше о тебе узнать – если, конечно, ты не против.
– Например?
– Скажем, твой отец – он какой?
Мариэ слегка скривилась.
– О папе я мало что знаю.
– Редко беседуете?
– Да и видимся не часто.
– Наверное, занят работой?
– Я не знаю, чем он там занят, – ответила Мариэ. – По-моему, он мною просто не интересуется.
– Не интересуется?
– Потому и бросил меня на тетю.
Я ничего на это не ответил.
– А маму ты помнишь? Тебе ведь было шесть лет, когда она умерла.
– Мама мне вспоминается какими-то обрывками.
– В смысле?
– Слишком быстро ушла она из моей жизни. Я тогда еще не понимала, что значит «человек умирает», поэтому считала, что ее просто не стало. Как дыма, ускользнувшего в щель. – Мариэ помолчала, а затем продолжила: – Вот только не стало ее так внезапно, что я никак не могла взять в толк, почему это случилось. Поэтому мне и трудно вспомнить, что было до, а что после ее смерти.
– Тебе, видимо, пришлось нелегко?
– То время, когда мама была, и то, когда ее не стало, словно бы разделилось высокой стеной – и вместе эти половинки уже не сойдутся, – помолчав, сказала Мариэ и прикусила губу. – Понимаете меня?
– Надеюсь, что да, – ответил я. – По-моему, я рассказывал в прошлый раз про мою младшую сестру, которая умерла, когда ей было двенадцать?
Мариэ кивнула.
– У нее был врожденный порок сердца. Ей сделали сложную операцию, все прошло успешно. Но недуг почему-то остался, а это – как жить с бомбой в теле. Поэтому у нас в семье все были готовы к худшему, всегда. Иными словами, это не стало для нас градом с ясного неба, как было с твоей мамой.
– Градом?
– Так говорят – «град с ясного неба», – сказал я. – Когда в погожий день внезапно сыплет град. Ну, то есть неожиданно происходит то, чего даже не предполагали.
– Град с ясного неба… – повторила она. – Какие там иероглифы?
– Ясное небо – «голубой» и «небо». Град – сложные, я сам не помню. Ни разу не писал. Посмотри в словаре, как вернешься домой, если хочешь.
– Град с ясного неба, – еще раз повторила она. Эта фраза словно заняла выдвижной ящичек в ее голове.
– Как бы там ни было, мы в определенной мере представляли, что́ может случиться. Но на самом деле, когда у сестры внезапно случился приступ, и она в тот же день умерла, никакая наша готовность не пригодилась. Меня буквально подкосило. Да и не только меня – всю семью.
– После у вас внутри, наверное, много что переменилось?
– Да, после этого – и внутри, и вокруг меня многое переменилось совершенно. Даже время потекло иначе. Как ты верно подметила, все разделилось надвое так, что половинкам уже никогда не сойтись.
Мариэ секунд десять пристально смотрела на меня, затем сказала:
– Сестра была вам очень дорога?
Я кивнул.
– Да, очень.
Мариэ Акигава опустила взгляд и о чем-то крепко задумалась. После чего вновь посмотрела на меня и произнесла:
– Из-за этого барьера в памяти я не могу толком вспомнить маму. Какой она была, как выглядела, что мне говорила. Отец мне тоже о ней почти ничего не рассказывает.
Мне известны о матери Мариэ Акигавы лишь мельчайшие подробности того, как Мэнсики переспал с ней в последний раз. Он же сам рассказывал мне о том страстном соитии на диване в у него в кабинете, которое, вероятно, и привело к зачатию Мариэ. Но об этом, разумеется, девочке не сообщишь.
– Но ты хоть что-то о ней помнишь? Ведь до шести лет вы прожили вместе.
– Только запах.
– Запах маминого тела?
– Нет, не тела – дождя.
– Запах дождя?
– Тогда шел дождь. До того сильный, что было слышно, как капли бьют по земле. А мама шла по улице, не раскрывая зонтика. Я тоже шла под дождем, держа ее за руку. Кажется, было лето.
– То был, значит, летний ливень?
– Скорее всего. И стоял такой запах, когда первые крупные капли дождя лупят по раскаленному солнцем асфальту. Вот его я и запомнила. Место было чем-то вроде смотровой площадки на горе, и мама пела песню.
– Какую?
– Мелодия вылетела у меня из головы, а слова… слова я помню. «На той стороне реки лежит луг. Там все залито ярким солнцем, а здесь беспросветный нудный дождь». Что-то вроде. Вам доводилось ее слышать, сэнсэй?
Такой песни я не припоминал.
– По-моему, нет.
Мариэ Акигава слегка пожала плечами:
– Я спрашивала у разных людей, но эту песню не слышал никто. Интересно, почему? Может, я ее сама придумала?
– Или же мама прямо там сочинила ее. Для тебя.
Мариэ подняла на меня глаза и улыбнулась.
– Такое мне даже в голову не приходило. Но если это правда, до чего же это прекрасно.
И тут я впервые увидел, как она улыбается. Та улыбка была будто яркий луч, что прорвался сквозь толщу туч и осветил какой-то особый клочок земли.
Я спросил у Мариэ:
– Если туда вернуться, ты сможешь узнать это место? Смотровую площадку на горе?
– Пожалуй, да, – ответила Мариэ. – Не уверена, но, пожалуй, вспомню.
– Прекрасно, что ты хранишь в себе ту сцену, – сказал я.
Мариэ просто кивнула.
Затем какое-то время мы вместе наслаждались птичьим щебетом. За окном высилось безоблачное осеннее небо. Мы думали каждый о своем.
– Вон та картина, что стоит лицом к стене, – это что? – первой нарушила молчание Мариэ.
Девочка показывала на тот портрет, что написал – вернее, попытался, «Мужчина с белым „субару форестером“». Чтобы не смотреть на этот холст, я прислонил его к стене да так и оставил.
– Начатая картина. Собирался нарисовать одного человека. Но отложил на потом.
– Покажете?
– Покажу. Хотя она не окончена.
Я развернул картину и поставил на мольберт. Мариэ поднялась со стула, подошла и, скрестив на груди руки, принялась ее рассматривать. В ее глазах опять вспыхнул тот резкий блеск, а губы плотно сжались едва ли не в прямую линию.
Тот портрет я начал писать лишь в красных, зеленых и черных тонах, и мужчина, который должен был занять там свое место, отчетливо еще не проступил на холсте. Сама фигура его, набросанная углем, теперь скрывалась под красками. Он сам отказался воплощаться далее, но я понимал, что он где-то здесь. Я улавливал самую его суть – так невод охватывает рыбу, не видимую в пучине моря. Я стремился найти способ вытащить этот невод, а мужчина мне мешал. Пока мы с ним так препирались, работа над картиной приостановилась.
– И на этом вы бросили? – спросила Мариэ.
– Ну да. И дальше наброска продвинуться не могу.
Мариэ тихо сказала:
– Но даже и так портрет выглядит вполне законченным.
Я встал рядом с девочкой и заново взглянул на холст. Неужели ей виден облик скрытого в этом мраке мужчины?
– То есть ты считаешь, что лучше ничего уже не добавлять?
– Ага. Мне кажется, можно все оставить, как есть.
Я сглотнул слюну. Ее устами со мною будто говорил сам мужчина с белым «субару»: Оставь картину, как есть, не вздумай ничего добавлять.
– Почему ты так думаешь? – спросил я.
Мариэ ответила не сразу. Сосредоточенно посмотрев на картину еще сколько-то, она отняла руки от груди и прижала их к щекам – словно пыталась их остудить. После чего сказала:
– В ней и так достаточно силы.
– Достаточно силы?
– Мне так кажется.
– И сила эта не слишком добрая?
Мариэ на это ничего не ответила – лишь продолжала держаться ладонями за щеки.
– Сэнсэй, а вы хорошо знаете этого мужчину?
Я покачал головой:
– Нет. Признаться, я о нем не знаю ничего. Случайно встретился с ним не так давно, пока путешествовал, в каком-то городке в глуши. Мы с ним даже не разговаривали, и я не знаю, как его зовут.
– Добрая это сила или нет – непонятно. Наверное, может быть то хорошей, то плохой, ведь все выглядит иначе под разными углами.
– Но ты считаешь, что ее лучше не воплощать на холсте?
Она посмотрела мне в глаза.
– Если воплотить, а она окажется недоброй, – как с ней быть? Вдруг она и сюда дотянется…
А ведь она права, подумал я. Если сила эта окажется совсем не доброй, если она будет злой и дотянется до сюда… как мне с ней быть?
Я снял картину с мольберта, развернул к стене и поставил на прежнее место. Царившее в мастерской напряжение словно бы мигом улетучилось.
Пожалуй, будет лучше хорошенько упаковать эту картину и отнести на чердак, подумал я. Примерно так же, как Томохико Амада убрал с глаз долой свою.
– Ладно, а что скажешь об этой картине? – спросил я, показывая на стену, где висело «Убийство Командора».
– Эта мне нравится, – не колеблясь, ответила Мариэ. – Кто ее нарисовал?
– Томохико Амада, хозяин этого дома.
– Эта картина к чему-то зовет. Такое чувство, будто птица хочет вырваться из тесной клетки на волю.
Я посмотрел на девочку.
– Птица? Какая еще птица?
– Какая птица, какая клетка – я не знаю. Ни образа, ни облика их я разобрать не могу, только чувствую. Пожалуй, эта картина для меня слишком сложная.
– Не только для тебя. Для меня, по-моему, тоже. Но как ты верно подметила, автор перенес на холст свое сильное стремление донести что-то людям. Это и я ощущаю, вот только никак не могу догадаться, что именно он хотел сказать.
– Кто-то кого-то убивает. Из страсти.
– Так и есть. Молодой мужчина, решившись, пронзает мечом грудь другого. А тот, в свою очередь, обескуражен тем, что его убивают. Окружающие, затаив дыхание, следят за происходящим.
– А справедливое человекоубийство – такое бывает?
Я задумался.
– Не знаю. Тут все зависит от выбора нормы – что справедливо, а что нет. Взять, к примеру, смертную казнь. В мире немало людей, считающих ее справедливым убийством. – Или же политическое покушение, подумал я.
Мариэ, немного подумав, сказала:
– Но эта картина не вызывает мрачных чувств, хотя на ней убивают и пролито много крови. Она будто куда-то манит. Туда, где нет нормы справедливости.
В тот день я за кисть больше не брался. В залитой солнцем мастерской мы просто болтали с Мариэ, и у меня в памяти откладывалось, как меняется у нее мимика, как девочка жестикулирует. Этот запас памяти и станет для меня плотью и кровью портрета, который мне предстоит написать.
– Сэнсэй, вы сегодня ничего не нарисовали, – сказала Мариэ.
– Бывают и такие дни, – ответил я. – Время чего-то нас лишает, но еще и что-то дает. Очень важно ладить со временем – чтобы оно оставалось за тебя.
Мариэ, ничего не говоря, просто посмотрела мне в глаза. Так заглядывают в дом, прижав лицо к стеклу. Видимо, она думала о смысле времени.
В полдень раздался обычный гудок, и мы с Мариэ вышли из мастерской в гостиную. Там Сёко Акигава, как и раньше, в очках в черной оправе увлеченно читала толстую книжку. Она так ею увлеклась, что, кажется, даже не дышала.
– Что за книгу вы читаете? – не выдержав, спросил я.
– Сказать вам правду, на мне что-то вроде сглаза, – улыбнувшись, ответила она, вложила закладку между страницами и закрыла книгу. – Скажу кому-нибудь, как называется книга, которую я читаю, и все – почему-то не могу дочитать ее до конца. Как правило, тогда случается что-нибудь непредвиденное, и я дальше читать не могу. Странно, но так и есть. Поэтому я для себя решила никому не говорить, что я читаю, пока не закончу. А тогда с радостью вам скажу.
– Конечно, мне же не к спеху. Просто вы так увлеченно читаете, что мне самому стало интересно.
– Это очень интересная книга, невозможно оторваться. Поэтому я решила читать ее только здесь – так два часа пролетают незаметно.
– Тетя очень много читает, – сказала Мариэ.
– Мне больше заняться нечем, и чтение теперь – стержень всей моей жизни, – сказала Сёко Акигава.
– Вы не работаете? – спросил я.
Она сняла очки и, разглаживая пальцем легкую складку между бровей, ответила:
– Примерно раз в неделю я добровольно помогаю в местной библиотеке. А прежде работала в Токио в частном мединституте – секретарем ректора. Но, переехав сюда, ту работу оставила.
– Вы переехали сюда после смерти матери Мариэ?
– Тогда я собиралась пожить с ними недолго, пока все не уляжется. Но, приехав и проведя какое-то время с Мариэ, я поняла, что так просто отсюда мне уже не выбраться. С тех пор так здесь и живу. Разумеется, если мой брат решит опять жениться, я тут же вернусь в Токио.
– Тогда я тоже с тобой уеду, – сказала Мариэ.
Сёко Акигава лишь учтиво улыбнулась, а от слов воздержалась.
– Если не возражаете, может, пообедаем вместе? – спросил я у них. – Салат и спагетти я могу приготовить быстро.
Сёко Акигава, разумеется, замялась, а вот Мариэ мысль пообедать втроем очень заинтересовала.
– А можно? Все равно же домой вернемся – а отца там нет.
– Мне никакого труда это не составит, еда очень простая. Соуса я наготовил много, сварю все быстро хоть на одного, хоть на троих, – ответил я.
– Мы в самом деле вам не помешаем? – с подозрением переспросила Сёко Акигава.
– Конечно, нет, не переживайте. А то я вечно здесь один ем, по три раза в день. Иногда хочется пообедать в компании для разнообразия.
Мариэ посмотрела на тетю.
– Хорошо, тогда мы принимаем приглашение, – согласилась Сёко Акигава, но добавила: – Вы уверены, что не помешаем?
– Нисколько, – заверил ее я. – Чувствуйте себя как дома.
И мы втроем перешли в столовую. Они сели за стол, я же на кухне вскипятил воду, разогрел на сковороде соус со спаржей и беконом, сделал салат из латука, помидора, репчатого лука и сладкого перца. Когда закипела вода, положил в кастрюлю пасту и, пока она варилась, мелко нарезал сельдерей. Достал из холодильника холодный чай, разлил по стаканам. Гостьи удивленно наблюдали, как энергично я хлопочу на кухне. Сёко Акигава предложила свою помощь, но делать было нечего, и я отказался.
– Как у вас слаженно все получается, – восхищенно произнесла она.
– Ну, если заниматься этим изо дня в день…
Готовить мне не в тягость. Я всегда любил делать что-нибудь руками – готовить еду, плотничать, ремонтировать велосипеды, ухаживать за садом. Слабое место у меня – абстрактное и математическое мышление. Шахматы, головоломки и подобные им интеллектуальные игры напрягают мой незатейливый мозг.
Затем мы уселись за стол и принялись за еду. Получился беззаботный воскресный обед посреди ясного осеннего дня. К тому же Сёко Акигава оказалась идеальной застольной собеседницей – с широким кругозором, тонким чувством юмора, интеллигентная и общительная. За столом она держалась изящно и без лишней напыщенности, сразу видно: женщину эту воспитали в приличной семье и обучали в хорошей и дорогой школе. Мариэ же почти не говорила – доверив разговоры тете, она сосредоточилась на еде. Сёко Акигава попросила поделиться с ней рецептом соуса.
Когда мы уже почти все доели, в прихожей раздался бодрый звонок. Легко было предположить, кто это мог звонить. Чуть раньше мне послышался едва различимый рокот мотора «ягуара» – эта машина звучала совсем не так, как шуршала «тоёта приус», и звук вклинился где-то между моим сознанием и бессознательным. Поэтому звонок в дверь отнюдь не застал меня врасплох, точно «град с ясного неба».
Извинившись, я отложил салфетку и, оставив женщин в столовой, направился в прихожую. Понятия не имея, что будет дальше.
34
Если подумать, за последнее время я ни разу не проверил давление
Отворив дверь, я увидел на пороге Мэнсики. Он был в шерстяной фуфайке с мелким изящным узором и твидовом голубовато-сером пиджаке. Парусиновые брюки у него были бледно-горчичными, замшевые туфли – светло-коричневыми, и вся одежда, как обычно, выглядела на нем ладно, а пышные белые волосы переливались в лучах осеннего солнца. Позади Мэнсики виднелся его серебристый «ягуар» рядом с ярко-синей «тоётой приус». Две эти машины, стоявшие бок о бок, напомнили мне человека с кривыми зубами, смеющегося во весь рот.
Я жестом пригласил Мэнсики войти. Его лицо от напряжения выглядело окаменевшим, словно недосохшая штукатурка. Таким я его видел, разумеется, впервые – прежде он никогда не проявлял чувства, стараясь выглядеть сдержанным и хладнокровным. Даже проведя некогда целый час в кромешной темноте склепа, он не изменился в лице. А вот сегодня он был очень бледен, будто мертвец.
– Ничего, если я войду? – спросил он.
– Разумеется, – ответил я. – Мы как раз обедали, но уже заканчиваем. Проходите, будьте добры.
– Я не хотел бы вас беспокоить за едой, – сказал он, почти машинально кинул взгляд на часы и бессмысленно впился глазами в стрелки, будто те двигались как-то несогласованно.
Я сказал:
– Мы скоро закончим, а еда у нас очень простая. Потом можем вместе выпить кофе. Подождите, пожалуйста, в гостиной – там я вас и представлю.
Мэнсики покачал головой.
– Нет, знакомить нас пока рановато – я здесь вовсе не ради знакомства. Я заглянул к вам, посчитав, что они уже уехали. Но когда увидел, что перед домом у вас стоит незнакомая машина, даже не знаю, как мне быть…
– Это как раз удачно, – перебил его я. – Все получилось естественно, я сам все устрою.
Мэнсики кивнул и принялся снимать обувь. Но выглядело так, будто он толком и не знает, как это делают. Дождавшись, когда он справится с этой трудной задачей, я проводил его в гостиную. Хоть он и бывал здесь прежде – с любопытством обвел взглядом комнату, словно видел ее впервые в жизни.
– Подождите, пожалуйста, – попросил я и легонько положил руку ему на плечо. – Присаживайтесь и чувствуйте себя как дома. Думаю, минут через десять мы закончим.
Оставив Мэнсики дожидаться, я, несколько волнуясь, вернулся в столовую. Пока меня не было, мои гостьи уже доели, и вилки их теперь покоились на тарелках.
– У вас гость? – встревоженно спросила Сёко Акигава.
– Да, но не беспокойтесь. Неожиданно заглянул один хороший знакомый – он живет здесь неподалеку. Подождет в гостиной – и не волнуйтесь, он не требует к себе внимания. Так что я пока доем.
На тарелке у меня оставалось немного, и справился я быстро. Пока гостьи убирали со стола посуду, я приготовил кофе.
– Давайте перейдем в гостиную и выпьем кофе там вместе, – предложил я Сёко Акигаве.
– Но у вас же гость. Мы разве не помешаем?
Я покачал головой.
– Ничего подобного. На самом деле все складывается как нельзя удачнее – я вас заодно и познакомлю. Живет он хоть и близко, но на другом склоне лощины, так что вы его, наверное, не знаете.
– Как его зовут?
– Господин Мэнсики. «Мэн» как в слове «права» и «сики» как в «сочетании цветов».
– Редкое имя, – произнесла Сёко Акигава. – Мэнсики. Прежде не доводилось его слышать. Действительно, на другой стороне лощины – вроде и близко, но совсем не рядом.
Мы поставили на поднос четыре чашки кофе, сахар и сливки и понесли все это в гостиную. А когда вошли, Мэнсики там, к моему изумлению, не оказалось. Гостиная была пуста. На террасе его тоже не было. И я сомневался, что он скрылся в ванной.
– Куда он делся? – воскликнул я, ни к кому не обращаясь.
– А он был здесь? – спросила Сёко Акигава.
– Только что.
Я сходил в прихожую – его замшевых туфель там тоже не было. Надев сандалии, я открыл входную дверь и выглянул на улицу. Серебристый «ягуар» стоял на прежнем месте – значит, домой уехать Мэнсики не мог. Лобовое стекло машины ослепительно отражало солнечный свет, и понять, есть ли кто внутри, мне не удалось. Я подошел к машине: Мэнсики сидел за рулем и явно что-то искал. Я слегка постучал по стеклу. Он открыл окно и смущенно посмотрел на меня.
– Что с вами, Мэнсики-сан?
– Подумал измерить давление в шинах, но отчего-то не могу найти манометр. Всегда возил его в салоне.
– Это необходимо сделать прямо здесь и сейчас?
– Нет, в общем-то, не обязательно. Просто пока я у вас сидел, меня вдруг стало беспокоить давление в шинах. Если подумать, за последнее время я ни разу его не проверил.
– Но с колесами ведь все нормально?
– Да, колеса в полном порядке. Как обычно.
– Тогда, может, оставим давление в шинах на потом и вернемся в гостиную? Я приготовил кофе. К тому же дамы ждут.
– Ждут? – хрипло спросил Мэнсики. – Ждут – меня?
– Я сказал им, что вас познакомлю.
– Вот беда, – сказал он.
– Почему?
– Я еще не готов знакомиться. В душе не готов.
В его взгляде читались страх и растерянность – как у человека, которому велели прыгать из горящего здания на спасательный мат, больше похожий с высоты шестнадцатого этажа на бирдекель.
– Нам лучше вернуться, – отрывисто произнес я. – Ничего особенного в этом нет.
Мэнсики, ничего не ответив мне, кивнул, выбрался из машины и захлопнул дверцу. Хотел было заблокировать двери, но понял, что надобности в этом нет – дом стоит на вершине горы, сюда никто не ходит, – и положил ключи в карман парусиновых брюк.
Тетя с племянницей ждали нас в гостиной. Едва мы вошли, обе они учтиво поднялись с дивана. Я кратко представил им Мэнсики – просто и вежливо.
– Господину Мэнсики тоже приходилось мне позировать. Я писал его портрет, и оказалось, что живем мы неподалеку. С тех пор и общаемся.
– Я слышала, вы живете на вершине горы напротив? – спросила Сёко Акигава.
Стоило заговорить о доме, как Мэнсики прямо на глазах побледнел.
– Да, я там поселился несколько лет назад… Сколько уже? Года три? Нет, пожалуй, четыре.
Он посмотрел на меня так, будто вопрос задали мне, но я ничего не ответил.
– Ваш дом отсюда видно? – спросила Сёко Акигава.
– Да, – ответил Мэнсики и тут же добавил: – Но дом так себе, да и жить на горе неудобно.
– В смысле неудобств наш дом ничем не лучше, – дружелюбно подхватила Сёко Акигава. – Выбраться за покупками – целая история, сигнал на сотовом слабый, радиоволны с помехами. К тому же склон крутой: стоит пойти снегу – сплошь гололед, да такой, что страшно выезжать на машине. К счастью, это за все время случилось только раз, лет пять назад…
– Да, а снега здесь почти не бывает, – сказал Мэнсики. – Из-за теплого ветра с моря. Как ни крути, климат-то у нас морской, так что…
– В общем, хорошо, что зимой снега нет, – перебил я Мэнсики. Было ясно, что ему трудно, и если б я не вмешался, он бы продолжил свой монолог вплоть до объяснения Эль-Ниньо.
Мариэ Акигава попеременно смотрела на тетушку и Мэнсики. Похоже, какого-то особого впечатления о моем соседе она пока не составила. Тот же и вовсе не смотрел на девочку, а не сводил взгляда с ее тети, словно его сразила ее красота.
Тогда я сказал, обратившись к Мэнсики:
– Дело в том, что я недавно взялся писать портрет этой юной леди.
– А я по воскресеньям вожу ее сюда, – добавила Сёко Акигава. – Мы тоже соседи, но чтобы добраться сюда, приходится делать изрядный крюк.
Мэнсики наконец-то посмотрел прямо на Мариэ. Однако глаза его, стараясь зацепиться хоть за что-нибудь у нее на лице, беспокойно метались, словно неугомонные зимние мухи, не знающие, куда присесть. Найти эту зацепку он так и не смог.
И тогда я, словно протягивая спасительную соломинку, достал эскизник.
– Вот те наброски, что я пока что сделал. За сам портрет мы пока не принимались.
Мэнсики долго всматривался в три листка – будто вгрызался в них глазами, словно ему было куда важнее видеть перед собой не саму Мариэ, а ее изображения. Но это, конечно же, было не так – он просто не мог заставить себя посмотреть прямо на девочку. Рисунок попросту служил заменой. Мэнсики впервые оказался так близко от девочки и не мог держать себя в руках. А Мариэ Акигава наблюдала за суетой на лице Мэнсики, будто видела перед собой какую-то редкую зверушку.
– Прекрасно, – воскликнул Мэнсики и, посмотрев на Сёко Акигаву, добавил: – Во всех рисунках бьется жизнь и характер передан точно.
– Да, я с вами согласна, – просияв, ответила Сёко Акигава.
– Вот только Мариэ – отнюдь не простая модель, – сказал я Мэнсики. – Рисовать ее очень трудно. Лицо у нее постоянно меняется, и нужно время, чтобы уловить его суть. Вот поэтому я и не могу пока приступить к самому портрету.
– Трудно, значит? – переспросил он и, прищурившись так, будто перед ним нечто ослепительное, посмотрел на Мариэ. Я сказал:
– На каждом из этих трех рисунков выражение лица очень сильно разнится. Стоит чему-нибудь в нем измениться, и общее впечатление совершенно меняется. Чтобы нарисовать Мариэ на одном холсте, необходимо отразить не только поверхностные вариации, но и саму эмоциональную ее суть. Если этого сделать не получится, в портрете отразится лишь грань целого.
– Вот как? – восхищенно воскликнул Мэнсики и, взяв в руки рисунки, принялся сравнивать их с оригиналом, а на его бледное лицо тем временем постепенно начал возвращаться румянец. Сначала – как маленькие точки, которые вскоре выросли до размера шариков для пинг-понга, а затем наконец покрыли все лицо. Мариэ с интересом наблюдала, как у собеседника меняется цвет. Сёко Акигава вовремя отвернулась, чтобы не показаться беспардонной. Я поспешно стал наливать себе кофе.
– На следующей неделе берусь за портрет. В смысле – красками и на холсте, – сказал я, чтобы заполнить тишину, при этом – скорее себе самому.
– Композицию уже продумали? – спросила тетушка.
Я покачал головой:
– Нет еще. Пока не встану перед холстом с кистью в руке, ничего в голову мне и не придет.
– Так вы писали портрет господина Мэнсики? – спросила у меня Сёко Акигава.
– Да, где-то с месяц тому назад, – ответил я.
– Прекрасный вышел портрет, – энергично подтвердил Мэнсики. – Пока краски не высохнут, в раму я его не вставлял, а просто повесил на стену в кабинете. Правда, я считаю, что слово «портрет» здесь не совсем уместно: при том, что на картине нарисован я, там – не я. Как бы точнее выразиться? Это очень глубокая картина. Сколько ни смотрю, не могу на нее наглядеться.
– Притом вы сказали, что вы там – это не вы? – спросила Сёко Акигава.
– Я к тому, что это не портрет в обычном смысле слова, а произведение гораздо глубже обычных картин.
– Хочу посмотреть, – заявила Мариэ. Это было первое, что она произнесла после того, как мы перешли в гостиную.
– Но, Мариэ, так неприлично! Напрашиваться в гости в чужой…
– Я ничуть не возражаю, – перебил ее тетю Мэнсики, словно обрубил острым топориком концовку ее фразы. От его резкости все – включая его самого – на миг опешили. А он, выдержав паузу, продолжал: – Тем более что живете вы неподалеку. Непременно приезжайте ко мне посмотреть картину. Я живу один, поэтому стесняться нечего – я готов вас принять в любое удобное время.
И, сказав это, Мэнсики покраснел. Возможно, сам уловил в своей фразе нотки излишней настойчивости.
– Мариэ, а тебе нравятся картины? – обратился он теперь к девочке уже обычным своим голосом.
Мариэ молча кивнула. Тогда Мэнсики продолжил:
– Если вы не против, в следующее воскресенье примерно в это же время я за вами сюда заеду. И мы съездим ко мне, посмотрите картину. Что вы на это скажете?
– Нам бы не хотелось вас беспокоить… – попыталась было отказаться тетушка.
– Я хочу увидеть ту картину, – на сей раз категорично заявила Мариэ, и тон ее не терпел возражений.
Условились, что ровно через неделю Мэнсики приедет сюда после полудня и встретит гостей. Меня тоже пригласили, но я, сославшись на дела, вежливо отказался, не желая быть причастным к этому больше, чем и так впутался: пусть уж теперь эти трое разбираются между собой сами. Что бы там ни произошло, мне хотелось бы по возможности остаться в стороне. Ведь я лишь связующее звено – хотя изначально не стремился быть и им.
Чтобы проводить тетю с племянницей, засобиравшихся домой, мы с Мэнсики вышли на улицу. Сёко Акигава с интересом рассматривала «ягуар», запаркованный рядом с ее «приусом». Таким взглядом чужих псов оценивают настоящие собаководы.
– Это же самая новая модель? – спросила она у Мэнсики.
– Да. Пока что самый новый купе «ягуара». А вам нравятся машины? – поинтересовался он в ответ.
– Нет, дело не в этом. Просто у моего покойного отца был седан «ягуар». Отец часто брал меня с собой, иногда давал порулить. Вот мне и щемит сердце всякий раз, как вижу на радиаторе знакомую фигурку. Как там говорил отец – вроде «экс-джей-6» у нас был? С четырьмя круглыми фарами. Двигатель – рядная шестерка на 4,2 литра.
– Третья серия. Да, очень красивая модель.
– Отцу она нравилась, поэтому не менял он ее очень долго. Хотя раз за разом роптал на вечные мелкие неисправности и жуткий расход топлива. Но все равно…
– Та модель жрала бензин особенно – да и наверняка электрика подводила. Это место у «ягуаров» традиционно слабое. Однако если бегала она без крупных поломок и если не замечать расход топлива, в целом машина замечательная. Салон удобный, реагирует плавно – не машина, а мечта. Конечно, подавляющее большинство людей на свете поломки и расход топлива беспокоят, поэтому «тоёты приусы» и идут нарасхват.
– Эту машину мне брат купил, сама я ее не выбирала, – будто оправдываясь, произнесла Сёко Акигава, показывая на свою машину. – Сказал, что удобная в управлении, безопасная и наносит не столько вреда окружающей среде.
– «Приус» – выдающаяся машина. Если честно, я сам серьезно подумывал купить такую же.
Да неужели? – мысленно усомнился я, не в силах представить Мэнсики за рулем «тоёты приус». Это все равно что представить леопарда, который в ресторане заказывает салат «Нисуаз».
Заглянув в салон, Сёко Акигава спросила:
– Извините за несуразную просьбу, но можно я немножко посижу у вас в машине? Хочу ощутить себя за рулем.
– Разумеется, – сказал Мэнсики и слегка откашлялся, чтобы голос предательски не звенел. – Сидите, пожалуйста, сколько душе угодно. Можете даже прокатиться, если желаете.
Я не ожидал, что «ягуар» Мэнсики настолько ее заинтересует. Стильная, уравновешенная женщина – ничто в ней не выдавало фанатика автомобилей. Но теперь Сёко Акигава с горящими глазами села в «ягуар», откинулась на спинку кожаного сиденья кремового цвета, внимательно окинула взглядом приборную панель и положила руки на руль. Затем опустила левую ладонь на рычаг переключения скоростей. Мэнсики достал ключ от машины из кармана парусиновых брюк и протянул ей.
– Заведите, если желаете.
Сёко Акигава молча приняла ключ, вставила его сбоку от руля в зажигание и повернула по часовой стрелке. Огромная дикая кошка вмиг очнулась. Тетушка некоторое время рассеянно прислушивалась к приглушенному рокоту мотора.
– Кажется, где-то я уже слышала этот звук? – сказала она.
– V-образная восьмерка на 4,2 литра. У «экс-джей-6», на котором ездил ваш отец, цилиндров шесть, количество клапанов и компрессия отличаются, но звук наверняка был схож. В смысле необдуманного уничтожения ископаемого сырья в огромных количествах это все такой же преступный агрегат.
Сёко Акигава включила правый поворотник. Раздался характерный бодрый щелчок.
– Как мило! Этот звук – какой родной.
Мэнсики улыбнулся.
– Такой только у «ягуаров», да. Отличается от любых других поворотников.
– В молодости, чтобы получить права, я тайком училась ездить на «экс-джей-6», – сказала тетушка. – Ручник там немного отличается, и когда я впервые села на другую машину – сильно растерялась. Совсем не знала, что мне делать.
– Прекрасно вас понимаю, – вновь улыбнулся Мэнсики в ответ. – Англичане – большие затейники во всяких мелочах.
– А вот в салоне запах немного не такой, как был у отца.
– К сожалению, вероятно, да. Материалы для отделки по самым разным причинам не могли оставаться теми же, что и раньше. Особенно после того, как в 2002 году компания «Коннолли» перестала поставлять кожу, запах в салоне очень изменился. А сама компания прекратила свое существование[1].
– Какая жалость! Мне так нравился тот запах. Он мне напоминает об отце.
Чуть смутившись, Мэнсики произнес:
– По правде говоря, у меня, кроме этого, есть еще один «ягуар», постарше. Вот тот наверняка пахнет так же, как и машина вашего отца.
– «Экс-джей-6»?
– Нет, «И».
– «И»? Тот самый кабриолет?
– Да. Родстер первой серии, выпущенный в середине шестидесятых. Но бегает он по-прежнему бодро. У него тоже рядная шестерка на 4,2 литра. С двумя родными сиденьями. А вот фордек я заменил на новый, так что в буквальном смысле оригинальным его уже не назовешь.
Я в машинах не разбираюсь и практически не понимал, о чем они говорят, но на Сёко Акигаву вся эта информация, похоже, произвела впечатление. Так или иначе, у меня отлегло от сердца, когда выяснилось, что этих двоих объединяет интерес к «ягуарам», пусть и весьма специфический. Тем самым пропала необходимость придумывать им тему для разговора при первой встрече. Мариэ же интересовалась машинами еще меньше меня и потому слушала беседу этих двоих с нескрываемой скукой на лице.
Сёко Акигава выбралась из «ягуара», захлопнула дверцу и вернула ключ Мэнсики. Тот взял его и вновь положил в карман парусиновых брюк. Затем гостьи сели к себе в синий «приус». Мэнсики закрыл за девочкой дверцу. Я снова поразился, до чего хлопки закрывающихся дверей у этих машин отличаются. Вроде бы один и тот же звук – а сколько в нем отличий. Точно так же мы слышим разницу, если по открытой струне контрабаса хотя бы разок ударит Чарли Мингус или Рей Браун.
– Ну что, до следующего воскресенья? – сказал Мэнсики.
Сёко Акигава, широко улыбнувшись ему, тронулась с места. Едва приземистый зад «приуса» скрылся из виду, мы с Мэнсики вернулись в дом и сели в гостиной допивать остывший кофе. Сколько-то попросту молчали. Казалось, силы оставили Мэнсики, словно стайера, пересекшего финишную черту после изнурительного бега на длинную дистанцию.
– Красивая девочка, – сказал я чуть погодя. – В смысле – Мариэ.
– Да, а подрастет – будет еще краше, – ответил Мэнсики, хотя явно при этом думал о чем-то другом.
– Ну и каково вам было с нею вблизи? – спросил я.
Мэнсики досадливо улыбнулся.
– Признаться, я толком ничего не разглядел – так сильно волновался.
– Но ведь что-то все-таки удалось?
Мэнсики кивнул.
– Конечно.
Затем он на время умолк, после чего поднял на меня взгляд и посмотрел очень серьезно.
– Ну а вам как все это показалось?
– Показалось – что именно?
Лицо Мэнсики опять слегка покраснело.
– Есть что-нибудь общее в наших лицах? Вы же художник – и столько лет профессионально пишете портреты. Кому как не вам в этом разбираться?
Я кивнул.
– Верно. У меня недурной опыт, и я быстро улавливаю особенности лиц. Но все ж не настолько, чтобы определить, родные вы отец и дочь или нет. В мире полно совершенно не похожих друг на друга родителей и детей, и при этом есть довольно много чужих людей, похожих друг на друга как две капли воды.
Мэнсики глубоко вздохнул – такое ощущение, будто всем своим телом. Он зачем-то потер ладони.
– Я не прошу вашей экспертизы – просто хочу узнать ваше личное впечатление. Пусть это даже какие-то мелочи. Если вы заметили хоть что-то – поделитесь со мной, прошу вас.
Я немного задумался, после чего сказал:
– Если говорить о чертах ваших лиц, особого сходства между вами нет. Но мне показалось, что в глазах у вас все-таки есть что-то общее. Причем я ловил себя на этой мысли не единожды.
Он смотрел на меня, крепко сжав рот.
– Значит, глаза у нас похожи?
– Возможно, тем, что взглядом откровенно передаются чувства? Например, любопытство, воодушевление, удивление или же сомнение, протест. Все это едва заметно, однако глаза выдают. Лица у вас обоих не очень выразительны, а вот глаза действительно служат окнами души, как говорится. У других людей все совсем не так: мимика вполне богатая, а вот глаза не такие живые.
Мэнсики, похоже, это удивило.
– И у меня, значит, такие глаза?
Я кивнул.
– Я этого никогда не сознавал.
– При всем желании таким наверняка невозможно управлять. По крайней мере – сознательно сдерживать на лице чувства, когда они проявляются, накапливаясь в глазах. Но если не следить за ними внимательно, ничего не уловишь. Обычный человек вряд ли такое заметит.
– Но вы же смогли.
– Распознавать чувства – можно сказать, моя профессия.
Мэнсики чуть задумался над моими словами, а потом сказал:
– Это у нас с ней, значит, общая черта. Но вот родная она мне дочь или нет, этого вы определить не можете?
– Глядя на человека, я получаю какие-то художественные впечатления и очень их ценю. Однако такое впечатление и объективная реальность – разные вещи. Впечатление ничего не доказывает. Оно как легкая бабочка в потоке ветра, и толку от него почти никакого. Но как же вы сами – не ощутили ничего особенного, увидев ее перед собой?
Он несколько раз качнул головой.
– Что можно понять после единственного короткого взгляда? Для такого времени нужно побольше. Надо привыкнуть быть вместе…
И он снова медленно покачал головой. Засунул руки в карманы пиджака, будто что-то искал в них, но вскоре вынул – точно забыл, что искал. И продолжил:
– Хотя нет – вопрос, конечно, не в количестве раз. Чем больше мы с нею будем встречаться, тем больше нарастать будет смятение, так что вряд ли у меня получится сделать какие-либо выводы. Кто знает? Быть может, она моя родная дочь, а может, и вовсе нет. Теперь уже мне все равно. Главное в том, что, когда я ее вижу, от одной лишь мысли о такой вероятности, от одного касания к гипотезе по мне всему вмиг растекается, пульсируя, новая свежая кровь. И волей-неволей я начинаю задумываться – неужто я понимаю, в чем смысл жизни?
Я молчал. Мне абсолютно нечего было сказать ни о его душевных порывах, ни о его определении смысла жизни. Мэнсики бросил взгляд на тонкие – и по всему виду очень дорогие – наручные часы и неуклюже, будто корчась, поднялся с дивана.
– Я должен вас поблагодарить. Если б не ваша поддержка, я бы в одиночку с этим всем не справился.
Сказав только это, Мэнсики шаткой походкой направился к дверям, неспешно обулся, завязал шнурки, после чего вышел на улицу. Я с крыльца наблюдал, как удаляется его машина. Стоило «ягуару» пропасть из виду, как окрестности опять погрузились в тишину воскресного дня.
Часы показывали начало третьего. Я очень устал, поэтому вытащил из шкафа старое шерстяное одеяло, накинул на себя и прилег на диване вздремнуть. А когда открыл глаза, было уже начало четвертого. Лучи солнца падали в комнату под другим углом. Странный мне выдался день, и я никак не мог для себя понять: двигаюсь я вперед, отступаю назад – или же топчусь на одном месте. У меня словно бы сбилась стрелка компаса. Вот есть Сёко Акигава, есть Мариэ – а еще есть Мэнсики. Каждый излучает особый мощный магнетизм, а посередке, в окружении этой троицы – я. Сам по себе, без каких-то намеков на схожую силу.
Но как бы я ни устал, воскресенье еще не закончилось. Часовая стрелка едва опустилась ниже трех – да и солнце еще высоко. Еще навалом времени, пока воскресенье не канет в прошлое и не настанет новый день, именуемый «завтра». Однако делать ничего не хотелось. Хоть я и вздремнул, голова была словно в тумане. Как будто выдвижной ящик стола битком набит старыми клубками шерсти и теперь плотно не закрывается. Кто же это сделал? Пожалуй, в такие дни и мне самому впору проверять давление в шинах. Если нет настроения что-то делать, стоит заняться хотя бы этим.
Но если задуматься, я отродясь не мерил давление в шинах. Бывало, на заправке мне говорили: «У вас приспущены колеса, неплохо бы замерить давление», – и замеряли сами. Мне, ясно дело, замерять его нечем. Прибор для измерения давления в шинах – я даже не знаю, как он выглядит. Если помещается в багажнике – пожалуй, небольшой и не такой дорогой, чтобы покупать его в рассрочку. Поеду за покупками в следующий раз – пробую раздобыть.
Опустились сумерки. Я пошел на кухню и за банкой пива приготовил себе ужин. Запек в духовке желтохвоста, маринованного в осадке от сакэ[2], нарезал соленья, сделал легкий маринад из огурцов и морской капусты, приготовил суп-мисо с дайконом и обжаренным тофу. И молча съел все это один. Говорить мне было не с кем – да и нужных слов я не находил. И вот, когда я уже доедал свой нехитрый холостяцкий ужин, в прихожей раздался звонок. Видимо, тот, кто звонил, решил это сделать как раз перед тем, как я доем.
Я подумал: «Так, день еще не закончен». Закралось предчувствие, что воскресенье это продлится еще долго. Встав из-за стола, я медленно двинулся в прихожую.
35
То место было бы лучше оставить как есть
Я неторопливо шел в прихожую, не имея понятия, кто звонит мне в дверь. Остановись перед домом машина, я бы ее услышал. Столовая – чуть в глубине дома, однако вечер стоял очень тихий, и если бы подъехала машина, до меня бы наверняка донесся шум мотора, шелест колес – даже очень тихий гибридный мотор «приуса» – гордость «Тоёты». Но я не услышал абсолютно ничего.
И, я уверен, никого бы не привлек подъем по длинному склону без машины, к тому же – в потемках. Дорога здесь почти без освещения – и вокруг ни души. Я живу в отдельно стоящем доме на вершине горы, и у меня нет близких соседей.
Я было подумал: а вдруг это Командор? Но с чего бы? Теперь он может бывать здесь когда и сколько угодно. Зачем ему звонить в дверь?
Даже не проверяя, кто там, я повернул ручку и открыл входную дверь. Там стояла Мариэ Акигава – абсолютно в той же одежде, что и днем, только поверх ветровки с капюшоном у нее был темно-синий тонкий пуховик: после заката в горах становится прохладно, – и в бейсболке «Кливленд Индианз» (почему команда именно Кливленда?). В правой руке она держала большой фонарь.
– Ничего, если я войду? – спросила она. Ни «доброго вам, сэнсэй, вечера», ни «извините за столь поздний визит».
– Ничего. Само собой, – ответил я – и больше ничего не сказал. Ящичек у меня в голове все еще не закрывался плотно: шерстяные клубки застряли в его глубине.
Я проводил девочку в столовую.
– Как раз ужинал. Не возражаешь, если доем? – спросил я.
Она молча кивнула. Обременительных понятий обычной вежливости для этой девочки, похоже, не существовало.
– Чай будешь?
Она опять молча кивнула. Сняла пуховик, бейсболку и поправила волосы.
Я вскипятил чайник и положил в заварник зеленого чая. Все равно собирался пить сам.
Мариэ, поставив локти на стол, смотрела, как я поедал желтохвоста, пил суп-мисо и закусывал все это рисом. Как на диковинку, смотрела – словно, гуляя по джунглям, стала свидетельницей тому, как гигантский питон глотает детеныша барсука, села на камень и принялась наблюдать за происходящим.
– Вот, маринад я делаю сам, – пояснил я, чтобы прервать гнетущее молчание. – Так желтохвост хранится дольше.
Она не подала и виду, что услышала. Впору усомниться – она вообще меня слушает?
– Иммануил Кант вел весьма правильный образ жизни, – произнес я. – Настолько, что горожане сверяли по нему часы, когда философ выходил на прогулку.
Понятное дело, совершенно бессмысленная фраза. Просто мне хотелось проверить, как Мариэ Акигава отреагирует на бессмыслицу – да и вообще, слышит она меня или нет. Но она не отозвалась на это никак, и оттого молчание стало еще тягостнее. Иммануил Кант так и продолжал изо дня в день безмолвно бродить по улицам Кенигсберга. Его последними словами стали: «Это хорошо!» (Es ist gut). Бывают и такие судьбы.
Покончив с едой, я отнес грязную посуду к мойке. После этого заварил чай и вернулся с двумя чашками. Сидя за столом, Мариэ Акигава пристально наблюдала за каждым моим движением – внимательно, словно историк, изучающий мелкие сноски на полях манускрипта.
– Ты же добралась сюда не на машине? – поинтересовался я.
– Пешком, – наконец вымолвила Мариэ Акигава.
– Что, так вот и шла из дома сюда одна?
– Да.
Я молча ждал, что еще она скажет, но девочка молчала. Пока мы сидели за столом друг напротив дружки, висело молчание. Но я мастак соблюдать тишину – недаром живу в одиночестве на вершине горы.
– Есть тайная тропа, – чуть погодя продолжила Мариэ. – На машине по дороге ехать далеко, а так выходит очень близко.
– Я много гуляю по этим местам, но такой тропы не видел.
– Плохо искали, – прямо сказала девочка. – Она надежно спрятана: если просто идти, ее не видно.
– А спрятала, выходит, ты?
Она кивнула.
– Меня привезли сюда еще маленькой. Здесь я и выросла. С детства горы были для меня чем-то вроде песочницы – тут я знаю все от и до.
– И эта тропа, говоришь, надежно спрятана?
Она опять кивнула.
– И ты пришла сюда по ней?
– Да.
Я вздохнул.
– Ты уже ела?
– Только что закончили.
– И что ели?
– Из тети скверная кухарка, – сказала она.
Я не получил ответа на свой вопрос, однако дальше расспрашивать не стал. Может, ей неприятно об этом вспоминать.
– А твоя тетя знает, что ты пришла сюда одна?
Мариэ на это ничего не ответила, лишь крепко сжала губы. Поэтому я решил ответить за нее сам:
– Нет, конечно. Какой нормальный человек отпустит тринадцатилетнюю девочку блуждать в одиночку по горам, да еще и в темноте? Так?
Опять повисло молчание.
– Не знает она и про тайную тропу?
Мариэ покачала головой, что означало: «Не знает».
– И, кроме тебя, про эту тропу не знает никто?
Теперь она кивнула.
– Так или иначе, судя по тому, где находится твой дом, тропа эта должна вести через заросли, где стоит старая кумирня.
Мариэ опять кивнула.
– Я знаю эту кумирню. И знаю, что вы недавно перекопали большим экскаватором каменный курган за ней.
– Ты видела, что там стало?
Мариэ кивнула.
– Я только не видела, как, потому что в тот день была в школе. А когда увидела, от экскаватора остались лишь следы гусениц. Зачем вы это сделали?
– По разным причинам.
– Каким, например?
– Если объяснять с самого начала, получится длинная история, – сказал я и объяснять не стал. Незачем рассказывать ей о причастности Мэнсики.
– Не нужно было там все так перекапывать, – вдруг сказала Мариэ.
– С чего ты это взяла?
Она передернула плечами, как бы пожимая ими.
– То место было бы лучше оставить как есть, тайным. Как это делали все остальные.
– Как это делали все остальные?
– Долгое время там все оставалось нетронутым.
А ведь она, пожалуй, права, подумал я. Возможно, нам не следовало прикасаться к тому месту вообще. Как это, похоже, делали все остальные. Однако что теперь об этом говорить? Каменный курган разобрали, склеп вскрыли, Командор на свободе.
– Постой, а ты часом не снимала крышку с того склепа? – спросил я у Мариэ. – Заглянула внутрь, а потом опять закрыла его и вернула камни на прежние места. Нет?
Мариэ подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза, словно хотела спросить: «А ты почем знаешь?»
– Потому что камни лежали на крышке чуть иначе. Меня никогда не подводит зрительная память – я сразу замечаю малейшую разницу.
– Ого! – восторженно вымолвила она.
– Но под крышкой в склепе ничего не оказалось. Лишь сырой воздух и кромешная тьма. Так?
– Там была лестница.
– Но ты же внутрь не спускалась?
Мариэ мотнула головой, как бы говоря: «Еще чего!»
– Ну и, – опять начал я, – зачем ты явилась сюда так поздно? Это же не просто светский визит?
– Светский визит?
– Ну, проезжала мимо, решила заглянуть и справиться о моем здоровье?
Она задумалась, потом еле заметно покачала головой.
– Нет, это не светский визит.
– Тогда зачем? – спросил я. – Нет, я очень рад видеть тебя гостьей в этом доме. Но если об этом потом узнают твоя тетя или отец, у них на мой счет возникнет заблуждение.
– Какое?
– Мир полон самых разных заблуждений, – сказал я. – Есть и такие, что не укладываются в наше понимание. Глядишь, мне запретят писать твой портрет, а мне это совсем не нужно. Как, впрочем, и тебе.
– Тетя ничего не узнает, – уверенно ответила Мариэ. – Поужинав, я иду к себе в комнату, и тетя туда не заглядывает. Так у нас заведено. Поэтому если тихонько выбраться через окно, никто не заметит. Меня не поймали еще ни разу.
– А ты любишь бродить в горах по ночам?
Мариэ кивнула.
– И не страшно одной? Темно же.
– Есть вещи и пострашнее.
– Например?
Мариэ лишь слегка повела плечами, но так и не ответила. Я поинтересовался:
– С тетей все понятно, а что делает отец?
– Еще не вернулся.
– Это в воскресенье-то?
Мариэ не ответила. Похоже, она не особо хотела распространяться об отце. Вместо этого она сказала:
– Так что можете не переживать. Никто не знает, что я в одиночку гуляю по ночам. А если и узнают, о вас я не скажу никому.
– Хорошо, ты меня успокоила, – сказал я. – Только скажи мне все-таки, зачем ты пришла сюда на ночь глядя?
– Есть один разговор.
– И какой?
Мариэ взяла в руку кружку, тихо сделала глоток горячего зеленого чаю, затем окинула комнату внимательным взглядом, словно убеждаясь, что здесь нет чужих ушей. Разумеется, вокруг никого, кроме нас самих. Конечно, если только Командор не вернулся и прямо сейчас не подслушивает. Я тоже огляделся, однако Командора нигде не было видно. Хотя если он не воплотится, его вообще никто не увидит.
– Я о вашем друге, который приезжал сюда сегодня днем, – сказала она. – С красивой сединой. Как его там? Такое редкое имя.
– Мэнсики.
– Да, точно! Мэн Си Ки.
– Правда, он мне не друг. Я просто недавно с ним познакомился.
– Ну, это не суть, – сказала она.
– И что с ним не так?
Она, прищурившись, посмотрела на меня – и произнесла полушепотом:
– Мне кажется, он что-то замышляет.
– Например, что?
– Этого я не знаю. Но мне кажется, что он сегодня заехал к вам не случайно. Что-то ему здесь было нужно – и ехал он с какой-то конкретной целью.
– С какой-то – это, например, с какой? – осведомился я, уже немного побаиваясь ее наблюдательности.
Не сводя с меня глаз, она ответила:
– Этого я не знаю. А вы?
– Нет, я даже понятия не имею, – соврал я, желая только одного: чтобы Мариэ об этом не догадалась. Ведь лгать я никогда не умел – начну что-нибудь придумывать, а это сразу станет видно по глазам. Хотя рассказать ей всю правду я тоже не мог.
– Что, правда?
– Правда, – ответил я. – Я и предположить не мог, что он сегодня ко мне заглянет.
Мариэ, похоже, поверила. Мэнсики действительно не говорил, что приедет сегодня, и его внезапный визит стал для меня полной неожиданностью. Так что я не соврал.
– У него странные глаза, – сказала Мариэ.
– Странные? Чем же?
– Будто он постоянно что-то замышляет. Они у него – как у волка из «Красной Шапочки». Пусть даже он уляжется в кровать, переодевшись в бабушку, по глазам сразу же понятно, что это волк.
Волк из «Красной Шапочки»?
– То есть у тебя о господине Мэнсики сложилось какое-то негативное впечатление?
– Негативное?
– Ну, в смысле – отрицательное. Тебе показалось, что он может причинить тебе вред. Вроде того.
– Негативное, – повторила она, и это слово тоже словно бы улеглось в ящичек ее памяти, как прежде «град с ясного неба». – Нет, я бы так не сказала. Он не похож на человека с дурными намерениями. Но, я думаю, господин Мэн Си Ки с красивой сединой что-то скрывает.
– Ты так чувствуешь?
Мариэ кивнула.
– Поэтому я и пришла к вам уточнить. Вдруг вы что-то знаете об этом человеке…
– Твоя тетя считает так же? – спросил я, уходя от ее вопроса.
Мариэ слегка покачала головой.
– Нет, тетя так не считает. У нее такой характер, что она не думает ни про кого негативно. К тому же господин Мэн Си Ки ей небезразличен. Конечно, он немного старше, но симпатичный, носит красивую одежду, очень богат, живет один…
– Тете он нравится?
– Думаю, да. Потому что когда она разговаривает с господином Мэн Си Ки – становится вся такая радостная, прямо сияет, и голос у нее делается пронзительным. Сама на себя не похожа. И господин Мэн Си Ки не мог этого не почувствовать.
Я на это ничего не сказал, только подлил нам в чашки свежего чаю и отхлебнул сам.
Мариэ, казалось, обдумывает что-то.
– Вот только как он узнал, что мы сегодня сюда приедем? Это вы ему сказали?
Я осторожно подыскивал слова, чтобы по возможности не врать.
– Мне кажется, господин Мэнсики не собирался встречаться здесь с твоей тетей. Когда узнал, что вы у меня в гостях, – хотел вернуться к себе. Это я его удержал. Он случайно заглянул ко мне, а тут случайно оказалась она. Он увидел ее и заинтересовался. Что в этом невозможного? Твоя тетя – весьма привлекательная женщина.
Я бы не сказал, что полностью убедил Мариэ, но развивать эту тему она не стала – лишь поставила на стол локти и нахмурилась.
– Но как бы то ни было, в следующее воскресенье вы к нему приглашены, – сказал я.
Она кивнула.
– Да, чтобы посмотреть картину, которую нарисовали вы, сэнсэй. И тетя, похоже, спит и видит, как мы поедем домой к господину Мэн Си Ки.
– Тете не помешало бы развлечься – а то живет в безлюдных горах, где даже не с кем познакомиться. Это же не город.
Мариэ плотно сжала губы, а потом сказала, будто признавалась:
– У тети долгое время был любимый человек, с которым она встречалась всерьез. Еще до нашего переезда сюда – когда работала секретарем в Токио. Но у них что-то не заладилось, и она очень переживала, когда они расстались. Еще и поэтому после маминой смерти она переехала сюда и стала жить с нами. Разумеется, все это не она сама мне рассказала.
– И что, теперь она ни с кем не встречается?
Мариэ кивнула.
– Скорее всего, у нее сейчас никого нет.
– И тебя как-то беспокоит, что ее заинтересовал этот мужчина, господин Мэнсики, так? Ты поэтому пришла ко мне за советом?
– Вам не кажется, что он ее просто со-блаз-ня-ет?
– Соблазняет?
– Что у него нет серьезных намерений.
– Откуда мне это знать? – ответил я. – Я ж не настолько хорошо его знаю. Мало того, твоя тетя сегодня с ним только познакомилась, и ничего пока что не произошло. Вообще в амурных делах все незаметно меняется по ходу дела. Бывает, чувства растут как на дрожжах от самых незначительных сердечных порывов, а бывает – и наоборот.
– Но у меня есть предчувствие, – уверенно сказала Мариэ.
Мне показалось – пусть для этого и не было никаких оснований, – что ее предчувствию можно верить. Это, в свою очередь, было и моим предчувствием. Я сказал:
– И ты волнуешься, что, если что-то пойдет не так, у тети опять возникнет душевная рана?
Мариэ еле заметно кивнула.
– Тетя у меня не очень осторожная. И к душевным ранам не привыкла.
– Ты говоришь так, будто не тетя опекает тебя, а ты ее, – произнес я.
– В каком-то смысле, – серьезно ответила девочка.
– И ты сама? Привыкла к душевным ранам?
– Не знаю, – ответила она. – Но я хотя бы не влюблена.
– Когда-нибудь еще влюбишься.
– Но сейчас – нет. Пусть хоть немного грудь вырастет.
– Это может случиться раньше, чем ты думаешь.
Мариэ слегка склонила голову набок – похоже, вряд ли поверила мне.
И тут у меня внутри зародилось крохотное сомнение: кто знает, а вдруг Мэнсики ради связи с девочкой умышленно пытается сблизиться с ее тетей? Ведь он же сам мне как-то говорил о Мариэ: «Что можно понять после единственного короткого взгляда? Для такого времени нужно побольше».
Сёко Акигава должна стать для Мэнсики важным посредником для регулярных встреч с Мариэ, ведь она – фактический опекун девочки. И для этого Мэнсики прежде всего необходимо так или иначе прибрать к рукам Сёко Акигаву. Хотя такому человеку, как он, это будет нетрудно – не раз плюнуть, конечно, а хотя бы два. Но мне все равно не хотелось думать, будто он вынашивает тайный план. Правда, Командор говорил, что он не может что-нибудь постоянно не замышлять, однако, на мой взгляд, хитрецом Мэнсики не выглядел.
– Дом у господина Мэнсики впечатляет, – сказал я Мариэ. – Весьма занимательный дом, взглянуть на такой будет отнюдь не вредно.
– А вам приходилось там бывать?
– Только раз – меня приглашали туда на ужин.
– Дом – на той стороне лощины?
– Почти напротив моего.
– Отсюда видно?
Я сделал вид, будто вспоминаю.
– Да… только он, конечно, очень далеко.
– Покажите.
Я вывел ее на террасу и показал усадьбу Мэнсики на противоположном склоне. В свете садовых фонарей здание казалось изящным океанским лайнером, плывущим по ночному морю. Некоторые окна в доме тоже светились, но все огни в них выглядели скромно.
– Это вон тот белый домище? – удивленно произнесла Мариэ, вопросительно уставившись на меня. Затем, ничего больше не сказав, опять повернулась к белеющему вдали особняку. – Его и из нашего дома хорошо видно – только под другим углом. Мне давно хотелось узнать, что за человек там живет.
– Еще бы, дом-то заметный, – сказал я. – Вот, теперь ты знаешь – это дом господина Мэнсики.
Повиснув на перилах, Мариэ долго разглядывала особняк. Над крышей мерцали звезды. Ветер стих, и на небе неподвижно зависли упругие облачка. Казалось, они бутафорские, намертво прибиты гвоздями к фанерному заднику сцены. Когда девочка изредка выгибала шею, ее прямые черные волосы лоснились в лунном свете.
– И что – господин Мэн Си Ки правда живет там один? – спросила Мариэ, повернувшись ко мне.
– Да. Совсем один в таком просторном доме.
– Не женат?
– Говорил, что никогда не был.
– А чем он занимается?
– Толком я не знаю. Как-то связан с информационным бизнесом. Возможно, что-то техническое. Но сейчас работы как таковой, насколько мне известно, у него нет – он живет на те деньги, что получил от продажи его собственной фирмы. Ну и еще на какие-то проценты по акциям. А больше я ничего не знаю.
– То есть он не работает? – нахмурившись, уточнила Мариэ.
– Он сам так говорил. Да и из дому почти не выходит.
Кто знает, может, сейчас он разглядывает в свой мощный бинокль, как мы смотрим на его дом. Интересно, о чем он думает, видя два силуэта на ночной террасе?
– Тебе пора домой, – сказал я Мариэ. – Время уже позднее.
– Господин Мэн Си Ки – не главное, – тихо произнесла Мариэ так, будто хотела мне в чем-то признаться. – Я рада, что вы, сэнсэй, рисуете мой портрет. Я хотела непременно вам об этом сказать. Мне прямо не терпится посмотреть, какой получится картина.
– Хорошо, если удастся написать ее хорошо, – ответил я. Меня очень тронули слова девочки. Даже странно, до чего открывалась она собеседнику, когда речь заходила о живописи.
Я проводил ее до дверей. Она натянула тугой пуховик и нахлобучила бейсболку «Индейцев». Ни дать ни взять заправский сорванец.
– Тебя проводить? – спросил я.
– Не стоит. Я хорошо знаю дорогу.
– Тогда до воскресенья.
Но девочка ушла не сразу – стоя на крыльце, она придержала рукой торец входной двери.
– Мне вот еще что не дает покоя, – произнесла она, немного подумав. – Погремушка!
– Погремушка?
– По дороге сюда мне послышался звон бубенца. Такой же, как от вашей погремушки, которая лежит на полке в мастерской.
Я обомлел. Мариэ пристально смотрела на меня.
– Откуда он доносился? – спросил я.
– Из тех зарослей. Примерно из-за кумирни.
Я прислушался к окружавшей темноте, однако никакого бубенца не услышал. Не было слышно вообще ничего – лишь ночная тишина царила вокруг.
– Тебе не было страшно? – спросил я.
Мариэ покачала головой.
– Если не ввязываться самой, бояться нечего.
– Подожди меня здесь немного, – сказал я Мариэ, а сам ринулся в мастерскую.
Погремушки, которой полагалось лежать на полке, там не было. Она куда-то пропала.
36
Правила игры не обсуждаются
Проводив Мариэ, я вернулся в мастерскую, включил там весь свет и обыскал все углы, но старая погремушка так и не нашлась. Как в воду канула.
Когда же я видел ее в последний раз? В прошлое воскресенье, когда мой дом впервые посетила Мариэ Акигава, она взяла погремушку с полки и позвенела ею. Затем опять положила на полку – это я очень хорошо помнил. Но видел ли я ее потом – вот этого я припомнить уже не мог. Всю минувшую неделю я почти не заглядывал в мастерскую и не брал в руку кисть. Я начал писать «Человека с белым „субару форестером“», но работа у меня застопорилась. А за портрет Мариэ Акигавы я еще даже не принимался. Иными словами, у меня – полоса творческого застоя.
А тут еще и погремушка пропала.
Пробираясь вечером в зарослях, Мариэ Акигава слышала, как из-за кумирни доносится звук бубенца. Выходит, кто-то вернул погремушку в склеп? Стоит ли мне прямо сейчас туда отправиться и выяснить, оттуда звенит погремушка или нет? Но мне отчего-то не захотелось ломиться одному в потемках через эти заросли. Весь день был полон непредсказуемых событий, и я немного устал. Как ни верти, а сегодняшнюю дневную норму неожиданностей я уже выполнил.
Я пошел на кухню, достал из холодильника лед, опустил несколько кубиков в бокал и налил туда виски. На часах всего половина девятого. Интересно, Мариэ уже вернулась домой? Благополучно ли прошла по своей тайной тропе? Но что с ней тут могло случиться? И зачем мне переживать? Она сама сказала, что с раннего детства играет в этих горах, а к тому же эта девочка намного крепче духом, чем могло бы показаться.
Похрустывая крекерами, я неспешно выпил два бокала виски, почистил зубы и лег спать. Может, погремушка опять разбудит меня посреди ночи своим звоном. Как и раньше, около двух, но что ж поделаешь? Чему быть – того не миновать. Однако ничего не произошло. Вернее, полагаю, что ничего. До половины седьмого утра я проспал крепким сном, ни разу не проснувшись.
А когда открыл глаза, за окном шел дождь. Промозглый предвестник грядущей зимы. Тихий и настойчивый, он чем-то напоминал тот, мартовский, когда жена предложила мне расстаться. Пока она говорила мне о разводе, я сидел лицом к окну и смотрел на лужи за окном.
После завтрака я облачился в полиэтиленовое пончо, надел непромокаемую кепку – и то, и другое я купил в спортивном магазине в Хакодатэ, когда путешествовал, – и пошел в заросли. Зонтик я брать не стал. Обогнул кумирню, наполовину сдвинул крышку склепа и с опаской посветил внутрь фонариком. Внутри было совершенно пусто – ни погремушки, ни фигуры Командора. Но я на всякий случай решил спуститься на дно. Я делал это впервые. Ступени металлической лестницы при каждом шаге прогибались под тяжестью моего тела и тревожно поскрипывали. Но и на дне я ничего не обнаружил – пустой склеп. Аккуратная округлая яма, на первый взгляд похожая на колодец. Хотя для колодца широковата: чтобы просто набирать воду, рыть яму такого диаметра, в общем-то, не нужно. Кладка по стенам аккуратная, камни подогнаны очень тщательно – для колодцев так делать не обязательно, как и говорил Мэнсики.
В раздумьях я долго простоял на дне ямы. Над головой виднелся полумесяц неба, и потому ощущения замкнутого пространства у меня не возникало. Я выключил фонарик, прислонился спиной к сырой стене и, закрыв глаза, слушал, как беспорядочно барабанит по крышке дождь. О чем думал, я сам плохо понимал, – просто о чем-то. Одна мысль перетекала в другую, а та соединялась с третьей. Однако меня охватило странное чувство… как бы объяснить его? Такое ощущение, будто я оказался поглощен самим действием, именуемым «думать».
Подобно тому, как я живу с какой-то мыслью, этот склеп тоже думает, живет. Как мне казалось – дышит: то расширяется, то сжимается. Мысли мои и склепа в темноте будто бы переплелись корнями и обменивались соком. Я смешивался с чем-то другим, будто краска на палитре, и грань между нами постепенно стиралась.
А вскоре меня охватило чувство, будто окружающие стенки сближаются. В груди у меня сухо застучало, пульсируя, сердце: казалось, я даже слышу, как открывается и закрывается сердечный клапан. В этом мне слышалось леденящее послание из загробного мира о том, что я к нему приближаюсь. Мир этот нельзя назвать неприятным местом, но мне пока туда рано.
И тут я пришел в себя, прервав одиноко блуждавшую мысль. Еще раз включил фонарик и посветил вокруг. Лестница по-прежнему опиралась на стенку, а над головой виднелось все то же небо. Увидев все это, я с облегчением вздохнул – и подумал, что ничуть бы не удивился, исчезни небо и пропади лестница. Здесь может произойти что угодно.
Аккуратно ставя ноги на ступени, я выбрался из ямы. Оказавшись наверху, стряхнул прилипшую к обуви землю и наконец смог вздохнуть полной грудью. Сердце постепенно успокоилось. Я еще раз заглянул в яму, светя фонариком. Склеп вернулся в свое прежнее состояние обычного склепа. Теперь он не жил, не думал, и стенки у него не сближались. Пол его тихо намокал от холодного ноябрьского дождя.
Я вернул крышку на прежнее место и поверх выложил камни, не забыв разместить их, как было, – чтобы сразу стало понятно, если их кто-то сдвинет. Натянув поглубже кепку, я той же дорогой направился домой.
А пока шел через заросли, подумал: куда же запропастился Командор? Вот уже две недели как от него ни слуху ни духу. Как ни странно, я даже чуть загрустил от того, что он так долго не появляется. Пусть это существо мне непонятно, пусть он чудно́ говорит, пусть самовольно подсматривает за моими амурными делами – я незаметно для себя стал испытывать к этому коротышке с маленьким мечом нечто вроде родственных чувств. Я мысленно пожелал, чтобы с ним не случилось ничего плохого.
Вернувшись домой, я пошел в мастерскую, где, усевшись на привычный старый табурет – на нем, вероятно, сидел за работой и сам Томохико Амада, – долго разглядывал висевшую на стене картину «Убийство Командора». Когда не знал, как мне быть, я мог рассматривать эту картину до бесконечности. Пресытиться ею невозможно, сколько ни смотри, да и самой картине по-хорошему место не здесь, а в главном зале какой-нибудь картинной галереи. А она висит на незатейливой стене в тесной мастерской для меня одного. А еще раньше – была спрятана на чердаке подальше от человеческих глаз.
Как сказала Мариэ, эта картина к чему-то зовет; такое чувство, будто птица хочет вырваться из тесной клетки на волю.
И чем дольше я смотрел, тем больше понимал, что своими словами Мариэ попала в самое яблочко. Так оно и есть. Кажется, будто оттуда – из проклятого места – нечто изо всех сил пытается вырваться наружу, требуя себе свободы и простора. И выразительной картину, пожалуй, делает скрытая в ней твердая воля. Пусть даже я не знаю, что конкретно выражает птица, а что – клетка.
В тот день мне захотелось непременно что-нибудь нарисовать. Я это чувствовал: как во мне постепенно просыпается желание «что-нибудь нарисовать». Будто накатывает вечерний прилив. Однако настроение приняться за портрет Мариэ Акигавы меня не посетило. Пока еще рано. Дождемся воскресенья. Но и «Мужчину с белым „субару форестером“» мне тоже не хотелось больше ставить на мольберт. Там, как сказала Мариэ, скрыто нечто, наделенное опасной силой.
Для портрета Мариэ Акигавы на мольберте был подготовлен новый среднезернистый холст. Я сел на табурет перед ним и долго всматривался в его пустоту, но образ, который следует на него перенести, не возникал. Пустота так и оставалась пустотой. Что бы мне такое нарисовать?.. И я постепенно пришел к мысли, чего мне сейчас больше всего хочется.
Отойдя от холста, я взял большой эскизник, а потом уселся в мастерской на пол, скрестив ноги, оперся на стену и принялся рисовать карандашом каменный склеп – не привычным мне мягким 2B, а твердо-мягким HB. Тот странный склеп, что возник из-под каменного кургана посреди зарослей. Только что увиденный, он был свеж в памяти, и я старался рисовать его как можно точнее: и аккуратную каменную кладку, и участок вокруг, засыпанный опавшей листвой, ее мокрый красивый узор. Заросли мискантуса, в которых он некогда скрывался, повалены и придавлены гусеницами «катерпиллара».
Пока я рисовал, меня опять охватило странное чувство – как будто я сливаюсь с тем склепом в зарослях. Похоже, склеп и впрямь добивался своего воплощения в рисунке – причем в рисунке очень точном и тщательном. И я двигал рукой почти машинально, словно бы внимая этому требованию. Все это время я испытывал чистую и неподдельную радость. Сколько же минуло времени? Когда я очнулся, страница альбома была испещрена линиями черного карандаша.
Я сходил на кухню и выпил несколько стаканов холодной воды. Подогрел кофе, налил себе в большую кружку и с ней вернулся в мастерскую. Поставил на мольберт альбом, открытый на этой странице, сел на табурет и опять издали посмотрел на эскиз. Там был до мелочей точно и реалистично воспроизведен круглый склеп в зарослях – и выглядело так, будто склеп и вправду обладает собственной жизненной силой. Точнее, на эскизе склеп выглядел еще живее, чем на самом деле. Я встал с табурета, подошел ближе и хорошенько вгляделся в рисунок. Затем посмотрел под другим углом – и только теперь обратил внимание, что он напоминает женский половой орган. Раздавленные «катерпилларом» заросли мискантуса выглядели точь-в-точь как растительность на лобке.
Я лишь покачал головой и горько усмехнулся: ну чем не оговорка по Фрейду, только картинкой. В ушах у меня зазвучал голос какого-нибудь высоколобого критика: «Картину эту следует понимать так, будто возникший из земли мрачный склеп, напоминающий половой орган одинокой женщины, функционирует как выражение страсти и воспоминаний, вынырнувших за рамки бессознательного автора». Чушь какая-то…
Однако мысль о сходстве странного круглого склепа в тех зарослях с женским половым органом не покидала меня. Поэтому, когда вскоре зазвонил телефон, я предположил, что это моя замужняя подруга.
Так и оказалось.
– Знаешь, у меня вдруг появилось свободное время. Ничего, если я сейчас приеду?
Я посмотрел на часы.
– Приезжай. Заодно пообедаем.
– Куплю по пути что-нибудь, – сказала она.
Она положила трубку. Я пошел в спальню, заправил постель, собрал разбросанную по полу одежду, аккуратно ее сложил и рассовал по ящикам комода. Помыл и убрал посуду, киснувшую в раковине после завтрака.
Затем, как обычно, поставил в гостиной пластинку «Кавалер розы» Рихарда Штрауса (дирижер Георг Шолти) и, пока ехала подруга, читал на диване книгу. А сам неотступно думал: что же читала Сёко Акигава? Какие книги способны увлечь эту женщину?
Подруга приехала в четверть первого. У крыльца остановился ее красный «мини», и она вышла из машины с бумажным пакетом из продуктового магазина. Дождь продолжал бесшумно лить, но она была без зонтика – в желтом плаще, накинув капюшон, семенила к дому. Я открыл дверь, взял у нее пакет и отнес прямо на кухню. Подруга сняла плащ и осталась в водолазке сочного желто-зеленого цвета, которая красиво подчеркивала ее грудь. Не такую большую, как у Сёко Акигавы, но все же величины достаточной.
– Работал с утра?
– Да, – ответил я. – Но не на заказ. Самому захотелось что-нибудь нарисовать, вот я и набросал, что взбрело в голову.
– От скуки?
– Вроде того.
– Голодный?
– Нет, не очень.
– Это хорошо, – сказала она. – Тогда поедим позже?
– Меня устраивает, – ответил я.
– С чего бы это в тебе сегодня столько страсти? – спросила она позже, лежа в постели.
– И впрямь, – поддакнул я. Наверное, это оттого, что я с утра увлеченно рисовал загадочный подземный склеп диаметром два метра. Но я же не мог ей сказать, что склеп, пока я его рисовал, стал напоминать женский половой орган, и это меня сильно возбудило… – Давно не виделись, вот и хотел тебя очень сильно, – произнес я, выбрав версию помягче.
– Приятно слышать, – сказала она, нежно поглаживая пальцами мою грудь. – Но признайся – тебе же хочется женщину помоложе?
– Ничего подобного!
– Правда?
– Даже не думал об этом, – сказал я. Так оно и было – я наслаждался уже тем, что попросту совокуплялся с ней, и даже не представлял вместо нее кого-то еще. Наши отношения с Юдзу, разумеется, – совсем другое дело.
Но я все равно решил пока не сообщать ей о начатом портрете Мариэ Акигавы – красивая тринадцатилетняя модель может заставить подругу хоть и немного, но ревновать. Для женщины, похоже, любой возраст – будь ей тринадцать или сорок один – деликатный. Они из него просто не выходят. Таков один из скромных уроков, какие я получил до сих пор от общения с женщинами.
– И все же удивительно, как складываются отношения между мужчиной и женщиной, ты не считаешь? – спросила она.
– Удивительно? В каком смысле?
– Вот мы с тобой встречаемся. Познакомились совсем недавно – а уже кувыркаемся голышом. Совсем беззащитные и без всякого стеснения. Как задумаешься, так разве не удивительно?
– Может, ты и права, – тихо согласился я.
– Представь себе, что это игра. Может, не только, но все равно игра в каком-то смысле. Если не представишь – не поймешь, о чем я.
– Хорошо, я постараюсь представить, – ответил я.
– А раз игра, для нее требуются правила, так?
– Пожалуй.
– Хоть в бейсболе, хоть в футболе есть толстенная книга правил, в которой прописано все вплоть до мельчайших положений. И судьи, и спортсмены должны эти правила помнить. Иначе матч не состоится, верно?
– Именно.
Она выдержала паузу – ждала, пока у меня в голове не сложится представление.
– И… вот что я хочу сказать: правила этой игры мы так ни разу и не обсудили. Или обсуждали?
Я немого подумал и ответил:
– Да вроде бы нет.
– Тем не менее на практике мы продолжаем эту игру, следуя неким предполагаемым правилам. Так?
– Выходит, так.
– Из чего, как мне кажется, следует, что я играю по тем правилам, которые знаю я, а ты – по тем, какие знаешь ты. И мы инстинктивно уважаем правила друг дружки. Пока наши правила не противоречат друг другу, пока не возникнет кошмарный хаос, игра будет продолжаться без препон. Или ты так не считаешь?
Я задумался над ее словами.
– Пожалуй, так все и есть. Мы, по сути, уважаем правила друг дружки.
– Но вместе с тем я думаю, что это понятие даже не уважения или доверия, а скорее – этикета.
– Понятие этикета? – повторил за ней я.
– Этикет – он очень важен.
– Вероятно, ты права, – признал я.
– При этом, будь то доверие, уважение или этикет, если что-то перестанет работать, обоюдные правила начнут противоречить, а сама игра выйдет из нормального русла, и нам придется приостановить матч и принять новые общие правила – или же прервать матч и уйти со стадиона. Главный вопрос тогда будет – что из этого нам выбрать.
Что и произошло с моей семейной жизнью, подумал я. Вышло так, что я просто прервал свой матч и тихо покинул стадион. Одним мартовским зябко-дождливым воскресеньем.
– Значит, ты хочешь обсудить здесь правила нашей игры?
Она покачала головой:
– Нет. Ничего ты не понял. Я хочу, чтобы мы их вообще не обсуждали. Как раз поэтому я могу быть с тобой вот такой неприкрытой. Ты не против?
– Я-то нет, – сказал я.
– Прежде всего – доверие и уважение. А особенно – этикет.
– Особенно этикет, – повторил я.
Она протянула руку и сжала в кулаке частицу моего тела.
– Еще твердый, – шепнула она мне на ухо.
– Вероятно, потому что сегодня понедельник, – сказал я.
– Что, это зависит от дней недели?
– Или же потому, что с утра идет дождь. А может, виной здесь то, что зима близко. Или потому, что показались перелетные птицы. Или причина – богатый урожай грибов. Или все из-за того, что воды в стакане остается одна шестнадцатая часть. Или просто грудь у тебя под желто-зеленой водолазкой потрясающая!
От этих слов она прыснула. Похоже, мой ответ пришелся ей по душе.
Вечером позвонил Мэнсики – поблагодарить за прошлое воскресенье.
Я ему ответил, что не сделал ничего, заслуживающего благодарности, – всего-навсего представил его тете и ее племяннице. Что и как в дальнейшем будет складываться, уже не мое дело, и в этом смысле я лишь обычный посторонний. Точнее – хочу, чтобы меня и дальше им считали, хоть меня не покидало предчувствие, что вряд ли все пойдет гладко и так, как мне этого хочется.
– Но сегодня я звоню насчет Томохико Амады, – продолжил Мэнсики, когда мы покончили с любезностями. – У меня появилось немного свежей информации.
Стало быть, он еще не бросил расследование. Кто бы там на самом деле ни действовал по его поручению, на такую тщательную работу требуются немалые деньги. Уж такой человек Мэнсики: без сожаления вкладывает деньги во все, что считает для себя необходимым. Но вот зачем ему венские приключения Амады Томохико в таких подробностях, я понятия не имел.
– Возможно, это не связано впрямую с венской жизнью господина Амады, – начал Мэнсики, – однако по срокам совпадает и наверняка должно было лично для него иметь очень большое значение. Вот я и решил, что лучше будет поделиться этими данными с вами.
– Что совпадает по срокам?
– Как я, должно быть, уже рассказывал, Томохико Амаде в начале 1939 года пришлось покинуть Вену и вернуться в Японию. Формально то была принудительная высылка, а на самом деле – спасательная операция. Томохико Амаду спасали от гестапо. МИДы Японии и нацистской Германии тайно посовещались и пришли к заключению не считать его преступником, а ограничиться высылкой за пределы страны. Покушение готовилось в 1938 году и было связано с другими важными событиями того времени – Аншлюсом и Хрустальной ночью. Аншлюс случился в марте, Хрустальная ночь прошла в ноябре. После них уже никто не сомневался в замыслах Адольфа Гитлера, и Австрия оказалась неразрывно втянутой в военные планы Гитлера. Так глубоко, что уже была не в состоянии что-либо предпринять. Подпольное сопротивление зародилось в основном в студенческой среде, чтобы воспрепятствовать этой зловещей тенденции, и в том же году Томохико Амаду арестовали за причастность к тайной подготовке покушения. Что было до и после того, вы примерно знаете.
– В общих чертах, – подтвердил я.
– Вам нравится история?
– Разбираюсь я в ней слабо, но книги по истории читаю с интересом.
– Если обратиться к японской истории, примерно в те же годы произошло несколько очень важных событий. Несколько роковых, что необратимо вели к катастрофе. Не припоминаете?
Я попытался освежить свои исторические познания, отложившиеся в голове много лет назад. Что произошло в 13-м году эры Сёва? В смысле – в 1938-м. В Европе ожесточилась гражданская война в Испании. Тогда же немецкий легион «Кондор» подверг варварской бомбардировке Гернику. А в Японии…
– Инцидент на мосту Лугоу произошел в том же году?
– Нет, на год раньше, – сказал Мэнсики. – 7 июля 1937-го, что послужило поводом для войны между Японией и Китаем. А в декабре 1937-го случилось другое важное событие, но оно проистекало из того инцидента.
Что же было в декабре?
– Взятие Нанкина? – припомнил я.
– Именно. Нанкинская резня. После ожесточенных боев японская армия оккупировала Нанкин и устроила там массовые убийства. Убивали как во время сражения, так и после него. У японской армии не было возможности держать пленных, и солдаты приканчивали многих сдавшихся в плен, а с ними – и простых горожан. Сколько на самом деле было убитых, ученые спорят до сих пор, но, во всяком случае, ясно одно: жертвами тех событий стали тысячи мирных жителей, это трудно замалчивать. Некоторые считают, что китайцев погибло свыше четырехсот тысяч, некоторые – что не более ста. Но какая уже, в самом деле, разница – четыреста или сто?
Спросил бы что полегче. Я поинтересовался:
– В декабре пал Нанкин, убили много людей. А какое отношение это имеет к венской жизни Томохико Амады?
– Как раз к этому я и подхожу, – сказал Мэнсики. – В ноябре 1936 года был заключен Антикоминтерновский пакт – соглашение между Японией и Германией по обороне от коммунизма. В результате Япония и Германия установили явные союзнические отношения. От Вены до Нанкина очень далеко, поэтому японско-китайская война, вероятно, в европейской прессе особо не освещалась. Однако, по правде говоря, в том бою за Нанкин простым солдатом участвовал младший брат Амады Томохико – Цугухико. Его призвали на службу и отправили в действующую армию. Было ему в ту пору двадцать лет. Студент Токийской музыкальной школы – ныне это музыкальный факультет Токийского университета искусств. Он изучал фортепьяно.
– Вот это странно! Насколько мне известно, в то время студентов еще освобождали от воинской повинности, – сказал я.
– Вы правы. Студентам давали отсрочку до окончания вуза. Однако почему Цугухико Амаду призвали и отправили в Китай, неизвестно. Так или иначе, в июне 37-го его призвали, и до июня следующего года он числился рядовым в учебной части при 6-й дивизии, которая базировалась в Кумамото. Жил-то он в Токио, а свидетельство о рождении ему выписали в Кумамото, вот его и направили в 6-ю дивизию. Запись об этом сохранилась в документах. И вот после курса молодого бойца его перебросили на континент в Китай, где он участвовал в декабрьском захвате Нанкина. После демобилизации в июне следующего года он восстановился в институте…
Я молча ждал продолжение рассказа.
– Однако вскоре после демобилизации и восстановления в институте Цугухико Амада свел счеты с жизнью. Домашние обнаружили его на чердаке мертвым, с перерезанными венами. Случилось это в конце лета.
На чердаке перерезал себе вены?
– Конец лета 38-го?.. Выходит, когда младший брат покончил с собой на чердаке, Томохико Амада еще стажировался в Вене? – уточнил я.
– Да. И в Японию на похороны он не поехал. Самолеты в те времена летали не часто, и ехать можно было только железной дорогой – ну, или плыть морем. Поэтому к похоронам младшего брата он все равно никак бы не успел.
– Господин Мэнсики, вы полагаете, что между самоубийством младшего брата и участием Томохико Амады в венском покушении примерно в то же время есть какая-то связь?
– Может, есть, а может – и нет, – ответил Мэнсики. – В любом случае это из области домыслов. Я лишь сообщаю вам факты, выясненные в нашем историческом расследовании.
– А у Томохико Амады были другие братья и сестры?
– Был старший брат. Томохико Амада – второй сын в семье. Три брата. Умерший Цугухико был младшим. Его самоубийство, чтобы не навлечь ни на кого позор, огласке не предали. Шестая дивизия Кумамото прославилась как неустрашимое и отважное подразделение. Если узнают, что демобилизованный герой, едва успев вернуться с поля боя, покончил с собой, – как его родные будут смотреть в глаза людям? Но, как вам известно, людская молва что морская волна.
Я поблагодарил Мэнсики за информацию. Но какой в ней смысл, я пока что не понимал.
– Постараюсь разузнать подробнее, – сказал Мэнсики. – Что-нибудь выяснится – дам знать.
– Буду признателен.
– Тогда – до воскресенья. Загляну к вам после обеда, – сказал Мэнсики. – И провожу ту парочку к себе, покажу им вашу картину. Ведь вы, я надеюсь, не против?
– Нет, конечно. Картина теперь ваша, и вам самому решать, кому ее показывать, а кому нет.
Мэнсики немного помолчал – будто подбирал самые подходящие слова. Затем, словно бы оставив эту затею, произнес:
– Признаться, я иногда вам завидую.
Завидует? Он – мне?
Я понятия не имел, что он хотел этим сказать. Даже представить себе не мог, что Мэнсики может мне в чем-то завидовать. У него есть все, у меня – ничего.
– И в чем же вы мне завидуете? – поинтересовался я.
– Вы-то сами наверняка не завидуете никому? – задал мне встречный вопрос тот.
Помедлив и немного подумав, я ответил:
– Да, пожалуй, – до сих пор никому не завидовал.
– Это я и имел в виду.
Но у меня при этом нет даже Юдзу, – подумал я. – Ее теперь обнимает какой-то другой мужчина.
Порой я ощущал себя брошенным на краю света – но даже при этом никогда и никому я не завидовал. Что ж мне теперь, считать себя странным?
Положив трубку, я сел на диван и задумался о младшем брате Томохико Амады, который покончил с собой, вскрыв вены на чердаке. Не может быть, чтобы на чердаке этого дома. Томохико Амада купил его спустя время после войны. А его младший брат Цугухико совершил самоубийство на чердаке своего дома. Скорее всего – родительского, в Асо. Но даже при этом смерть младшего Амады и полотно «Убийство Командора» связывал чердак – полутемное, тайное место. Может, это просто случайность. Или же Томохико Амада намеренно прятал свою картину на чердаке. Так или иначе, зачем было едва демобилизовавшемуся Цугухико Амаде накладывать на себя руки? Он же остался жив после ожесточенных сражений в Китае и смог вернуться на родину без единой царапины.
Я взял телефон и позвонил Масахико Амаде.
– Мы сможем в ближайшее время встретиться где-нибудь в Токио? – спросил я. – У меня заканчиваются краски, пора ехать закупать их. И хотелось бы заодно с тобой поговорить.
– Давай. Конечно, – ответил он и зашуршал страничками ежедневника. Мы условились встретиться в четверг около полудня и вместе пообедать.
– За красками ты в свой обычный магазин на Ёцуя?
– Да. Нужно купить холстов, заканчивается масло. Покупок будет многовато, поэтому я поеду на машине.
– Недалеко от нашей конторы есть неплохое заведение, где можно спокойно поговорить. Там же и пообедаем.
Я добавил:
– Кстати, Юдзу недавно прислала документы на развод. Я поставил печать и отправил ей все. Поэтому скоро, я думаю, нас уже разведут официально.
– Вот как, – нарочито уныло произнес Масахико.
– Что ж тут поделать? Это был лишь вопрос времени.
– Ты так говоришь, но мне все равно жаль, что так все вышло. Я считал, у вас все складывалось неплохо.
– Пока складывалось неплохо, оно складывалось неплохо, – ответил я. Это же как старый «ягуар»: пока не ломается, ездить на нем очень приятно.
– И что думаешь делать дальше?
– Да ничего. Поживу какое-то время, как сейчас. Другое на ум пока не приходит.
– А картины ты пишешь?
– Есть несколько начатых. Не знаю, что из них выйдет, но, по крайней мере, что-то рисую.
– Это хорошо, – сказал Масахико и, немного помедлив, добавил: – Хорошо, что ты позвонил. Признаться, я сам собирался с тобой поговорить.
– Что за разговор? Хороший?
– Хороший или плохой, сказать не могу – это факты.
– Как-то связано с Юдзу?
– Не телефонный разговор.
– Хорошо, тогда поговорим в четверг.
Положив трубку, я вышел на террасу. Дождь уже прекратился. Ночной воздух был до прозрачности чист и прохладен. Меж обрывками туч проглядывали маленькие звезды – они походили на обломки льда. Твердого, не тающего сотни миллионов лет, промерзшего да самой сердцевины. На той стороне лощины дом Мэнсики, как обычно, парил в свете ртутных фонарей.
Глядя на этот свет, я думал о доверии, уважении и этикете. Особенно – об этикете. Но, конечно же, сколько ни думал – ни к какому выводу не пришел.
37
У всего есть светлая сторона
Путь с гор в окрестностях Одавары до Токио не близок. Несколько неверных поворотов отняли у меня еще некоторое время. Машина была старая, разумеется – без навигатора, не говоря уже о транспондере электронной оплаты за проезд. Пожалуй, прежнего владельца мне следует благодарить хотя бы за то, что в салоне есть подстаканники. Вначале я долго плутал, пока не нашел заезд на платную дорогу Одавара – Ацуги, а позже, не успев заехать с Томэя на городской хайвэй, угодил в глухую пробку. Тогда я решил съехать в районе Сибуя на простую дорогу и пробираться до Ёцуя через улицу Аояма. Однако и внизу было полно машин – я часто перестраивался, а это требовало огромной сноровки. Найти парковку и то оказалось непросто. Похоже, наш мир с каждым годом становится все более тернистым местом. Когда я, сделав на Ёцуя нужные покупки, добрался до конторы Масахико Амады в Первом квартале Аояма и припарковал там поблизости машину – почувствовал себя выжатым лимоном. Как та деревенская мышь у Эзопа, что навещала городского родственника. Время – начало второго, я опоздал на полчаса.
Я зашел в приемную компании, где работал Масахико, и попросил вызвать его. Он сразу же спустился, и я извинился за опоздание.
– Не переживай, – успокоил меня он. – И ресторан, и моя работа могут немного подождать, от них не убудет. Я договорюсь.
И он повел меня в итальянский ресторан поблизости. Заведение располагалось в подвальном этаже маленького здания. Похоже, Масахико был здесь завсегдатаем, потому что официант, только завидев его, не говоря ни слова, проводил нас в отдельную комнатку. Ни музыки, ни голосов людей – то была очень тихая комнатка в глубине заведения. Стену украшал недурной пейзаж: зеленый мыс, голубое небо и белый маяк. Тема заурядная, но способна вызвать у зрителей настроение: почему б и нам не съездить в такое красивое место?
Амада заказал бокал белого вина, я попросил «Перрье».
– Мне еще ехать обратно в Одавару, – сказал я. – Путь неблизкий.
– Верно, – вставил Амада. – Но по сравнению с Хаямой или Дзуси еще куда ни шло. Я пожил немного в Хаяме. Летом выбраться оттуда в Токио – прямо ад. Вся дорога сплошь забита машинами отдыхающих. Поездка туда-обратно – работа минимум на полдня. В этом смысле дорога на Одавару куда свободней – езжай в свое удовольствие.
Принесли меню. Мы заказали комплексный обед: закуска с сырокопченой ветчиной, салат со спаржей, спагетти с омаром.
– Значит, ты наконец дозрел до того, чтоб заняться серьезной живописью, – произнес Масахико.
– Раз остался один, больше не нужно штамповать портреты ради заработка. Наверное, поэтому? И у меня возникло желание порисовать в свое удовольствие.
Масахико кивнул и сказал:
– У всего есть светлая сторона. Даже самая толстая и мрачная туча с обратной стороны серебрится.
– Заглядывать за каждую с обратной стороны – не находишься.
– Ну, я же это теоретически, – сказал Масахико.
– К тому же на мне, похоже, сказывается жизнь в том доме на горе. Безусловно, там – идеальная обстановка для сосредоточенной работы.
– Да, там особенно тихо. Никто не приедет туда, можно не беспокоиться. Простому человеку там может показаться уныло, но тебе я тогда решил предложить, зная, что такому, как ты, это будет нипочем.
Открылась дверь в комнатку – принесли закуску. Пока расставляли тарелки, мы сидели молча.
– Ну и, конечно же, большую роль играет мастерская, – сказал я, дождавшись, когда уйдет официант. – Мне кажется, в той комнате нечто прямо-таки подстегивает творить. У меня такое чувство, что именно в ней центр всего дома.
– Если б дом был человеческим телом, там бы располагалось сердце?
– Или сознание.
– Харт энд майнд, – сказал Масахико. – Сердце и ум. Хотя, по правде сказать, мне там все-таки как-то неуютно. Слишком уж все пропитано запахом того человека. У меня до сих пор внутри такое чувство. Ведь пока отец жил в том доме, целыми днями он просиживал в мастерской и в одиночестве, молча писал свои картины. В детстве то место было неприкосновенной святыней, приближаться к ней было нельзя. Все это еще свежо в моей памяти. Поэтому когда приходится туда ездить, я стараюсь к мастерской не приближаться. Да и ты будь осторожен.
– Чего же мне там остерегаться?
– Чтобы тебя не обуял дух моего отца. Что уж там, он у него на самом деле очень крепкий.
– Дух?
– Ну да. Точнее сказать – воля. Отец – человек твердой воли. Такое может впитываться куда-то, где такой человек провел много времени. Как запах.
– И что – от этого становятся одержимыми?
– Это не очень приятное и точное выражение. Наверное, лучше сказать – подвергаются некоему влиянию? Силе того места.
– Ну, не знаю. Я всего лишь слежу за домом – я даже не знаком с твоим отцом. Поэтому, возможно, все и обойдется, такое бремя на меня не падет.
– Да, – сказал Масахико и отпил из бокала белого вина. – Я-то его близкий родственник, поэтому должен держать ухо востро. А если дух этот идет на пользу творчеству, тем лучше.
– А как себя чувствует твой отец?
– Конкретно ни на что он не жалуется. Возраст. Десятый десяток все-таки. Силы уже не те. В голове сплошь каша, но пока еще ходит сам с палочкой, аппетит хороший, глаза в порядке, зубы целые. Представляешь, ни одного больного зуба! Не то что у меня.
– Как его амнезия? Прогрессирует?
– Да, похоже, он ничего не помнит. Даже меня уже не признает. Понятий «отец», «сын», «семья» для него больше не существует. Наверное, не видит и грань между «собой» и «другими». Хотя, если вдуматься, такая безмятежность, наоборот, к лучшему.
Я глотнул «Перрье» из тонкого стакана и после этих слов поддакнул. Томохико Амада не узнаёт в лицо даже собственного сына – куда уж ему помнить о давних событиях его стажировки в Вене? То давнее время, вероятно, кануло в пропасть его сознания.
– Но даже при этом в нем еще, похоже, теплится та воля, о которой я тебе сказал, – словно бы с удивлением произнес Амада. – Странное дело – память улетучилась, а сила воли никуда не делась. Присмотришься – и сразу понимаешь: перед тобой человек с твердой волей. Даже немного неудобно перед ним, что я, его сын, не перенял у него таких черт. Но что уж тут, у каждого с рождения своя стезя. С родителями нас связывает кровь, но это не значит, что нам передаются также их качества и способности.
Я поднял голову и посмотрел ему прямо в лицо. Редко бывало так, чтобы Масахико обнажал душу.
– Наверное, непросто быть сыном такого знаменитого отца? – спросил я. – Сам я даже понятия не имею, как это. Мой отец держал неприметную фирму.
– Если родитель – известный человек, в этом, конечно же, есть свои плюсы, но много и неприятностей. Как посчитаешь, неприятностей выходит даже больше, чем плюсов. Думаю, твое счастье, что с этим ты не сталкивался. Можешь спокойно оставаться самим собой, жить свободно.
– По тебе тоже не скажешь, что живешь ты не свободно.
– В каком-то смысле, – сказал Масахико и покрутил в пальцах бокал с вином. – Но в каком-то это не так.
У Масахико Амады было хорошо развитое эстетическое чутье. После института он устроился в крупное рекламное агентство и теперь, получая высокую зарплату, похоже, наслаждался беззаботной жизнью холостяка в крупном городе. Но как ему было на самом деле, я, естественно, не знал.
– Я все хотел спросить тебя об отце, – решился я.
– О чем именно? А то я же не сказать что знаю его очень хорошо.
– Слышал, у твоего отца был младший брат по имени Цугухико.
– Да, верно, был у него один младший брат. Выходит, мой дядя. Но он давно умер. Еще до начала японо-американской войны.
– Я слышал, он покончил с собой?
По лицу Амады пробежала легкая тень.
– Это старая семейная тайна. Дело давнее, но приобрело некоторую огласку, поэтому можно и поделиться. Дядя покончил с собой, вскрыв себе вены опасной бритвой. Совсем молодым – ему было чуть больше двадцати.
– Что его к этому подтолкнуло?
– Зачем тебе это?
– Хотелось больше узнать о твоем отце. Покопался в документах и наткнулся на эту историю.
– Хотел узнать о моем отце?
– Увидел картину твоего отца – и постепенно во мне проснулся такой интерес. Вот и захотелось подробнее узнать, что он за человек.
Масахико Амада некоторое время смотрел на меня через стол. После этого произнес:
– Твое право. Тебя заинтересовала жизнь моего отца? И в этом есть какой-то смысл, раз ты живешь в его доме.
Он сделал глоток белого вина и начал рассказ:
– Мой дядя Цугухико Амада, в ту пору – студент Токийской школы музыки, – был очень талантливым пианистом. Поговаривали, что самые большие надежды он подавал в исполнении Шопена и Дебюсси. Может, неприлично говорить такое самому, но многие в нашем роду одарены художественным талантом – в той или иной степени. Однако дядю еще студентом, в двадцать лет, призвали в армию. Почему? Все просто – среди документов на отсрочку от службы, которые он подал при поступлении, не оказалось какой-то бумажки. Если бы он ее вовремя подал, смог бы избежать призыва, и позже все бы уладилось. Ведь наш дед был крупным помещиком, которого многие знали. Однако случилась такая вот канцелярская оплошность. На дядю это обрушилось как снег на голову. К тому же, когда система приходит в движение, ее так просто не остановить. В общем, спорить было бесполезно, и дядю забрили в солдаты и отправили в пехоту. После краткой подготовки его посадили на транспортное судно, которое шло в Китай, и высадили в порту Ханчжоу. В ту пору его старший брат Томохико, то есть мой отец, стажировался в Вене, где брал уроки у одного известного художника.
Я молча ждал продолжения семейной истории.
– Дядя был далеко не богатырского сложения, легкоранимый – он сразу понял, что не выдержит грубой армейской жизни и кровавых сражений. К тому же шестая дивизия, набиравшая солдат на юге Кюсю, славилась особой неотесанностью. Поэтому когда отец узнал, что брата ни с того ни с сего забрали в армию и отправили на поле боя, – очень за него переживал. Отец же был вторым сыном, самоуверенным и честолюбивым, а младший брат – последний ребенок, любимчик, воспитанный в неге и ласке. Цугухико был уступчив, вдумчив, кроток – к тому же вынужден все время беречь свои пальцы. Поэтому оберегать брата, который был младше него на три года, у отца вошло в привычку еще с детских лет. То есть он всегда опекал брата, но теперь был в далекой Вене и, как бы ни тревожился за него, помочь ничем не мог. Оставалось лишь изредка получать от него письма – так он и знал, что младший брат еще жив.
Письма с фронта проходили через тщательную цензуру, но отец и Цугухико были все-таки родными братьями, очень близкими людьми, и по сдержанности писем отец догадывался, что на душе у брата. По иносказаниям и недомолвкам он примерно представлял, что на самом деле хотел сказать ему Цугухико. Например, что его подразделение на всем пути от Шанхая до Нанкина уклонялось от прямого столкновения с противником, зато убивало и грабило местное население, а зверства, творившиеся на глазах у тонкого брата с его нежной натурой, глубоко ранили его сердце.
Брат писал, что, когда их подразделение вступило в Нанкин, в одной христианской церкви они обнаружили прекрасный орга́н. Инструмент совершенно не пострадал от обстрелов и бомбежек и был целехонек. Но последующее подробное описание органа полностью вымарала рука цензора. Какое отношение к военной тайне могло иметь описание церковного органа? У цензора того подразделения были совершенно непостижимые критерии проверки. Он то и дело упускал из виду очевидные опасные места, подлежавшие вымарке, и в то же время зачеркивал черным вполне безобидные фразы. Поэтому сумел брат сыграть на том церковном органе или нет, никто так и не узнал.
Закончив в июне 1938-го воинскую службу, дядя Цугухико сразу подал заявление на восстановление в институте, но на самом деле, так и не успев восстановиться, покончил с собой на чердаке родительского дома. Остро наточил лезвие для бритья и порезал себе запястье. Чтобы решиться на это, ему – пианисту – потребовалась особая воля. Если б его и спасли, об игре можно было бы забыть. Когда его обнаружили, весь чердак был залит кровью. О том, что он свел счеты с жизнью, умолчали – всем сообщили, что умер от сердечного приступа. Но все и без того прекрасно понимали, что он сам оборвал свою жизнь: военный опыт занозой засел в его сердце, в клочки искромсал его нервы. Что ни говори, двадцатилетнего юношу, который никогда не помышлял ни о чем, кроме пианино, взяли и швырнули в Нанкинскую мясорубку. Сейчас бы это назвали «психической травмой», но в то время в обществе, насквозь пропитанном духом милитаризма, не было ни такого термина, ни самого понятия. Его бы просто заклеймили как человека слабохарактерного, малодушного, без чувства патриотизма. В Японии той поры подобную «слабость» не понимали и не принимали. Хоть хорони его под покровом ночи как позор семьи.
– А предсмертную записку он оставил?
– Оставил, – ответил Масахико. – Нашлась в его столе, в глубине выдвижного ящика. Очень пространная записка, по сути, больше похожая на очерк. В ней дядя Цугухико подробно описал все, что ему довелось испытать на войне. Читали ее только четверо: родители дяди – то есть мои дед и бабка, – его старший брат и мой отец. После того, как мой отец прочел записку по возвращении из Вены, ее сожгли в присутствии всех четверых.
Я слушал его, не перебивая.
– Содержание записки отец держал за зубами, – продолжил Масахико. – Правда осталась за печатями семейной тайны. Образно говоря, к ней привесили грузило и сбросили ее на дно глубокого моря. Только однажды отец, крепко подвыпив, поведал мне в общих чертах содержание той записки. Я учился в начальной школе и тогда впервые узнал, что у меня был дядя, который покончил с собой. Неизвестно, почему отец завел об этом разговор – то ли у него и впрямь от выпивки развязался язык, то ли он понимал, что рано или поздно рассказать мне об этом придется.
Убрали тарелки из-под салата и принесли спагетти с омаром.
Масахико взял вилку и серьезно уставился на нее, как будто инспектировал некий инструмент особого предназначения. А затем произнес:
– Послушай, если честно, это не тема для разговора за обедом.
– Давай тогда поговорим о чем-нибудь другом.
– Например?
– О чем-нибудь отстраненном.
И мы ели спагетти и беседовали о гольфе. Я, конечно же, в гольф никогда в жизни не играл. И у меня не было ни единого знакомого, кто играл бы в гольф. В правилах игры я ничего не смыслю. А вот Масахико в последнее время стал играть часто – с клиентами их конторы. К тому же это было хорошим средством от малоподвижности. Он истратил кучу денег, собрал необходимый инвентарь и по выходным стал пропадать в гольф-клубах.
– Ты скорее всего этого не знаешь, но гольф – чертовски странная игра. Другого такого экстравагантного вида спорта нет, он совсем не похож на остальные. Мне кажется, его даже спортом-то можно назвать с большим трудом. Но, как ни странно, стоит привыкнуть к его странностям – и, считай, обратной дороги нет.
Он красноречиво рассказывал мне о причудах этого занятия, поведал несколько нелепых эпизодов. Масахико всегда умел увлечь разговором, так что я ел, наслаждаясь его речью. Давно мы так ни с кем не смеялись.
Но стоило официанту убрать тарелки из-под спагетти и принести нам кофе (Масахико от кофе отказался и попросил принести еще бокал белого вина), как мой товарищ вернулся к прежнему разговору.
– Так вот, мы говорили о предсмертной записке, – произнес он, внезапно сменив тон. – По словам отца, в ней Цугухико подробно описал, как его заставили отрубить пленному голову. Детально и реалистично. Разумеется, рядовым армейские мечи не полагались, да и сам он отродясь меч в руках не держал. Он же пианист – он мог читать замысловатые ноты, но не знал, как орудовать кинжалом. Однако офицер протянул ему меч и приказал отрубить им голову пленному. Но пленный был одет в гражданское, без оружия, уже в годах. К тому ж он лепетал, что никакой не солдат. Его вместе с другими мужчинами, подвернувшимися под руку, просто схватили, связали и теперь убивали одного за другим. Но вначале смотрели на ладони. Если ладонь грубая и мозолистая, значит, это крестьянин – таких, бывало, отпускали. Но если рука оказывалась гладкой, их считали солдатами регулярной армии, которые, сбросив мундиры, пытались укрыться под видом горожан. Их убивали, даже не допрашивая: закалывали штыками или рубили головы мечом. Если имелся пулемет, пленных выстраивали в шеренгу и расстреливали всех скопом, но обычно в пехоте патроны берегли – с ними вечно бывали перебои – и чаще всего применяли холодное оружие. Трупы сбрасывали в Янцзы. В реке водилось множество сомов, которые сжирали все без остатка. Не знаю, правда это или нет, но, по слухам, из-за этого в реке тогда расплодились тучные сомы размером с жеребенка.
И вот дядю заставили офицерским мечом рубить голову пленному. Офицером был молодой младший лейтенант, который только-только окончил военное училище. Дядя, разумеется, делать этого не хотел. Но если бы он ослушался приказа старшего по званию, это бы ему с рук не сошло. Одним осуждением сослуживцев он бы не обошелся. В императорской армии приказ старшего по званию – считай, приказ самого императора. Дядя взмахнул дрожащей рукой, но сил ему не хватало, да и меч был дешевкой массового производства. Одним махом таким голову просто не отсечь. Последний удар дядя уже был не в состоянии сделать, вокруг все в крови, пленный корчился от боли. Поистине ужасная была картина.
Масахико покачал головой. Я молча пил кофе.
– Дядю после этого стошнило. Когда в желудке ничего не осталось, его рвало желудочным соком, когда не осталось и его – воздухом. Солдаты столпились вокруг и насмехались над ним. Офицер с криком «позорище!» изо всех сил пнул его сапогом. И никто его не пожалел. В конечном счете, его заставили рубить головы еще двум пленным. Так и сказали: «Для тренировки, пока не привыкнешь. Считай, что это – обряд посвящения. Такой опыт тебе пригодится, чтобы стать настоящим солдатом». Однако дядя так и не смог стать настоящим солдатом. Он был не для этого создан. Он родился, чтобы красиво играть Шопена и Дебюсси. Он был не из тех, кто рожден рубить людям головы.
– А разве где-то существуют те, кто рожден рубить людям головы?
Масахико опять покачал головой.
– Это уже не моего ума дело. Однако людей, которые могут привыкнуть рубить другим людям головы, должно быть, немало. Люди же к разному привыкают, а особенно – в экстремальных условиях. Причем, вполне вероятно, привыкают, даже особо этому не противясь.
– Или если их действиям придать смысл и законность.
– Именно, – подтвердил Масахико. – И в большинстве случаев смысл и законность их действиям предоставляются. Я сам в себе не уверен. Скажем, окажусь я в системе насилия, вроде армии, и старший по званию отдаст мне приказ. Каким бы бессмысленным, каким бы бесчеловечным он ни был, я не настолько силен, чтобы суметь сказать этому «нет».
Я задумался о себе. Как бы я поступил, окажись в схожей ситуации? Затем вдруг вспомнил ту странную женщину, с которой провел ночь в портовом городке в префектуре Мияги. В самый разгар наших любовных игрищ она дала мне пояс от халата и велела изо всех сил затянуть его у нее на шее. Мне кажется, я никогда не забуду, каково держать в руках пояс из махровой ткани.
– Дядя Цугухико не смог пойти против приказа того офицера, – продолжал Масахико. – У него не было ни смелости, ни возможности отказаться. Однако позже он смог решиться по-своему – когда оборвал свою жизнь наточенным лезвием. И в этом смысле, я считаю, он не был слабаком. Оборвать собственную жизнь – для дяди это было единственным способом восстановить свою человечность.
– И смерть господина Цугухико стала потрясением для твоего отца, когда он узнал об этом в Вене?
– Нечего и говорить.
– Ты уже рассказывал про то, как он оказался вовлечен в политический инцидент, и его отправили обратно в Японию. А нет ли какой-то связи между этим инцидентом и самоубийством младшего брата?
Масахико скрестил на груди руки и нахмурился.
– Этого я не знаю. Во всяком случае, отец ни словом не обмолвился о венском инциденте.
– Я слышал, будто твой отец влюбился в девушку – участницу сопротивления, и тем самым оказался причастен к подготовке убийства.
– Да. Насколько я знаю, отец влюбился в австрийскую девушку, которая училась в Венском университете, и они вроде даже были помолвлены. Но вскрылся план покушения, девушку арестовали и, по слухам, отправили в Маутхаузен. Скорее всего, там она и погибла. Моего отца тоже арестовало гестапо, и в начале 1939 года его принудительно выслали в Японию как «нежелательного иностранца». Разумеется, все это я слышал не от него самого, а от родственников, поэтому информация достоверная.
– Кто-то постарался, чтобы твой отец ничего об этом не рассказывал?
– Вполне возможно. Когда его выдворяли из страны, обе стороны – и немецкая, и японская – наверняка предупредили, чтобы он не распространялся об этом случае. Помалкивать было важным условием того, чтобы ему сохранили жизнь. Да и сам отец ничего не хотел об этом говорить. Поэтому даже после окончания войны, когда его уже вроде бы ничего не сдерживало, он все равно крепко держал язык за зубами.
Масахико ненадолго умолк, а затем продолжил:
– А что касается того, что он примкнул к подпольному сопротивлению в Вене – возможно, смерть дяди Цугухико послужила ему дополнительным мотивом. В результате мюнхенского соглашения войны на том рубеже удалось избежать, зато укрепилась ось Берлин – Токио, и над миром постепенно стали сгущаться тучи военной угрозы. И отец, по всей видимости, очень хотел, как мог, помешать этой волне. Отец прежде всего ценил свободу. Он и всякие там нацисты и милитаристы – люди из разного теста. Думаю, смерть младшего брата имела для него большое значение.
– А больше ты ничего не знаешь?
– Отец никогда не рассказывал о своей личной жизни. Не давал интервью газетам и журналам, не писал о себе никаких мемуаров. Наоборот – прожил жизнь, как бы пятясь, внимательно заметая за собой все следы.
Я сказал:
– Выходит, вернувшись из Вены в Японию, он хранил глубокое молчание, не опубликовав до конца войны ни одного произведения?
– Да, он молчал целых восемь лет – с тридцать девятого по сорок седьмой. И, похоже, вообще держался подальше от мира искусства. Он и раньше-то все это не любил и не понимал, когда все художники кинулись рисовать радостно восхвалявшие войну патриотические агитки. К счастью, семья наша – обеспеченная, так что голодать никому не приходилось, да и в армию больше никого не забрали. Так или иначе, когда послевоенный хаос постепенно утих и отец вернулся в мир искусства, он всецело переключился на традиционную японскую живопись. Полностью отказавшись от всех своих прежних наработок, Томохико Амада осваивал совершенно новые для себя правила и техники.
– Что было потом, стало легендой.
– Именно, – подтвердил Масахико. – Так легенда и родилась. – И он сделал такое движение рукой, будто что-то смахивал из воздуха. Точно легенда свисала над ним слоем пыли и мешала дышать полной грудью.
Я сказал:
– Слушаю тебя – и складывается такое впечатление, будто венская стажировка отбросила глубокую тень на всю последующую жизнь твоего отца.
Масахико кивнул.
– Да, мне тоже так кажется. Те события во многом изменили его жизненный путь. Провалу покушения способствовали несколько мрачных фактов. Настолько ужасных, что об этом трудно говорить.
– Но конкретных подробностей мы ведь не знаем.
– Не знаем. Не знали и тогда, тем более – не знаем теперь. Сейчас даже он вряд ли что-либо знает.
А что, если… – вдруг подумал я. Люди временами забывают то, что должны были помнить, и вспоминают то, что, должно быть, забыли. Особенно когда смерть близка.
Масахико допил второй бокал вина, посмотрел на часы и слегка нахмурился.
– Пожалуй, мне пора возвращаться на работу.
– Ты же хотел о чем-то со мной поговорить, – напомнил я, вдруг сам об этом вспомнив.
Он легонько хлопнул ладонью по столу.
– Точно! Должен был тебе кое-что рассказать, а мы заболтались о моем отце. Ладно, расскажу в следующий раз – это не к спеху.
Перед тем, как встать из-за стола, я еще раз посмотрел Масахико в глаза и спросил:
– Почему ты все это мне рассказываешь? Даже семейные тайны?
Он опустил расставленные руки на стол и задумался. Потеребил мочку уха.
– Ну, для начала потому, что я сам подустал хранить все эти «семейные тайны» в одиночку. Возможно, хотел с кем-нибудь поделиться – с тем, кто будет держать язык за зубами, кто от этого ничего не выиграет. В этом смысле ты идеальный слушатель. И, по правде говоря, я перед тобой в небольшом долгу, и мне бы хотелось как-то его вернуть.
– Передо мной в долгу? – удивился я. – В каком это еще долгу?
Масахико прищурился.
– Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Однако сегодня времени больше нет – у меня другие планы. Пока подумай, когда и где мы можем спокойно встретиться вновь.
Счет оплатил тоже он.
– Не беспокойся! Столько я могу списать на представительские расходы, – сказал он. Я поблагодарил.
После этого я вернулся в Одавару на своей «королле»-универсале. Когда парковал запылившуюся машину перед домом, солнце подкрадывалось к кромке западных гор. Большая стая ворон с криками летела ночевать на другую сторону лощины.
38
Так им нипочем не стать дельфинами
До того, как воскресным утром ко мне приедет Мариэ Акигава, я уже почти все продумал и решил, как буду писать ее на подготовленном для портрета новом холсте. Какой конкретно рисовать картину, я пока не знал – лишь понимал, как нужно начать ее рисовать. Прежде всего в голове из ниоткуда рождается замысел, какой кистью и краской какого цвета нанести первые мазки на белейший холст; вскоре он зацепляется и постепенно начинает укореняться во мне – уже как действительность. Мне нравился сам этот процесс.
Утро выдалось прохладным, как бы напоминая, что зима близко. Я сварил кофе, быстро позавтракал и пошел в мастерскую. Там собрал все необходимые принадлежности и встал у мольберта. Однако перед холстом лежал эскизник, открытый на странице с детальным карандашным наброском склепа в зарослях. Его я нарисовал с утра несколько дней назад. Без всякой цели – как на душу ляжет, – а потом совершенно забыл, что вообще это сделал.
Однако пока я стоял перед мольбертом и, сам того не желая, смотрел на этот эскиз, изображенное там с каждой минутой нравилось мне все больше. Загадочная каменная комната, тайно зияющая отверстием посреди зарослей. Влажная поверхность земли вокруг и ковер из опавших листьев разных цветов и оттенков. Полоски солнечного света меж ветвями деревьев. Этот пейзаж возник у меня в воображении как цветная картинка. Проснулось воображение, дополнило недостающие детали: я уже чуял сам воздух этого места, запах травы, я слышал, как поют там птицы.
Склеп, детально прорисованный карандашом в большом эскизнике, будто бы настойчиво манил меня для чего-то – или куда-то. Я чувствовал: склеп настаивает, чтобы я его нарисовал. Тот редкий случай, когда я хочу нарисовать пейзаж. Почти десять лет я рисовал сплошь портреты, так почему бы иногда не развлечься пейзажем. «Склеп в зарослях». Этот карандашный эскиз мог бы стать наброском для такой картины.
Я захлопнул альбом и снял его с мольберта, где остался лишь белейший новый холст – которому суждено стать портретом Мариэ Акигавы.
Незадолго до десяти, как и раньше, по склону бесшумно поднялась синяя «тоёта приус». Открылись дверцы, из машины вышли Мариэ Акигава и ее тетя – Сёко Акигава. Женщина была в длинном темно-сером жакете в елочку и светло-серой шерстяной юбке, в черных ажурных чулках. Ее шею обвивал цветастый шарф от Миссони. Одета с шиком и в стиле урбанистической осени. А на девочке были просторная толстовка, ветровка с капюшоном, синие джинсы с дырками на коленях, на ногах – темно-синие кеды «Конверс». Одета она была почти так же, как в прошлый раз, – только без кепки. Воздух дышал прохладой, небо выстилал слой полупрозрачных облачков.
Мы поздоровались, и Сёко Акигава села на диван, достала из своей обычной сумки толстый покетбук и все свое внимание переключила на него. Мы же с Мариэ, оставив тетю в гостиной, перешли в мастерскую. Как и прежде, я сел на деревянный табурет, Мариэ – на простой стул из гарнитура. Между нами было примерно два метра. Она сняла ветровку, свернула ее и положила под ноги. Сняла и толстовку – под нею оставались две майки: поверх серой с длинными рукавами была темно-синяя с короткими. Грудь под ними так пока и не обозначилась. Мариэ расчесала пальцами прямые черные волосы.
– Не холодно? – спросил я. В мастерской был старый керосиновый обогреватель, но я его не включал.
Мариэ едва заметно качнула головой, что означало – «нет».
– Сегодня начнем писать на холсте, – сказал я. – Тебе при этом ничего особенного делать не нужно. Просто сиди на стуле, а остальное – мое дело.
– Я не могу ничего не делать, – ответила она, глядя мне прямо в глаза.
– Что это значит? – спросил я, не убирая рук с колен.
– Я ведь живой человек. Дышу. Размышляю.
– Конечно, – ответил я. – Само собой, дышать ты можешь сколько угодно. И размышлять сколько захочешь. Я имею в виду, что от тебя ничего особенного не требуется. Будь сама собой – мне только это и нужно.
Однако Мариэ по-прежнему смотрела на меня в упор, будто не могла согласиться с таким простым объяснением.
– Я хочу что-нибудь делать, – сказала она.
– Что, например?
– Помогать вам писать картину.
– Я, конечно, признателен тебе за это, но как ты собираешься помогать?
– Конечно же, мо-раль-но.
– Вот как… – произнес я, хотя не мог даже представить, как именно она мне поможет «мо-раль-но».
Мариэ сказала:
– Если можно, я хотела бы оказаться у вас внутри – пока вы рисуете мой портрет. И попытаться увидеть себя вашими глазами. Так мне, возможно, удастся лучше понять саму себя. И тогда вы, сэнсэй, тоже поймете меня лучше.
– Вот бы так и было.
– Вы правда этого хотите?
– Конечно, правда.
– Но временами может быть очень страшно.
– Понимать себя лучше? Ты об этом?
Мариэ кивнула.
– Чтобы понять себя лучше, необходимо откуда-то привлечь что-то еще, иное. Вот я о чем.
– А без добавки иного – постороннего фактора – понять себя достоверно не удастся?
– Что такое «посторонний фактор»?
Я пояснил:
– Чтобы верно знать смысл отношения между «А» и «Б», требуется другая точка зрения, именуемая «С». Это называется «триангуляция».
Мариэ, подумав, слегка пожала плечами:
– Пожалуй.
– И то, что добавляется, порой может быть очень страшным. Ты это хотела сказать?
Мариэ кивнула.
– А раньше тебе от этого страшно бывало?
На этот вопрос девочка не ответила.
– Если мне удастся нарисовать тебя достоверно, – сказал я, – ты своими собственными глазами сможешь увидеть себя такой, какой видела моими. Конечно, если все сложится удачно.
– Для этого нам и понадобится картина.
– Да, для этого она нам и понадобится. Как могут понадобиться литература или музыка.
«Если все сложится удачно», – сказал я самому себе.
– Ну что, примемся за работу? – произнес я вслух. Глядя на лицо Мариэ, я приготовил коричневый цвет для чернового наброска. И выбрал первую кисть.
Работа продвигалась не быстро, но безостановочно. Я рисовал на холсте верхнюю половину туловища Мариэ Акигавы. Девочка она красивая, но моей картине особая красота не требовалось. Мне было необходимо то, что спрятано у нее внутри. И мне следовало обнаружить это нечто и перенести на холст. Совсем не обязательно, чтобы оно было красивым – порой это нечто бывает и безобразным, и уродливым. В любом случае само собой разумеется: чтобы заприметить это нечто, мне нужно правильно понимать того, кого я пишу. Не слова и логику этого человека, а его или ее как единое целое, общность света и тени.
Я сосредоточенно наносил на холст линии и краски. Порой проворно, порой – не торопясь и внимательно, осторожно. Все это время Мариэ совершенно не меняла выражения лица. Она тихо сидела на стуле. Но я видел, что она сжала всю свою силу воли в кулак и крепилась как могла долго. Я смог уловить эту силу, почувствовать, как она движется у девочки внутри. Как говорила Мариэ: «Я не могу ничего не делать». И она что-то делает. Наверняка – чтобы помочь мне. Между мной и этой тринадцатилетней девочкой, вне всяких сомнений, происходило нечто вроде взаимного обмена.
Я вдруг вспомнил о руке младшей сестры. Когда мы вместе вошли в пещеру у горы Фудзи, в леденящем мраке сестра крепко сжимала мою руку. Пальцы у нее были маленькие, теплые, на удивление цепкие. И между нами тогда происходил самый настоящий духовный обмен – жизненной силой. Отдавая, мы одновременно что-то принимали, пусть коротко и в тесном месте. Вскоре это ощущение побледнело и пропало. А вот память о нем осталась. Память может согреть время. А искусство, придавая форму этой памяти, может ее увековечить – но лишь когда «все складывается удачно». Как это удалось Ван Гогу, когда он в коллективной памяти продлил жизнь простого деревенского почтальона.
Примерно два часа мы молча сосредоточивались каждый на своей работе.
Я наносил на холст ее фигуру сильно разбавленной краской. Это и станет черновым наброском. Мариэ, сидя на стуле из гарнитура, продолжала неподвижно оставаться сама собой. Наступил полдень – издалека, как обычно, донесся сигнал, услышав который я понял, что отведенное время истекло, и закончил работу. Отложив палитру и кисть, я прямо на табурете потянулся изо всех сил и только теперь наконец понял, насколько устал. Когда я, сделав глубокий вдох, ослабил внимание, Мариэ тоже впервые за все это время сбросила внутреннее напряжение.
Перед моими глазами на холсте было одноцветное изображение верхней части туловища Мариэ. Так сложилась структура – на этой основе уже можно писать портрет. Пока что это лишь примерные очертания, однако в стержне этого скелета уже имелся некий источник тепла, который делал Мариэ на холсте ее самой. Она, правда, пока что пряталась в глубине, но стоит лишь выявить, где ее укрытие, все остальное будет делом техники. Тогда останется лишь добавить плоть.
Мариэ ничего не спросила про начатый портрет и даже не попросила показать. Я тоже ничего не говорил – я слишком устал, чтоб еще и разговаривать. Мы молча вышли из мастерской в гостиную. На диване Сёко Акигава по-прежнему увлеченно читала. Вставив закладку, она закрыла книгу, сняла очки с черной оправой, подняла взгляд и посмотрела на нас. Лицо у нее стало слегка удивленным – видимо, она прочла у нас в лицах усталость.
– Как продвигается работа? – обеспокоенно спросила она у меня.
– Все в порядке. Пока что промежуточный этап.
– Это хорошо, – сказала она. – Если вы не против, я схожу на кухню и заварю вам чай? Чайник уже закипел. И я знаю, где у вас хранится заварка.
Несколько опешив, я взглянул на Сёко Акигаву – она утонченно улыбалась.
– Простите, что я такой плохой хозяин, но за чай я вам буду признателен.
Я действительно очень хотел горячего черного чаю, но подниматься, идти на кухню и ставить чайник мне совсем не хотелось – так сильно я устал. Не помню, чтобы вообще я так сильно уставал в последнее время за работой. Но физически при этом мне было хорошо.
Минут через десять Сёко Акигава вернулась в гостиную с чайником и тремя чашками на подносе. Чай мы пили молча, каждый в собственных мыслях. Мариэ в гостиной пока не произнесла ни слова – лишь вскидывала руку и смахивала падавшую на лоб челку. Она опять надела толстовку, будто хотела от чего-то защититься.
Мы чинно и бесшумно пили чай, доверив свои тела течению времени. Какое-то время все трое молчали, но окружавшая нас тишина была естественной и какой-то оправданной. Однако вскоре до меня донесся знакомый звук. Сначала он показался вялым шумом прибоя, что вынужден вечно накатываться на далекий берег, но постепенно усилился и вскоре стал отчетливо различимым звуком непрерывно работающего механизма. С таким 4,2-литровый восьмицилиндровый двигатель весьма элегантно потребляет ископаемое топливо высокой очистки. Встав с табурета, я подошел к окну и увидел сквозь щель между штор явление серебристой машины.
Мэнсики был в светло-зеленом кардигане и кремовой сорочке. Шерстяные брюки у него были серыми. Вся одежда – очень чистая, без морщин и складок, будто прямо из химчистки. Но отнюдь не новая – все вещи были прилично поношенными и потому тем более казались чистыми. Густые волосы, как и прежде, сияли белизной. Казалось, белизне этой нипочем смена времен года, ненастье и вёдро. В них могло меняться лишь одно – само их сияние.
Выйдя из машины, он захлопнул дверцу, поднял голову и посмотрел на облачное небо. Как будто бы что-то подумал о погоде, после чего решился и медленно двинулся к крыльцу. Там нажал кнопку дверного звонка – неспешно, осмотрительно, будто поэт, отбирающий особое слово, чтобы вставить его в важную строчку. Хотя, как ни смотри на него, то был всего лишь старый дверной звонок.
Я открыл дверь и проводил его в гостиную. Он приветливо поздоровался с гостьями. Сёко Акигава, увидев его, встала с дивана, а Мариэ осталась сидеть, накручивая на палец прядь волос. На Мэнсики она почти не смотрела. Я предложил всем сесть, а заодно спросил у Мэнсики, будет ли он пить чай. Тот на это ответил, чтоб я не беспокоился. Несколько раз покачал головой и замахал рукой.
– Как работа? – спросил он у меня.
– Продвигается, – ответил я.
– Как тебе позировать? Устаешь? – спросил Мэнсики у Мариэ. Он обратился прямо к девочке, глядя ей в глаза, впервые на моей памяти. Голос у него еле заметно дрожал, выдавая напряжение, однако сегодня Мэнсики перед девочкой уже не краснел и не бледнел. А лицо у него и вообще выглядело почти как обычно. Похоже, он все-таки научился сдерживать чувства. Наверняка устроил себе тренинг по особой программе.
Мариэ на вопрос не ответила – только еле слышно буркнула что-то нечленораздельное. Ее руки лежали на коленях, а пальцы были сплетены в крепкий замок.
– Мариэ с нетерпением ждет воскресенья, чтобы с утра сюда приехать, – произнесла Сёко Акигава, чтобы нарушить неловкую паузу.
– Позировать художнику – работа не из легких, – как мог, поддержал я тетушку. – Мне кажется, госпожа Мариэ старается изо всех сил.
– Я тоже некоторое время провел здесь как модель, поэтому могу сказать, что позировать – это необыкновенный опыт. Мне порой даже казалось, будто у меня выкрадывают душу, – сказал Мэнсики и засмеялся.
– Совсем не так, – сказала Мариэ почти шепотом.
Я, Мэнсики и Сёко Акигава почти одновременно посмотрели на нее. Лицо у тетушки при этом было как у человека, который по ошибке что-то проглотил. На лице Мэнсики угадывалось чистое любопытство. Я же старался остаться безучастным наблюдателем.
– Ты это о чем? – спросил Мэнсики.
Мариэ ответила монотонно:
– Ничего и не выкрадывают. Я что-то отдаю, и я что-то получаю.
Мэнсики произнес тихо, будто бы даже с восхищением:
– Ты права. Да еще и выразилась так просто. Конечно же, здесь должен быть обмен. Ведь творчество – действие нисколько не одностороннее.
Мариэ молчала. Как одинокая кваква, что может часами напролет стоять около воды и просто всматриваться в ее поверхность, эта девочка уперлась взглядом в чайник на столе. Обыкновенный керамический чайник белого цвета, пусть и старый – им пользовался еще Томохико Амада, – но созданный для практической цели. На кромке – еле заметные сколы. А потому – предмет без особой прелести, такой не заслуживает, чтобы его пристально разглядывали. Просто ей требовалось сосредоточенно воткнуть куда-нибудь свой взгляд.
В комнате повисла тишина. Напоминала она белейший рекламный щит, на котором ничего не написано.
Творчество, подумал я. В слове этом будто бы звучали нотки, призывающие все вокруг умолкнуть. Словно воздух, которым заполняется вакуум. Хотя нет, в этом случае вернее было бы сказать наоборот: вакуум всасывает в себя воздух.
– Если пожалуете ко мне, – прервав тишину, робко обратился Мэнсики к Сёко Акигаве, – можете поехать со мной, а потом я привезу вас обратно сюда. Заднее сиденье у меня тесновато, но дорога к моему дому весьма извилиста, поэтому, думаю, будет удобней ехать одной машиной.
– Да, конечно, – не колеблясь, ответила тетушка, – мы поедем с вами.
Мариэ о чем-то думала, по-прежнему не сводя взгляда с белого чайника. О чем? Что питало ее мысли, я, конечно же, не знал. Как не знал и того, где они будут обедать. Но это же Мэнсики – он умный, и у него все продумано досконально. Так что мне можно ни о чем не беспокоиться.
Рядом с водителем села Сёко Акигава, Мариэ разместилась на заднем сиденье. Впереди двое взрослых, сзади – ребенок. Они даже не обсуждали ничего, места распределились как-то сами собой. Стоя перед входной дверью, я проводил машину взглядом – она тихо спустилась по склону и скрылась из виду. А потом вернулся в дом, отнес на кухню чашки и чайник и все вымыл.
Затем я поставил на проигрыватель пластинку Рихарда Штрауса «Кавалер розы» и, завалившись на диван, просто слушал музыку. У меня это уже вошло в привычку: когда нечем заняться, я слушаю «Кавалера розы». Привил мне ее Мэнсики: эта музыка, как он говорил, действительно затягивает. Это непрерывное и бесконечное чувство, там повсюду колоритные отзвуки. «Даже метлу я могу выразить музыкой», – самоуверенно заявлял некогда Штраус. Или то была не метла? Как бы то ни было, вся музыка у него поистине живописна. Пусть даже сам я стремлюсь к другой живописности.
Немного погодя я открыл глаза и увидел перед собой Командора. Он был в своем привычном наряде эпохи Аска и с мечом за поясом. Шестидесятисантиметровый мужчина сидел в массивном кожаном кресле, слегка ссутулившись.
– Давно не виделись, – сказал ему я. Собственный голос показался мне насильно притянутым откуда-то из другого места. – Как поживаете?
– Мы уже говорили сударям в прошлых, у идей не суть понятий времен, – отчетливо произнес Командор. – Следовательно, понятий «давно не виделись» – тоже.
– Это же просто привычка. Приветствие. Не обращайте внимания.
– Мы также не ведаем, что суть «привычки».
Пожалуй, он прав. Там, где нет времени, привычки не возникают. Встав с дивана, я подошел к проигрывателю, поднял иглу и убрал пластинку в коробку.
– Именно так, – произнес Командор, прочитав мои мысли. – В тех мирах, где времена свободно движутся тудасюда, привычки и прочие не суть возникают.
Я задал ему вопрос, который давно меня беспокоил:
– А идее источник энергии не требуется?
– Непростые вопросы судари наши задают, – ответил Командор, наморщив лоб. – Чем бы те ни были, чтоб оне народились и дальше существовали, какие-то энергии да требуются. Разве не суть сии одни из основных законов вселенных?
– Выходит, идее тоже необходим источник энергии? Следуя из основного закона Вселенной.
– Именно. У законов вселенных исключений не суть. Однако преимущества идей в тех, что у них не суть изначальных обликов. Идеи, когда их осознают другие, впервые возникают как идеи и облачаются в формы. И формы у них – временные, для удобств.
– В смысле – в местах, где ее не осознают, идея существовать не может?
Командор поднял к небу указательный палец правой руки и закрыл один глаз.
– С сих мест, судари наши, как проводить аналогии?
Я тщательно подумал. На это потребовалось время, но Командор терпеливо ждал.
– Как мне кажется, – сказал я, – идея существует за счет осознания других, что и является источником ее энергии.
– Именно, – произнес Командор и несколько раз кивнул. – Пониманья безупречны. Идеи не могут существовать без осознаний других. И вместе с теми существуют за счеты энергий осознаний других.
– Так что получается? Достаточно мне посчитать, что «Командора не существует», и вас не будет?
– Теоретически, – ответил Командор. – Однако сие лишь в теориях. На самих делах сие не суть действительны. Почему? Все просто: потому что людям, решившим отказаться от каких-либо мыслей, фактически невозможно перестать думать. Мысли прекратить о чем-то думать тоже суть одни из мыслей, и пока люди так думают, думают оне и о сих чем-то. А чтоб отказаться от мыслей о чем-то не думать, людям надобно отбросить сами мысли о тех, что оне намерены от чего-то отказаться.
Я сказал:
– Иначе говоря, до тех пор, пока по чьему-либо хлопку в ладоши не пропадет вся память, пока повсюду не отпадет естественный интерес к идее, человеку от идеи никуда не деться?
– Дельфинам сие по силам, – сказал Командор.
– Дельфинам?
– Дельфины умеют спать, отключая полушария мозгов попеременно.
– Я не знал.
– По сим причинам дельфины не питают интересов к идеям. Посему оне остановились в процессах своих эволюций. Мы тоже по-своему старались, но, к сожалениям, не смогли установить полезных отношений с ними, хоть это и весьма перспективные семейства. Во всяких случаях, до появлений людей среди млекопитающих сие были животные с самыми большими мозгами по отношеньям к весам тел.
– Однако с людьми же они смогли установить полезные отношения?
– У людей, в отличиях от дельфинов, мозги лишь извилистые, но одноколейные. Взбредут вдруг какие идеи, и от них уж не отделаться. Вот так идеи и смогли длительно выживать, подпитываясь энергиями людей.
– Как паразит?
– Зачем такие неблагозвучные сравненья? – воскликнул Командор и покачал указательным пальцем, будто учитель, отчитывающий ученика. – Да, идеи подпитываются энергиями, но берут самые малости. Какие-то горсти – обычные люди сих даже не заметят: оне никак не повредят их здоровьям и не скажутся на повседневных жизнях.
– Однако вы же сами говорили, что у идеи нет морали. Что идея – во всех отношениях понятие нейтральное, и все зависит от человека, как он с нею поступит, сделает хуже или лучше. А раз так, идея может делать для человека что-то хорошее, но бывает и наоборот – плохое. Верно?
– При том, что понятия E=mc 2 должны быть нейтральны, оне в результатах породили атомные бомбы. Которые на практиках сбросили на Хиросимы и Нагасаки. Вы, судари наши, хотите сказать, к примерам, о сих?
Я кивнул.
– Сие ранит нам сердца. – Нечего и говорить, Командор ляпнул это ради красного словца – у идеи нет плоти, следовательно, и сердца не суть. – Однако, судари наши, в сих вселенных во всех caveat emptor.
– Что-что?
– Caveat emptor. С латыней сие «ответственности покупателей». Как применяются вещи, оказавшись в руках покупателей, продавцов никак не касается. Например, могут ли продавцы готовых одежд выбирать, кому их носить?
– Ну, это вряд ли.
– E=mc 2 породили атомные бомбы, но с других сторон – и много хороших.
– Например, что?
Командор подумал, но подходящий пример сразу на ум не пришел. Тогда он принялся молча тереть ладонями лицо. А может, просто не увидел смысла в дальнейшей дискуссии.
– Кстати, вы не знаете, куда из мастерской делась погремушка?
– Погремушки? – переспросил, встрепенувшись, Командор. – Какие еще погремушки?
– Старая такая, ею вы сами долго звонили из того склепа. Она лежала на полке в мастерской, а недавно я обнаружил, что она пропала.
Командор уверенно покачал головой:
– А-а, те погремушки! Нет, не ведаем-с. В последние времена мы к погремушкам и не прикасались.
– Тогда кто же мог ее унести?
– И этого мы совсем не ведаем-с.
– Кто-то его вынес ее из дому и, похоже, где-то в нее звонит.
– Хм-м. Сие не суть наши заботы. Те погремушки прекратили нам быть в надобности. Вообще-то оне не суть наши, наоборот – оне от тех мест. Во всяких случаях, ежели оне пропали, на то были свои причины. Вскорости того и глядите – где-то объявятся. Стоит только подождать.
– От того места? – переспросил я. – Вы склеп имеете в виду?
Командор не ответил на этот вопрос.
– Кстати, судари наши. Вы здесь ждете, покуда вернутся Сёко и Мариэ Акигавы? Еще не скоро. До наступлений темнот их здесь не будет.
– У господина Мэнсики, видимо, имеются какие-то свои намерения? – поинтересовался я напоследок.
– Да, у дружищ Мэнсики всегда суть какие-то намерения. Постоянно что-то замышляют оне. Без сих и шагов вперед сделать не могут. Сие у них – как врожденные недуги. Живут, беспрестанно используя до пределов обе половины мозгов. Так им нипочем не стать дельфинами.
Фигура Командора постепенно утратила контуры, стала тонкой, будто пар безветренным зимним утром, рассеялась и вскоре исчезла совсем. Передо мною пустотой зияло старое кресло. Оставленное в нем отсутствие было глубоко, и я уже не был уверен, что Командор только что действительно сидел прямо передо мной. Может, я и оставался лицом к лицу с пустотой. Беседовал со своим собственным голосом.
Как и предсказал Командор, «ягуар» Мэнсики все не появлялся. Две красивые женщины из семьи Акигава, похоже, загостились у него в доме. Я вышел на террасу и посмотрел на особняк на той стороне лощины, но ничьих силуэтов не увидел. Чтобы убить время, я пошел на кухню и занялся стряпней: сварил бульон, отварил овощи, что можно было заморозить – заморозил. Но даже когда я переделал все, что могло прийти мне на ум, времени у меня все равно осталось в избытке. Вернувшись в гостиную, я слушал продолжение «Кавалера розы» и, лежа на диване, читал книгу.
Сёко Акигава питает к Мэнсики интерес – это уж точно. У нее даже глаза сияют иначе, когда она смотрит на Мэнсики и на меня. Справедливости ради следует признать: Мэнсики – привлекательный мужчина в самом расцвете сил, симпатичный, богатый холостяк. Одевается хорошо, обходительный, живет в большом доме на горе, ездит на четырех английских машинах. Многие женщины на свете, вне всяких сомнений, им заинтересуются – примерно с той же вероятностью, с какой не станут интересоваться, в частности, мной. А вот Мариэ Акигава относится к Мэнсики настороженно – это тоже несомненно. Она – девочка с весьма острой интуицией. Возможно, догадывается, что Мэнсики действует по какому-то скрытому плану, и поэтому намеренно его к себе не подпускает. По крайней мере, мне это видится так.
Во мне боролись противоречивые чувства: природное любопытство – желание увидеть, как все будет складываться впредь, – и смутное опасение, что результат окажется далеко не радостным. Так в устье сталкиваются и выдавливают друг друга течение реки и морской прилив.
«Ягуар» Мэнсики поднялся по склону чуть позже половины шестого. Как и предсказал Командор, к тому времени вокруг уже была кромешная темнота.
39
Замаскированное вместилище, созданное ради определенной цели
«Ягуар» неспешно остановился перед крыльцом, распахнулась дверца, и первым вышел Мэнсики. Обогнув машину, он открыл дверцу Сёко Акигаве, затем, откинув переднее сиденье, помог выйти и Мариэ. Выбравшись из «ягуара», обе тут же пересели в свой синий «приус». Сёко Акигава опустила стекло и вежливо поблагодарила Мэнсики (Мариэ, разумеется, смотрела в сторону с безучастным лицом). И, не зайдя ко мне, они поехали домой. Проводив взглядом удалившийся «приус» и помедлив, Мэнсики, похоже, переключил сознание и, переменившись в лице, направился к двери моего дома.
– Извините за поздний визит. Не помешаю? – немного стесняясь, поинтересовался он.
– Проходите, пожалуйста, – мне все равно нечем заняться, – ответил я и проводил его в гостиную.
Там мы и расположились: он на диване, я – в кресле, где еще недавно восседал Командор. Мне казалось, что вокруг этого кресла все еще витают отголоски его несколько пронзительного голоса.
– Спасибо вам сегодня за все, – произнес Мэнсики. – Вы мне очень помогли.
Я ответил, что не сделал ничего такого, что заслуживало бы благодарности, – потому что и в самом деле ничего особенного не сделал.
Мэнсики сказал:
– Однако если б не портрет, который вы пишете, точнее – если б не было вас, человека, который пишет этот портрет, – такой случай мне бы так и не подвернулся. Просто не сложилась бы такая ситуация, в какой я бы мог приблизиться к Мариэ Акигаве и встретиться с ней лицом к лицу. В этом деле вы – как гарды веера, хотя, возможно, с такой позицией и не согласны.
– Я б не сказал, что с чем-то не согласен. Буду рад, если чем-то вам пригожусь. Только вот не могу понять, что происходит случайно, а что – умышленно. И, признаться, это не самое приятное ощущение.
Мэнсики задумался и ответил:
– Можете не верить мне, но я не создавал такую ситуацию намеренно. Не хочу утверждать, будто все это непредвиденный дар судьбы, но большинство из недавних событий – и впрямь стечение обстоятельств.
– Хотите сказать, что при стечении обстоятельств я случайно сыграл роль катализатора? – спросил я.
– Катализатора? Да, пожалуй, можно и так назвать.
– Однако, если честно, мне кажется, я стал даже не катализатором, а эдаким «троянским конем».
Мэнсики поднял голову и посмотрел на меня, сощурившись, точно его слепил яркий свет.
– Что это значит?
– Ну, тот деревянный конь у греков. Внутри у него спрятали вооруженных до зубов отборных воинов, а самого коня под видом подарка побудили завезти внутрь крепости. Так сказать, замаскированное вместилище, сооруженное ради определенной цели.
Мэнсики повременил, подбирая слова, а затем произнес:
– Вы хотите сказать, что я вас заслал вроде троянского коня? Чтобы приблизиться к Мариэ Акигаве?
– Может, вам это и не понравится, но у меня отчасти такое ощущение.
Мэнсики прищурился и улыбнулся самыми уголками губ.
– Да-а, в чем-то вы и вправе так обо мне подумать. Но как я уже говорил, все сложилось по большей части случайно. Если уж начистоту, вы мне нравитесь. Я к вам просто по-человечески расположен. Так у меня случается не часто, но если уж бывает, я стараюсь ценить это чувство. И я никак не использовал вас ради какой-либо собственной выгоды. Бывает так, что я веду себя весьма эгоистично, однако я достаточно разбираюсь в правилах приличий. И троянского коня из вас я не делал – уж постарайтесь в это поверить.
Мне показалось, что он не лицемерит.
– И вы что – показали им картину? – спросил я. – Ваш портрет, что висит в библиотеке?
– Конечно. Ведь ради этого они ко мне и приехали. Мне кажется, полотно это произвело на них сильное впечатление. Тем не менее Мариэ своим мнением вслух не поделилась. Что поделать? Немногословный ребенок. Одно несомненно: судя по ее лицу, портрет ей понравился – уж в этом-то я разбираюсь. Она простояла перед картиной довольно долго – молча и даже не шевелясь.
Признаться, я уже не мог припомнить, что за картину сам нарисовал – и это при том, что закончил ее всего несколько недель тому назад. Так всегда: завершив работу над одной картиной и принимаясь за другую, я почти никогда не могу вспомнить, что рисовал накануне. Разве что смутно, в общих чертах. Только ощущения от работы над картиной оставались в телесной памяти. Для меня важнее даже не сама картина, а ощущения при работе над ней.
– Они очень долго у вас пробыли, – сказал я.
Мэнсики стыдливо потупился.
– Когда они посмотрели портрет, я предложил им перекусить, а затем показал им дом – устроил нечто вроде экскурсии. Сёко Акигава проявила интерес, и я сам не заметил, как пролетело время.
– Ваш дом наверняка их восхитил?
– Скорее, одну Сёко Акигаву, – ответил Мэнсики. – А особенно ей понравился «ягуар-И». Мариэ же так и продолжала играть в молчанку. Может, ей мой дом не понравился. А может, ее вообще дома не интересуют.
Я б решил, что ей просто наплевать, подумал я.
– Ну а поговорить с нею вам удалось?
Мэнсики лишь слегка покачал головой:
– Нет, я произнес ей всего две или три фразы. И только, да и то – о всяких пустяках. Обращаешься к ней – а ответа нет.
Высказывать мнение об этом я не стал, а просто очень явственно представил эту картину. Ну какое тут может быть мнение? Мэнсики пытается заговорить с Мариэ Акигавой, а в ответ – ровным счетом ничего. Лишь невнятно буркнет что-нибудь бессмысленное. Если уж у нее нет желания разговаривать, беседовать с ней – все равно что поливать из черпака песок среди широкой знойной пустыни.
Мэнсики поднял со стола лакированную керамическую улитку и тщательно разглядывал ее под разными углами. Она была среди тех немногих украшений, что я нашел в этом доме. Вероятно, что-то старое, дрезденское, не крупнее мелкого яйца. Не исключено, что ее где-то приобрел сам Томохико Амада. Мэнсики вскоре осторожно вернул безделушку на стол и, медленно подняв голову, посмотрел на меня.
– Кто знает, возможно, чтобы мне к этому привыкнуть, потребуется какое-то время, – произнес он как бы самому себе. – Мы же встретились совсем недавно. К тому же ребенок она молчаливый. Тринадцать лет – как раз начало полового созревания, по большому счету – непростой возраст. И уже то, что я был с нею в одной комнате, дышал тем же воздухом, ценно для меня, это незаменимые минуты жизни.
– Поэтому убеждение ваше по-прежнему неизменно?
Мэнсики чуточку прищурился.
– Какое мое убеждение?
– Вы по-прежнему не желаете собраться с духом и выяснить правду, родная вам дочь Мариэ Акигава или нет?
– Нет, это мое убеждение ничуть не изменилось, – не задумываясь, ответил Мэнсики и, слегка прикусив губу, умолк. А после сказал: – Как бы получше выразиться? Пока я был с нею, видел перед собой ее лицо и фигуру, меня охватило весьма необычайное чувство. Как будто все эти прожитые долгие годы утрачены в недеянии. Мне так показалось, и я совершенно перестал понимать смысл собственного бытия, причину, по которой я вообще здесь. Ценность всего, что до сих пор казалось мне верным, вдруг потеряла свою достоверность.
– Это и есть то самое весьма необычное чувство для вас? – на всякий случай уточнил я. Потому что сам это «необычайным чувством» особо не считал.
– Да. Такого прежде я никогда не испытывал.
– Хотите сказать, что за те несколько часов, что вы провели вместе с Мариэ Акигавой, внутри у вас возникло такое вот «необычайное чувство»?
– Думаю, да. Хотя это может прозвучать по-дурацки.
Я покачал головой.
– Ну почему по-дурацки? Сдается мне, подростком, когда впервые влюбился в одну девчонку, я переживал нечто похожее.
Мэнсики горько улыбнулся одними уголками губ.
– Тогда у меня вдруг закралась такая вот мысль: «Чего бы я ни достиг, как бы ни преуспел в работе, какой бы капитал ни сколотил, я, в конечном счете, не более чем удобное избыточное существо, нужное лишь для того, чтобы передать кому-то следующему принятый от кого-то еще набор генов. Если не брать в расчет эту практическую функцию, остаток меня – лишь горстка праха».
– Горстка праха? – повторил я за ним. В этих словах мне послышался какой-то необычайный отзвук.
– Признаться, когда я недавно забирался в тот склеп, во мне такое вот зародилось и пустило корни. В склеп за кумирней, который мы вскрыли, сдвинув камни. Помните, что было тогда?
– Прекрасно помню.
– За тот час, что я провел во мраке, я глубоко познал собственную беспомощность. Если б вы только захотели, я бы остался на дне того склепа один. Без воды, без еды истлел бы и, рассыпавшись, стал горсткой праха. Выходит, вот и все, что представляет собой мое бытие.
Я молчал, не зная, что на это сказать. Тогда продолжил Мэнсики:
– Мне пока достаточно уже того, что Мариэ Акигава – возможно, мой родной ребенок. И я не думаю, что хотел бы выяснять это досконально. В свете этой возможности я переосмысливаю себя.
– Ясно, – ответил я. – Всех нюансов я не уловил, но ход вашей мысли, кажется, понял. Однако, Мэнсики-сан, что вы в конечном итоге хотите добиться от Мариэ Акигавы?
– Не подумайте, что я об этом не размышляю, – сказал Мэнсики и посмотрел на свои руки – красивые, с длинными пальцами. – Человек держит в голове разные мысли, хочется им этого или нет. Однако для того, чтобы узнать, как все сложится, приходится ждать. Потому что всему свой час, и только время даст все ответы.
Я помалкивал. О чем он думает, я не знал и, если честно, знать не хотел. Я понимал: если я это узнаю, мое положение станет куда щекотливее, чем сейчас.
Мэнсики помолчал, а затем спросил у меня:
– Однако, оставаясь с вами наедине, Мариэ Акигава, похоже, не прочь и сама поговорить, по словам Сёко Акигавы.
– Наверное, – осмотрительно ответил я. – В мастерской мы с ней свободно болтаем о разном.
О том, что Мариэ пришла сюда вечером с соседней горы по секретной тропе, я, разумеется, не сказал. Это наша с ней тайна.
– Она к вам привыкла? Или же вы ей просто больше нравитесь?
– Ее по-настоящему интересует живопись, художественное выражение в целом, – пояснил я. – Не всегда, но бывает, что, когда речь заходит о картинах, Мариэ говорит довольно красноречиво. Она действительно немного странная девочка. Даже в изостудии почти ни с кем из детей не разговаривает.
– Это к слову о том, что дети-сверстники не могут ладить между собой?
– Пожалуй. По словам ее тети, и в школе она подружек не заводит.
Какое-то время Мэнсики молча думал обо всем этом.
– Однако с тетушкой она держится открыто, – наконец произнес он.
– Похоже на то. Судя по ее рассказам, к тетушке она куда более привязана, чем к отцу.
Мэнсики молча кивнул. В этом его молчании, как мне казалось, таился некий смысл. Я спросил у него:
– А что за человек ее отец? Ведь вы о нем наверняка что-то знаете?
Мэнсики, склонив голову набок, сощурился, а затем сказал:
– На пятнадцать лет старше нее. В смысле – своей покойной жены.
Покойная жена – это женщина, которая, понятное дело, прежде была его любовницей.
– Как они познакомились и вышло так, что они поженились, мне неизвестно. Даже не так – мне это неинтересно, – проговорил Мэнсики. – Но какими бы ни были те обстоятельства, он, несомненно, дорожил супругой и поэтому, потеряв ее, пережил сильное потрясение. Поговаривают, он вообще стал другим человеком.
Из слов Мэнсики выходило, что семья Акигава прежде владела многими окрестными землями – как и семейство Томохико Амады. После Второй мировой войны случилась земельная реформа, и угодья семьи сократились наполовину, но даже так оставалось немало активов, и семья могла жить вольготно с одних получаемых доходов. Ёсинобу Акигава (так звали отца Мариэ) был старшим ребенком и вскоре после безвременной кончины отца возглавил семью. Сам он жил в доме, построенном на вершине собственной горы, а в собственном здании в городе Одавара держал контору. Она контролировала несколько торговых зданий и многоквартирных домов, ряд отдельных построек и участков в черте Одавары и в его окрестностях. Изредка он проводил и торговые сделки по недвижимости. Но даже так никакую масштабную деятельность не разворачивал. В основе его работы лежало использование лишь объектов семьи Акигава по мере необходимости.
Для Ёсинобу Акигава это был поздний брак: женился он в сорок пять, а на следующий год родилась малышка (Мариэ – та девочка, кого Мэнсики считал свой дочерью). Через шесть лет на жену напали шершни, и она умерла. В самом начале весны гуляла в обширной сливой роще на их участке, и ее покусали крупные и агрессивные насекомые. Это сильно потрясло главу семьи. Вероятно, он хотел избавиться от всего, что напоминало бы ему о несчастье, и потому вскоре после похорон, наняв людей, вырубил все до последнего дерева в сливовой роще и даже выкорчевал все пни, превратив рощу в унылый пустырь. Роща же была настолько прекрасной, что немало людей до сих пор жалеют о ней. Сливы давали обильный урожай, их солили и готовили из них напиток умэш, и с давних пор соседям разрешалось свободно собирать их – в разумных количествах, конечно. И в результате же хозяйского варварства многие лишились своего ежегодного удовольствия, пусть даже такого незначительного. Но то была его гора и его сад, и все понимали, что его ярость – это его личная злость, направленная на сливовый сад и шершней. Кто мог ему возразить?
После смерти жены Ёсинобу Акигава стал крайне угрюмым человеком. Он и прежде не отличался открытостью и общительностью, а теперь его замкнутость лишь усугубилась. Со временем у него возник и окреп интерес к духовному миру, а это привело к отношениям вдовца с некоей религиозной сектой (о такой я прежде и не слыхал). Поговаривают, Ёсинобу Акигава побывал даже в Индии и, вложив свои деньги, построил на окраине города прекрасный зал единоборств для той секты и стал там пропадать сам. Что творилось в самом помещении, неизвестно, однако Ёсинобу Акигава, похоже, день за днем предавался строгим религиозным практикам, изучал реинкарнацию и тем самым искал смысл для дальнейшей жизни после утраты жены.
Из-за этого он стал меньше вникать в дела фирмы, благо дел этих у фирмы было немного. Даже если бы директор почти не появлялся у себя в кабинете, фирма могла справляться усилиями трех своих старых сотрудников. Домой он тоже почти не приходил, а если и заявлялся – только поспать. Неясно, почему, но после смерти жены он быстро перестал интересоваться судьбой их единственной дочери. Возможно, видя перед собою дочь, вспоминал о покойной супруге. Хотя, может статься, был безразличен к ребенку с самого начала. Во всяком случае, дочь, разумеется, тоже не испытывала к отцу нежных чувств. Забота об оставшейся без матери Мариэ легла на плечи младшей сестры Ёсинобу. Тете Сёко пришлось оставить работу секретаря ректора Токийского мединститута и переехать в дом брата в горах Одавары сперва на время, но в конце концов она официально уволилась и стала жить вместе с братом и племянницей. Наверняка беспокоилась за Мариэ, а может, просто не могла спокойно смотреть, в каких обстоятельствах оказалась ее маленькая племянница.
Закончив на этом, Мэнсики потер губы пальцами и спросил:
– Есть что-нибудь выпить? Виски?
– Односолодовый. Где-то с полбутылки есть, – ответил я.
– Не сочтите за наглость, можете угостить? Со льдом.
– Конечно. Ничего, что вы за рулем?
– Вызову такси, – сказал он. – Лишаться прав за езду в нетрезвом виде я пока не намерен.
Я принес из кухни бутылку виски, керамический горшок со льдом и два бокала. Мэнсики тем временем поставил на проигрыватель «Кавалера розы», которого я слушал накануне. И мы, слушая пышную музыку Рихарда Штрауса, пили виски.
– Любите односолодовый? – спросил Мэнсики.
– Вообще это подарок – одного старого приятеля. Вкусный. Мне нравится.
– У меня дома есть весьма уникальный односолодовый с острова Айлей. Прислал один знакомый, который живет в Шотландии. Из бочки, которую вскрыл лично принц Уэльский, когда посещал тамошнюю винокурню. Если хотите, привезу в следующий раз.
Я ответил, что не стоит так беспокоиться.
– Кстати, об Айлее – там неподалеку есть островок под названием Джура. Не слыхали?
Я сказал, что не слышал.
– Населения там мало и почти ничего нет. Оленей намного больше, чем людей. Еще там обитают зайцы, фазаны, тюлени. И есть одна старая винокурня. Поблизости бьет родник с очень вкусной водой, и та хорошо подходит для виски. Поэтому односолодовый острова Джура из тамошней родниковой воды – это просто прекрасно! Вот уж действительно вкус, какого больше нигде не найдешь.
Я поддакнул, сказав, что, должно быть, очень вкусно.
– Это место известно еще и тем, что Джордж Оруэлл писал там свой роман «1984». Он уединился в съемном домике в северной части острова, из-за чего зимой заболел. Условия в доме были самые примитивные. Вероятно, Оруэллу требовались такие спартанские условия. Мне довелось пожить на том острове примерно неделю. И по вечерам у очага я в одиночестве пил вкусный виски.
– Как вас занесло в такую глухомань?
– Дела, – коротко ответил он и улыбнулся.
Что там у него были за дела, он объяснять не собирался, а мне не особо-то и хотелось знать.
– Сегодня такое состояние, что просто невозможно не выпить, – сказал он. – Никак не могу успокоиться – вот и попросил вас о таком одолжении. Машину я оставлю здесь до завтра, не возражаете?
– Конечно, я не против.
Повисла небольшая пауза.
– Можно задать вам личный вопрос? – спросил Мэнсики. – Надеюсь, он вас не расстроит.
– Если смогу ответить – отвечу. Я не из обидчивых.
– Вы ведь были женаты?
Я кивнул.
– Был. По правде говоря, совсем недавно я подписал документы на развод и отослал их обратно. Поэтому даже не знаю, в каком я теперь официальном статусе. Но, во всяком случае, женат был. Лет шесть.
Мэнсики, глядя на лед в бокале, о чем-то задумался. Затем спросил:
– Извините за щекотливый вопрос, а вы сожалеете, что дело у вас дошло до развода?
Я сделал глоток и поинтересовался у Мэнсики:
– Напомните, как по-латински «ответственность покупателя»?
– Caveat emptor, – не колеблясь, ответил тот.
– Сразу не запомнить, как произносится, но что эти слова означают, понять я способен.
Мэнсики засмеялся. Я продолжал:
– Нельзя сказать, что я нисколько не жалею о супружеской жизни. Но даже если вернуться, чтобы исправить какую-нибудь ошибку, в итоге результат оказался бы тем же.
– Вероятно, в вас есть некая склонность, не поддающаяся переменам. Она-то и стала помехой семейной жизни, нет?
– Или же во мне отсутствует некая склонность, не поддающаяся переменам. Возможно, это и стало помехой семейной жизни.
– Однако у вас есть желание писать картины. Оно, должно быть, прочно связано с желанием жить.
– Но я, похоже, так и не преодолел до конца все то, что должен был. Мне так кажется.
– Испытание вам когда-нибудь непременно предстоит, – сказал Мэнсики. – Испытание – хороший случай изменить свою жизнь. И чем оно сложнее, тем больше этот опыт нам потом пригодится.
– Если не сдаться, не опустить руки.
Мэнсики опять улыбнулся. Больше темы детей и развода он не касался.
Я принес из кухни банку оливок. Мы с Мэнсики какое-то время молча пили виски, закусывая солеными оливками. Когда закончилась первая сторона пластинки, Мэнсики ее перевернул и поставил вторую. Георг Шолти продолжил дирижировать Венским симфоническим оркестром.
Да, у дружища Мэнсики всегда есть какие-то намерения. Постоянно что-то замышляет. Без этого и шагу вперед сделать не может.
Что он сейчас намеревается сделать? Или что замышляет? Этого я не знал. Или у него пока что не получается ничего замыслить и он выжидает? Он же сам сказал, что у него нет намерения использовать меня. Пожалуй, вряд ли он лжет. Однако намерение есть не более чем намерение. Я имею дело с человеком, который своим умом добился успеха в передовом бизнесе. Если у него есть какое-то намерение – пусть даже потенциальное, – вряд ли я смогу остаться в него не втянутым.
– Вам, кажется, тридцать шесть? – неожиданно спросил Мэнсики.
– Да.
– Пожалуй, самый прекрасный период в жизни.
Я, правда, совсем так не считал, но высказать ему свое мнение не решился.
– Мне вот исполнилось пятьдесят четыре. В тех кругах, где я вращался, для полноценной работы возраст уже почтенный, а чтобы стать легендой, я пока что слишком молод. Вот я и слоняюсь, толком ничего не делая.
– Но есть же такие, кто молодым становится легендой.
– Да, есть. Их немного. Однако никакого смысла нет в том, чтобы молодым становиться легендой. На мой взгляд, это довольно-таки кошмарно. Станешь легендой – и весь долгий остаток жизни будешь вынужден жить как под копирку. Что скучнее такой вот жизни?
– А вам не скучно?
Мэнсики улыбнулся.
– Насколько могу припомнить, я еще не заскучал ни разу. У меня не было времени скучать.
Я лишь восхищенно кивнул.
– А вы? Вам доводилось скучать? – спросил он.
– Еще бы – и весьма нередко. Однако скука, похоже, стала неотъемлемой частью моей нынешней жизни.
– Скука не бывает мучительной?
– Да нет, похоже, я с нею свыкся, и она меня никак не мучает.
– Это потому, что в вас не утихает сильное желание писать картины. Это стержень всей вашей жизни, и состояние скуки для него – словно колыбель созидательного порыва. Не будет такого стержня – и скука наверняка станет невыносима.
– Мэнсики-сан, так вы сейчас не работаете?
– Да, я, по сути, отошел от дел. Как уже говорил, провожу немного валютных сделок, торгую акциями через Интернет, но это совсем не потому, что вынужден этим заниматься. Это меня развлекает, а вместе с тем – тренирует мозги.
– И вы живете в таком большом особняке совсем один?
– Именно.
– И вам при этом не скучно?
Мэнсики покачал головой.
– У меня есть о чем поразмышлять. Есть немало книг, которые я должен прочесть, немало музыки, какую должен переслушать. Я собираю много разных данных, классифицирую их, анализирую. Умственная работа вошла в мою повседневную привычку. Я занимаюсь гимнастикой, для смены настроения беру уроки игры на фортепьяно. Разумеется, нужно выполнять и кое-какую работу по дому. Времени для скуки у меня просто нет.
– А стариться? Стариться вам не страшно? В смысле, живя в одиночестве.
– Годы берут свое, – сказал Мэнсики. – Плоть и дальше будет дряхлеть. Я стану все более одиноким. Однако пока что этого на себе я не испытывал. В целом я могу себе это представить, но как бывает на самом деле, своими глазами я не видел. А я такой человек, что склонен доверять лишь тому, что видел собственными глазами. Вот я и жду того, что́ увижу своими глазами дальше. В общем, это не страшно. Особых чаяний у меня тоже нет. Так, легкий интерес.
Мэнсики мерно покачивал в руке бокал с виски и смотрел на меня.
– А вы? Вы не боитесь стареть?
– Шесть лет моей семейной жизни привели к разводу. И за все эти годы для себя я не смог написать ни единой картины. Если вдуматься, эти годы были потрачены впустую. Ведь ради заработка мне пришлось нарисовать бесчисленное количество неинтересных мне самому портретов. Однако в этом, вероятно, есть и обратная – счастливая – сторона. В последнее время все чаще об этом задумываюсь.
– Возможно, я сумею понять, что вы хотите этим сказать. Значимым становится то, что вы отбросили свое «я» за очередным поворотом жизни. Вы об этом?
Наверное, подумал я. Однако в моем случае, видимо, я просто не сразу разглядел в себе нечто важное – и тем самым вовлек в этот свой напрасный «объезд» Юдзу.
Не страшно ли мне стареть? – спросил я самого себя. Боюсь ли я этого?
– Признаться, я этого пока не ощущаю. Возможно, из уст человека, которому нет еще сорока, это прозвучит глупо, но у меня такое ощущение, будто жизнь только начинается.
Мэнсики улыбнулся.
– Отчего ж? Никакая это не глупость. Пожалуй, все так и есть – вы только начали жить.
– Мэнсики-сан, вот вы упоминали о генах – о том, что вы просто сосуд, чтобы принять набор генов и передать его следующему поколению. И если отбросить эту практическую функцию, вы сами – лишь горстка праха. Верно?
Мэнсики кивнул.
– Да, я так говорил.
– Однако разве вам не страшно, что вы сами – лишь горстка праха?
– Я – лишь горстка праха, но праха очень качественного, – ответил Мэнсики и улыбнулся. – Извините за дерзость, но можно даже сказать – исключительно выдающегося праха. По крайней мере, я наделен некими способностями – конечно же, ограниченными, но, несомненно, способностями. И пока я живу, живу я на полную катушку. Я хочу проверить предел своих возможностей. Скучать мне некогда. По мне, так лучший способ не ощущать страх и не бояться пустоты – это прежде всего не скучать.
Часов до восьми мы пили виски. Вскоре бутылка опустела – и Мэнсики выпал удобный случай попрощаться.
– Извините, что засиделся у вас допоздна, – сказал он. – Пора и честь знать.
Я вызвал по телефону такси. Достаточно было сказать:
– Дом Томохико Амады. – Томохико Амада – личность известная.
– Машина будет минут через пятнадцать, – ответил мне диспетчер. Я поблагодарил и повесил трубку.
Пока ждали такси, Мэнсики произнес таким тоном, будто доверял мне тайну:
– Я же вам уже сказал, что отец Мариэ Акигавы, так сказать, попал в лапы некоей религиозной организации?
Я кивнул.
– Это организация нового типа – и весьма сомнительного происхождения. Судя по информации в Интернете, с ней связан ряд нарушений общественного порядка. Несколько раз против них возбуждали гражданские процессы. Само учение – не пойми что, по мне – так это некий несерьезный суррогат, даже язык не поворачивается называть его религией. Однако нечего и говорить, господин Акигава волен верить, во что пожелает. Просто за несколько последних лет он влил в эту организацию немалые деньги, без разбора – свой капитал или деньги компании. Вначале у него имелся крупный капитал, но сейчас дела таковы, что живет он лишь за счет ежемесячной арендной платы арендаторов. Если не продавать землю или объекты, такой доход, само собой, ограничен. Но господин Акигава в последнее время продает направо и налево. Всем, кто это видит, очевидно, что симптомы это нездоровые. Он как тот осьминог, что поедает свои щупальца, чтобы выжить.
– То есть, фактически, его пожирает та организация?
– Именно. Точнее будет сказать – его обдирают как липку. Если они уж прикладываются к какой-то кормушке – выметают из нее все подчистую. Из своих благотворителей они выдаивают все до последней капли. Господин Акигава – элита местных деловых кругов, а при этом человек, мягко говоря, неосторожный.
– И вас это беспокоит.
Мэнсики вздохнул.
– Что будет с ним – его личное дело. Взрослый человек, он поступает по своему усмотрению. Но если пострадают ничего не подозревающие члены его семьи, это будет уже не просто разговор. Хотя кого интересуют мои опасения?
– Изучение реинкарнации, значит?
– Как гипотеза это вполне занимательно, – сказал Мэнсики и тихонько покачал головой.
Вскоре приехало такси. Перед тем, как усесться в машину, Мэнсики очень вежливо меня поблагодарил. Сколько бы он ни выпил, цвет лица и манеры не изменились у него ни на йоту.
40
Обознаться я не мог
Мэнсики уехал. Я почистил зубы и лег спать. Обычно я засыпаю быстро, а если к тому же пропустить стаканчик-другой виски, эта моя склонность лишь усиливается.
Но посреди ночи меня разбудил сильный шум. Вероятно, он действительно раздался, а может – почудился мне во сне. Не исключено, что воображаемый отзвук возник изнутри моего сознания. Во всяком случае, то был гулкий, сотрясающий землю грохот – такой силы, будто тело мое подбросило в воздух. Сам толчок мне не привиделся, и я его не вообразил. Я чуть не свалился от него с кровати и проснулся во мгновение ока.
Часы у изголовья показывали начало третьего. Раньше в это время обычно звенел бубенец. Однако теперь звона погремушки не было слышно. Дело шло к зиме, и насекомые давно угомонились. В доме царила глубокая тишина. Небо заволокли мрачные и густые тучи. Прислушавшись, можно было различить едва доносившийся посвист ветра.
Я на ощупь включил ночник, затем натянул поверх пижамы свитер и решил обойти весь дом. Может, что-то случилось. Например, в окно запрыгнул кабан. Или крышу дома пробил небольшой метеорит. И то, и другое маловероятно, но я счел, что дом лучше осмотреть, ведь мне доверили присматривать за ним. К тому же сна у меня теперь ни в одном глазу. Тело еще сотрясали повторные толчки, а сердце громко билось.
Зажигая свет в каждой комнате, я по очереди проверил все уголки дома и нигде ничего подозрительного не обнаружил. Все как обычно. Дом не такой уж и большой: случись что, вряд ли это ускользнуло бы от моих глаз. Я осмотрел все комнаты – последней оставалась мастерская. Распахнув дверь из гостиной в мастерскую, я зашел и собрался было протянуть руку к выключателю, но меня остановило нечто. Тихо, но отчетливо оно шепнуло мне на ухо: «А вот свет лучше не зажигать». Я так и поступил – отвел руку от выключателя, тихо затворил за собой дверь и, затаив дыхание, чтобы не слишком шуметь, стал вглядывался в темноту мастерской.
Мои глаза постепенно привыкали к темноте, и я понял, что в комнате со мной есть кто-то еще. Предчувствие было явным. Похоже, этот кто-то сидел на деревянном табурете, на котором за работой обычно сижу я. Первой мыслью у меня стало, что это Командор. Вернулся в каком-нибудь новом облике. Однако для Командора фигура была чересчур крупна. По очерку в темноте казалось, что передо мной силуэт худощавого мужчины высокого роста. Рост Командора – сантиметров шестьдесят, а этот мужчина чуть ли не раза в три выше. Он, как все высокие люди, сидел, немного сгорбившись. И не шевелился.
Я тоже стоял неподвижно, прислонясь к дверному косяку и вытянув левую руку вдоль стены, готовый в любой миг включить свет, и всматривался в спину того мужчины. Мы оба застыли в ночном мраке – каждый в своей позе. Не знаю, почему, но страха у меня не было. Дыхание, сбившись, участилось, стук сердца глухо отдавался в висках, но я не боялся. Посреди ночи в дом самовольно проник незнакомый мне мужчина. Возможно, вор. А может, и призрак. Как бы то ни было, ситуация такова, что впору сдрейфить. Но у меня не возникало чувства, будто все ужасно, а сам я в опасности.
С тех пор, как здесь впервые объявился Командор, произошло немало разных причуд, и, вероятно, мое сознание с этим свыклось. Но дело не только в этом, наоборот: присутствие незнакомца посреди ночи в мастерской лишь подогревало мой интерес. Во мне пробуждался не страх, но любопытство. Мне показалось, что мужчина, сидя на табурете, о чем-то крепко задумался. Или же вглядывается во что-то прямо перед собой, и эта его сосредоточенность заметна была даже стороннему взгляду. Мне показалось, что мужчина и не заметил, как я вошел в мастерскую. Или же ему просто не было до этого никакого дела.
Скрадывая дыхание и сдерживая биение сердца, я ждал, чтобы глаза полностью привыкли к темноте. И вскоре мне стало понятно, что же привлекло внимание мужчины – он увлеченно и пристально смотрел на боковую стену. Туда, где висела картина Томохико Амады «Убийство Командора». Сидя без единого движения на деревянном табурете, подавшись немного вперед, он пристально ее рассматривал. Руки его покоились на коленях.
В этот миг тучи, прежде затягивавшие небо плотной завесой, начали расползаться. Пробившись меж ними, полоска лунного света осветила на миг мастерскую – будто прозрачный бесшумный поток омыл старый камень, проявив на нем тайные знаки. И после сразу потемнело опять, но и это продлилось недолго. Вскоре тучи снова разорвало, словно бы на клочья, и лунный свет секунд на десять окрасил все вокруг в бледно-голубые тона. Мне этого хватило, чтобы рассмотреть пришельца.
Ему на плечи спадали белые волосы – их давно не расчесывали, и местами они торчали в разные стороны космами. Осанка выдавала в нем человека преклонного возраста – он ссохся, точно увядшее дерево. Кто знает, может, прежде был крепким мускулистым человеком, однако с годами и, не исключено, из-за какой-то хвори сильно осунулся. Так мне сразу показалось.
Худоба сильно изменила черты его лица, так что я догадался не сразу, однако вскоре уже понимал, кто сидит передо мной. Я видел его лишь на разрозненных фотографиях, но обознаться не мог. Его отличал заостренный нос, если смотреть в профиль. Но главную подсказку мне дала мощная аура, исходившая от его тела. Ночь выдалась прохладной, однако у меня обильно вспотели подмышки. Учащенно забилось сердце. Поверить в это трудно, но сомнений быть не могло.
Старцем был сам автор этой картины – Томохико Амада. Он вернулся к себе в мастерскую.
41
Только если я не оборачиваюсь
Но разве это мог быть сам Томохико Амада во плоти? Ведь настоящий Томохико Амада – в пансионате для престарелых, что где-то на плоскогорье Идзу. У него развитая форма слабоумия, он теперь почти не встает с постели. Он просто не смог бы добраться сюда один, своими силами. А раз так, выходит, я своими глазами наблюдаю его призрак? Но, насколько мне известно, Томохико Амада еще не умер. Тогда правильнее будет назвать его «живым призраком». Или же он буквально только что испустил дух и, став призраком, явился сюда? Такое тоже вполне вероятно.
Так или иначе, я понимал, что это не видение. Для видения уж больно реалистично он смотрится, у него более густая консистенция. В эманации, конечно же, присутствовал дух живого человека, всплески сознания. Томохико Амада каким-то особым способом вернулся в собственную мастерскую, сел на свой табурет и смотрит на свою картину «Убийство Командора». Не беспокоясь, что еще в мастерской стою я (или даже не замечая меня), он пристально смотрел на картину пронизывающим темноту острым взглядом.
Облака тянулись вереницей, а когда прерывались, Томохико Амаду освещал лунный свет из окна, и фигура его отбрасывала четкую тень. Старец сидел боком ко мне, укутанный в старый халат или плед. С босыми ногами, без носков и тапочек. Длинные седые пряди всклокочены, щеки и подбородок покрыты редкой седой щетиной. Лицо изможденное, только глаза блестят остро и ясно.
Чего-чего, а страха-то во мне как раз и не было, но я пребывал в жутком замешательстве. Моим глазам открывалось отнюдь не тривиальное зрелище, как тут не смутиться? Рука у меня по-прежнему касалась выключателя на стене, но включать свет я не собирался. Я буквально примерз к месту – мне не хотелось мешать тому, что здесь происходит, будь старец призраком или видением… да кем угодно. Мастерская, по сути, как ни крути, – его. В этом месте он и должен находиться. Я же, напротив, здесь чужак, и если он собирается что-то здесь делать, у меня нет никакого права ему мешать.
Поэтому я, затаив дыхание, расслабился, беззвучно попятился и выскользнул из мастерской. Осторожно прикрыл за собою дверь. За все это время Томохико Амада, сидя на табурете, даже не пошелохнулся. И если бы я по неосторожности с грохотом опрокинул, скажем, вазу на столе, он вряд ли бы и это заметил, до того предельна была его строгая сосредоточенность. Прорвавшийся сквозь тучи лунный свет вновь осветил его исхудавшее тело. И я напоследок запечатлел у себя в сознании его контур вместе с тонкими ночными тенями – этот очерк, этот сжатый сгусток всей его жизни. «Такое забывать нельзя», – назидательно проговорил я самому себе. Его образ я должен запечатлеть на сетчатке, крепко-накрепко сохранить в своей памяти.
Вернувшись в столовую, я сел за стол и выпил несколько стаканов минеральной воды. Хотелось виски, но бутылка была пуста – мы с Мэнсики ее допили еще вечером. Кроме нее, никакой выпивки в доме не оказалось. В холодильнике лежало несколько бутылок пива, но мне пива не хотелось.
В итоге я не мог уснуть до четырех утра. Так и сидел в столовой и бесцельно гонял думы в голове. Были жутко взвинчены нервы, и делать ничего не хотелось. Вот и оставалось мне лишь закрыть глаза и размышлять, но думать непрерывно о чем-то одном я тоже не мог. Поэтому несколько часов я просто цеплялся за обрывки самых разных мыслей, словно котенок, что гоняется по кругу за собственным хвостом.
Устав от бесцельных мыслей, я воспроизвел в уме контуры фигуры Томохико Амады. Чтобы проверить себя, сделал простенький набросок: нарисовал воображаемым карандашом портрет старца в воображаемом эскизнике собственной памяти. Как раз это я часто и делаю каждый день в свободное время. Реальные карандаши и бумага мне не нужны. Наоборот, без них даже проще. Наверное, примерно так же математики выстраивают свои формулы на воображаемых досках в мозгу. Кто знает, может, когда-нибудь я на самом деле нарисую такую картину.
Повторно заглядывать в мастерскую мне нисколько не хотелось. Разумеется, любопытство не покидало меня. Старик – вероятно, Томохико Амада, – все еще там? Сидя на табурете, по-прежнему пристально смотрит на «Убийство Командора»? Убедиться в этом мне, конечно же, хотелось. Вероятно, сейчас я столкнулся с очень важным событием и своими глазами вижу то место, где оно происходит. И, возможно, мне будут явлены несколько ключей для разгадки тайны жизни Томохико Амады.
Но даже если и так, я не хотел мешать ему. Преодолев пространство, презрев любую логику, Томохико Амада вернулся сюда, чтобы неспешно насладиться собственной картиной – или же еще раз удостовериться в чем-то, что в ней скрыто. Для этого ему наверняка пришлось потратить немало энергии – ценной жизненной силы, которой у него осталось не так уж и много. Поистине – пусть даже ценой такой жертвы – ему требовалось вволю насладиться своей картиной.
Когда я проснулся, часы показывали начало одиннадцатого. Для меня, жаворонка, это явление весьма редкое. Умывшись, я сварил кофе и позавтракал. Почему-то был очень голоден и на завтрак съел почти вдвое больше обычного: три тоста, два яйца вкрутую, салат из помидоров. Кофе выпил две полные кружки.
После еды на всякий случай заглянул в мастерскую, но фигуры Томохико Амады там, разумеется, уже не было. А была там только обычная утренняя тишь. Стоял мольберт, на нем начатый холст – портрет Мариэ Акигавы, – а перед ним – пустой круглый табурет. За мольбертом стоял стул из гарнитура, на котором сидела, позируя мне, сама Мариэ Акигава. Сбоку на стене висела картина Томохико Амады «Убийство Командора». А вот погремушка на книжной полке так и не возникла. Небо над долиной прояснилось, прохладный и чистый воздух пронизывали крики перелетных птиц.
Я позвонил Масахико Амаде на работу. Дело шло к полудню, а голос его показался мне каким-то сонным. Такие нотки вялости обычно звучат в голосах с утра в понедельник. После краткого приветствия я для уверенности, что видел прошлой ночью не призрак отца Масахико, как бы ненароком поинтересовался его здоровьем. Как здоровье отца? Жив ли? Если, положим, накануне он скончался, сыну уже должны были об этом сообщить.
– Ездил проведать его несколько дней назад. С головой у него лучше уже не станет, а вот физическое состояние вполне нормальное. По крайней мере, пока что нигде не болит.
Из чего я заключил, что Амада-старший еще не умер, значит, прошлой ночью я видел не призрак. Это был мимолетный образ, вызванный намерением живого человека.
– Извини за несуразный вопрос, в последнее время в поведении твоего отца не замечали какие-нибудь странности? – спросил я.
– У моего отца?
– Да.
– А почему тебя это интересует?
Я произнес заготовленную реплику:
– Дело в том, что на днях я видел странный сон. Как будто твой отец посреди ночи возвращается в этот дом, и я случайно его вижу. Очень наглядный это был сон. От такого просыпаешься, подпрыгнув на кровати. Вот я и начал волноваться – вдруг что случилось?
– Вот как? – восхищенно откликнулся Масахико. – Занимательно. И что отец посреди ночи делал в доме?
– Просто неподвижно сидел на табурете в мастерской.
– И только?
– И только. Больше ничего.
– Табурет – тот старый, круглый на трех ножках?
– Да.
Амада Масахико на время задумался.
– Видимо, дни старика и впрямь сочтены, – бесстрастно произнес Масахико. – Душа человека в самом конце жизни навещает те места, о каких будет сожалеть пуще всего. Насколько я знаю, для отца самое милое его сердцу место – мастерская в том доме.
– Но ведь памяти у него не осталось?
– Памяти в обычном понимании – да, почти нет. Но душа, должно быть, еще с ним. Просто сознание не может к ней подключиться. Вроде как разомкнулась цепь, и сознание просто остается не подсоединенным, а душа сохраняется где-то в глубине. Наверняка – не поврежденная.
– Это похоже на правду, – сказал я.
– И тебе не было страшно?
– Во сне?
– Да. Ведь ты видел все как наяву?
– Да нет, какой там страх. Так, странное ощущение, только и всего. Твой отец – прямо как живой у меня перед глазами.
– А может, это и вправду был он сам? – спросил Масахико Амада.
Я ничего на это не ответил. О том, что старый художник скорее всего вернулся в этот дом специально для того, чтобы посмотреть картину «Убийство Командора» (ведь если вдуматься, дух Томохико Амады завлек сюда я сам: не вскрой я упаковку картины, он наверняка сюда б не явился), рассказывать его сыну мне не стоило. Иначе пришлось бы объяснять все: мало того что я нашел картину на чердаке этого дома, к тому же я ее самовольно вскрыл и повесил на стену в мастерской. Когда-нибудь мне, пожалуй, придется это сделать, но не сейчас.
– Так вот, – начал Амада Масахико, – помнишь, в прошлый раз не было времени, и я не рассказал тебе то, что собирался? Я еще говорил, что должен тебе кое в чем признаться. Помнишь?
– Ну да.
– Хочу как-нибудь заехать и спокойно тебе обо всем рассказать? Ты не против?
– Это вообще-то твой дом, ты не забыл? Можешь приезжать, когда захочешь.
– В конце недели я опять собираюсь проведать отца, тогда и загляну к тебе, идет? Одавара – как раз на обратном пути с Идзу.
– В любое время, кроме вечеров в среду и пятницу и первой половины дня воскресенья, – ответил я. – По средам и пятницам я веду изокружок, а в воскресенье мне необходимо писать портрет Мариэ Акигавы.
– Скорее всего, заеду вечером в субботу. В любом случае перед этим позвоню, – сказал Масахико.
Положив трубку, я перешел в мастерскую и присел на табурет – тот самый деревянный табурет, на котором прошлой ночью сидел во мраке Томохико Амада. Сев, я сразу поймал себя на мысли, что он больше не мой, а его – Томохико Амады: тот пользовался им долгие годы, создавая свои картины, и табурет должен и впредь оставаться его табуретом. Для несведущего меня это было всего лишь старое круглое сиденье на трех ножках, все в царапинах, но этот предмет, однако, пропитан его, Томохико Амады, волей. А я лишь пользуюсь им без спроса по стечению обстоятельств.
Сидя на табурете, я всматривался в висевшую на стене картину «Убийство Командора». Прежде я проделывал это неоднократно, бессчетное количество раз. Но картина стоила того, чтобы рассматривать ее вновь и вновь. Иными словами, она была произведением искусства, способным вызвать множество разных мнений о себе. Однако теперь мне захотелось удостовериться в этом заново, но уже под другим – не таким, как обычно, – углом. Ведь на ней изображалось нечто такое, что вынудило Томохико Амаду заново внимательно ее разглядывать накануне своей кончины.
И я принялся неспешно всматривался в холст. С того же места, под тем же углом, сидя в той же позе на табурете, сосредоточенно и затаив дыхание, как это делал прошлой ночью живой дух Томохико Амады – или же он сам. Но как бы внимательно ни смотрел, я так и не смог разглядеть на полотне ничего такого, чего не замечал до сих пор.
Устав от раздумий, я вышел на улицу. Перед домом стоял припаркованный серебристый «ягуар» Мэнсики – чуть поодаль от моего универсала «королла». Его оставили здесь на ночь, и он, точно умный прирученный зверь, тихо сидя на месте, терпеливо дожидался, пока за ним не придет хозяин.
Рассеянно думая о картине, я бесцельно бродил вокруг дома. А когда шел по тропинке сквозь заросли, у меня возникло странное ощущение – я почувствовал на своей спине чей-то взгляд, будто за мной кто-то шпионит. Будто тот Длинноголовый, приподняв над землей квадратную крышку, тайно следит за мной из угла полотна. Я резко обернулся – но ничего у себя за спиной не заметил. Дыра в земле была закрыта, а Длинноголового нигде не видно. Лишь в полной тишине тянулась безлюдная тропинка, засыпанная опавшими листьями. Такое ощущение возникало у меня не раз, но сколь стремительно я бы ни оборачивался, никогда никого не успевал заметить. Или же склеп и Длинноголовый существуют, лишь пока я не оглядываюсь? А стоит мне только обернуться, как это нечто, словно бы чуя, быстро прячется, совсем как в детской игре.
Миновав заросли, я прошагал до конца тропинки, по которой обычно не ходил. Я внимательно искал здесь ту «тайную тропу», о которой говорила Мариэ. Но сколько б ни искал ее, ничего похожего на вход не обнаружил. Мариэ предупреждала меня, что тропу не найти, если смотреть обычным взглядом. Она что – так искусно замаскирована? Во всяком случае, в потемках и в одиночку, следуя по этой тайной тропе, девочка очень быстро добралась с соседней горы до моего дома. По лесам, через заросли.
В конце тропинки открылась небольшая круглая поляна. Прервались свисавшие над головой ветки, и показался кусочек неба. Сквозь эту прореху поляну освещали прямые лучи осеннего солнца. Я присел на плоский камень посреди крохотного лоскутка, залитого солнцем, и разглядывал пейзаж лощины за стволами деревьев. Представлял себе, как вдруг с тайной тропы неожиданно покажется фигура Мариэ Акигавы. Но, разумеется, никто ниоткуда не показался – лишь временами прилетали птахи, садились на ветках и опять куда-то улетали. Птицы держались парами и давали о себе знать короткими, но звучными криками. Я читал в какой-то статье, что некоторые птицы, найдя себе пару, живут потом вместе всю свою жизнь, а стоит кому-то из них умереть – другой доживает остаток своих дней в одиночестве. Нечего и говорить: они не подписывают документы о разводе, присланные с уведомлением из адвокатской конторы.
Издалека уныло доносилось вещание грузовика-автолавки, но вскоре и этот шум утих. Затем где-то в глубине зарослей раздалось громкое шуршание неизвестной мне природы. Человек так не умеет. То шуршало дикое животное. А вдруг это кабан, подумал я (кабаны, как и шершни, – самая опасная живность в этих краях) и на миг обомлел, но звук пресекся и больше не повторялся.
Это подтолкнуло меня подняться и направиться к дому. По пути я завернул за кумирню, чтобы проверить склеп. Поверх него все так же лежали доски, на них – тяжелые камни. Как мне показалось, камни никто не сдвигал. Доски теперь укрывал толстый слой опавшей листвы. Эти листья, намокшие от дождя, уже потеряли свою прежнюю яркость. Все они, родившиеся весной молодыми, поздней осенью неизбежно встречают тихую смерть.
Пока я разглядывал доски, мне казалось, что крышка вот-вот приподнимется, и оттуда выглянет продолговатое, как баклажан, лицо Длинноголового. Но крышка, конечно же, не поднялась. К тому же Длинноголовый прятался в квадратной яме, куда меньше и теснее. А в этом склепе таился не Длинноголовый, а Командор. Точнее – идея, позаимствовавшая облик Командора. Это он звенел по ночам погремушкой, зазывая сюда и вынуждая открыть этот склеп.
Как бы то ни было, с этого склепа все и началось. После того, как мы с Мэнсики вскрыли его экскаватором, вокруг меня начали одна за другой происходить непонятные вещи. Или же все началось после того, как я обнаружил на чердаке картину «Убийство Командора» и разорвал ее обертку? Если по порядку, выходит примерно так. А может, оба эти события с самого начала тесно перекликались между собой? Как знать, возможно, именно картина «Убийство Командора» привела идею в этот дом? И Командор предстал передо мной в благодарность за то, что я освободил картину? Но чем дольше я размышлял, тем сложнее было судить, что стало причиной, а что – следствием.
Когда я вернулся в дом, серебристого «ягуара», запаркованного перед крыльцом, уже не было. Возможно, пока я гулял, Мэнсики приехал за ним на такси или же обратился в службу доставки машин. В любом случае на парковке перед домом одиноко ютилась лишь моя запыленная «королла»-универсал. Как и советовал Мэнсики, нужно как-нибудь измерить давление в шинах, однако я все еще не купил манометр. И вряд ли когда-нибудь в жизни сделаю это.
Собравшись приготовить обед, я стоял перед кухонным столом и тут заметил, что еще недавно одолевавший меня сильный голод пропал. Вместо этого мне жутко хотелось спать. Я принес одеяло, лег на диван в гостиной и сразу уснул. А пока спал – видел короткий сон, очень яркий и отчетливый. Но что это был за сон, вспомнить потом я так и не сумел. Припоминал лишь, что очень яркий и отчетливый. Даже не сон – такое ощущение, будто видел я обрывок реальности, по какой-то ошибке подмешанный мне в сон. А когда я проснулся, обрывок этот, став быстроногим смышленым зверьком, куда-то бесследно исчез.
42
Уронишь на пол, разобьется – значит, яйцо
Неделя пролетела неожиданно быстро. С утра я сосредоточенно писал, днем и по вечерам читал книги, гулял, занимался домашними делами. Один день незаметно переходил в другой. В среду после полудня приехала подруга, и остаток дня мы провалялись в постели. Старая кровать, как всегда, эффектно поскрипывала, чем приводила подругу в восторг.
– Эта кровать наверняка вскоре развалится, – предсказала она, переводя дух между нашими утехами. – Развалится на части так идеально, что не отличишь, кровать это была или палочки «Поки»[3].
– Возможно, мы должны все это проделывать мягче и плавней?
– Возможно, капитан Ахав должен был гоняться за иваси, – сказала она.
Я задумался об этом.
– Хочешь сказать, на свете бывают такие вещи, которые не так-то просто изменить?
– Что-то в этом роде.
Через некоторое время мы опять бросились в погоню по морским простором за белым китом. На свете бывают такие вещи, которые изменить не так-то и просто.
Каждый день я понемногу работал с портретом Мариэ Акигавы – облачал скелет эскиза в подмалевок. Подобрав несколько нужных оттенков, делал ими фон, готовил основу, чтобы ее лицо естественно всплывало на холсте. А меж тем дожидался ее очередного визита ко мне в воскресенье. В работе над картиной есть такие этапы, которые необходимо пройти лишь вместе с натурщиком, оставаясь с ним или нею лицом к лицу, а есть подготовка, которую нужно проводить без него. Мне нравился каждый такой этап сам по себе. В одиночестве можно не торопясь поразмышлять обо всех подробностях, подготовить фон, пробуя разные цвета и приемы. Я наслаждался этой черновой работой – а еще мне нравилось импровизировать: извлекать образ из подготовленного фона.
Вместе с портретом Мариэ Акигавы на другом холсте я начал писать склеп за кумирней. Этот маленький пейзаж ярко отпечатался у меня в памяти, и, чтобы написать картину, мне не требовалось видеть его перед собой. Так что я последовательно и тщательно прорисовывал этот склеп по памяти. Писал я реалистично, без прикрас, почти фотографически. В такой манере я обычно не пишу – за исключением портретов на заказ, конечно, – но такой вид живописи вовсе не считаю своим слабым местом. Стоит захотеть – и мне по силам нарисовать нечто очень тонко прорисованное и реалистичное, что запросто можно спутать с фотографией. Изредка работа над такими близкими к гиперреализму картинами помогает мне переменить настроение и переосмыслить свои базовые навыки. Однако реалистично я пишу сугубо для собственного развлечения и никому такие картины не показываю.
И вот у меня на глазах склеп в зарослях изо дня в день становился все более и более жизнеподобным. Загадочная округлая яма посреди зарослей, наполовину прикрытая досками вместо крышки. Тот склеп, из которого возник Командор. На полотне он изображен как темный провал, людей нет – лишь скопилась вокруг опавшая листва. Совершенно безмятежный пейзаж – и при этом казалось, что в любой миг из ямы может выползти некто. Или нечто. Чем дольше смотрел я на полотно, тем сильнее меня одолевало такое предчувствие. Творенье моих рук – но что-то в нем вдруг заставило меня содрогнуться.
Так я каждый день проводил первую половину дня в мастерской – и, как мне вздумается, поочередно рисовал две совершенно разные по своему характеру картины. Сидя на табурете, на котором воскресной ночью восседал Томохико Амада, я сосредоточенно делал свою работу, обращаясь то к одному, то к другому холсту – их я поставил рядышком. Кто знает, может, из-за такой вот сосредоточенности я и не заметил, как улетучилось ощущение присутствия Томохико Амады, которое я ощутил ранним утром в понедельник. Похоже, старый поцарапанный табурет опять стал реальной мебелью – подспорьем в моей работе, а Томохико Амада, пожалуй, вернулся туда, где ему и было самое место.
Среди недели я иногда по ночам, приоткрыв дверь в мастерскую, заглядывал через щель внутрь, но комната так и оставалась безлюдной. Не появлялись ни Томохико Амада, ни Командор. Лишь старый табурет стоял перед мольбертом. Тусклый свет луны, проникавший в мастерскую через окно, вкрадчиво прорисовывал очертания находившихся там предметов. На стене висела картина «Убийство Командора», на полу, лицом к стене стояла начатая «Мужчина с белым „субару форестером“», на двух мольбертах выстроились в ряд «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях» – обе в процессе создания. В мастерской пахло красками, скипидаром, маковым маслом. Сколько ни оставляй окно открытым, их смешанный аромат уже никогда не выветрится из этой комнаты – тот особый запах, который я вдыхал до сих пор и буду вдыхать, надеюсь, всю оставшуюся жизнь. Как бы для того, чтобы убедиться в присутствии этого запаха в ночной мастерской, я вдохнул воздух полной грудью и тихо затворил дверь.
В пятницу вечером позвонил Масахико Амада – предупредить, что заедет в субботу во второй половине дня. Сказал, чтобы я ничего не готовил: он заглянет в рыбный порт и купит там свежей рыбы. Какой – это сюрприз.
– Может, привезти что-то еще? Мне все равно по пути, заеду и куплю, что скажешь.
– Особо ничего не нужно, – ответил я, но потом вспомнил: – Вот разве что виски. Ко мне приходил знакомый, и ту бутылку, что ты привозил в прошлый раз, мы с ним выпили. Купи одну любую, на твой выбор.
– Мне нравится «Чивас Ригал», устроит?
– Вполне, – ответил я. Масахико Амада всегда был разборчив в еде и выпивке – в отличие от меня. Я-то просто ем и пью что есть.
После разговора с Масахико я снял со стены в мастерской «Убийство Командора», отнес в спальню и обернул бумагой. Неизвестной картине Томохико Амады, которую я самовольно унес с чердака, не стоит попадаться на глаза сыну художника. По крайней мере – пока.
Поэтому картин, которые мои гости могли увидеть в мастерской, осталось всего две, обе на мольбертах. Стоя перед ними, я смотрел то направо, то налево. Сравнивая их, мысленно представлял, как Мариэ Акигава, завернув за кумирню, приближается к склепу. И у меня возникло предчувствие: вот сейчас начнется нечто. Крышка склепа наполовину сдвинута, и мрак направляет Мариэ туда, внутрь. Кто там ее поджидает? Длинноголовый? Или Командор?
Не могут две эти картины быть чем-то связаны между собой?
Поселившись в доме Амады, я почти беспрерывно рисую. Сначала, получив заказ от Мэнсики, писал его портрет, затем рисовал «Мужчину с белым „субару форестером“» – правда, едва приступив к цвету, прервался и с тех пор не прикасался к этой картине, а теперь параллельно пишу «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях». Мне казалось, эти четыре картины, соединившись в некую мозаику, излагают мне какую-то историю.
Или же я, рисуя их, сам веду некую летопись? Могло оказаться и так. Интересно, кто-то назначил меня этим летописцем? И если да, то – кто именно? И почему выбрал в летописцы меня?
В субботу незадолго до четырех на своем черном универсале «вольво» приехал Масахико Амада. Ему нравилась эта простая, но надежная старая модель, похожая на коробку. Масахико давно ездил на этой машине, намотал немалый километраж, но, судя по всему, менять ее на новую и не собирался. С собой он специально привез кухонный нож – отлично ухоженный и остро наточенный. Этим ножом он разделал на кухне морского леща – большого и свежего, только что купленного в рыбной лавке в Ито. Настоящий мастер на все руки, Масахико аккуратно удалил кости и аккуратно нарезал сасими, совсем не оставив мяса на хребте. На костях быстро сварил бульон, кожицу обжарил на прямом огне – из нее получилась нехитрая закуска к выпивке. Я стоял рядом и восхищенно наблюдал за его действиями. Стань Масахико поваром – глядишь, добился бы успеха и на этом поприще.
– Вообще-то сасими из белой рыбы лучше есть на следующий день – так оно мягче и вкуснее. Но… будем есть, как есть, уж не взыщи, – сказал мне Масахико, проворно орудуя ножом.
– Я не привередливый, – ответил я.
– Что останется – доешь завтра сам.
– Запросто.
– Кстати, ничего, если я сегодня у тебя заночую? – спросил Масахико. – Хочется обстоятельно с тобой потолковать, но если я выпью, то уже никуда не поеду. Могу расположиться на диване в гостиной.
– Конечно, – ответил я. – Ведь это же твой дом – ночуй, сколько захочешь.
– А подруга у тебя не останется?
Я покачал головой.
– Таких планов пока что нет.
– Раз так, то договорились.
– Но никаких диванов – в гостевой спальне есть кровать.
– Нет, на диване в гостиной мне будет лучше. Он куда удобнее, чем может показаться. С детства люблю на нем спать.
Масахико достал из бумажного пакета бутылку «Чивас Ригал», снял пластиковую оболочку и откупорил. Я принес два бокала, достал из холодильника лед. Когда напиток разливали, журчал он очень приятно. С таким звуком близкий человек распахивает тебе душу. Помаленьку выпивая, мы готовили ужин.
– Давно мы так с тобой не общались.
– Это верно. А прежде, сдается мне, пили немало.
– Кто пил немало – так это я, – сказал он. – Ты и тогда скорее нюхал пробку.
Я засмеялся.
– Ну, это если с твоего шестка смотреть… По моим меркам-то я закладывал достаточно.
Я никогда не напивался в стельку. Просто не успевал – меня смаривал сон, и я засыпал. А вот Масахико был не таков – если уж начинал пить, то пил основательно.
Сидя друг напротив друга за столом на кухне, сперва мы съели по четыре свежие устрицы, которые Масахико купил вместе с рыбой, затем принялись за сасими. Только что разделанная рыба была очень свежей и вкусной. И вправду твердовата, но мы выпивали и потому никуда не торопились. В конце концов прикончили мы все без остатка – и наелись досыта. Кроме устриц и сасими нас хватило лишь на хрустящую рыбную кожицу и тофу с моченым васаби. А запили все бульоном.
– Даже не припомню такого обстоятельного ужина, – сказал я.
– В Токио так нигде не накормят, – сказал Масахико. – А здесь вовсе не плохое место для жизни – вдоволь вкусной рыбы.
– Но если жить здесь постоянно, тебе, наверное, станет скучно?
– Тебе же не стало?
– Как сказать. Мне скука никогда не была в тягость. К тому же здесь тоже случается всякое.
И впрямь. Поселившись здесь в начале лета, я познакомился с Мэнсики. Вместе мы раскопали склеп за кумирней, затем появился Командор. Вскоре в мою жизнь вошли Мариэ Акигава и ее тетушка. Ублажала меня горячая замужняя подруга. Живой дух Томохико Амады – и тот посетил. Скучать здесь ничуть не приходилось.
– Я тоже вряд ли стал бы здесь скучать, вопреки всему, – произнес Масахико. – В молодости я увлекался серфингом и погонял на местном взморье по волнам изрядно. Что, не знал?
Я ответил, что нет – ни разу об этом от него не слышал.
– По-моему, пора мне уже отойти от городской жизни и вновь окунуться в такую вот сельскую жизнь. Начать все сызнова. Что скажешь? Проснувшись утром, первым делом смотреть на море, а когда придут волны – взять доску и пойти на берег.
Такое занятие было совсем не по мне.
– А что с работой? – спросил я.
– Достаточно пару раз в неделю ездить в Токио. Сейчас почти вся моя работа – на компьютере, и ей ничуть не повредит, если я буду жить вдали от столицы. Мир меняется, скажи?
– Откуда мне знать?
Он изумленно посмотрел на меня.
– На дворе двадцать первый век – хоть это тебе известно?
– Что-то слышал.
Покончив с едой, мы перебрались в гостиную, где продолжили выпивать. Осень подходила к концу, но в ту ночь еще не было зябко настолько, чтобы захотелось разжечь камин.
– Кстати, как состояние отца?
Масахико слегка вздохнул.
– По-прежнему. Мозг в полной отключке, так что он даже не отличит куриные яйца от своих.
– Уронишь на пол, разобьется, значит – куриное.
Масахико рассмеялся.
– Если подумать, человек – создание удивительное. Мой отец еще несколько лет назад был крепким мужчиной – хоть бей его, хоть пинай, все ему нипочем. И голова всегда трезвая и холодная, как зимнее небо темной ночью. Аж противно. А сейчас у него в памяти – сплошное темное пятно, будто непостижимая черная дыра, внезапно возникшая в космосе. – Сказав это, Масахико покачал головой. – Не помнишь, кто сказал: «Старость – самая большая неожиданность в жизни»?[4]
Я ответил, что не знаю – даже не слышал такую фразу. Однако, похоже, так оно и есть. Старость для человека – даже более непредвиденная штука, чем сама смерть. Она с лихвой превосходит все наши ожидания. И однажды тебе ясно дадут понять, что мир этот ничего не потеряет, если лишится тебя как биологического – да и общественного – существа.
– Кстати, тот сон, в котором ты недавно видел моего отца, – что, был очень явственный? – спросил у меня Масахико.
– Да, все было будто наяву.
– И отец был в этом доме? В своей мастерской?
Я провел его в мастерскую и показал на стоявший посредине комнаты табурет.
– Во сне твой отец неподвижно сидел вот здесь.
Масахико подошел к табурету и положил на него ладонь.
– Ничего не делал?
– Нет, просто сидел.
На самом деле он пристально смотрел на «Убийство Командора», но об этом я умолчал.
– Это любимый табурет отца, – сказал Масахико. – Обычный и старый, но отец с ним не расставался. Когда писал картины или просто размышлял – всегда садился именно на него.
– На самом деле, когда сидишь на нем, становится на удивление спокойно на душе.
Масахико некоторое время стоял, не отрывая ладони от табурета – видимо, о чем-то задумался. Но сам на него садиться он не стал. По очереди осмотрел оба холста, стоявших перед табуретом, – «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях», те две картины, над которыми я работал. Осмотрел неторопливо, так врач выискивал бы пятнышко на рентгеновском снимке.
– Весьма интересно, – сказал он. – Очень хорошо.
– Что, обе?
– Да. Каждая вполне привлекательна. Особенно если поставить их рядом – так чувствуется некое странное движение. По стилю они совершено разные, но возникает ощущение, будто что-то их связывает.
Я молча кивнул. Именно это я и сам смутно чувствовал последние несколько дней.
– Сдается мне, ты постепенно нащупываешь новое направление. Будто вот-вот выберешься из дремучего леса. Мой тебе совет – бережно держись за него.
Сказав это, он сделал глоток виски, и лед в бокале издал благородный звук.
Меня так и подмывало показать ему картину Томохико Амады «Убийство Командора». Мне хотелось узнать, какое впечатление произведет на сына работа отца. Возможно, его слова дадут мне какую-нибудь важную подсказку. Однако я подавил в себе это побуждение.
Что-то меня остановило. «Еще не время».
Мы вернулись в гостиную. На улице, похоже, поднялся ветер. За окном густые тучи медленно плыли на север. Луны не было видно.
– Теперь о важном, – наконец-то решившись, начал Масахико.
– Вижу, разговор будет не особо приятный? – сказал я.
– Да, не особо. Точнее – совсем неприятный.
– Но я должен об этом знать?
Масахико потер ладони, будто собирался поднять нечто тяжелое. И наконец заговорил:
– Речь о Юдзу. Я несколько раз с нею виделся. И до того, как ты весной ушел из дому, и после. Всякий раз о встрече просила она. Мы с нею встречались и разговаривали на улице. Правда, она просила тебе не рассказывать. Я не хотел, чтобы между нами были тайны, но слово ей дал.
Я кивнул.
– Слово – это серьезно.
– Ведь мы с Юдзу тоже друзья.
– Я знаю, – сказал я. Масахико очень дорожил дружбой – возможно, такова была его слабость.
– У нее был мужчина. Ну, в смысле – помимо тебя.
– Я знаю, – снова сказал я. – В том смысле, что теперь, разумеется, знаю.
Амада кивнул.
– Примерно полгода до того, как ты ушел из дому, – у них, то есть, были отношения. И мне стыдно признаться, но я его знаю. Он мой коллега по работе.
Я тихо вздохнул.
– Насколько могу себе представить, он симпатичный?
– Да, недурен собой. Точеное лицо. Агентство приметило его еще в студенчестве, и он подрабатывал натурщиком. И, по правде говоря, вышло так, что познакомил его с Юдзу я.
Я молчал.
– Разумеется, так вышло, – добавил Масахико.
– Юдзу с юности питала слабость к смазливым мужикам. Она сама мне в этом признавалась.
– Ну, у тебя физиономия тоже ничего.
– Спасибо. Сегодня, похоже, от этого знания буду спать крепко.
Какое-то время мы хранили молчание, каждый – по-своему. Потом заговорил Масахико:
– Как бы то ни было, тип этот – очень приятной внешности, и при том у него неплохой характер. Понимаю, что все это тебя никак не утешит, но он совершенно не из тех, кто бьет женщин, неразборчив в связях или кичится своей внешностью.
– Ну, уже хоть что-то, – произнес я. Специально я не старался, но фраза прозвучала насмешливо.
Масахико продолжал:
– Примерно в сентябре прошлого года мы были где-то вместе с этим малым и случайно наткнулись на Юдзу. Время шло к полудню, поэтому решили пообедать втроем. Но я даже не мог представить, что они начнут встречаться. Он младше ее на пять лет.
– И все же времени они зря не тратили?
Масахико едва заметно пожал плечами. Похоже, у них все развивалось стремительно.
– Он обратился ко мне тогда за советом, – сказал Амада. – А за ним следом – и она. Тем самым они загнали меня в угол.
Я молчал, понимая, что любые мои слова будут выглядеть глупо.
Масахико умолк. После этого заговорил вновь:
– Дело в том, что она беременна.
Я на миг лишился дара речи.
– Беременна? Юдзу?
– Да, на восьмом месяце.
– Залетели?
Масахико покачал головой.
– Этого я не знаю, но она собирается рожать. Уже семь месяцев все-таки, ничего другого не остается.
– Она же постоянно мне твердила, что пока не хочет ребенка.
Масахико заглянул к себе в бокал, слегка насупился и спросил:
– Так получается, никаких шансов, что этот ребенок – твой?
Я быстро прикинул в уме и покачал головой. Юридически это отдельный вопрос, а вот биологически вероятность нулевая. Восемь месяцев назад я ушел из дому, и с тех пор мы с нею больше не виделись.
– Хорошо, если так, – произнес Масахико. – В общем, сейчас она собирается рожать и попросила меня сообщить тебе об этом. Сказала, что сама не намерена тебя этим беспокоить.
– Зачем же ей нужно, чтобы я об этом знал?
Масахико опять покачал головой.
– Полагаю, считает, что так будет прилично.
Я молчал. «Прилично?» Масахико сказал:
– Как бы там ни было, я хотел за все это перед тобой извиниться. Я очень перед тобой виноват за то, что знал об отношениях Юдзу и моего коллеги, но ничего не мог тебе рассказать. Какими бы ни были обстоятельства.
– И за это ты пустил меня пожить в этот дом?
– Нет, с Юдзу это никак не связано. Здесь все-таки долго жил мой отец, все это время писал здесь картины… Вот я и подумал – кому как не тебе лучше всего здесь поселиться? Кому попало же такой дом не доверишь.
Я молчал. Похоже, он не лукавил. Масахико продолжал:
– Что бы ни случилось, ты уже подписал документы на развод и отправил обратно Юдзу, так?
– Если быть точным, отправил я их адвокату, поэтому развод уже должен быть оформлен. И тогда они смогут спокойно пожениться.
И создать счастливую семью. Миниатюрная Юдзу, симпатичный долговязый папаша и малое дитя. Безоблачным воскресеньем с утра все втроем они дружно гуляют в соседнем парке. Прямо идиллия.
Масахико добавил льда нам обоим в бокалы и долил виски. Взял свой и сделал глоток.
Я встал с кресла, вышел на террасу и посмотрел на дом Мэнсики по ту сторону лощины. Свет в некоторых окнах у него еще горел. Мэнсики – чем он сейчас там занят? О чем размышляет?
По ночам теперь становилось холодно. Ветер покачивал ветки деревьев, полностью сбросивших листву. Вернувшись в гостиную, я опять расположился в кресле.
– Ты меня простишь?
Я покачал головой.
– Вопрос же не в том, кто виноват.
– Мне действительно очень жаль. Вы с Юдзу были такой подходящей парой и выглядели очень счастливыми. И чтобы все так прискорбно да вдребезги…
– Попробуй уронить на пол. Яйцо – то, что разобьется.
Масахико бессильно хмыкнул.
– И как ты теперь? Женщина есть?
– Нельзя казать, что нет.
– Но не такая, как Юдзу?
– Нет, не такая. У меня давно выработался свой взгляд на женщин. На те качества, какие мне в них важны. И это было в Юдзу.
– А в других такого не находишь?
Я покачал головой.
– Пока что нет.
– Очень жаль, – сказал Масахико. – К слову, а что для тебя в них важно?
– Трудно сказать. Но это именно то, что я, отчего-то утратив однажды, долго продолжаю еще в них потом искать. Пожалуй, все люди, наверное, так вот в кого-то влюбляются?
– Ну, скажем, не все, – ответил Масахико, немного нахмурившись. – Наоборот, такие, скорее всего, в меньшинстве. Однако если это трудно выразить словами – нарисуй, ты же художник.
Я сказал:
– Не получается выразить словами – нарисуй, ха! Сказать легко, да сделать непросто.
– Однако оно стоит того, чтобы к нему стремиться.
– Возможно, капитану Ахаву следовало гоняться за иваси, – сказал я.
Услышав это, Масахико рассмеялся.
– С точки зрения безопасности – да. Но тогда не родится искусство.
– Постой, ты это брось… Стоит произнести слово «искусство» – и разговору сразу хана.
– Сдается мне, нам нужно выпить еще, – сказал Масахико, качая головой, и подлил нам обоим виски.
– Я столько не выпью. Завтра мне работать.
– Завтра будет завтра. А сегодня есть лишь сегодня, – ответил Масахико.
В этих его словах звучала удивительная сила убеждения.
– Есть у меня к тебе одна просьба, – сказал я Масахико, как раз собираясь завершить беседу и готовиться ко сну. Стрелки часов приближались к одиннадцати.
– Все, что будет в моих силах.
– Если ты не против, я хотел бы встретиться с твоим отцом. Когда поедешь в пансионат на Идзу, сможешь взять меня с собой?
Масахико посмотрел на меня, будто видел перед собой диковинную зверушку.
– Ты хочешь встретиться с моим отцом?
– Если тебя это не затруднит.
– Конечно, нет. Только он уже не в состоянии выражаться членораздельно. У него в голове сплошная муть, полный хаос. И если ты на что-то надеешься… в смысле – хочешь добиться от Томохико Амады чего-то осмысленного, боюсь, тебя эта встреча только расстроит.
– А я ни на что и не надеюсь. Просто хочу хотя бы раз встретиться с твоим отцом и хорошенько рассмотреть его лицо.
– Зачем?
Я вздохнул и обвел взглядом гостиную.
– Я уже полгода живу в этом доме, работаю в мастерской твоего отца. Пишу картины, сидя на его табурете. Ем с его посуды, слушаю его пластинки. И во всем этом, признаться, везде ощущается его присутствие. Вот я и посчитал, что нужно хотя бы раз встретиться с ним самим, пусть даже не удастся толком поговорить. Мне все равно.
– Раз так, то ладно, – согласился Масахико. – Хоть ты и приедешь со мной вместе, он и не обрадуется, и не расстроится, ведь он уже не различает, кто есть кто. Поэтому ничего не помешает мне взять тебя с собой. Скоро я опять туда поеду. Врачи говорят – ему осталось недолго. В любой миг может произойти что угодно. Поэтому поехали, если не будешь занят.
Я принес запасной комплект постели: матрас, подушку и одеяло, – и постелил ему на диване в гостиной. Еще раз окинул комнату взглядом, проверяя, нет ли где Командора. Если Масахико проснется среди ночи и увидит перед собой шестидесятисантиметрового мужчину в одежде эпохи Аска, у него наверняка душа уйдет в пятки. Еще решит, что белая горячка началась.
Помимо Командора, меня в этом доме беспокоил «Мужчина с белым „субару форестером“». Сама-то картина развернута лицом к стене, но я понятия не имел, что может произойти во мраке ночи в мое отсутствие.
Я пожелал Масахико крепкого сна до самого утра – и при этом ничуть не кривил душой.
Перед тем, как лечь, я выдал Масахико свою запасную пижаму – он примерно моего сложения, так что размер оказался впору. Масахико разделся, натянул пижаму и нырнул в приготовленную постель. В комнате было прохладно, но под одеялом должно быть тепло.
– Ты на меня не сердишься? – спросил напоследок он.
– С чего бы? – ответил я.
– Но тебе ведь немного больно?
– Наверное, – признался я. Я тоже имею право хоть сколько-то чувствовать боль.
– Но в стакане воды еще одна шестнадцатая часть.
– Именно, – подтвердил я.
Затем я потушил в гостиной свет и ушел к себе в спальню. И вскоре уснул – вместе со своим ноющим от обиды сердцем.
43
Не может все оказаться обычным сном
Когда я проснулся, давно рассвело. Небо затягивали жидкие серые облака, и все же благотворные солнечные лучи, пробиваясь сквозь них, тихо стелились по земле. Было около семи.
Умывшись, я запустил кофе-машину, а затем пошел проверить гостиную. Масахико Амада, завернувшись в одеяло, спал крепким сном – и просыпаться, видимо, не собирался. На столике сбоку от дивана стояла почти пустая бутылка «Чивас Ригал». Не будя Масахико, я убрал и бокалы, и бутылку.
По моим меркам, вчера я выпил прилично, однако похмелья не ощущал, изжоги тоже. И голова была ясной, как обычно по утрам. Сколько себя помню, я никогда не страдал похмельем – даже не знаю, почему. Это у меня врожденное? Сколько б ни выпил, проспавшись, утром я не наблюдаю в себе никаких следов алкоголя. Все исчезает. Позавтракав, я сразу мог приниматься за работу.
Завтракая двумя тостами и глазуньей из двух яиц, я слушал по радио новости и прогноз погоды. Рухнули цены на акции, оскандалился депутат Парламента, на Ближнем Востоке в городе N произошел крупный террористический акт – много людей погибло или получило травмы. Как обычно, не услышал я ни одной греющей душу новости. Но и ничего, способного сразу же отрицательно повлиять на мою жизнь, тоже не случилось. Все пока что происходило в каком-то далеком мире, с незнакомыми мне людьми. Конечно, их жаль, но что я могу с этим поделать? И прогноз погоды был не самый радостный. Ясного солнечного дня никто не обещал, но и ненастья тоже: днем легкая облачность, но без осадков. Вероятно. Чиновники и синоптики – люди неглупые, поэтому таких уклончивых слов, как «возможно» или «пожалуй», не употребляют. Для этого у них есть удобный и никого ни к чему не обязывающий термин «вероятность осадков».
Закончились новости и прогноз погоды – я выключил радио и прибрал после завтрака посуду. После чего сварил еще кофе и сел за кухонный стол. Обычные люди в это время разворачивают только что доставленный утренний номер газеты, но я газет не выписываю, поэтому за чашкой кофе обычно попросту смотрю на красивую иву за окном и размышляю.
Первым делом я подумал о жене, которой вскоре, насколько я понял, рожать. Вдруг я поймал себя на мысли, что она мне больше не жена. Нас с нею больше ничто не связывает – ни с точки зрения общественного договора, ни с точки зрения людских отношений. Я уже, вероятно, успел стать для нее посторонним, бессмысленным существом. Эта мысль показалась мне очень странной. Еще несколько месяцев назад мы вместе завтракали, вытирались одним полотенцем и мылились одним куском мыла, соприкасались нагими телами, делили постель – а теперь стали чужими людьми.
Чем дольше я об этом раздумывал, тем больше мне стало постепенно казаться, что даже для себя самого я стал бессмысленным созданием. Опустив руки на стол, я пристально их разглядывал. Это, вне сомнения, мои руки. Левая симметрична правой и выглядит почти так же. Этими руками я пишу картины, готовлю и ем еду, временами ласкаю женщин. Однако нынешним утром руки эти вовсе не были похожи на мои. Ладони, ногти, подушечки пальцев, казалось, принадлежали другому – незнакомому, постороннему человеку.
Я оставил думы о руках. И о женщине – в прошлом моей жене. Выйдя из-за стола, я направился в ванную, снял пижаму и принял горячий душ. Старательно вымыл голову, побрился – а затем опять задумался о Юдзу, которой вскоре предстояло родить – не моего – ребенка. Я не хотел об этом думать, но не думать об этом не мог.
Она примерно на восьмом месяце. Семь месяцев назад была вторая половина апреля. Где сам я был тогда и что делал? Уйдя из дому, отправился в длительное путешествие примерно в середине марта. Затем бесцельно скитался по северу страны за рулем старенького «пежо-205». Вернулся в Токио я в начале мая. Выходит, во второй половине апреля я как раз перебрался с Хоккайдо в Аомори – на пароме из Хакодатэ до Оома на полуострове Симокита.
Достав из глубины выдвижного ящика дневник, который вел по пути, я проверил, где был в те дни. Отдалившись от побережья, я ездил туда-сюда по горам Аомори. Несмотря на вторую половину апреля, в горах было холодно, повсюду еще лежал снег. Зачем мне нужно было непременно ехать в такие холодные места, я вспомнить не мог. Названия местности не знаю, но, помню, несколько дней я провел в безлюдной маленькой гостинице у озера. Неприглядное старое здание из бетона, непритязательная – но вполне годная – еда. И плата была на удивление низкой, а в глубине участка располагалась маленькая открытая ванна с минеральной водой, доступная в любое удобное время. Гостиница недавно открылась после зимнего перерыва, и, как мне кажется, постояльцев, кроме меня, в ней не было.
Воспоминания о путешествии оказались весьма смутными. В тетрадке, служившей мне записной книжкой, остались пометки о местах, где я побывал и где ночевал, о том, что я ел, какое расстояние проехал и сколько было расходов за день. И только. Записи – от случая к случаю и крайне сухие. Не чувствовалось в них ни эмоций, ни впечатлений. Возможно, ничего, достойного пера, и не случилось? Поэтому, перечитывая свой дневник, я почти не мог отделить один день от другого. Сами географические названия мне ни о чем не говорили – я не мог припомнить, что это были за места. Немало дней осталось даже без таких названий. Те же пейзажи, та же еда, та же погода… Погоды там было лишь два типа: холодно и прохладно. И сейчас я в силах был припомнить лишь это однообразие.
Пейзажи и предметы в дорожном эскизнике куда ярче освежили мою память (фотоаппарат я в дорогу не брал, и фотографий поэтому не было – вместо них я делал наброски). При этом нельзя сказать, что за всю поездку я нарисовал их много. Когда позволяло время, брал в руки огрызок карандаша или шариковую ручку и набрасывал эскизы того, что попадалось на глаза. Придорожные цветы, собак и кошек, горные хребты. Иногда по настроению рисовал людей рядом, но практически все раздал им же.
В самом низу страницы дневника за 19 апреля я обратил внимание на пометку: «Прошлая ночь / сон». И больше ничего. Я как раз жил в той гостинице. Оба слова жирно подчеркнуты мягким карандашом. Чтоб я внес такое в дневник, да еще нарочно подчеркнул… видно, то был важный для меня сон. Понадобилось время, чтобы вспомнить, о чем он был. И тут меня озарило.
Той ночью под утро я видел яркий и непристойный сон.
Во сне я был в квартире на Хироо – в той самой, где прожил вместе с Юдзу шесть лет. На кровати в одиночестве спала моя жена, а я смотрел на нее откуда-то с потолка. Вроде как парил в пространстве – причем мне это вовсе не показалось странным. В том сне такое состояние я полагал совершенно нормальным. Ничего удивительного. Что и говорить, я отнюдь не считал, и что все это – сон. Для того меня – парящего в пространстве – все это было сейчас и взаправду.
Тихонько, чтобы не разбудить Юдзу, я спустился с потолка и встал у изножья кровати. Я был очень возбужден – еще бы, мы так долго не были вместе. Потихоньку я принялся стягивать с нее одеяло, но Юдзу спала очень крепко. Возможно, выпила накануне снотворного и, даже оставшись без одеяла, просыпаться, похоже, не собиралась. Она даже не пошевелилась, что лишь придало мне смелости. Медленно я стянул с нее пижамные штаны, снял трусы. Пижама была голубой, трусы – маленькие, белые, из хлопка. Но она все равно не проснулась – не сопротивлялась и не кричала.
Нежно раздвинув ей ноги, я погладил влагалище пальцем. Внутри у нее было тепло и влажно – словно она только и ждала моего прикосновения. И я, не в силах сдержаться, вставил окрепший пенис ей внутрь. Точнее, она принимала своим влагалищем мой пенис, словно нагретое сливочное масло, активно поглощала его. Не просыпаясь, Юдзу глубоко вздохнула и еле слышно вскрикнула – так, словно заждалась, когда же с нею так поступят. Дотронувшись до ее груди, я ощутил соски – твердые, точно плодовые косточки.
Сейчас она, пожалуй, видит крепкий сон, подумал тогда я. И в этом сне перепутала меня с кем-то другим, поскольку уже давно отвергала мои объятья. Однако каким бы ни был ее сон, и пусть в нем она считает меня кем-то другим, в ней сейчас был именно я – и я уже не мог прерваться. Если Юдзу сейчас проснется и обнаружит, что ее партнер я, это наверняка ее шокирует. Она даже может разозлиться. Если все выйдет так, то случится это тогда, пока же мне остается лишь идти до последнего. В голове у меня гулко бурлило от нестерпимого желанья – словно река прорвала плотину.
Вначале я двигался в ней, избегая лишней резкости, медленно и осторожно, чтобы не разбудить, однако вскоре движения эти ускорились сами по себе. Плоть ее желанно меня принимала и требовала быть еще жестче, и я вскоре кончил. Мне хотелось оставаться в ней дольше, но сдерживаться сверх того я уже не мог. Секса у меня не было давно, а Юдзу, хоть и во сне, реагировала как никогда активно.
Извергался в нее я очень бурно и несколько раз подряд. Сперма переполнила ей влагалище и протекла наружу, вымочив простыню. Даже если б я попытался все это остановить, я бы не знал, как. Я даже забеспокоился, помню, во сне: если дело так пойдет и дальше, меня это вконец истощит. Но даже при такой страсти Юдзу не вскрикнула ни разу, продолжала ровно дышать и вообще спала как убитая. А вот ее влагалище и не собиралось меня отпускать. Оно настойчиво и страстно сокращалось, продолжая выдавливать из меня все мои соки.
И тут я проснулся. И тут же увидел, что действительно кончил – у меня промокли все трусы. Я быстро снял их, чтоб не испачкать простыню, и сразу же застирал в раковине умывальника. После чего вышел из номера и через черный ход направился к источнику во дворе. Бассейн был открытый, без стен и крыши. Пока я до него дошел – чуть не окоченел, а стоило погрузиться в воду, как тело быстро прогрелось до самого нутра.
Тихий час перед самым рассветом. Я в полном одиночестве принимал минеральную ванну и, слушая, как лед, тая от пара, стучит капелью, раз за разом прокручивал в голове свое сновидение. Воспоминание о нем полнилось такими свежими ощущениями, что сон никак не походил на сон. На ум приходило только одно: я действительно побывал в квартире на Хироо и реально совокупился с Юдзу. Мои руки отчетливо помнили прикосновение к ее гладкой коже. Пенис осязал ее внутреннюю полость – она жаждала и крепко обнимала его (или же перепутала меня с кем-то другим, но во всяком случае ее партнером был именно я). Ее влагалище сжимало мой пенис и старалось присвоить себе мою сперму – всю до последней капли.
Этот сон – или его подобие – не мог не вызвать у меня некоего стыда. Выходит, я изнасиловал жену в своем воображении. Сняв одежду со спящей Юдзу, вставил свой член без ее согласия на это. Даже между супругами такой секс может юридически считаться актом насилия, и в этом смысле мой поступок ничуть не заслуживает похвалы. Но в итоге, если подходить объективно, это просто сон. Мой собственный опыт во сне. Люди называют это сном. И я не придумывал его специально, не писал его либретто.
Тем не менее верно и то, что я этого желал – я хотел совершить это действие. Окажись я в подобной ситуации на самом деле, не во сне – наверняка поступил бы так же: нежно бы раздел спящую жену и своевольно взял бы ее. Я хотел обнять Юдзу, хотел войти в ее тело и был одержим сильной страстью. И получилось так, что во сне я этого добился – причем наверняка в более приукрашенном виде, чем могло бы случиться на самом деле. Иными словами, этого можно было добиться только во сне.
Та по-настоящему эротическая фантазия в моем одиноком путешествии подарила мне ощущение некоего счастья. Можно также сказать, я испытал душевный подъем. Вспоминая о том сне, я мог-таки ощущать себя живой душой, органически связанной со всем этим миром. Пусть не логикой, пусть не идеей, не замыслом, а в высшей степени одним только чувственным наслаждением я удерживаюсь в этом мире.
Но все равно от одной только мысли, что, вероятно, какой-то другой мужчина наслаждается подобным чувством с Юдзу в действительности, сердце мне разрывало острой болью. Этот кто-то прикасался к ее отвердевшим соскам, снимал белые трусики, вставлял свой член в ее повлажневшее влагалище и неоднократно кончал. Стоило представить такое, и внутри у меня открывалось щемящее кровотечение. Насколько я себя помню, такое чувство возникло у меня впервые в жизни.
Вот какой странный сон я видел на рассвете 19 апреля. И, записав в дневник: «Прошлая ночь / сон», – я жирно подчеркнул внизу карандашом 2B.
Примерно тогда Юдзу и забеременела. Разумеется, определить точно день зачатия невозможно, однако не будет ошибкой сказать, что примерно тогда это и случилось.
Все это весьма походило на ту историю, что мне поведал Мэнсики. Вот только он на самом деле занимался любовью с живой партнершей на диване в собственном кабинете. Это не было сном. Как раз примерно тогда его женщина забеременела – а сразу после вышла замуж за пожилого богача и вскоре родила Мариэ Акигаву. Поэтому у Мэнсики есть все основания полагать, что девочка, возможно, – его ребенок. Шанс на это незначительный, но практически – вполне вероятный. А вот в моем случае ночное соитие с Юдзу произошло всего-навсего у меня во сне. Сам я в то время находился в горах Аомори, Юдзу – скорее всего, в центре Токио. Поэтому ребенок, которого собирается рожать сейчас Юдзу, никак не может быть моим. Рассуждая логически, все вполне очевидно, и мой шанс равен абсолютному нулю. Но это – если рассуждать логически.
Однако сон мой был чересчур ярким, чтобы вот так легко развеять его при помощи одной лишь логики. И то соитие во сне оказалось более впечатляющим, нежели любое реальное из тех, что у нас были с Юдзу за все шесть лет семейной жизни, да и удовольствия доставило несравнимо больше. Пока я раз за разом кончал в нее, казалось, одновременно у меня в голове вылетают все пробки. Несколько слоев реальности, расплавившись, перемешались и сильно помутнели в моей голове. В ней будто воцарился хаос – совсем как при сотворении мира.
Во мне окрепло ощущение: такое живое событие не может оказаться обычным сном. Он должен быть с чем-то связан. Он должен как-то подействовать на действительность.
Около девяти проснулся Масахико Амада. Прямо в пижаме он заявился на кухню и выпил кружку горячего черного кофе. Сказал, что завтрака не нужно – кофе будет достаточно. Под глазами у него свисали мешки.
– Ты в порядке? – поинтересовался я.
– В порядке, – ответил он, потирая веки. – Бывало и хуже. Это не похмелье, а так себе.
– Можешь не торопиться.
– Но к тебе ведь сейчас приедут клиенты?
– Клиенты приедут в десять. Еще немного времени есть. К тому же ничего плохого не случится, если ты задержишься. Представлю тебя дамам заодно, обе они просто прекрасны.
– Обе? Разве позирует тебе не одна?
– Одна. Но она приезжает с тетушкой.
– Под надзором, значит? Весьма архаичные нравы, совсем как у Джейн Остен. Еще скажи, что приедут они на дрожках, запряженных конной парой, и затянутые в корсеты.
– Дрожек не будет – они приедут на «тоёте приус». И без корсетов. Пока я часа два пишу в мастерской девочку, ее тетя читает в гостиной книгу. Тётя, к слову, еще не старая.
– Говоришь, книгу читает? Что за книга?
– Не знаю. Я спрашивал, но она не сказала.
– Н-да, – промолвил он. – Кстати, о книгах. Помнится, в «Бесах» Достоевского был герой, который, чтобы доказать, будто он – свободная личность, застрелился из пистолета. Как же его звали-то? Мне казалось, ты должен знать.
– Кириллов, – ответил я.
– Точно, Кириллов. Который уже день ломаю голову.
– И что с ним такое?
Масахико покачал головой.
– Да ничего особенного. Просто он с чего-то всплыл в голове, я попытался вспомнить его имя, но – увы. Вот и не мог успокоиться никак – застряло, как кость в горле. Ох уж эти русские – как придумают что-нибудь, так хоть стой, хоть падай.
– В романах Достоевского полно людей, которые пытаются доказать, что они свободные люди, не зависят ни от бога, ни от мира и для этого совершают самые нелепые поступки. Хотя в ту пору в России, возможно, это и не считалось такой уж нелепицей.
– А ты сам-то? – спросил Амада. – Официально развелся с Юдзу, юридически стал свободным человеком. А дальше что? Пусть ты и не стремился к этой свободе, но свобода есть свобода. Раз уж выпала такая возможность, пора бы уже, наверное, совершить какую-нибудь нелепость?
Я улыбнулся.
– Пока что ничего предпринимать в этом смысле я не собираюсь. Я хоть и стал свободен, но не стоит кричать об этом на весь белый свет, правда?
– Так-то оно так, – разочарованно протянул Масахико. – Но ты же художник, человек искусства, нет? Обычно ваш брат сбрасывает с себя узду куда более эффектно. Ты же никогда не отличался эксцентричностью и, сдается мне, всегда поступал правильно и действовал осмысленно. Разве нельзя иногда слететь с катушек?
– В смысле – зарубить топором старуху-процентщицу?
– Как вариант.
– Или влюбиться в проститутку с золотым сердцем?
– Тоже неплохо.
– Я подумаю, – ответил я. – Но действительность такова, что сама сбивает обручи с бочки, даже если я воздержусь от нелепых поступков. Пусть хотя бы я сам буду вести себя прилично.
– Ну, можно и так на это взглянуть, – смирившись, проговорил Масахико.
Мне хотелось возразить: «Нет, как раз так на это глядеть нельзя!» И впрямь – меня окружает действительность со сплошь сбитыми обручами. Если еще сбить и мой, то… пиши пропало. Хотя с какой стати мне все это объяснять Амаде?
– Я все-таки поеду, – сказал Масахико. – Может, я был бы не прочь познакомиться с твоими клиентками, но в Токио много дел.
Он допил кофе, переоделся и сел за руль черной коробки «вольво». Глаза у него еще были припухшими.
– Извини, если что не так. Но я рад, что мы смогли не спеша побеседовать в кои-то веки.
Тем утром произошло и нечто невразумительное: мы не смогли найти нож, который Амада привез для разделки рыбы. Не припоминаю, чтобы он, вымыв его, куда-то его убрал. Мы перевернули вверх дном всю кухню, однако ножа так и не нашли.
– Ладно, что уж там, – произнес Масахико. – Видимо, пошел гулять. Сообщишь, когда он вернется. Я-то сам пользуюсь им редко, так что заберу, когда приеду в следующий раз.
Я обещал поискать.
Скрылся из виду «вольво», и я посмотрел на часы – вскоре должна была прибыть женская часть семейства Акигава. Вернувшись в гостиную, я убрал с дивана постель и распахнул окна, чтобы проветрить – воздух в комнате застоялся. Небо оставалось затянутым бледно-серой пеленой. Ветра не было.
Я перенес из спальни картину «Убийство Командора» и повесил на прежнее место в мастерской. Затем сел на табурет и окинул ее свежим взглядом. Командор все так же истекал кровью, а Длинноголовый продолжал пристально наблюдать за этой сценой из нижнего левого угла полотна. Все как и прежде.
Однако тем утром, пока я разглядывал «Убийство Командора», из головы у меня никак не выходил образ Юдзу. «Похоже, то все-таки был не сон», – вновь промелькнула у меня мысль. Сдается мне, той ночью я взаправду побывал в той комнате. Так же, как и Томохико Амада побывал среди ночи в мастерской. В апреле я, нарушив все мыслимые законы физики, каким-то образом оказался в квартире на Хироо, действительно насладился телом жены и выпустил в нее настоящее семя. Люди могут добиться чего угодно, подумал я, если только пожелают этого всем сердцем. Есть каналы, проходя сквозь которые действительность может становиться эфемерной, а ирреальность – допустимой. Стоит лишь очень сильно пожелать этого всем сердцем. Но такое вряд ли послужит доказательством того, что человек свободен. Пожалуй, скорее, наоборот.
Если мне удастся еще разок свидеться с Юдзу, я хотел бы спросить у нее: видела ли она тот эротический сон во второй половине апреля? Помнит ли, как я под утро проник в ее жилище и взял ее силой, пока сама она крепко спала (считай, была лишена физической свободы)? Говоря иначе, был ли тот странный сон взаимным, а не односторонним? Мне очень хотелось это выяснить. Но если все случилось так, если она и впрямь видела тот же сон, то в ее глазах я, возможно, стал злодеем, существом зловещим – эдаким инкубом. Я не хотел даже думать о том, что становлюсь им – или, что хуже, уже им стал.
А сам-то я – свободен? Для меня этот вопрос не имел ни малейшего смысла. Теперешнему мне больше всего нужна достоверная действительность. Прочная основа, чтобы уверенно стоять на ногах, – а не свобода, допускающая насилие над собственной женой во сне.
44
Характерные черты, которые делают из человека особую личность
Мариэ в то утро не проронила ни слова. Сидя на привычном стуле из простенького столового гарнитура, она, позируя, смотрела прямо на меня, словно разглядывала далекий пейзаж. Стул был ниже табурета, и похоже было, будто она смотрит на меня снизу вверх. Я тоже заговаривать не собирался – не мог придумать, о чем бы с ней поговорить, да и не видел в том необходимости. Поэтому я лишь молча водил кистью по холсту.
Я, разумеется, рисовал Мариэ, но одновременно к ее образу примешивался облик моей покойной сестры Коми и моей бывшей жены Юдзу. Я делал так не умышленно – оно выходило само по себе. Возможно, в этой девочке я искал образы дорогих мне женщин, которых утратил за свою жизнь. Я и сам не знал, насколько здравы мои действия, однако пока что не мог рисовать иначе. Хотя нет – не пока что. Если задуматься, похоже, стиль этот я в той или иной мере применял с самого начала: воплощал в картине то, в чем нуждался, но не получал в действительной жизни. Тайно вкрапливал собственные потайные знаки, каких не замечали все остальные.
Как бы то ни было, сейчас, почти что наедине с холстом, я почти без колебаний завершал портрет Мариэ Акигавы. Работа продвигалась мазок за мазком. Подобно тому, как река, местами изгибаясь меж крутых берегов, местами засыпая в заводях, но неизменно прибавляя в объеме, направляется к своему устью, к морю. Я отчетливо ощущал продвижение у себя внутри, будто это текла моя собственная кровь.
– Можно потом прийти к вам в гости, – подавшись ко мне, тихонько проговорила Мариэ на прощанье. Прозвучало утвердительно, однако это был очевидный вопрос – она действительно спрашивала у меня, можно ли потом прийти ко мне в гости.
– По твоей тайной тропе?
– Ага.
– Пожалуйста. А во сколько?
– Этого пока не знаю.
– Когда стемнеет, думаю, лучше не стоит. Кто его знает, что может приключиться ночью в горах, – посоветовал я.
Кто только не скрывается под покровом ночи в этой округе. Командор, Длинноголовый, «Мужчина с белым „субару форестером“»… даже живой дух Томохико Амады. И наверняка – сексуальное проявление меня самого, инкуб. Ведь этот самый «я» при случае под покровом ночи может стать неким зловещим существом. От одной этой мысли я невольно ощутил легкий озноб.
– Приду по возможности дотемна, – пообещала Мариэ. – Мне есть вам что рассказать. С глазу на глаз.
– Хорошо. Буду ждать.
Вскоре раздался полуденный сигнал, и я закончил работу.
Сёко Акигава, как обычно, увлеченно читала на диване книгу. Толстый покетбук у нее уже близился к концу. Она сняла очки, закрыла книгу, заложив страницу, и подняла взгляд на меня.
– Работа продвигается. Вам осталось прийти еще раз или два – и портрет будет готов, – сказал я. – Извините, что отнял у вас столько времени.
Сёко Акигава улыбнулась. То была очень приятная улыбка.
– Ничего. Не принимайте близко к сердцу. Мариэ, судя по всему, понравилось позировать. Да и мне интересно посмотреть на завершенную работу, а у вас на диване удобно читается. Поэтому я хоть и жду, но нисколько не скучаю. Мне тоже полезно выбираться из дому, чтобы развеяться.
Мне хотелось узнать о ее впечатлениях от дома Мэнсики, куда они с Мариэ ездили в прошлое воскресенье. Каким ей показался роскошный особняк? Что она думает о его хозяине? Но сама она об этом не заговаривала, и я посчитал, что интересоваться будет неприлично.
И в тот день Сёко Акигава оделась со вкусом. Обычные люди так не наряжаются, чтобы заглянуть воскресным утром к соседям. Юбка из верблюжьей шерсти без единой морщинки, элегантная белая блузка из шелка с крупными тесемками. В ворот темного серо-голубого жакета вставлена золотая булавка с драгоценным камнем, который выглядел настоящим бриллиантом. Как мне показалось, все это – слишком уж изысканно для человека, который водит «тоёту приус». Однако это, само собой, не моего ума дело. Начальник отдела рекламы «тоёты», возможно, придерживается иного мнения.
Мариэ Акигава же одета была, как обычно. Уже привычная для меня просторная толстовка, синие джинсы с дырками на коленях. И белые тенниски с почти стертыми пятками – куда грязней, чем ее обычная обувь.
Уже уходя, Мариэ в прихожей тайком от тети подмигнула мне. То было тайное послание, означавшее: «Мы не прощаемся». В ответ я слегка улыбнулся.
Проводив гостей, я вернулся в гостиную, где немного подремал на диване. Аппетита не было, и я решил сегодня не обедать. Спал я крепко и за полчаса никаких снов не видел – на мое счастье. Когда не ведаешь, что творишь во сне, по меньшей мере, страшно, но когда не понимаешь, чем ты при этом станешь, – еще страшнее.
Вторую половину того воскресенья я был пасмурен, как само небо в тот день – тихий, подернутый дымкой, даже без ветра. Немного почитал, немного послушал музыку, немного позанимался на кухне стряпней, но что бы ни делал – никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Все шло к тому, что сам этот день закончится ни так, ни сяк. Что поделать? Я набрал ванну и долго сидел, отмокая в горячей воде. Одно за другим вспоминал длинные фамилии персонажей «Бесов» Достоевского. Припомнил семерых, включая Кириллова. Не знаю, почему, но еще со школы я легко запоминал имена героев из старых русских романов. Пора перечитать «Бесов». Я человек свободный, времени у меня хоть отбавляй. Никаких особых дел нет – чем не идеальные условия для чтения русских романов?
Затем я опять мысленно обратился к Юдзу. Семь месяцев – живот как раз начинает выступать, раздуваясь. Я попробовал представить Юдзу такой. Чем она сейчас занимается? О чем думает? Она счастлива? Конечно же, всего этого знать я не мог.
Может, Масахико Амада и прав: я просто обязан сотворить какую-то нелепость, чтобы доказать, что я – свободный человек, как это делали русские интеллигенты XIX века. Но что? Скажем… провести целый час на дне мрачного глубокого склепа. И тут меня как осенило: разве не этим как раз занимается Мэнсики? Череда его поступков – вряд ли нелепость. Однако, как ни взгляни на это, сколь сдержанно ни выражайся, он был слегка безумен.
Мариэ пришла ко мне в дом в начале пятого. Раздался звонок в прихожей, я открыл дверь – там стояла она. Словно проскользнув через щель, она быстро и ловко оказалась внутри – совсем как обрывок облака. И осторожно осмотрелась по сторонам.
– В доме никого нет.
– Никого, – подтвердил я.
– Вчера кто-то приходил.
Это был вопрос.
– Да, ко мне приезжал с ночевкой товарищ, – пояснил я.
– Мужчина.
– Да. Мужчина. Но откуда ты знаешь, что здесь кто-то был?
– Перед домом стояла черная машина, я раньше ее не видела. Старенькая такая, похожа на коробку.
Старый универсал «вольво», который Масахико Амада в шутку называет «шведской коробкой от бэнто». Машина весьма удобна для перевозки туш северных оленей.
– Ты и вчера сюда приходила.
Мариэ молча кивнула. Кто знает – может, она, когда есть время, по тайной тропе является проверить этот дом? Вообще задолго до моего приезда сюда все эти места были ее игровой площадкой. Можно даже сказать – охотничьим заказником. А потом так вышло, что здесь поселился я. Раз так, она могла встречаться с Томохико Амадой, пока тот здесь жил. Как-нибудь нужно ее об этом расспросить.
Я провел Мариэ в гостиную и посадил на диван, а сам разместился в кресле. Спросил, что принести ей попить? Она ответила, что ничего не нужно.
– Приезжал с ночевкой мой однокашник, мы вместе учились в институте, – сообщил я.
– Вы с ним дружите?
– Думаю, да, – ответил я. – Пожалуй, он – единственный, кого я могу назвать своим другом.
Пусть его коллега спит с моей женой, пусть Масахико их познакомил, пусть, зная об этом, он не говорил мне правду, пусть это привело к моему разводу. Мы настолько дружны, что все это особо не бросает тень на нашу с ним дружбу. Я не погрешу против истины, если назову его своим другом.
– А у тебя есть друзья? – спросил я.
Мариэ на этот вопрос не ответила. Не пошевелив даже бровью, сделала вид, будто ничего не слышала. Видно, я зря спросил.
– А господин Мэн Си Ки вам не друг, – сказала она. Без вопросительной интонации, но то был чистой воды вопрос. Она спрашивает: «А господин Мэнсики вам разве не друг?»
Я ответил:
– Помнится, я уже говорил, что не настолько хорошо знаю господина Мэнсики, чтобы мог считать его своим другом. Мы познакомились, когда я переехал сюда, а с тех пор не прошло и полугода. Чтобы люди стали друзьями, требуется время. Разумеется, господин Мэнсики – личность весьма незаурядная.
– Незаурядная?
– Как бы объяснить? Мне кажется, его индивидуальность немного отличается от той, какая бывает у обычных людей. А может, и не совсем немного… Его не так-то просто понять.
– Индивидуальность…
– Ну, в общем, те характерные черты, которые делают из человека особую личность.
Мариэ некоторое время пристально смотрела мне в глаза – будто осторожно подбирала слова, которые должна была произнести.
– С террасы дома этого человека виден мой дом.
Я, чуть помедлив, ответил:
– Да, по рельефу получается, что он прямо напротив. Но из его дома также четко виден и этот дом, не только твой.
– Однако я думаю, он смотрит на мой.
– Что значит – смотрит?
– Под кожухом, чтобы не бросался в глаза, на террасе его дома стоял большой бинокль. На треноге. В этот бинокль наверняка прекрасно видно, что происходит у нас в доме.
Эта девочка раскусила Мэнсики, подумал я. Она внимательна, наблюдательна. Ничто важное не ускользнет от ее взгляда.
– Ты хочешь сказать, господин Мэнсики через эту штуку наблюдает за твоим домом?
Мариэ скупо кивнула. Я глубоко вдохнул, выдохнул и произнес:
– Но ведь это лишь твое предположение? Допустим, стоит на террасе мощный бинокль. Это же не значит, будто он там – для того, чтобы подглядывать за твоим домом. Скорее всего – смотреть на Луну или звезды.
Мариэ даже не шелохнулась.
– У меня возникло ощущение, будто за мной постоянно наблюдают. С некоторых пор. Кто и откуда, я не знала. Но теперь знаю. Шпионит наверняка этот человек.
Я еще раз сделал медленный вдох. Предположение Мариэ – верное. За ее домом изо дня в день через окуляры мощного военного бинокля наблюдал не кто иной, как Мэнсики. Но насколько я знал… нет, я не собираюсь его оправдывать – он подглядывал не из дурных намерений. Он просто хотел видеть эту девочку. Возможно, свою родную дочь. Красивую тринадцатилетнюю девочку. И ради этого – похоже, только ради этого – он завладел этим особняком прямо напротив, по другую сторону лощины. Прямо-таки выгнал жившую там семью, причем, похоже, – не самым гуманным способом. Только сообщать обо всем этом Мариэ мне не следовало.
– Допустим, ты права, – сказал я. – Тогда с какой такой целью ему шпионить за твоим домом?
– Не знаю. Быть может, в нем проснулся интерес к моей тете?
– Проснулся интерес к твоей тете?
Девочка слегка пожала плечами.
Похоже, она совершенно не подозревает, что следить могут за ней самой. Видимо, мысли о том, что она может стать предметом сексуального интереса со стороны мужчин, у нее пока не возникали. Ее предположение показалось мне странноватым, но отвергать его я не стал. Если она так считает, пускай так и будет.
– Я думаю, господин Мэн Си Ки что-то скрывает, – сказала Мариэ.
– Например, что?
Девочка не ответила. Зато произнесла так, будто выкладывала важные сведения:
– Тетя дважды на этой неделе ходила на свидания к господину Мэнсики.
– На свидания?
– Полагаю, к нему домой.
– Что – ездила к нему домой одна?
– После обеда уезжала куда-то одна на машине и не возвращалась допоздна.
– Но уверенности в том, что она ездила в дом господина Мэнсики, у тебя нет. Так?
Мариэ ответила:
– Но мне это понятно.
– Каким образом?
– Она обычно так из дому не выезжает, – сказала Мариэ. – Бывает, иногда выбирается за покупками, ездит добровольно помогать в библиотеку, но при этом она не моется тщательно в душе, не делает маникюр, не душится, не выбирает самое красивое белье.
– Ты очень хорошо все подмечаешь, – восхищенно произнес я. – Но это точно, что тетя встречалась с господином Мэнсики? Разве нет вероятности, что это мог быть кто-то другой?
Мариэ посмотрела на меня, прищурившись. Затем слегка кивнула, как бы говоря: я что, похожа на дуру? В сложившихся обстоятельствах трудно представить тетиным партнером кого-то помимо Мэнсики. А Мариэ Акигава, конечно, не дура.
– Значит, твоя тетя ездит в дом господина Мэнсики, и они там проводят время вдвоем.
Мариэ кивнула.
– И они… как бы это сказать… в очень близких отношениях?
Мариэ снова кивнула. Ее щеки еле заметно покраснели.
– Да, я думаю – в очень близких отношениях.
– Но ты же днем в школе, дома тебя нет. Откуда ты это знаешь?
– Мне понятно. Достаточно посмотреть на лицо женщины – и догадаться не сложно.
А я об этом не догадался, подумал я. Как долгое время не замечал, что Юдзу, живя со мной, имеет интимную связь с другим мужчиной. Если задуматься, я мог бы догадаться хотя бы об этом. Почему же я не мог уяснить себе то, что очевидно даже тринадцатилетней девочке?
– Похоже, они начали прямо с места в карьер, – сказал я.
– Тетя у меня вовсе не глупая – она всегда обдумывает свои действия. Однако в глубине души – не без слабостей. А у этого человека, Мэн Си Ки, – необычная сила. Настолько мощная, что тетушка с ним не сравнится.
Пожалуй, она права. Человек по имени Мэнсики действительно обладает некой особенной силой. Стоит ему что-то по-настоящему захотеть и взяться за это дело – вряд ли простой человек будет способен ему помешать. Вероятно, включая и меня тоже. Какой пустяк для него – заполучить в свои руки женскую плоть.
– И ты беспокоишься… что господин Мэнсики использует твою тетю для какой-то цели?
Мариэ взялась за прядь своих прямых черных волос и заложила ее за ухо – маленькое и белое. Ухо изумительной формы. После этого она кивнула.
– Однако если отношения между мужчиной и женщиной продвинулись вперед, прекратить их не так-то и просто, – сказал я.
Это очень не просто, сказал я самому себе. Им, подобно гигантской индуистской колеснице[5], ничего не остается, как двигаться вперед, фатально давя все на своем пути. И к прежнему возврата уже не будет.
– Поэтому я пришла к вам за советом, – сказала Мариэ и посмотрела мне прямо в глаза.
Когда заметно стемнело, я с фонариком в руке проводил Мариэ до места, где начинается ее тайная тропа. Она сказала, что должна вернуться домой до ужина, а за стол у них дома садились около семи.
Она пришла ко мне за советом, но у меня не возникло ни одной подходящей мысли. Я мог лишь сказать: «Остается только понаблюдать за развитием ситуации». Ведь даже если между ними существует сексуальная связь, она, в конце концов, началась с обоюдного согласия взрослых мужчины и женщины. Здесь я бессилен. К тому же я не мог никому – ни Мариэ, ни ее тете – раскрывать обстоятельств, лежавших в ее основе. В таких условиях давать кому-либо дельные советы невозможно – это все равно что боксировать, привязав за спиной преобладающую руку.
Мы с Мариэ шли по тропинке в зарослях и молчали. По дороге она взяла меня за руку. Ее ладошка была маленькой, но на удивление сильной. Я слегка опешил от внезапного ее прикосновения, но виду не подал. В детстве мы часто ходили с сестрой, взявшись за руки, поэтому для меня это обычное и даже милое сердцу ощущение. Рука у нее была гладкой, теплой, но нисколько не влажной. Мариэ о чем-то думала и от разных мыслей то сжимала мою руку сильнее, то ослабляла хватку. И тем тоже напоминала мне сестру.
Когда мы приблизились к кумирне, она отпустила мою руку и, ничего не сказав, пошла дальше одна, огибая конструкцию. Я двигался за ней.
В зарослях мискантуса еще были видны следы от гусениц «Катерпиллара», а склеп, как обычно, покоился в тишине. Вместо крышки его накрывали несколько толстых досок, поверх них в ряд лежали тяжелые камни. Я посветил фонариком – проверить, на тех ли местах они лежат. Судя по всему, с последнего раза, когда я здесь был, крышку никто не сдвигал.
– Ничего, если я загляну? – спросила у меня Мариэ.
– Если только заглянешь.
– Только загляну, – пообещала Мариэ.
Я убрал камни и сдвинул одну доску. Мариэ присела на корточки и попробовала через это отверстие увидеть дно. Я посветил внутрь фонариком. В яме, разумеется, никого не было, только приставлена железная лестница. Если захочется, по ней можно спуститься на дно и оттуда вернуться обратно. Всей глубины – меньше трех метров, но без лестницы наверх не выбраться. Кладка плотная, стены скользкие, и простому человеку по этим камням не взобраться.
Мариэ Акигава, придерживая одной рукой волосы, долго всматривались в глубину склепа. Внимательно, будто пыталась что-то разглядеть в темноте. Что привлекло в этом склепе ее интерес, мне, конечно же, невдомек. Затем она подняла голову и посмотрела на меня.
– Кто сделал этот склеп? – спросила она.
– Не знаю. Сначала я думал, что это колодец, но не похоже. Перво-наперво, какой смысл рыть колодец в таком неудобном месте? Как бы то ни было, сделали его, похоже, очень давно. Причем строили очень старательно, должно быть, потратили немало времени.
Мариэ, ничего не говоря, смотрела прямо на меня.
– Ты в этих местах, говоришь, с детства играла, так? – спросил я.
Мариэ кивнула.
– Но об этом склепе за кумирней до последнего времени тоже не знала?
Она покачала головой. Что означало – нет, не знала.
– Сэнсэй, это вы его обнаружили и раскопали?
– Да, выходит так, обнаружил этот склеп я. О самом склепе я ничего не знал. Просто счел, что под грудой камней что-то есть. Однако на самом деле сдвинул камни и откопал этот склеп не я, а господин Мэнсики… – Я решил приоткрыть ей тайну, считая, что лучше рассказать ей честно хотя бы об этом.
Вдруг где-то на дереве раздался пронзительный птичий крик – таким предупреждают других об опасности. Я огляделся, но птицы нигде не было видно. Ветки, недавно сбросившие листву, многократно наслаивались друг на дружку, а над ними все было покрыто плоскими серыми тучами. Спускались сумерки – близилась зима.
Мариэ немного нахмурилась, но при этом промолчала. Я сказал:
– Трудно объяснить, но этот склеп будто требовал, чтобы его кто-нибудь откопал. Меня словно бы призвали сюда ради этого.
– Призвали?
– Пригласили… позвали…
Она склонила вбок голову и посмотрела на меня.
– Он требовал, чтоб вы его откопали?
– Да.
– Настаивал – этот склеп?
– Не обязательно я – возможно, ему было все равно, кто. А так вышло, что рядом поселился я.
– Но на самом деле откопал его господин Мэн Си Ки.
– Да, а его привел сюда я. Если бы не он, склеп так бы и не открыли. Вручную эту груду камней не перетащить, а денег, чтобы кого-то нанять для такой работы, у меня нет. Выходит – удачное стечение обстоятельств.
Мариэ задумалась над моими словами.
– Возможно, было б лучше этого не делать, – произнесла она. – По-моему, я вам уже это говорила.
– Ты считаешь, следовало оставить его в покое, как есть?
Мариэ, ничего не ответив, поднялась и отряхнула землю, прилипшую к коленкам на джинсах. Затем помогла мне задвинуть крышку и расставить поверх нее каменный груз. Я опять постарался запомнить расположение этих камней.
– Да, я так думаю, – сказала она, слегка потирая ладони.
– Сдается мне, это место хранит какую-то легенду или предание. Что-то особое, религиозное.
Мариэ покачала головой – этого она не знала.
– Мой отец, возможно, знает что-нибудь.
Семья ее отца управляла этими землями со времен еще до эпохи Мэйдзи, и вся соседняя гора по-прежнему принадлежала их семье. Поэтому они вполне могут что-нибудь знать об этом склепе и кумирне.
– Можешь у него спросить?
Мариэ чуть поджала губы.
– Можно попробовать. – Затем она немного подумала и тихонько добавила: – Если представится такой случай.
– Кто, когда и зачем выстроил этот склеп? Хорошо, если найдутся какие-то зацепки.
– Что-то заперли внутри, сверху навалили тяжелых камней, – проговорила Мариэ.
– Считаешь, чтобы это что-то не могло выбраться, над склепом навалили каменный курган – и, чтобы защитить себя от проклятий, возвели кумирню? Так, что ли?
– Пожалуй.
– А мы все это расковыряли.
Мариэ слегка пожала плечами.
Я проводил Мариэ до опушки зарослей – дальше она пожелала идти одна. Сказала, что, хоть и темно, она прекрасно знает дорогу домой, так что все будет в порядке. Девочка не хотела, чтобы кто-то видел, как она возвращается домой по ее тайной тропе. Это важный путь, который знает она одна, поэтому я оставил Мариэ в одиночестве и вернулся домой. Небо лишилось своей последней полоски света, подступала холодящая тьма.
Когда я проходил мимо кумирни, та же птица издала тот же пронзительный крик. На сей раз я не стал задирать голову, а просто миновал кумирню и вернулся в дом. Там приготовил себе ужин и, пока готовил, выпил бокал «Чивас Ригал», немного разбавив виски водой. В бутылке оставалось еще на одну порцию. Ночь выдалась глубокой и тихой – будто облака на небе впитывали все звуки мира.
Этот склеп не следовало бы вскрывать.
Пожалуй, Мариэ Акигава права, и мне не следовало бы с ним связываться. В последнее время я, похоже, совершаю сплошные ошибки.
Я попытался представить облик Мэнсики, который сжимает в объятиях Сёко Акигаву. Они вдвоем – нагие на просторной кровати в какой-то из комнат большого белого особняка. Происходит это в мире, разумеется, никак не связанном со мной. Это не причастное ко мне событие, однако всякий раз, когда задумывался об этой паре, я не находил себе места. Словно стоишь на перроне и видишь, как мимо пролетает длинная пустая электричка.
Вскоре на меня навалился сон – закончилось мое воскресенье. Я просто глубоко уснул – без сновидений, и мне никто не мешал.
45
Что-то сейчас произойдет
Из двух полотен, что я писал одновременно, первой готовым оказался «Склеп в зарослях». Я завершил его в пятницу после обеда. Картины – вещь странная: они постепенно обретают собственную волю, точку зрения и убедительность голоса. Когда работа закончена, картина сама сообщает пишущему ее человеку об этом. (По крайней мере, я это так чувствую.) Сторонний наблюдатель за творческим процессом – если такой окажется рядом – вряд ли отличит, завершена картина или еще нет. Один штрих или мазок, отделяющий готовую работу от неготовой, зачастую не заметен для глаза. А вот самому художнику это понятно. Произведение само подскажет ему: «Больше ничего добавлять не нужно», – стоит лишь прислушаться к этому голосу.
Со «Склепом в зарослях» так и вышло. В какой-то миг картина оказалась готова и начала отталкивать мою кисть. Совсем как женщина, уже получившая сексуальное удовлетворение. Я снял холст с мольберта, поставил на пол и прислонил к стене. Затем сам сел на пол и долго всматривался в картину. Изображение склепа с наполовину задвинутой крышкой.
Почему мне вдруг пришло в голову это нарисовать? Я никак не мог докопаться до истинного смысла и цели этого поступка – просто в какой-то миг мне очень сильно захотелось. Что я еще могу сказать? Такое иногда случается. Что-то – некий пейзаж, предмет или человек – просто-напросто берет меня за душу, я хватаю кисти и принимаюсь рисовать это на холсте. Без всякого умысла и цели, так – простая прихоть.
…Нет, не так, все иначе, подумал я. Никакая это не «простая прихоть». Написать эту картину от меня требовало нечто – и весьма настойчиво притом. Требование это меня мобилизовало, заставило приняться за работу, как бы подталкивая меня в спину, привело к тому, что закончил я все быстро. А может, это и впрямь сам склеп навязал мне свою волю – заставил меня изобразить себя. Для чего-то. Примерно так же Мэнсики, вероятно, для чего-то вынудил меня нарисовать свой портрет.
Если судить по справедливости и объективно, картина получилась неплохой. Не знаю, правда, можно ли назвать ее произведением искусства – не хочу оправдываться, но, принимаясь за эту работу изначально, я вовсе не собирался создавать шедевр. И все же, если рассматривать только с точки зрения техники, выглядела картина почти безупречно. Композиция была идеальна, и я во всех отношениях очень натурально уловил и отразил солнечный свет, пробирающийся сквозь ветви, и сочетание оттенков опавшей листвы. Вместе с тем картина эта, выполненная очень детально и реалистично, в то же время отчего-то производила некое таинственное символическое впечатление.
Я долго вглядывался в нее, и у меня возникло сильное ощущение: в этой картине скрыто предчувствие движения. Поверхностным взглядом виден лишь конкретный пейзаж «Склеп в зарослях», что и отражено в названии картины….Нет, даже не пейзаж, скорее – репродукция, так будет вернее. Хоть у меня и не всегда все складывалось гладко, я уже долго пишу картины и потому применил сейчас все свои навыки, чтобы как можно старательнее воспроизвести пейзаж на холсте. Я его не нарисовал, а скорее – запротоколировал.
Однако в нем проступало это самое предчувствие движения. Очень явственно ощущалось, что в том пейзаже что-то вот-вот зашевелится. Именно сейчас здесь что-то начнется. И тут я наконец догадался: я же и намеревался перенести на холст ощущение этого предчувствия – ну, или что-то заставляло меня.
Не вставая с пола, я сменил позу и еще раз посмотрел на картину – но уже другим взглядом.
Что за движение там произойдет дальше? Что или кто выползет из полуоткрытой круглой тьмы? Или, наоборот, кто спустится туда? Я долго и сосредоточенно смотрел на картину, однако никаких догадок у меня не возникало – лишь не покидало сильное предчувствие, что там возникнет какое-то движение.
Да и ради чего этот склеп добивался, чтобы я его нарисовал? Хотел тем самым мне что-то подсказать? Или от чего-то предостеречь? Прямо какая-то игра в загадки: их много, а ответов – ни одного. Мне захотелось показать эту картину Мариэ Акигаве, чтобы узнать ее мнение. Возможно, она разглядит в картине то, что не заметил я сам.
Пятница – день, когда я веду кружок в Школе художественного развития возле станции Одавара. А также – тот день, когда Мариэ Акигава приходит ко мне на занятия как ученица. Возможно, после урока мне удастся с ней переброситься словом-другим. Я поехал в город.
До начала занятий оставалось время, поэтому я, припарковавшись, как обычно, зашел выпить кофе. Заведение вовсе не походило на светлый и функциональный «Старбакс» – кафе располагалось в закоулке, где пожилой хозяин по старинке сам управляется со всем. Он подавал густой и чернейший кофе в жутко тяжелых кружках. Из старых колонок лился старый добрый джаз – например, Билли Холидей или Клиффорд Браун. После, когда я шел не спеша по торговой улице, – вспомнил, что в доме осталось мало бумажных фильтров для кофеварки, и здесь же купил. Приметив магазин подержанных пластинок, заглянул туда, чтобы убить время, и поразглядывал старые пластинки. Поймал себя на том, что уже долго слушаю одну классику – на полке Томохико Амады стояла только она. А по радио я мог слушать лишь новости на одном канале AM и прогноз погоды – из-за рельефа волны FM почти не ловились.
Все свои компакт-диски и пластинки – хоть их было не очень-то и много – я оставил в квартире на Хироо. Разбирать, какие книги и пластинки мои, а какие Юдзу, мне было хлопотно. Не просто в тягость, а почти невозможно. Например, «Nashville Skyline» Боба Дилана или, скажем, тот альбом «The Doors», где «Alabama Song» – чьи они будут? Теперь уже все равно, кто их покупал. Как бы там ни было, какое-то время мы с женой прожили, слушая вместе одну и ту же музыку, – можно сказать, делили ее на двоих. Пусть мы даже смогли б поделить эти вещи – а как быть с общей памятью, с ними связанной? Как поделить ее? Вот поэтому ничего и не остается – только оставить все в прошлом.
Я поискал в магазине пластинок «Nashville Skyline» и первый альбом «The Doors», но не нашел ни того, ни другого. Возможно, теперь они продаются на компакт-дисках, но мне хотелось послушать эту музыку со старых виниловых пластинок. И, что немаловажно, в доме Томохико Амады не было проигрывателя компакт-дисков – кассетного магнитофона тоже. Только пара обычных проигрывателей. Томохико Амада, похоже, не жаловал новую технику – никакую, даже к микроволновке, возможно, ближе, чем на два метра, не подходил.
В конце концов я купил в том магазине две пластинки: «The River» Брюса Спрингстина и сборник дуэта Роберты Флэк и Донни Хэтэуэя. Оба альбома для меня были бальзамом на душу. Я как-то почти перестал слушать новую музыку и раз за разом ставил себе эту, старую, что нравилась мне когда-то. То же и с книгами. По многу раз я перечитываю старые, читанные еще в молодости, нисколько не интересуясь новыми изданиями. Как будто в некий миг время для меня вдруг остановилось.
А может, так оно и есть – время действительно остановилось? Или движется с трудом, но его развитие уже закончилось. Как в ресторане, где незадолго до закрытия перестают принимать новые заказы. И это пока что не замечаю только я сам?
Я заплатил, и две пластинки мне сложили в бумажный пакет. Потом я зашел в соседнюю винную лавку за виски. Немного поколебался, что выбрать, но в итоге остановился опять на «Чивас Ригал». Несколько дороже других марок скотча, но я хотел порадовать этой бутылкой Масахико Амаду, когда тот заедет в гости в следующий раз.
Приближалось время начала занятия в кружке. Я оставил пластинки, фильтры для кофеварки и бутылку виски в машине и вошел в здание, где располагалась Школа художественного развития. Первым был урок у моей детской группы – той, где занималась Мариэ Акигава. Но на сей раз, к моему удивлению, ее среди учеников не оказалось. Она ходила на занятия с большим воодушевлением и, насколько мне помнилось, пропускала впервые. Вот поэтому ее отсутствие в классе и вызвало у меня беспокойство. Я даже немного встревожился – не случилось ли с ней чего? Вдруг ей стало плохо? Или произошел какой-то несчастный случай?
Однако я, конечно же, как ни в чем не бывало раздал детям простые задания, а потом смотрел, как они работают, давал каждому советы и делился мнением. Урок закончился, дети разошлись по домам, и настал черед взрослых – с ними тоже все прошло без каких-то сложностей. Я, улыбаясь, светски болтал с людьми (хоть это и не мой конек, но когда пробую – получается). Затем я кратко обсудил с руководителем Школы художественного развития изостудии дальнейшие планы. Почему Мариэ Акигава пропустила сегодня занятие, он тоже не знал – только сказал, что никто из ее родных ничего ему не сообщал.
Выйдя на улицу, я зашел в соседний ресторанчик и съел горячую соба с тэмпурой. Это у меня тоже вошло в привычку: в одном и том же месте всегда это есть. Одна из моих маленьких радостей. Затем я сел за руль и поехал обратно в дом на горе. А когда вернулся, было уже около девяти вечера.
Автоответчика на телефоне не было (Томохико Амада недолюбливал даже это дельное приспособление), и поэтому я не знал, звонил ли кто-то, пока меня не было дома. Какое-то время я пристально смотрел на допотопный телефонный аппарат, но он мне так ни в чем и не сознался – лишь упорно хранил мрачное молчание.
Неспешно принимая ванну, я хорошенько прогрелся, затем налил в бокал остаток из старой бутылки «Чивас Ригал», добавил два кубика льда и пошел в гостиную. Там поставил на проигрыватель одну из только что купленных пластинок. Гостиная дома на горе впервые наполнилась звуками не классики, и первое время меня не покидало ощущение, что такая музыка здесь не к месту. Наверняка сам воздух этой комнаты за долгие годы приспособился к музыке прежних веков. Однако сейчас здесь играло то, что привычно для меня, и моя ностальгия постепенно преодолевала неуместность. Вскоре я почувствовал, как расслабляется все мое тело. Прежде я и не замечал, как мои мышцы сковало в разных местах.
Закончилась первая сторона пластинки Роберты Флэк и Донни Хэтэуэя. В начале второй стороны, когда я, прикладываясь к бокалу, слушал «For All We Know» (до чего же прекрасное исполнение), зазвонил телефон. Стрелки часов показывали половину одиннадцатого – так поздно мне еще никто не звонил. Брать трубку не хотелось, однако в этом звонке мне послышался легкий отзвук неотложности. Я поставил бокал, встал с дивана, поднял с пластинки иглу и только после этого подошел к телефону.
– Алло? – раздался голос Сёко Акигавы.
Я поздоровался.
– Извините, что так поздно, – сказала она. Ее голос звучал непривычно напряженно. – Хотела у вас уточнить. Мариэ сегодня не было на уроке в кружке, так ведь?
Я ответил, что девочка на занятие не приходила. Странный вопрос задала мне она – обычно Мариэ после уроков в местной муниципальной школе прямиком идет в изостудию. Поэтому у меня на занятиях она всегда в школьной форме. А после них ее встречает на машине тетя, и они вдвоем возвращаются домой. Так обычно бывает каждый раз.
– Я не могу ее найти, – сказала Сёко Акигава.
– Не можете найти?
– Ее нигде нет.
– Как долго? – просил я.
– С утра сказала, что пойдет в школу, – и, как обычно, вышла из дому. Я хотела ее подвезти, а она: «Пройдусь пешком». Ей нравится ходить пешком, а ездить на машине она особо не любит. Если почему-то она опаздывает, я ее, конечно, отвожу, но обычно она спускается с горы, потом садится на автобус и едет до станции. И утром, как обычно, вышла из дому в половине восьмого.
Проговорив все это на одном дыхании, Сёко Акигава умолкла. В трубке послышался глубокий вдох. Я же меж тем осмыслил полученную информацию. После чего Сёко Акигава продолжила:
– Сегодня пятница, и Мариэ в этот день после школы сразу идет в изостудию. Обычно к концу урока я приезжаю на машине встретить ее. Но сегодня она сказала, что встречать не нужно – она и вернется домой на автобусе, поэтому я никуда не поехала. Все равно, что ей ни говори, она бы не послушалась. Обычно в таких случаях она возвращается домой примерно в семь – половину восьмого, и мы садимся ужинать. Но сегодня она не вернулась ни к восьми, ни к половине девятого. Я начала переживать, позвонила в изостудию и попросила дежурную проверить, приходила Мариэ или нет. Та выяснила и ответила, что не приходила. Тогда я не на шутку встревожилась – уже половина одиннадцатого, а она еще не вернулась. И даже не позвонила. Вот я и решила уточнить – возможно, вы что-нибудь знаете?
– Где может быть госпожа Мариэ, я понятия не имею, – ответил я. – Когда я вечером пришел в изостудию – заметил, что ее нет, и немного удивился. Раньше она не пропускала занятий.
Сёко Акигава тяжко вздохнула.
– Брат еще не вернулся, и когда будет дома – неизвестно. Дозвониться до него невозможно. Я даже не знаю, вернется он сегодня или нет. Я здесь одна и совершенно не знаю, что мне делать.
– Госпожа Мариэ утром ушла в обычной школьной одежде? – спросил я.
– Да. Надела форму, взяла сумку через плечо. Все как обычно – жакет, юбка. Но была она в школе или нет, я пока что не знаю. Уже поздно, и спросить не у кого. Думаю, в школу она все-таки ходила. Если бы она прогуляла занятия, из школы должны были сообщить. Денег у нее – сколько нужно только на один день. Сотовый мы ей даем, но он выключен. Она вообще не любит носить с собой телефон. Сама иногда звонит домой, но потом обычно его выключает. Постоянно предупреждаю, чтоб не выключала, на всякий случай, но она меня не…
– А раньше такого не бывало? Чтоб она задерживалась допоздна?
– Чтобы так долго – впервые. Мариэ же очень надежная – всегда серьезно относилась к учебе, а близких подруг у нее нет. Нельзя, правда, сказать, что она любит школу, но то, что она обещает, – выполняет твердо. В начальных классах ей даже грамоту дали за примерную посещаемость. Так что в этом смысле она очень добросовестная и после школы всегда сразу возвращается домой. Нигде не слоняется.
Похоже, тетя совершенно не подозревала, что Мариэ по ночам часто покидает дом.
– Сегодня утром в ее поведении не было ничего необычного?
– Нет, утро как утро. Все как обычно. Она пьет молоко, съедает тост и выходит из дому. Завтрак ей готовила я, как всегда. Сегодня она, правда, почти не разговаривала, но так с нею иногда случается. Временами как начнет болтать – не остановишь, но обычно даже ответа от нее не дождешься.
Я слушал монолог Сёко Акигавы, и меня охватывало беспокойство. Время близилось к одиннадцати, вокруг, разумеется, темень хоть глаз выколи. Луна спряталась за тучами. Что же случилось с Мариэ Акигавой?
– Подожду еще час – и, если с ней не удастся связаться, позвоню в полицию, – сказала Сёко Акигава.
– Пожалуй, так будет лучше всего, – сказал я. – Если я чем-то смогу вам помочь, не стесняйтесь. Поздно, не поздно – не имеет значения.
Сёко Акигава поблагодарила и положила трубку. Я допил остаток виски и вымыл на кухне бокал.
Затем пошел в мастерскую. Включил все лампы, и комната ярко осветилась, а я опять взялся разглядывать начатый «Портрет Мариэ Акигавы», еще стоявший на мольберте. Еще несколько мазков – и картина готова. На ней – должный облик тринадцатилетней молчаливой девочки. Но не только ее внешний вид. Еще на холсте присутствовали несколько важных деталей, незаметных для глаза, но именно они наполняли все ее существо. Выявить то, что скрывается от взглядов, и передать в иной форме то послание, какое несут эти детали, – вот чего я добивался в своих портретах (правда, конечно, это не касалось коммерческих работ). В этом смысле Мариэ Акигава была для меня очень интересной моделью. В ее облике, подобно картинам-обманкам, скрывалось множество разных намеков. И вот она неизвестно куда подевалась – будто сама растворилась в такой обманке.
Затем я посмотрел на «Склеп в зарослях», стоявший на полу. Эту картину я только что завершил. Казалось, этот пейзаж со склепом призывает меня к чему-то – но отнюдь не так, как «Портрет Мариэ Акигавы».
Глядя на него, я заново ощутил: Что-то должно произойти. То, что с утра было лишь предчувствием, теперь начало на самом деле разъедать действительность и предчувствием быть уже перестало. Что-то уже начало происходить. Исчезновение Мариэ Акигавы, несомненно, имеет какую-то связь со «Склепом в зарослях». Я это чувствовал. Тем, что я сегодня закончил эту картину, что-то запустилось и пришло в движение. Вероятно, в результате Мариэ Акигава и пропала.
Но всего этого Сёко Акигаве не объяснишь. Услышав такое, она вообще перестанет что-либо понимать и примется паниковать еще сильнее.
Выйдя из мастерской, я сходил на кухню, выпил несколько стаканов воды и сполоснул рот, чтобы не пахло виски. После чего снял трубку и позвонил домой Мэнсики. На третьем звонке тот подошел к телефону. В его голосе я уловил еле заметную напряженность – словно он ждал важный звонок, а позвонил ему я. Этому он немного удивился, но это удивление моментально рассеялось, и он заговорил тихо и спокойно, как обычно.
– Извините, что так поздно, – сказал я.
– Ничего страшного. Я все равно не сплю допоздна и абсолютно свободен. Я очень рад, что мы можем поговорить.
Обойдясь без долгих вступлений, я вкратце объяснил ему, что пропала Мариэ Акигава. Сказав, что отправляется в школу, вышла утром из дому и до сих пор не вернулась. Не появилась она и на занятии в изостудии. Услышав это, Мэнсики, похоже, очень удивился – так, что сперва даже не мог ничего сказать.
– У вас по этому поводу есть соображения? – перво-наперво спросил он у меня, когда дар речи к нему вернулся.
– Совершенно никаких, – ответил я. – Как обухом по голове. А вы что думаете?
– Ума не приложу. Ведь она со мной почти не разговаривала.
Голос его звучал ровно, без всяких эмоций. Он просто излагал факты.
– Она вообще молчаливая, особо ни с кем не разговаривала, – сказал я. – Во всяком случае, ее тетя, похоже, в панике, потому что Мариэ никогда и нигде так поздно не задерживалась, никого не предупредив. Отец ее, видимо, вернется не скоро. Сёко Акигава дома одна и не знает, как ей быть.
Мэнсики снова помолчал. Редкий это был случай – он в который уже раз не знал, что сказать.
– Я чем-то могу в этом помочь? – наконец произнес он.
– Извините, что это так внезапно, но не могли бы вы сейчас сюда приехать?
– К вам домой?
– Да. Мне хотелось бы с вами посоветоваться.
Мэнсики на миг умолк, а затем сказал:
– Понятно. Сейчас приеду.
– Вы уверены, что я вас ни от чего не оторву?
– Ни от чего важного. Все как-нибудь образуется, – ответил Мэнсики и слегка откашлялся. Мне показалось, он посмотрел на часы. – Минут через пятнадцать буду у вас.
Положив трубку, я начал собираться на улицу: надел свитер, приготовил кожаную куртку, положил рядом крупный фонарик. И, сев на диван, стал дожидаться, когда приедет «ягуар» Мэнсики.
46
Перед высокой прочной стеной человек бессилен
Мэнсики приехал в одиннадцать двадцать. Услышав рокот мотора, я надел кожаную куртку, вышел на улицу и дождался, когда Мэнсики выключит зажигание и выйдет из машины. Он был в плотной темно-синей ветровке и узких черных джинсах. На шею себе он повязал тонкий шарф, обут был в кожаные мокасины. Его пышные белые волосы бросались в глаза даже в темноте.
– Я хочу проверить тот склеп в зарослях. Вы не против сходить со мной?
– Нет, конечно, – ответил Мэнсики. – А что, он как-то связан с исчезновением Мариэ Акигавы?
– Этого я пока не знаю. Правда, с недавнего времени меня не покидает одно недоброе предчувствие: будто что-то происходит, и связано это как-то с тем склепом.
Мэнсики больше ничего спрашивать не стал.
– Понятно. Пойдемте, вместе посмотрим, что там творится.
Он открыл багажник «ягуара», достал оттуда нечто похожее на керосиновую лампу. Захлопнул крышку, и мы с ним направились в заросли. Ночь стояла темная, ни луны, ни звезд. И ветра не было.
– Простите, что побеспокоил вас посреди ночи, – сказал я. – Однако мне показалось, что пойти проверить склеп лучше вместе с вами. Я решил, что один я не справлюсь, если что-то случится.
Он вытянул руку и слегка похлопал меня по рукаву куртки, как бы подбадривая.
– Ничего страшного. Не беспокойтесь. Чем смогу – помогу.
Чтобы не спотыкаться о корни деревьев, мы светили под ноги фонариком и лампой и ноги передвигали осторожно. Шуршали опавшие листья, никаких других звуков не слышалось. Заросли, казалось, дремали в ночной тишине. Однако меня не покидало тягостное ощущение, что их обитатели где-то притаились, пристально наблюдая за нами и дожидаясь, когда мы пройдем. Такой морок порождала кромешная тьма, и если б нас приметил кто-нибудь посторонний – наверняка принял бы за расхитителей могил.
– Хочу задать вам один вопрос, – произнес Мэнсики.
– Что такое?
– Почему вы считаете, что между этим склепом и исчезновением Мариэ Акигавы есть какая-то связь?
Я рассказал ему, как мы с нею приходили сюда недавно посмотреть на склеп. Она знала о его существовании еще до того, как я ей о нем рассказал. В этих местах она играла с раннего детства и знала здесь все. Затем я передал Мэнсики ее слова: Это место было бы лучше оставить как есть. Этот склеп не следовало бы вскрывать.
– Стоя перед ним, она почувствовала нечто особое, – сказал я. – Как бы выразиться… потустороннее.
– Ей стало интересно? – спросил Мэнсики.
– Именно. Она держалась с опаской, но заметно было, что сам вид склепа ее очаровал. Вот я и беспокоюсь, что с ней могло произойти что-то, с ним связанное. Вдруг она не может из него выбраться.
Мэнсики немного подумал, после чего спросил:
– Вы говорили об этом ее тете? Ну, в смысле – Сёко Акигаве.
– Нет, пока ничего не говорил. Если об этом упоминать, придется рассказывать все с самого начала – что, зачем и почему. Как мы этот склеп вскрыли, при чем здесь вы… Рассказ затянется, а я, пожалуй, не смог бы толком объяснить ей все свои ощущения.
– К тому же это лишь прибавит ей беспокойства.
– Ну да, а особенно – если в дело ввяжется полиция. Все только осложнится, если они сунут нос в этот склеп.
Мэнсики посмотрел мне в лицо.
– А полиция уже в курсе?
– Когда я разговаривал с Сёко Акигавой, она им еще не звонила. Однако теперь уже поди заявила о пропаже ребенка. Что ни говори, время-то позднее.
Мэнсики несколько раз кивнул.
– Ну, ее можно понять. Тринадцатилетняя девочка не вернулась домой в такой час и куда подевалась – неизвестно. Родственники не могут не заявить в полицию. Что им еще остается делать?
Однако привлечение полиции Мэнсики, похоже, не одобрял – я уловил это по его тону.
– Давайте устроим так, чтоб об этом склепе знали только мы с вами. Пожалуй, будет лучше о нем не распространяться посторонним. Это лишь все усложнит, – произнес Мэнсики, и я с ним согласился.
Но прежде всего – Командор. Объяснять людям особенность склепа, не упомянув об идее в облике Командора, которая возникла оттуда, окажется почти что бесполезно. Но если все же пытаться объяснять, это может только все усложнить. И здесь Мэнсики прав – к тому же, если раскрыть существование Командора, кто в это поверит? Только посчитают меня сумасшедшим.
Мы вышли из зарослей и оказались перед маленькой кумирней, потом обогнули ее. Перешагнули через поваленный мискантус, что так и оставался лежать с тех пор, как стебли его беспощадно раздавили гусеницами «Катерпиллара», и снова увидели склеп. Первым делом мы осветили крышку – на ней по-прежнему лежали камни-грузила. Я пригляделся к их расположению. Хоть и самую малость, но камни были сдвинуты. После того, как я побывал здесь с Мариэ, кто-то приходил, передвинул камни, открыл крышку, затем опять ее закрыл и попытался разложить камни так, чтобы они лежали, как и прежде. Но отличие, пусть и незначительное, заметить я сумел.
– Кто-то двигал камни и открывал крышку. Остались следы, – сказал я Мэнсики.
Мэнсики вскользь посмотрел на меня.
– Это Мариэ Акигава?
– Не знаю, – ответил я. – Но чужие здесь не ходят, а кроме нас с вами, об этом склепе знает только она. Так что вероятность велика.
Разумеется, о склепе еще знает Командор. Как не знать – он сам там сидел. Но он всего лишь идея, существо без физического облика. Чтобы попасть внутрь склепа, ему двигать камни не нужно.
Мы убрали с крышки все камни и сняли все толстые доски, застилавшие яму. Перед нами опять зияла круглая дыра диаметром метра два. Мне она показалась еще больше и мрачнее, чем прежде, но то, вероятно, был обман зрения в ночной темноте.
Мы с Мэнсики пригнулись и посветили внутрь склепа кто фонариком, кто лампой. Однако внутри очертаний человека мы не приметили. Там не было вообще ничьих очертаний. Лишь пустое округлое пространство с высокими каменными стенами. Все как обычно. Но с одним отличием: пропала лестница. Раскладная металлическая лестница, которую любезно оставили рабочие, разбиравшие каменный курган. В последний раз, когда я был здесь с Мариэ, лестница стояла у стены, как и прежде.
– Куда подевалась лестница? – вслух удивился я.
Та нашлась сразу – она лежала на земле в зарослях мискантуса, в той их части, что избежала гусениц «Катерпиллара». Кто ее вытащил и бросил там? Лестница не такая и тяжелая, много сил не требуется. Мы перенесли ее обратно и поставили на прежнее место.
– Давайте, я спущусь? – предложил Мэнсики. – Может, там что-нибудь найдется.
– Вы серьезно?
– А что? За меня можно не беспокоиться. Один раз там я уже побывал.
С этими словами Мэнсики взял в руку свою лампу и как ни в чем не бывало начал спускаться в яму.
– Кстати, а вы знаете высоту стены, разделявшей Берлин на Восточный и Западный? – спросил он у меня на ходу.
– Нет.
– Три метра, – сказал Мэнсики, подняв на меня взгляд. – Зависело от места, но в целом то была стандартная высота. Чуть выше глубины этого склепа – и тянулась она на сто пятьдесят километров. Мне довелось видеть ее своими глазами, когда Берлин еще был разделен. Признаться, жалкое зрелище.
Мэнсики спустился на дно и посветил вокруг себя, при этом продолжая со мной разговаривать.
– Стены изначально возводили, чтобы защищать людей. От врагов, от дождя и ветра. Однако иногда их используют, чтобы людей заточать. Прочная стена делает заточенного человека бессильным – и визуально, и нравственно. Бывают стены, создаваемые специально для этого.
После этих слов Мэнсики умолк. И до последнего уголка изучил стены и пол, подсвечивая себе лампой. Как будто был археологом, который исследует самую дальнюю камеру в древней пирамиде, тщательно и усердно. Лампа у него светила ярко и освещала все вокруг намного лучше фонарика. Вот он что-то приметил на полу, опустился на одно колено и стал тщательно это рассматривать. Однако что это, сверху мне было непонятно. Сам Мэнсики тоже помалкивал о находке. Похоже, обнаружил он нечто очень маленькое. Выпрямившись, завернул находку в носовой платок и положил в карман ветровки. А затем, подняв лампу над головой, посмотрел наверх – туда, где стоял я.
– Я поднимаюсь, – произнес он.
– Что-то нашли? – спросил я.
На это Мэнсики не ответил – просто начал осторожно подниматься по лестнице. После каждого шага наверх лестница глухо поскрипывала под тяжестью его тела. Я, подсвечивая фонариком, наблюдал, как он возвращается на поверхность. Наблюдая за тем, как у него движется все тело, я понимал: он регулярно и весьма функционально накачивает и поддерживает свою мускулатуру. Ни одного напрасного движения, задействуются только нужные мышцы. Шагнув на поверхность, он потянулся, тщательно стряхнул налипшую на джинсы грязь, хотя было ее не так уж и много.
Сделав вдох, он сказал:
– Стоит самому спуститься вниз – и высота стены начинает казаться устрашающей. Там, на дне, возникает определенное бессилие. Некогда я видел похожую стену в Палестине. Ее построил Израиль – бетонную стену выше восьми метров, а поверх – проволока под высоким напряжением. И тянется эта стена где-то пятьсот километров. Вероятно, израильтяне считали, что трех метров им недостаточно, хотя обычно столько для стен вполне хватает.
Он поставил лампу на землю – высветился яркий круг вокруг ног.
– К слову, стены в токийской предвариловке были около трех метров, – произнес Мэнсики. – Не знаю, почему, но стены у камер там очень высокие. День за днем видишь перед собой только гладкие угрюмые стены высотой под три метра. А больше там смотреть не на что. Разумеется, никаких картин на стенах нет – одни стены. Возникает такое ощущение, будто ты находишься на дне ямы.
Я молча слушал его.
– Некоторое время назад я сидел по одному делу под стражей в той предвариловке. Об этом я вам, кажется, еще не рассказывал.
– Нет, такого я не припоминаю, – ответил я. На самом деле о том, что Мэнсики вроде как сидел в камере предварительного заключения, я слышал от своей замужней подруги, но сейчас, разумеется, и виду не подал.
– Не хотелось бы, чтоб вы об этом узнали от посторонних. Вам же наверняка известно, как людская молва искажает правду, добавляет интересные и странные подробности. Поэтому уж лучше я вам все расскажу сам – узнаете, так сказать, из первых рук. История эта не из приятных, но, возможно, сейчас – самое время ее рассказать. Мимоходом, так сказать. Вы не против?
– Нет, конечно же. Рассказывайте, будьте добры, – сказал я.
Мэнсики немного повременил, после чего начал:
– Я не оправдываюсь – мне нечего стыдиться. До сих пор мне приходилось пробовать себя в самых разных делах. Можно сказать, я все время жил под напряжением многочисленных рисков. Однако я совсем не глуп и от рождения очень осторожен, поэтому я не впутываюсь в то, что противоречит закону. И постоянно слежу, чтобы не переступить эту черту. Однако партнер, с которым я тогда связался, был неосторожен и повел себя неосмотрительно, из-за чего мне пришлось несладко. С тех самых пор я избегаю работать с кем-то и стараюсь жить, надеясь только на себя.
– И какое же обвинение вам предъявили?
– Инсайдерские сделки и уклонение от уплаты налогов. Экономические преступления. В итоге меня признали невиновным, но до суда дело все же довели. Прокуратура разбиралась дотошно, поэтому в предвариловке меня держали достаточно долго. Находили разные причины, чтобы не выпускать. Длилось это так долго, что и посейчас, стоит мне оказаться в таком месте, которое со всех сторон окружают стены, у меня щемит сердце. Как я вам уже сказал, я не был ни в чем виноват, но прокуратура к тому времени уже сочинила либретто для возбуждения дела, и по этому либретто виновность моя была прописана достаточно четко. И переписывать его они не собирались. В этом суть чиновничьей системы: раз уж что-то решено, изменить это почти невозможно. Повернешь течение вспять – и кто-то из них должен будет взять ответственность за это на себя. Вот по этой причине мне пришлось так долго просидеть в одиночке токийской предвариловки.
– Как долго?
– Четыреста тридцать пять дней, – обыденным тоном ответил Мэнсики. – Такие цифры не забудешь до самой своей смерти.
Даже мне было несложно представить, что четыреста тридцать пять дней в одиночке – это жутко долгий срок.
– Вам когда-нибудь приходилось долго бывать в тесном пространстве? – спросил он.
Я ответил, что нет. После того случая в запертом фургоне транспортной фирмы у меня развилась острая клаустрофобия. Я не могу даже в лифте ездить – и если окажусь в таком помещении, у меня тут же не выдержат нервы.
Мэнсики сказал:
– А я вот открыл для себя способ выдерживать замкнутые пространства. В одиночке приучал себя день за днем. Пока сидел там, выучил несколько языков – испанский, турецкий, китайский. В одиночке не разрешают держать много книг, но словари в их число не входят. Поэтому так называемый «срок предварительного заключения» оказался удобен для изучения языков. К счастью, природа одарила меня силой сосредоточиваться, и я, пока занимался языками, смог легко позабыть про стены. У всего на свете непременно есть положительная сторона.
Даже самая толстая и мрачная туча с обратной стороны серебрится.
Мэнсики продолжал:
– Однако до последнего у меня оставался страх перед сильным землетрясением или пожаром. Случись одно из таких бедствий, спастись не удастся – ты же за решеткой. Стоило лишь представить, как меня, замкнутого в тесном пространстве, раздавит, или я заживо сгорю, – от страха спирало дыхание. Такой страх я побороть так не смог. Особенно когда проснешься среди ночи…
– Но вы же выдержали?
Мэнсики кивнул.
– Разумеется. Ведь я не мог проиграть этим типам из прокуратуры, допустить, чтобы система меня сломала. Одна моя подпись в подготовленных ими документах – и я бы вышел на свободу. Мог бы вернуться к привычной жизни. Но если б я это сделал – мне конец. Тогда бы получилось, что я признаю то, чего не совершал. И тогда я решил воспринимать это как важное испытание, уготованное мне небесами.
– Когда вы сидели в этом склепе в одиночестве целый час – наверное, вспоминали те дни?
– Да. Иногда необходимо возвращаться к исходной точке – в то место, которое вылепило нынешнего меня. Ведь к удобствам человек привыкает быстро.
Этими словами Мэнсики опять привел меня в восторг. Какой же он все-таки оригинал – другой бы постарался скорее забыть о таком суровом опыте.
И тут Мэнсики, как будто вспомнив, сунул руку в карман ветровки и вынул оттуда платок.
– Вот, нашел на дне склепа, – произнес он, развернул платок и достал маленькую вещицу.
Она была пластмассовой. Взяв ее в руку, я попытался рассмотреть в свете фонаря, что это такое. То был выкрашенный черным и белым игрушечный пингвин длиной сантиметра полтора – на черном шнурке. Такие фигурки школьницы часто вешают на сумку или сотовый телефон. Совсем не грязный, по виду – новехонький.
– В прошлый раз, когда я спускался на дно, этой фигурки там не было, это точно, – сказал Мэнсики.
– Выходит, ее обронил тот, кто спускался сюда после вас.
– Выходит, так. Похоже на украшение, которое цепляют к сотовому телефону. И шнурок не оборван – его развязали и сняли с телефона. Поэтому велика вероятность, что этого пингвина не обронили, а оставили в склепе намеренно.
– Спустились на дно и специально оставили?
– Может, просто уронили сверху.
– Но для чего? – спросил я.
Мэнсики покачал головой – он тоже не мог этого понять.
– Возможно, этот кто-то оставил фигурку как амулет? Конечно, это не более чем мое предположение.
– Думаете, Мариэ?
– Не исключено. Кроме нее, нет никого, кто мог бы сюда прийти.
– И она оставила фигурку со своего телефона как амулет?
Мэнсики опять покачал головой:
– Не знаю. Однако тринадцатилетней девочке может прийти на ум и не такое. Разве нет?
Я еще раз посмотрел на крошечного пингвина, которого держал в руке. Теперь он и впрямь казался мне каким-то талисманом – было в нем что-то невинное.
– Но тогда кто же вытащил лестницу и донес ее до зарослей? И для чего? – спросил я.
Мэнсики покачал головой, как бы говоря, что понятия не имеет. Я сказал:
– Как бы там ни было, когда вернемся в дом, давайте позвоним Сёко Акигаве и попытаемся выяснить, не было ли у госпожи Мариэ фигурки пингвина. Ответит – и хоть кое-что прояснится.
– Тогда пока держите фигурку у себя, – сказал Мэнсики. Я кивнул и положил пингвина в карман брюк.
Затем мы, оставив лестницу приставленной к стенке, опять накрыли склеп крышкой, а поверх досок выстроили камни-грузила. На всякий случай я снова хорошенько запомнил расположение этих камней. По тропинке в зарослях мы направились обратно в дом. Я бросил взгляд на часы – стрелки перевалили за полночь. По дороге мы не разговаривали – светя каждый себе под ноги, шагали, храня молчание. Каждый думал о своем.
Когда мы подошли к дому, Мэнсики открыл багажник «ягуара» и положил туда лампу. Затем встал, опершись на закрытый багажник, как будто наконец избавился от напряжения, и некоторое время смотрел в небо. Мрачное небо, на котором ничего не было видно.
– Ничего, если я немного побуду у вас? – спросил у меня он. – А то дома я никак не смогу успокоиться.
– Конечно, заходите. Прошу вас. Я и сам вряд ли быстро усну.
Но Мэнсики так и остался стоять, не двигаясь, будто о чем-то задумался. Я сказал:
– Не знаю, как это правильно выразить, но мне кажется – с девочкой творится что-то неладное. Причем где-то поблизости.
– Но не в склепе же.
– Видимо, нет.
– А что плохого может с ней произойти? – спросил Мэнсики.
– Этого я не знаю. Но у меня такое чувство, что она в опасности.
– И это происходит где-то поблизости?
– Да, – ответил я. – Поблизости. Мне не дает покоя та лестница. Зачем ее вытащили из склепа? Кто это сделал? Почему спрятали в зарослях мискантуса? Что бы все это могло значить?
Мэнсики поднялся, мягко прикоснулся к моей руке – и сказал:
– Да, я тоже ничего понять не могу. Однако что нам здесь попусту переживать? Давайте войдем в дом.
47
Сегодня, кажется, пятница?
Зайдя в дом, я снял кожаную куртку и сразу же позвонил Сёко Акигаве. На третьем звонке она подняла трубку.
– Ну как? Выяснилось что-нибудь еще? – спросил я.
– Нет, пока ничего. И никаких звонков, – ответила она таким голосом, будто никак не могла поймать ритм дыхания.
– В полицию звонили?
– Нет, еще не звонила. Не знаю, почему, но я решила несколько повременить. Мне все кажется, что она вот-вот вернется…
Я описал ей фигурку пингвина, найденного на дне склепа. Что нас туда привело, распространяться я не стал – просто спросил, была ли у Мариэ такая вещица.
– Да, у Мариэ была фигурка на телефоне. Я помню – вроде пингвин… постойте! Да, точно пингвин. Ошибки быть не может. Маленькая пластмассовая куколка. Кажется, она этого пингвина получила бонусом в пончиковой. И почему-то очень его берегла, носила как талисман.
– И сотовый она постоянно носила с собой?
– Да, только редко включала. На звонки не отвечала, но иногда звонила сама, – сказала Сёко Акигава. Прошло несколько секунд, и она добавила: – Хотите сказать, эта фигурка где-то нашлась?
Я не знал, что ей ответить. Открою ей правду – и придется рассказывать о склепе в зарослях. А если вмешается полиция, им придется объяснять то же самое, только гораздо обстоятельнее. Если выяснится, что там нашлась личная вещь Мариэ Акигавы, полиция перевернет склеп вверх дном, прочешет все заросли. Нам станут задавать въедливые вопросы, скорее всего – всплывает прошлое Мэнсики. Не думаю, что от всего этого будет какая-то польза. Как и говорит Мэнсики, это лишь все усложнит.
– Лежала на полу у меня в мастерской, – наконец ответил я. Врать я не любил, но сказать ей правду не мог. – Нашел, когда прибирался, – вот и подумал, вдруг это вещица госпожи Мариэ.
– Пожалуй, да, эта фигурка – ее. Вне сомнения, – сказала Сёко Акигава. – И что мне теперь делать? Наверное, нужно сообщить в полицию?
– А до своего старшего брата вы дозвонились? В смысле – отца госпожи Мариэ.
– Нет, так и не дозвонилась, – сконфуженно ответила она. – Где он сейчас, я не знаю. Он вообще не из тех, кто обычно спешит домой.
Из такого поведения можно было вывести разные сложности, но сейчас было не до того. Я только сказал, что, пожалуй, будет лучше заявить в полицию. Уже глубокая ночь, настал следующий день. Не исключена вероятность, что девочка стала жертвой несчастного случая. И тетя ответила мне, что тут же позвонит в полицию.
– Кстати, сотовый телефон госпожи Мариэ по-прежнему не отвечает?
– Да, я неоднократно пыталась дозвониться, но все тщетно. Похоже, либо он выключен, либо села батарейка. Одно из двух.
– Мариэ-тян с утра ушла в школу, и с тех пор вы не знаете, где она, верно?
– Да, так и есть, – подтвердила она.
– А это значит, что она и сейчас одета в школьную форму?
– Да, должна быть в ней. Темно-синий жакет, белая блузка, темно-синяя шерстяная жилетка, клетчатая юбка до колен, белые гольфы, черные парусиновые туфли без шнуровки. И сумка из искусственной кожи через плечо. Такие сумки у них в школе обязательны – на них ее название и эмблема. Но пока без пальто.
– Полагаю, еще у нее была сумка для изостудии?
– Обычно ее она держит в школе, в личном шкафчике – для уроков по рисованию. По пятницам Мариэ берет ее с собой к вам в кружок. То есть из дома эту сумку не носит.
В таком виде девочка обычно приходила и ко мне на занятия. Темно-синий жакет, белая блузка, клетчатая юбка из чего-то похожего на шотландку, сумка из искусственной кожи через плечо, белая холщовая сумка с принадлежностями для рисования. Я прекрасно помнил, как она выглядит.
– А других вещей у нее не было?
– Нет. Поэтому уехать далеко она не могла.
– Если будут какие-то новости, звоните когда угодно. В любое время. Не стесняйтесь, – сказал я.
– Хорошо, – ответила она и положила трубку.
Мэнсики стоял рядом и все это время слушал наш разговор. Когда я закончил, он наконец-то снял с себя ветровку, под которой был черный свитер с удлиненным вырезом.
– Значит, фигурка пингвина – вещица госпожи Мариэ, – произнес Мэнсики.
– Выходит, что так.
– То есть неизвестно когда, но она наверняка сама побывала в том склепе и оставила там фигурку пингвина, свой ценный талисман. Похоже, все было именно так.
– Получается, она его оставила как амулет?
– Вероятно.
– Но эта фигурка – положим, талисман, – она для чего? Защищать что? Или кого?
Мэнсики покачал головой.
– Мне это неизвестно. Однако пингвин всегда был при ней. И в том, чтобы его специально снять и оставить, очевидно, кроется некий замысел. Никто так просто не расстается со своими талисманами.
– Видать, ей было кого или что защищать помимо себя.
– Например? – спросил Мэнсики.
Мы оба не знали, как ответить на этот вопрос.
Какое-то время мы молчали. Стрелки часов не спеша, но уверенно отсчитывали секунду за секундой – и каждая понемногу подталкивала мир вперед. За окном простиралась ночная темнота. В ней не шевелилось ничего.
И вдруг я вспомнил, что мне сказал Командор о пропаже погремушки. Вообще-то оне не суть наши, наоборот – оне от тех мест. Во всяких случаях, ежели оне пропали, на те были свои причины.
Она – того места?
Я сказал:
– А может, Мариэ Акигава оставила фигурку не в склепе? Вдруг этот склеп связан с каким-то другим местом. Причем не с замкнутым пространством, а наоборот – с проходом, с неким коридором? С некой тропой, и на нее заманивается всякая всячина?
Когда я проговорил это вслух, мысль показалась мне весьма нелепой. Командор – вот тот наверняка бы меня понял. А кто-то в этом мире – нет.
В комнате повисла глубокая тишина.
– Интересно, куда может вывести дно того склепа? – вскоре вслух поинтересовался Мэнсики. – Как вы помните, недавно я туда спускался и просидел там в одиночестве около часа. В кромешном мраке, без единого лучика света, без лестницы. Я изо всех сил сосредоточивал свое сознание в тишине и всерьез старался отключить его от тела. Пытался обрести лишь мысленное бытие. Так можно преодолеть стены и выйти где угодно – я это часто пробовал, сидя в одиночке. Но в итоге, конечно, никуда из склепа выбраться не смог. То каменное пространство не дает шансов на побег.
Я вдруг подумал: а склеп этот, случаем, не выбирает, кого захочет? Возникший из него Командор пришел ко мне – предпочел меня как место своего приюта. Мариэ Акигаву склеп, возможно, выбрал. А вот Мэнсики почему-то – нет. Я сказал:
– В любом случае мы с вами договорились, что полиции про этот склеп лучше не знать – по крайней мере, пока. Но если мы промолчим про найденную на дне фигурку, это могут расценить как сокрытие улики. Если это выплывет наружу, мы окажемся в очень щекотливом положении.
Мэнсики некоторое время обдумывал мои слова, а затем уверенно сказал:
– Нам обоим нужно держать языки за зубами и об этом не упоминать вообще. Ничего другого не остается. Вы нашли эту вещицу на полу в мастерской – придется стоять на своем, в смысле – на этом.
– Кому-то из нас нужно навестить Сёко Акигаву, – сказал я. – Она в доме совершенно одна и вся в растерянности. Паникует, не знает, как ей быть. С отцом Мариэ до сих пор связаться не может. Ей требуется поддержка – так сказать, плечо.
Посерьезнев, Мэнсики задумался об этом, но вскоре покачал головой.
– Мне туда ехать сейчас не годится. Во-первых, мы с нею не в тех отношениях. А во‐вторых, в любую минуту может вернуться ее старший брат, а мы с ним друг другу даже не представлены. Если… – На этом Мэнсики прервался и замолчал.
Я тоже ничего ему не сказал.
Слегка барабаня пальцами по подлокотнику дивана, Мэнсики о чем-то долго думал. И при этом, казалось, его щеки наливались румянцем.
– Не возражаете, если я некоторое время побуду у вас? – немного погодя спросил он. – Возможно, поступит какая-то информация от госпожи Акигавы.
– Конечно, – сказал я. – Я тоже усну не скоро. Сколько будет нужно, столько и оставайтесь. Я ничуть не против, если вы здесь даже заночуете. Постель я приготовлю.
– Буду вам за это признателен, – сказал Мэнсики.
– Кофе? – поинтересовался я.
– С большим удовольствием, – ответил он.
Я пошел на кухню, смолол зерна и зарядил кофе-машину. Когда напиток был готов, отнес в гостиную, и мы вдвоем стали его пить.
– Пора разжечь камин, – сказал я. С наступлением ночи в комнате заметно похолодало. Уже настал декабрь, а это время вполне подходящее, чтобы разжигать огонь.
Я заложил в камин дрова, которые приготовил накануне, сложив в углу гостиной. Подложил для растопки бумагу и чиркнул спичкой. Дрова были сухими, потому разгорелось быстро. Поселившись в этом доме, я разжигал камин впервые и потому беспокоился, нормально ли работает вытяжка (Масахико Амада говорил, что камин можно растапливать хоть сразу, но пока не попробуешь, понятно не станет – бывает так, что птица совьет гнездо и закроет дымоход). Но тяга была сносная. Мы с Мэнсики пододвинули к камину кресла и, усевшись в них, грелись.
– Живой огонь – это хорошо, – произнес Мэнсики.
Я хотел предложить ему виски, но передумал: сегодня ночью нам лучше оставаться трезвыми. Может, придется опять сесть за руль. Мы просто наблюдали за танцем языков пламени и слушали музыку. Мэнсики выбрал сонату для скрипки Бетховена и поставил эту пластинку на проигрыватель. Скрипка Георга Куленкампфа и фортепьяно Вильгельма Кемпфа были для начала зимы самой подходящей музыкой, какую можно слушать, наблюдая за огнем в камине. Однако мысли об Мариэ Акигаве, которая, возможно, где-то в одиночку борется с холодом, не давали мне покоя.
Через полчаса позвонила Сёко Акигава. Только что вернулся домой ее старший брат Ёсинобу – он и позвонил в полицию. Вскоре приедут для выяснения обстоятельств. (Семья Акигава – из старого богатого рода, к таким полиция сразу примчится, не исключая вероятности похищения.) От Мариэ так ничего и нет, на звонки по сотовому она по-прежнему не отвечает. Все места, где она может быть, пусть их и немного, они обзвонили, и куда Мариэ могла пойти, никто не имеет понятия.
– Надеюсь, с госпожой Мариэ ничего не случится, – сказал я, попросил сразу сообщить – в любое время, – если дело сдвинется с места, и положил трубку.
Мы снова подсели к камину и стали слушать другую пластинку, теперь – «Концерт для гобоя с оркестром» Рихарда Штрауса, который из прочих пластинок на полке тоже выбрал Мэнсики. Это произведение я слушал впервые. Под звуки музыки мы, глядя на огонь в камине, молча погрузились каждый в свои думы.
Стрелки часов показывали половину второго, когда меня вдруг стало клонить в сон. Я уже с трудом держал глаза открытыми. По натуре своей я жаворонок и засиживаться допоздна не могу.
– Ложитесь отдохнуть, – сказал Мэнсики, посмотрев на меня. – А я посижу – вдруг позвонит госпожа Акигава. Без сна я могу обойтись, мне это нетрудно. Старая привычка, поэтому за меня не переживайте. И за огнем послежу, послушаю пока музыку. Вы не против?
– Конечно же, нет, – ответил я, принес из-под навеса сарая, что за кухней, вязанку дров и положил перед камином. Чтобы поддерживать огонь до утра, этого должно хватить. – Простите, но я все-таки немного посплю, – сказал я Мэнсики.
– Приятного сна, – ответил он. – Будем спать по очереди. Я, может, тоже прикорну под утро – прилягу на диване. Можете дать мне одеяло или что-нибудь такое?
Я принес то же одеяло, каким накануне укрывался Масахико Амада, а вместе с ним – легкий матрас и подушку, заправил на диване постель. Мэнсики поблагодарил.
– Если хотите, есть виски, – на всякий случай предложил я.
Мэнсики отрывисто дернул головой.
– Нет, сегодня лучше не пить. Неизвестно, что может произойти.
– Если проголодаетесь – холодильник в вашем распоряжении. Там ничего особенного, но сыр и крекеры найдутся.
– Спасибо, – ответил Мэнсики.
Оставив его в гостиной, я удалился к себе в спальню, переоделся в пижаму и нырнул в постель. Погасив ночник, уже собирался было уснуть, но сон ко мне не шел. Мне жутко хотелось спать, но голова гудела так, будто в ней с огромной скоростью роятся насекомые. Такое порой бывает. Отчаявшись, я включил свет и встал с постели.
– Что, не спится, судари наши? – раздался голос Командора.
Я окинул взглядом комнату – он сидел на подоконнике в своем обычном белом балахоне, в причудливых остроносых сапогах и со своим миниатюрным мечом за поясом. Волосы аккуратно убраны назад. Все такой же, что и пронзаемый мечом Командор на картине Томохико Амады.
– Не спится, – ответил я.
– Как людям тут уснуть, когда такие происходят, да? – съехидничал Командор.
– Давно не виделись.
– Мы уж говорили, идеям не понять, что значат «давно не виделись» или «сколько лет, сколько зим».
– Но как раз вовремя. Есть что у вас спросить.
– Что, напримеры?
– С утра пропала Мариэ Акигава. Мы все ее ищем. Куда она могла подеваться?
Командор замер, склонив голову набок, после чего неспешно заговорил.
– Как вам известно, судари наши, в мирах у людей установлены три понятия: «времена», «пространства» и «вероятности». А такие, что именуют «идеями», должны быть независимы от любых из сих понятий. Коли так, мы не в состояниях быть к сему причастными.
– Не понимаю я, о чем вы. В смысле – вы не знаете, где она?
Командор на это не ответил.
– Или же знаете, но не можете мне сказать?
Командор нахмурился и прищурил глаза.
– Мы не суть уклоняемся от ответственностей, но и у идей существуют свои правила.
Я разогнулся и посмотрел ему в лицо.
– Послушайте, мне нужно спасти Мариэ Акигаву. Наверняка она зовет откуда-то на помощь. Не знаю, где, но она, вероятно, заблудилась там, откуда выбраться непросто. Мне так кажется. Но пока что я совершенно не понимаю, куда мне идти и что при этом делать. Однако я уверен, что исчезновение девочки как-то связано с тем склепом в зарослях. Я не могу объяснить все логично, но мне так кажется. Вы сами были долго заперты в той яме – я даже не знаю, что привело вас туда. Однако как бы то ни было, мы с господином Мэнсики техникой сдвинули каменный курган и тем самым открыли доступ к склепу. И выпустили вас наружу. Верно? Благодаря этому теперь вы можете вволю передвигаться в пространстве и времени, как вашей душе угодно появляться и пропадать. Вы даже вволю наблюдали мой секс с подругой. Ведь так?
– Да, судари наши, в целых совпадают.
– Я не требую конкретно научить меня, как спасти Мариэ Акигаву. Я не прошу у вас невозможного – я понимаю, что в мире идей свои правила и ограничения. Но разве нельзя дать хотя бы одну подсказку? С учетом всех обстоятельств вы же можете позволить себе такую любезность по отношению ко мне.
Командор глубоко вздохнул.
– Хотя бы намекните. Скажите обиняками. Я же не хочу, чтоб вы улаживали межнациональные конфликты, останавливали глобальное потепление Земли или спасали африканских слонов. Я лишь хочу вернуть в обычный мир тринадцатилетнюю девочку, которая наверняка сейчас томится в какой-то тесноте и потемках. Только и всего.
Командор долго думал, скрестив руки на груди и не шевелясь. Казалось, его одолевают сомнения.
– Хорошо, – произнес наконец он. – Разы уж на те пошли, делать нечего. Дадим-с вам, судари наши, одни-единственные подсказки. Но в результатах вам, возможно, придется чеми-то пожертвовать. Или вам все нипочем?
– Пожертвовать чем?
– Покамест ничего сказать не можем. Однако пожертвовать неминуемо придется. Говоря метафорически, должны пролиться крови. Так-то. Позже, со временами выяснится, что это будут за жертвы. Как ведать, может, кем-то придется пожертвовать собой.
– Все равно. Давайте намек!
– Хорошо, – сказал Командор. – Сегодни, кажется, пятницы?
Я посмотрел на часы у изголовья кровати.
– Да, еще пятница. Хотя нет – уже суббота.
– В субботы, в первых половинах дней, в смыслах – сегодни до полудней вам, судари наши, позвонят, – сказал Командор. – И кто-то вас, судари наши, куда-то пригласят. Так вот, ни при каких обстоятельствах, судари наши, отказываться нельзя. Понятно?
Я машинально повторил все за ним:
– Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя.
– Именно так, – подтвердил Командор. – Сие единственные подсказки, что мы вам, судари наши, можем дать. Если так можем выразиться, грани, отделяющие «общественные» языки от «индивидуальных».
И с этим словами Командор медленно исчез. Не успел я опомниться, а на подоконнике его уже не было.
Я погасил ночник в изголовье кровати и вот теперь уснул сравнительно быстро. Проворная мошкара у меня в голове угомонилась. Перед тем, как погрузиться в сон, я подумал о сидящем перед камином Мэнсики. Ведь он в одиночестве о чем-то думает, поддерживая огонь в камине. О чем он будет размышлять до утра, мне, конечно же, неизвестно. Удивительный человек. Однако и он, безусловно, живет, ограниченный временем, пространством и вероятностью, – как и все остальные люди в этом мире. И пока живем, преодолеть эти ограничения мы не в силах. Если так можно сказать, мы – все без исключения – живем за прочной стеной, окружающей нас со всех сторон. Вероятно.
Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя, машинально повторил я в уме сказанное Командором. После чего уснул.
48
Испанцы просто не умели плавать вдоль побережья Ирландии
Проснулся я в начале шестого – за окном по-прежнему темно, хоть глаз коли. Накинув поверх пижамы кардиган, сходил проверить, как там в гостиной. Мэнсики спал на диване. Огонь в камине погас, но, похоже, совсем недавно – в комнате еще было тепло. Вязанка дров изрядно похудела. Мэнсики, укрывшись одеялом, мирно спал на боку – так тихо, что не было слышно даже его сонного дыхания. Он даже спал с хорошими манерами. Казалось, сам воздух в комнате замер, чтобы не беспокоить его сон.
Я не стал его будить, а пошел на кухню и сварил себе кофе. Поджарил тосты, затем устроился за кухонным столом и, завтракая тостом с маслом и кофе, стал читал уже начатую книгу. Она была об испанской армаде, о яростной войне, разразившейся между королевой Елизаветой и Филиппом II, когда на кону стояли судьбы двух стран. Я не понимал, почему именно сейчас, в такую минуту мне потребовалось читать книгу о морском сражении в конце XVI века у берегов Англии, но стоило только начать – и оказалось занимательно. И вот я уже не мог оторваться от старой книги с полки Томохико Амады.
По сложившемуся мнению, армада выбрала неверную тактику и потерпела сокрушительное поражение в морском сражении с английской эскадрой, что во многом повлияло на ход мировой истории. Это общепризнанный факт. На самом же деле больше всего ущерба испанскому флоту нанесло не прямое военное столкновение (обе стороны, правда, осыпали друг друга градом пушечных ядер, при этом в цели особо не попадая), а кораблекрушения. Привыкшие к спокойным водам Средиземного моря испанцы не умели плавать вдоль побережья Ирландии, где было достаточно опасных мест, и затопили немало своих судов, сажая их на рифы.
Пока я, сидя за столом со второй кружкой кофе, следил за печальной участью испанского флота, небо на востоке размеренно посветлело. Настало субботнее утро.
Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя.
Я мысленно повторил сказанное Командором и посмотрел на телефонный аппарат. Он хранил молчание. Наверняка телефон зазвонит – Командор врать бы не стал. Мне нужно лишь терпеливо дождаться этого звонка.
Я подумал об Мариэ Акигаве. Хотелось позвонить ее тете, спросить про ее самочувствие, но еще было слишком рано. Прилично будет подождать хотя бы до семи. К тому же, если б выяснилось, где сейчас Мариэ, Сёко Акигава наверняка позвонила бы сюда сама, она же знает, что я беспокоюсь. А если не звонит, значит, новостей нет. Поэтому я, сидя за кухонным столом, продолжал читать об армаде, а когда устал читать – просто пялился на телефон. Но аппарат по-прежнему хранил молчание.
Но в начале восьмого я все же позвонил Сёко Акигаве. Она тут же сняла трубку – будто тоже дожидалась, сидя перед телефоном.
– Пока никаких новостей. Где находится Мариэ, мы так и не знаем, – первым делом сказала она. Вероятно, почти – или совершенно – не спала. В голосе ее слышалась усталость.
– Полиция ищет? – спросил я.
– Да, ночью приходили двое полицейских побеседовать. Я передала им фотографии, рассказала, как Мариэ была одета. Еще сказала, что наша девочка – не любительница уйти из дому и развлекаться по ночам. Информацию по разным местам разослали, поэтому, вероятно, ищут, хотя публично пока ни о чем не объявляли.
– Но результата еще нет?
– Да, пока никаких зацепок. Хотя взялись они за дело активно…
Я постарался ее успокоить и попросил сразу же сообщить, как только что-нибудь станет известно. Она заверила меня, что так и поступит.
Мэнсики к тому времени проснулся и неторопливо умылся. Почистив зубы той щеткой, что я ему приготовил, он сел за стол напротив меня и уже пил горячий черный кофе. Я предложил тосты, но он отказался. Видимо, из-за того, что он спал на диване, его пышная белая шевелюра была немного взъерошена. Но – лишь в сравнении с ее обычным состоянием. А вообще передо мной сидел, как обычно, уравновешенный и подтянутый Мэнсики.
Я передал ему все, о чем рассказала по телефону Сёко Акигава.
– Это лишь мое ощущение, – начал он, дослушав меня, – но мне кажется, что от полиции в этом деле толку не будет.
– Почему вы так считаете?
– Мариэ Акигава – необычный ребенок, и этот случай несколько отличается от исчезновения обычного подростка. И я думаю, это – не похищение. Поэтому найти ее банальными полицейскими методами будет непросто.
Я ничего на это не сказал, но он был, по-видимому, прав. Мы здесь столкнулись с подобием уравнения, в котором сплошные функции, но почти нет конкретных чисел. А главное – найти их как можно больше.
– Не сходить ли нам еще раз проверить тот склеп? – предложил я. – Может, там что-нибудь изменилось?
– Давайте, – согласился Мэнсики.
Мы оба понимали и невысказанно сознавали, что больше нам делать нечего. Я подумал, что за время нашего отсутствия можно пропустить звонок от Сёко Акигавы – или то приглашение, о котором упоминал Командор. Но у меня было смутное предчувствие, что вряд ли они позвонят прямо сразу.
Мы оделись и вышли на улицу. Стояло ясное утро. Ночные облака начисто сдуло с неба юго-западным ветром, и оно казалось теперь неестественно высоким и бескрайне чистым. Казалось, что, глядя в небо снизу, мы заглядываем на дно прозрачного источника. Откуда-то донесся монотонный перестук длинной электрички. И вообще – далекие звуки, каких обычно не слышно, раздавались повсюду на удивление отчетливо: то сказывались чистый воздух и попутный ветер. Такое вот выдалось утро.
Мы молча прошли по тропинке сквозь заросли до кумирни и достигли склепа. Крышка оставалась абсолютно в том же виде, что и ночью, камни-грузила никто не сдвигал. Мы опять убрали доски: лестница так и стояла прислоненной к стене. И в яме по-прежнему никого не было. Мэнсики на сей раз спускаться не вызвался. При ярком солнечном свете дно просматривалось целиком, и никаких изменений там со вчерашнего дня не наблюдалось. В ясный день склеп этот выглядел совсем иначе – не так, как во мраке ночи. Не ощущалось и никаких странных признаков.
Мы затем вновь застелили склеп толстыми досками и расставили поверх камни-грузила. После вернулись сквозь заросли в дом. Перед ним по-прежнему стояли безмолвный серебристый «ягуар» Мэнсики без единого пятнышка, а рядом – моя запыленная «тоёта»-универсал.
– Я, наверное, поеду домой, – произнес Мэнсики, остановившись перед своей машиной. – Рассиживаться здесь – только путаться у вас под ногами. Вряд ли я чем-то пригожусь. Не возражаете?
– Конечно же, нет. Возвращайтесь домой и спокойно выспитесь. Будут новости – тут же сообщу.
– Сегодня суббота? – спросил Мэнсики.
– Да, сегодня – суббота.
Кивнув, Мэнсики достал из кармана ветровки ключ от машины и некоторое время разглядывал его. Похоже, он о чем-то задумался – или не мог на что-то решиться. Пока он размышлял, я ждал.
Наконец Мэнсики произнес:
– Есть к вам один разговор…
Прислонившись к дверце «короллы»-универсала, я дожидался продолжения.
– Дело сугубо личное, и я долго сомневался, как мне быть. Но подумал, что в знак признательности лучше вас об этом известить. К тому же я не люблю, если у людей возникают напрасные заблуждения… В общем, мы с Сёко Акигавой – в очень близких отношениях.
– В отношениях? В смысле – как между мужчиной и женщиной? – напрямик поинтересовался я.
– Да, все так, – после короткой паузы ответил Мэнсики – и, как мне показалось, слегка зарделся. – Это может показаться весьма стремительным развитием событий.
– Полагаю, скорость здесь ни при чем.
– Вот именно, – признал Мэнсики. – Наверняка вы правы – вопрос не в скорости.
– А вопрос… – начал было я, но осекся.
– Вопрос в побуждении, верно?
Я молчал. Однако он, конечно же, понимал, что мое молчание означает согласие. Мэнсики сказал:
– Только не поймите меня неправильно. Я изначально вовсе не планировал, что так выйдет. Все произошло как-то само по себе, естественным образом. Да так, что я и сам ничего не понял. Не поверите, но все пошло как по маслу.
Я вздохнул и сказал ему прямо:
– Я знаю только одно: если б вы изначально планировали так поступить, это, несомненно, далось бы вам очень просто. Причем я говорю это без иронии.
– Пожалуй, вы правы, – ответил Мэнсики. – Я это признаю. Скажем так: не то чтобы совсем уж просто, а, вероятно, без особых хлопот. Однако на самом деле все вышло не так.
– Хотите сказать, что вы влюбились в Сёко Акигаву чуть ли не с первого взгляда?
Мэнсики немного поджал губы, как бы в растерянности.
– Влюбился? Признаться, так я не могу утверждать. Последний раз я влюблялся – думаю, так это можно назвать, – очень давно. Настолько, что теперь и не припомню, какая она – эта любовь. Но в том, что меня как мужчину госпожа Акигава сильно привлекает как женщина, сомнений нет.
– Даже если бы не было Мариэ?
– Это понять будет непросто. Поводом к нашей встрече стала сама госпожа Мариэ. Но даже если бы девочки не было, я бы все равно наверняка проникся к этой женщине чувствами.
Ой ли? – подумал я. Неужто такая, скажем так, беспечная женщина, как Сёко Акигава, способна настолько сильно привлечь такого великого комбинатора, как Мэнсики? Но ему я ничего не мог возразить. Чужая душа – потемки. А особенно – если дело доходит до секса.
– Понятно, – сказал я. – Как бы то ни было, спасибо за откровенность. Так, в итоге, лучше всего.
– Я тоже на это надеюсь.
– По правде говоря, Мариэ Акигава об этом уже знала. В смысле – о том, что у вас с ее тетей, вероятно, завязались такие отношения. Она приходила ко мне за советом несколько дней назад.
Услышав это, Мэнсики, похоже, немного удивился.
– Ишь ты, какое острое чутье, – произнес он. – Вообще я старался совершенно не показывать виду.
– У нее весьма острое чутье. Однако госпожа Мариэ Акигава догадалась о ваших отношениях по словам и поступкам своей тети. Вы ни в чем здесь не виноваты.
Сёко Акигава – воспитанная интеллигентная женщина, способная до некоторой степени сдерживать эмоции, но не настолько, чтобы носить маску невозмутимости. Мэнсики это, несомненно, понимал. Он сказал:
– И вы… считаете, есть какая-то связь между подозрениями госпожи Мариэ о наших с Сёко Акигавой отношениях и ее нынешним исчезновением?
Я покачал головой:
– Нет, этого я не знаю. Но могу определенно сказать: вам лучше все хорошенько обсудить с Сёко Акигавой. Она после исчезновения племянницы в панике, ей очень тревожно. Наверняка она нуждается в вашей помощи и поддержке – очень остро и настоятельно.
– Ясно. Вернусь домой – сразу же ей позвоню.
И Мэнсики опять на время задумался.
– Честно говоря, – вздохнув, сказал он, – думаю, я все-таки не влюблен. Здесь нечто иное. Я изначально не создан для любви. Просто мне самому толком не понятно: если б не госпожа Мариэ, проникся бы я так к ее тете? Никак не могу провести четкую грань.
Я молчал. Мэнсики продолжил:
– Но это и не преднамеренный расчет. Хотя бы этому вы сможете поверить?
– Мэнсики-сан, – произнес я. – Сам не могу объяснить, почему так думаю, но я считаю вас, по сути, человеком честным.
– Спасибо, – сказал Мэнсики и еле заметно улыбнулся. Хоть улыбка и была несколько натянутой, нельзя сказать, что в ней не светилось совсем никакой радости. – Ничего, если я пооткровенничаю еще?
– Конечно.
– Иногда я ощущаю себя просто ничтожеством, – признался он. Слабая улыбка по-прежнему не сошла у него с губ.
– Ничтожеством?
– Полым человеком. Может, и заносчиво так говорить, но я до сих пор жил, считая себя человеком весьма способным и проницательным. Я наделен прекрасной интуицией, в силах делать выводы и принимать решения. На здоровье тоже не жалуюсь. За что б я ни брался – о неудаче даже не думаю. На самом деле почти все, о чем я мечтал, я получил. Конечно, та история с предварительным заключением оказалась полным провалом, но это скорее редкое исключение. В молодости я считал, что мне все по силам, и полагал, что в будущем должен стать человеком чуть ли не идеальным. Думал, достигну таких высот, откуда смогу смотреть на весь мир свысока. Но когда перевалило за пятьдесят, стоя перед зеркалом и рассматривая самого себя, я обнаружил лишь пустышку. Ничтожество. Говоря словами Т. С. Элиота, «соломой набитым чучелом»[6].
Я не знал, что сказать ему на это, и потому молчал.
– Бывало, я думал: «Кто знает, вся моя прошлая жизнь, возможно, была сплошной ошибкой. Я где-то поступил неверно. И потом разменял себя на сплошную бессмыслицу». Поэтому я вам и сказал тогда, что в чем-то вам завидую.
– Например, в чем?
– У вас есть сила желать того, что вам не достанется при всем вашем желании. А вот я всю свою жизнь мог желать лишь того, что при желании мог заполучить.
Он наверняка имеет в виду Мариэ Акигаву. Именно она для него – то, что он не может заполучить при всем своем желании. Однако высказаться об этом я так и не смог.
Мэнсики медленно забрался к себе в машину, опустил боковое стекло, попрощался, завелся и уехал. Я провожал взглядом его «ягуар», пока тот не скрылся из виду, а затем вернулся в дом. Времени было самое начало девятого.
Звонок раздался в одиннадцатом часу. Звонил Масахико Амада.
– Извини за внезапность, – сказал он, – но я сейчас собираюсь на Идзу к отцу. Не против съездить со мной? Ты же сам говорил, что хочешь с ним встретиться.
Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя.
– Да, конечно. Смогу. Заезжай.
– Я только что встал на Томэй[7]. Звоню с парковки Кохоку, так что у тебя есть около часа. Заезжаю за тобой, и вместе едем на Идзу.
– Ты же вроде бы туда позже собирался?
– Да, но мне позвонили из пансионата. Похоже, состояние неважное – вот и нужно проведать. Как раз сегодня у меня дел никаких.
– А ничего, что я с тобой поеду? В такие важные минуты… а я даже не родственник.
– Ничего. Не переживай. К тому же никто из семьи, кроме меня, к нему не ездит. Так что чем больше народу, тем веселее, – сказал Амада и отключился.
Положив трубку, я окинул взглядом комнату. Подумав, что где-то здесь сейчас – Командор, но его нигде не было видно. Оставив по себе лишь предсказание, он, видимо, куда-то скрылся. Пожалуй, слоняется идеей в тех местах, где нет времени, пространства и вероятности. Но в первой половине дня и вправду зазвонил телефон, и меня куда-то пригласили. До сих пор все его предсказания сбывались. Меня беспокоило, что я уезжаю из дома, хотя Мариэ Акигава так и не нашлась. Но что поделать? Командор ясно дал понять, что ни при каких обстоятельствах отказываться от приглашения нельзя. Заботу о Сёко Акигаве можно доверить Мэнсики – ведь он в какой-то степени несет за нее ответственность.
Я сел в кресло в гостиной и, дожидаясь Масахико Амаду, продолжал читать книгу об армаде. Побросав севшие на рифы суда, испанцы с трудом добрались до ирландского берега, но почти все попали в руки местных жителей, и их поубивали. Жившие на побережье бедняки губили испанских солдат и матросов из-за их вещей и присваивали их. Испанцы надеялись, что ирландцы – братья по католической вере – им помогут, но просчитались. Голод оказался куда насущней религиозной солидарности. А судно, груженное золотом и серебром, приготовленным для подкупа влиятельных англичан после высадки на английский берег, затонуло в открытом море, и куда кануло это богатство, никто не знает.
Старый черный «вольво» с Масахико Амадой за рулем остановился перед домом незадолго до одиннадцати. С мыслями о россыпях золотых испанских монет, затонувших в морских глубинах, я надел кожаную куртку и вышел на улицу.
Амада выбрал маршрут от платной дороги «Hakone Turnpike» на другую платную – «Izu Skyline», и с нагорья Амаги съехал до плоскогорья Идзу.
– В конце недели обычная дорога – сплошная пробка, и этот маршрут самый быстрый, – пояснил он, но даже при этом платная дорога была полна машин отдыхающих. Сезон красных листьев еще не закончился, буквально каждую машину вели «водители воскресного дня», не привыкшие к горному серпантину, так что времени на дорогу потребовалось больше, чем предполагалось.
– Что, с отцом действительно все так плохо? – спросил я.
– В любом случае вряд ли его хватит надолго, – равнодушно обронил Амада. – Если честно, это лишь вопрос времени. Он уже впал в сенильность, больше не в состоянии есть сам, вскоре у него может возникнуть аспирационная пневмония. Однако он по собственной воле отказался от питательной трубки и капельниц. По сути, раз человек больше не способен есть сам и отказывается от помощи, это значит – дайте спокойно умереть. Пока он еще был в сознании, они с адвокатом составили такой документ, который сам заявитель и подписал. Дескать, он отказывается от всех мер по поддержанию жизнедеятельности. Так что умереть он может в любую минуту.
– Поэтому нужно всегда быть готовым к худшему?
– Именно.
– Да, тяжко.
– Когда человек умирает, это всегда тяжко. Жаловаться тут некому.
В старом «вольво» у него была кассетная магнитола. В бардачке – навалом кассет. Амада вытащил первую попавшуюся и вставил. Оказалось – сборник хитов 80-х: «Duran Duran», Хьюи Льюис и тому подобное. Когда заиграла «The Look Of Love» группы «ABC», я сказал Масахико:
– У тебя в машине время словно застопорилось.
– Не люблю я компакт-диски. Слишком блестят. Вешать бы их под карнизы да отгонять ворон, а слушать музыку на них невозможно. Звук пронзительный и резкий, смикшировано все неестественно, к тому же неинтересно, когда музыка не делится на две стороны. Мне хочется слушать музыку на кассетах – вот я и езжу пока что на этой машине. В новых кассетников-то нет, поэтому все удивляются. Но это ладно – у меня приличная коллекция записей с эфира, и я не хочу ее терять.
– Однако не думал, что еще хотя бы раз в жизни услышу «The Look Of Love».
Масахико посмотрел на меня с недоумением.
– Что, разве плохая песня?
Вспоминая разные хиты, которые крутили на радио FM в восьмидесятых, мы ехали среди гор Хаконэ – и с каждым поворотом Фудзи виднелась все ближе и отчетливее.
– Странная вы парочка, – сказал я. – Отец слушает только пластинки, сын упорно придерживается кассет.
– Кто бы говорил. Ты на себя посмотри – это еще нужно выяснить, кто из нас коснее. Сотового у тебя нет, Интернетом почти не пользуешься. У меня вон сотовый всегда при себе. Если что не понятно – сразу проверяю в «Гугле». На работе у меня «Мак» стоит, делаю на нем все свои дизайны. Если кто из нас двоих и продвинут, – так это я.
Заиграла «Key Largo» Бёрти Хиггинза. Интересный выбор для продвинутого человека, что уж там говорить.
– Ты с кем-нибудь в последнее время встречаешься? – спросил я, чтобы сменить тему разговора.
– Ты о женщинах? – переспросил он.
– Да.
Масахико слегка пожал плечами:
– Нельзя сказать, что все складывается гладко. Все как обычно. К тому же в последнее время я заметил одну странность, из-за чего дела мои идут все хуже и хуже.
– Что за такая странность?
– У женщин половинки лица отличаются. Ты об этом знал?
– У человека вообще левая и правая половины не симметричны, – ответил я. – Взять женскую грудь или яйца – форма и размер справа и слева разные. Все, кто занимается живописью, об этом знают. Вся форма тела человека, его левая и правая половины – несимметричны, и это как раз интересно.
Масахико, не отрывая глаз от дороги, несколько раз покачал головой.
– Разумеется, про такое и я знаю. Но сейчас я о другом – не о форме тела, а о чертах характера.
Я ждал продолжения.
– Месяца два назад я сделал фотографию женщины, с которой тогда встречался. Цифровым аппаратом, анфас и крупным планом. Загрузил на рабочий стол компьютера в конторе. А дальше, совсем не знаю, почему, разделив от центра пополам, смотрел то на правую, то на левую половинки ее лица. Закрывая левую – смотрел на правую, затем наоборот… Представляешь, о чем я?
– Представляю.
– И в результате обратил внимание на такую деталь: если хорошенько присмотреться, слева и справа – будто совершенно разные люди. Помнишь, как у злодея из фильма «Бэтмен» – у него еще были разные половинки лица? Кажется, Двуликий.
– Это кино я пропустил, – сказал я.
– При случае посмотри, интересное. Так вот, когда я заметил эту особенность, мне стало не по себе. Даже немного страшно. Затем я нет чтобы оставить эту идею – попробовал составлять разные лица, каждое из своих половинок. Разделив лицо пополам, брал и переворачивал половинку по вертикальной оси. Так образовалось одно лицо из правой стороны, другое – из левой. На компьютере такое сделать очень просто. Смотрю и вижу двух женщин – настолько разных, что впору усомниться в схожести их характеров. Просто удивительно! По существу, в одной женщине на самом деле скрыты две. Такая мысль тебе в голову не приходила?
– Нет, – ответил я.
– После этого я попробовал проделать то же самое с лицами других женщин. Собрал фотографии анфас и на компьютере так же составил лица из разных половинок. В результате я понял: у всех женщин – пусть разница эта и небольшая – правая и левая части лица отличаются. Стоило мне это единожды заметить, как я вообще перестал понимать все в том, что их – женщин – касается. Например, занимаешься с нею сексом – и не знаешь, кто с тобой, та, что с правым лицом, или та, что с левым. Если сейчас с тобой правая, где тогда левая? Что она делает? Какие мысли у нее в голове? Если же ты, наоборот, сейчас с левой, куда делась правая? О чем думает она? Как только такие мысли в голову полезут, становится уже не до секса. Понимаешь, о чем я?
– Не очень, но могу понять, что становится уже не до секса.
– Еще как. Куда деваться.
– А мужские лица не пробовал?
– Пробовал, конечно. Но с мужскими такого не получалось. Самые радикальные перемены – в основном с лицами женщин.
– Может, тебе стоит сходить к психиатру или психотерапевту?
Масахико вздохнул.
– Я много лет считал себя вполне нормальным человеком.
– Это вообще-то опасное мнение.
– Считать себя нормальным человеком?
– Как написал Скотт Фицджералд в одном своем романе: «Никогда нельзя доверять людям, считающим себя нормальными».
Масахико задумался над этими словами.
– В смысле – пусть и посредственность, но второй такой нет?
– Можно и так сказать.
Мой друг молча сжимал руль, затем произнес:
– Это другое дело. А ты не хотел бы попробовать сделать то же самое?
– Я, как известно, долго рисовал портреты, поэтому достаточно осведомлен о строении человеческого лица. Можно сказать, специалист. Но прежде никогда не задумывался о разнице характеров правой и левой половинок.
– Но ты ведь рисовал только мужчин?
Да, в этом Масахико был прав. До сих пор у меня не было ни одного заказа на женский портрет. Не знаю, почему, но все мои портреты были мужские. Единственное исключение – Мариэ Акигава, но она все-таки скорее ребенок, а не женщина. К тому же ее портрет еще не готов.
– С мужскими и женскими лицами получается по-разному. Совершенно, – сказал Масахико.
– А вот ты мне скажи, – произнес я. – Ты утверждаешь, что почти у всех женщин характеры, выраженные правой и левой половинками лица, отличаются.
– Да, к такому заключению я и пришел.
– А у тебя бывает так, что одна сторона лица тебе нравится больше, чем другая? Или одна половинка никак не может тебе понравиться.
Масахико опять задумался.
– Нет, так не бывает, – наконец ответил он. – Но дело же не в том, какая мне больше нравится, а какая не может понравиться никак. И даже не в том, какая светлая, а какая темная, какая красивее, а какая – нет. Дело в том, что правая и левая просто отличаются. И меня смущает, а порой и пугает сама эта правда, что они отличаются.
– По-моему, у тебя просто какая-то разновидность синдрома навязчивых состояний, – сказал я.
– Я тоже так считаю, – ответил на это Масахико. – Хоть сам тебе и рассказываю, но воспринимаю это так же. Но… так же в действительности оно и есть. Попробуй сам хотя бы раз.
Я сказал, что попробую, но пробовать и не собирался. Хватает своих хлопот, чтобы впутываться во что-то еще.
Дальше мы завели разговор об отце Масахико – Томохико Амаде – и его жизни в Вене.
– Отец рассказывал, что слушал симфонию Бетховена в исполнении оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Оркестр был, конечно же, венский. Исполнение – невероятно чудесное. Это я слышал от него самого – одна из тех редких историй, какие он мне рассказывал о Вене.
– А помимо этого что-нибудь еще рассказывал?
– Ну да. Но все сплошь несущественное. О еде, о выпивке и о музыке. Что там ни говори, а музыку отец обожал. Но больше ни о чем другом не вспоминал – ни о картинах, ни о политике. Даже о женщинах.
Помолчав, Масахико вскоре продолжил:
– Описал бы кто историю его жизни. Наверняка получилась бы интересная книжка. Вот только вряд ли кому-то это по силам – личной информации-то о нем почти никакой. Друзьями он не обзавелся, от семьи держался в стороне и только работал, укрывшись в горах. Поддерживал кое-какие отношения только с галеристами и торговцами искусством. Почти ни с кем не разговаривал, не отправил никому ни единого письма. Поэтому материалов для биографии практически никаких. В его жизни не то что много пробелов – точнее будет сказать, там одна сплошная пустота. Как в сыре, где дырок больше, чем сыра.
– Остались только его работы.
– Да, кроме работ, фактически ничего больше и нет. Пожалуй, этого он и желал.
– Но ты ведь тоже его наследие, – сказал я.
– Я? – переспросил Масахико, удивленно глянув на меня, но тут же опять с тал смотреть на дорогу. – А знаешь, ты прав! Да, я тоже среди того, что отец после себя оставит. Хоть и не лучшей выделки.
– Но второго такого нет.
– Точно. Пусть и посредственность, но второй такой нет, – повторил Масахико. – Иногда мне кажется, что лучше б сыном Томохико Амады родиться тебе. Глядишь, и все вокруг пошло бы как по маслу.
– Да ладно тебе, – рассмеявшись, ответил я. – Такая роль никому не по плечу.
– Пожалуй, – хмыкнул Масахико. – Но разве не тебе удалось продолжить его духовное наследие, так сказать? Ты более достоин этого права, чем я. Мне просто так кажется, вот честно.
После его слов я вдруг вспомнил картину «Убийство Командора». Не я ли случаем действительно унаследовал эту картину от Томохико Амады? Вдруг это он сам завлек меня на чердак, чтобы я там ее обнаружил? И через нее чего-то от меня добивается? Вот только чего?
Из магнитолы лилась «French Kissin' (In the USA)» Деборы Хэрри – музыка, вовсе не подходящая для нашего разговора.
– Наверное, приходилось несладко с таким отцом, как Томохико Амада? – прямо поинтересовался я.
Масахико ответил:
– Да нет, не особо – не так, как могло бы показаться со стороны. Просто на определенном этапе жизни я умыл руки – раз и навсегда. Я, в общем, ведь тоже зарабатываю на жизнь искусством, только у нас с отцом шкалы таланта совсем разные. Когда разница настолько огромна, перестаешь это замечать. И горько мне оттого, что отец – не как известный художник, а как человек – мне, своему сыну, так и не открылся. Не передал мне никакую важную информацию.
– Он что, с тобой никогда не говорил по душам?
– Ни разу. Отношение у него было скорее такое: «Я дал тебе половину генов, больше мне дать тебе нечего, поэтому дальше ты уж как-нибудь сам». Но связь между людьми – это же не только ДНК, верно? Никто не просит его стать моим проводником по жизни. Я в этом не нуждался. Но был бы рад, если б он со мной разговаривал, как отец с сыном. Хоть изредка. Поделился бы своим опытом, тем, с какими мыслями прожил свою жизнь. Хотя бы обрывками.
Я молча слушал его.
Пока мы стояли на долгом светофоре, он снял солнцезащитные очки «Ray-Ban» и протер платком стекла. Затем, глянув на меня, сказал:
– У меня такое впечатление, будто отец скрывает какую-то важную тайну, нечто личное, и собирается унести эту тайну с собой в могилу, когда покинет этот мир. В глубине своего сердца он устроил прочный сейф, куда запрятал все свои секреты. Сейф этот запер, а ключ то ли выбросил, то ли надежно припрятал. И теперь сам не может вспомнить, где.
Что произошло в Вене в 1938 году, так и будет погребено во мраке, оставшись загадкой для всех. Но картина «Убийство Командора», возможно, и есть тот самый «припрятанный ключ». Меня вдруг осенило: может, поэтому он – вероятно, в конце своей жизни, – живым духом явился в дом на горе, чтобы проверить свою картину?
Я выгнул шею и бросил взгляд на заднее сиденье. Мне показалось, что туда мог забраться Командор. Но сзади никого не оказалось.
– Что-то случилось? – спросил Масахико, заметив мое движение.
– Да нет, показалось, – ответил я.
На светофоре зажегся зеленый, и Масахико надавил на педаль газа.
49
Полон таким же количеством смертей
По пути Масахико, сказав, что хочет справить нужду, заехал в сетевой ресторан у дороги. Нас посадили за столик у окна, и первым делом мы заказали кофе. Пора было уже и пообедать, и я выбрал еще сэндвич с ростбифом. Масахико, поглядев на мой заказ, попросил принести то же самое. Затем встал и отправился в туалет. Пока его не было, я рассеянно смотрел в окно. На парковке было полно машин – многие приезжали сюда семьями. Бросалось в глаза преобладание мини-фургонов, и все они выглядели примерно одинаково: как жестяные коробки с безвкусным печеньем. Люди фотографировали на сотовые телефоны и маленькие цифровые камеры вулкан Фудзи – прекрасный вид со смотровой площадки на краю парковки. Пожалуй, это мой глупый предрассудок, но я никак не мог привыкнуть, что люди фотографируют сотовыми телефонами. Хотя если б они звонили с фотоаппаратов, это бы выглядело куда непривычней.
Пока я, сам того не желая, наблюдал за всем этим, с дороги на парковку заехал белый «субару форестер». Я плохо разбираюсь в марках машин (и не могу сказать, что «субару форестер» выглядит как-то необычно), но с первого взгляда узнал в нем такую же машину, на которой ездил «Мужчина с белым „субару форестером“». В поисках свободного места машина медленно двигалась по парковке, а когда нашла одно – быстро запарковалась передом. На чехле запасного колеса, прикрепленного к дверце кузова, виднелся крупный логотип «Subaru Forester». Похоже – та же модель, которую я видел в приморском городке префектуры Мияги. Номерной знак я не разглядел, но чем дольше смотрел, тем больше мне казалось, что это та же машина, какую я видел в том портовом городке этой весной. Не такая же, а именно та же.
Зрительная память у меня очень точная и долгая, не то что у обычных людей. Так вот: разводы грязи на кузове, да и другие особенности имели поразительное сходство с той машиной из моих воспоминаний. У меня сперло дыхание. Я присмотрелся, чтобы разглядеть, кто же выйдет из машины, однако на парковку заехал туристический автобус и перегородил мне обзор. Из-за толчеи машин автобус никак не мог продвинуться вперед. Я встал из-за стола, вышел на улицу и, огибая застрявший посреди парковки автобус, двинулся в ту сторону, где запарковался белый «субару форестер». Однако в машине уже никого не было – тот, кто сидел за рулем, куда-то ушел. Может, в ресторан, а может – и на смотровую площадку, фотографировать. Стоя там, я внимательно осмотрелся, но фигуру «мужчины с белым „субару форестером“» нигде не заприметил. Конечно, совсем не значит, что за рулем сидел именно он.
Затем я решил проверить номерной знак этой машины. И впрямь оказался номер Мияги. А на заднем бампере – наклейка с марлином. Никаких сомнений не оставалось – это была та же машина, которую я видел тогда. Сюда приехал тот самый мужчина. Меня пробил озноб. Я должен его найти – хотелось еще раз увидеть его лицо. И мне нужно убедиться, что же мешает мне закончить его портрет. Возможно, я что-то в нем упустил. Во всяком случае, я постарался хорошенько запомнить номер его машины. Кто знает, может, для чего-нибудь и пригодится. А может, и нет.
Еще сколько-то я бродил по парковке, пытаясь найти человека, похожего на «мужчину с белым „субару форестером“». Сходил на смотровую площадку, однако нигде не увидел загорелого человека средних лет с проседью в коротких волосах, высокого роста. При нашей первой встрече он был одет в изрядно поношенную черную кожаную куртку и кепку для гольфа с эмблемой «Yonex». Тогда я еще набросал в альбоме его лицо и показал молодой женщине, сидевшей напротив. Взглянув на эскиз, она восхитилась, насколько хорошо я рисую.
Убедившись, что никого похожего на улице нет, я вернулся в ресторан и окинул взглядом зал, но и здесь фигуру мужчины нигде не увидел. Ресторан был почти полон. Масахико Амада уже вернулся и пил кофе. Сэндвичи еще не принесли.
– Куда ты ходил? – спросил меня Масахико.
– Смотрел в окно, и показалось, что увидел одного знакомого. Решил поискать на улице.
– Нашел?
– Нет, не нашел. Возможно, обознался, – сказал я.
Я и потом не спускал глаз с припаркованного «субару форестера» в надежде, что водитель его вернется. Но, положим, вернется он – и что мне делать дальше? Подойти к нему и завести беседу? «Мы пару раз встречались минувшей весной в маленьком приморском городке префектуры Мияги». А он ответит: «Ах вот как? Но я вас не помню». Наверняка так и скажет.
А я спрошу: «Почему вы преследуете меня? В чем дело?» А он: «Я вас не преследую. С чего бы мне преследовать незнакомого мне человека?» И на этом разговору конец.
Но, во всяком случае, водитель в «субару форестер» не возвращался. Белая продолговатая машина безмолвно дожидалась хозяина на парковке. Мы с Масахико доели сэндвичи, допили кофе, а мужчина так и не объявился.
– Ну что, поехали? Времени у нас мало, – сказал Масахико, бросив взгляд на часы у себя на руке, и взял лежавшие на столе солнечные очки.
Мы встали, оплатили счет и вышли на улицу. Сели в «вольво» и оставили ту переполненную парковку позади. Я бы, конечно, хотел остаться и дождаться, когда вернется «мужчина с белым „субару форестером“», но сейчас куда важнее была предстоявшая встреча с отцом Масахико Амады. Командор просто пригвоздил меня своей фразой: Ни при каких обстоятельствах отказываться от приглашения нельзя.
Таким образом, мне остается лишь тот факт, что «мужчина с белым „субару форестером“» еще раз объявился. Он знает, что я здесь, и собирается показать мне, что сам тоже находится здесь. Я сумел раскусить его замысел. То, что я здесь оказался, – отнюдь не простая случайность, как и то, что туристический автобус, загородив мне обзор, скрыл его от моих глаз.
До того заведения, где находился Томохико Амада, после платной дороги «Izu Skyline» нам предстояло миновать длинный горный серпантин. По пути нам попадались на глаза новые дачные участки, элегантные кофейни, бревенчатые гостевые домики, киоски с местными овощами, даже маленький музей для туристов был. Все это время я, хватаясь на поворотах за ручку над дверцей, думал о «мужчине с белым „субару форестером“». Что-то мешает мне дописать его портрет – и я все никак не могу найти то единственно нужное звено для того, чтобы его завершить, будто утратил важный кусочек мозаики. Прежде такого со мной не случалось: собираясь писать чей-то портрет, я заранее собирал все важные детали. Но для «мужчины с белым „субару форестером“» я этого сделать не смог. Вероятно, такому сбору данных сопротивлялся он сам – и отчего-то не желал, чтобы его рисовали. Уперся просто намертво.
«Вольво» в каком-то неочевидном для меня месте свернул с трассы и въехал в распахнутые железные ворота, где висела лишь очень маленькая табличка. Если не обращать внимание при езде, их можно было и не заметить. Вероятно, заведению не требовалось объявлять о себе во всеуслышание. Сбоку от ворот в будке дежурил охранник в мундире, Масахико представился и назвал имя того, к кому мы едем на свидание. Охранник куда-то позвонил и уточнил, значится ли такой. Мы проехали в глубь участка и оказались в густой роще. Почти все деревья были высокими вечнозелеными, и в той тени, которую они отбрасывали, становилось зябко – то ли от прохлады, то ли от их внушительности. Проехав вверх по аккуратной асфальтовой дорожке, мы вскоре оказались на ровной площадке. Перед фасадом главного здания был устроен кольцевой разворот, внутри которого разбили клумбу. Она возвышалась, напоминая собою круглый холм в окружении кочанов декоративной капусты, а в ее центре алыми оттенками пылали цветы. Все вокруг было ухоженным.
Масахико заехал на примыкавшую к этому кольцу парковку и остановился. Там уже стояли две машины: белый мини-фургон «хонда» и темно-синий седан «ауди», обе сверкали новизной, так что «вольво» ретромодели выглядел между ними старой клячей. Однако Масахико это нисколько не обескураживало – ему куда важнее было слушать «Бананараму» на кассете. С парковки открывался вид на океан: водная поверхность в лучах зимнего солнца поблескивала темно-серыми оттенками. Я заметил в море несколько промысловых суденышек. Вдалеке возвышался островок, а за ним виднелся полуостров Манадзуру. Мои часы показывали без четверти два.
Мы вышли из машины и направились ко входу. Судя по виду, это здание построили сравнительно недавно – оно было, в общем, аккуратным, но без изюминки. Глядя на него, становилось ясно, что архитектор силой воображения не блистал. А может, и сам заказчик, учитывая назначение этой постройки, выбрал самый простой и консервативный проект. Трехэтажная конструкция из бетона вся была почти квадратной, и все в ней было прямым. Для чертежа архитектору, похоже, хватало одной линейки. На первом этаже – много стекла, чтобы создать как можно более живенькое впечатление. Сверху нависал широкий деревянный балкон, на котором я разглядел с дюжину шезлонгов. Наступила зима, и, хоть небо приятно радовало своей синевой, желающих понежиться на улице под солнцем не наблюдалось. В кафетерии с окнами от пола до потолка можно было различить фигуры посетителей: человек пять или шесть, все они показались мне пожилыми. Двое сидели в инвалидных креслах. Чем они занимались, мне разобрать не удалось. Может, смотрели большой телевизор на стене, но сальто уж точно не крутили.
Масахико вошел в главные двери, о чем-то поговорил с молоденькой медсестрой из регистратуры – миловидной девушкой с круглым лицом и длинными черными волосами, в темно-синем форменном пиджаке и с биркой на груди. Я понял, они с нею уже знакомы, поскольку несколько минут дружески болтали. Я стоял чуть поодаль и ждал, когда они наговорятся. Фойе украшала большая ваза с пышным ярким букетом из живых цветов – похоже, составленным флористом. Когда разговор иссяк, Масахико записался в журнале посетителей, посмотрел на часы и добавил время. Затем отошел от стойки и вернулся ко мне.
– Состояние у отца вроде бы стабильное, – сказал он, сунув руки в карманы. – С утра беспрерывно кашлял и с трудом дышал – думали, начинается воспаление легких, но это вскоре прошло, и сейчас он крепко спит. Как бы там ни было, пойдем к нему в палату.
– Что, мне тоже можно?
– Конечно, – ответил Масахико. – Увидишься с ним. Разве не для этого ты сюда приехал?
Мы поднялись на лифте на третий этаж. Коридор тоже был под стать фасаду – простой и консервативный, всякие украшения сведены до минимума. Интерьер чуть оживляли несколько картин маслом на длинной белой стене. На всех – пейзажи морского побережья: похоже, это была серия работ одного автора, поскольку с разных ракурсов изображался один и тот же участок берега. Картины трудно было назвать первоклассными, но краски хотя бы наносили обильно, не скупясь, и работы эти заслуживали внимания уже только за то, что служили светлыми пятнами на общем фоне этого архитектурного минимализма. Пол был застелен гладким линолеумом, и резиновые подошвы моей обуви громко скрипели на нем. Навстречу нам проехала седая щуплая старушка на кресле-каталке – его толкал мужчина-санитар. Она смотрела прямо перед собой широко распахнутыми глазами и, поравнявшись с нами, даже не покосилась на нас. Будто стремилась ни в коем случае не упустить из виду важный знак, который видела в некой точке пространства перед собой.
Палата Томохико Амады – просторная отдельная комната – располагалась в самом конце коридора. На двери висела табличка для имени, но само имя на ней указано не было – скорее всего, из соображений конфиденциальности: как-никак Томохико Амада личность известная. Сама палата размером была с гостиничный полулюкс, помимо кровати в ней стоял скромный аккуратный гарнитур: диван, столик и два кресла. В изножье кровати стояло сложенное кресло-каталка. Из широкого окна, обращенного на юго-восток, открывался вид на океан. Ни единой помехи – то была просто прекрасная панорама. Будь здесь гостиница, только за один этот вид можно брать немалые деньги. На стенах комнаты картин не было – лишь зеркало да круглые часы. На столе стояла ваза с фиолетовыми цветами в два раза выше нее самой. И в палате этой совсем ничем не пахло: ни старым больным, ни лекарствами, ни цветами, ни выгоревшими шторами. Больше всего меня удивило здесь полное отсутствие запахов – впору усомниться в собственном обонянии. Как можно умудриться избавиться от запахов до такой степени?
Томохико Амада крепко спал на кровати, стоявшей прямо у окна, и прекрасный вид снаружи его не заботил. Он лежал на спине лицом в потолок, глаза крепко закрыты. Косматые седые брови, будто естественный балдахин, прикрывали его дряхлые веки. Весь лоб – в глубоких морщинах, одеяло натянуто до самой шеи, и на глаз я не смог определить, дышит старик или нет. Даже если и дышит – должно быть, вдыхает очень скудно и мелко.
Я с первого взгляда понял, что старец – тот самый человек, навестивший несколько ночей назад мастерскую. Хоть я и видел его странный облик в свете плывущей луны лишь очень недолго, форма головы и длина волос были, вне сомнений, Томохико Амады. Убедившись в этом, я особо не удивился – очевидно было с самого начала.
– Какой у него крепкий сон, – сказал Масахико, обернувшись ко мне. – Придется ждать, пока сам не проснется. Если, конечно, проснется.
– Все равно хорошо, что опасность миновала, – сказал я и посмотрел на стенные часы. Стрелки показывали без пяти два. Я вдруг подумал о Мэнсики. Звонил ли он Сёко Акигаве? Хоть что-то сдвинулось с места? Но пока что мне нужно сосредоточиться на Томохико Амаде.
Мы с Масахико расположились в креслах друг напротив друга и, дожидаясь, когда проснется Томохико Амада, пили кофе из купленных в автомате банок. А тем временем Масахико рассказывал мне о Юдзу. Ее беременность протекает нормально. Ожидаемый срок, вероятно, – в первой половине января. Ее симпатичный бойфренд с нетерпением ждет рождения ребенка.
– Только одна незадача – в смысле, для бойфренда: она не собирается за него замуж, – сказал Масахико.
– Как не собирается? – переспросил я, толком не улавливая сути его слов. – То есть Юдзу хочет стать матерью-одиночкой?
– Юдзу собирается рожать. Но официально расписываться с ним не хочет. Жить вместе – тоже. Оформлять совместное опекунство даже не подумывает… похоже, что так. И тот – в полной растерянности. После вашего с ней развода он собирался чуть ли не сразу на ней жениться, но получил отказ.
Я задумался. Но чем дольше я думал, тем крепче воцарялся хаос у меня в голове.
– Что-то я никак в толк не возьму. Юдзу вечно твердила, что не желает детей. Когда я намекал ей, что пора бы, она лишь отнекивалась: мол, рано еще. Так почему теперь она так сильно захотела ребенка?
– Беременеть она не собиралась, но раз уж оказалась в положении – ей захотелось родить. У женщин так бывает.
– Но если Юдзу решит растить ребенка в одиночку, у нее возникнет немало трудностей. Она с трудом сможет работать и дальше. Почему же не хочет выйти замуж за того человека? Ведь ребенок все равно от него.
– Тот и сам этого не понимает. Он был уверен, что в их отношениях все прекрасно, радовался, что сможет стать отцом, поэтому сейчас в полном недоумении. Обращается за советом ко мне, а что я могу ему посоветовать?
– А ты не сможешь узнать у Юдзу напрямую? – спросил я.
Масахико нахмурился.
– Если честно, я стараюсь в это по возможности не впутываться. Мне нравится Юдзу, парень этот – мой коллега по работе. Ну и, конечно же, мы с тобой старые приятели. Положение щекотливое. Чем глубже я во все это вникаю, тем меньше сам понимаю, как мне быть.
Я молчал.
– Я был за вас спокоен, считая, что вы – супруги дружные, – с досадой в голосе произнес Масахико.
– Это я уже слышал.
– Да, я не раз так говорил, – сказал он. – Но это, во всяком случае, – правда.
После этого мы молча смотрели то на стенные часы, то на морской пейзаж за окном. Томохико Амада, лежа по-прежнему на спине, продолжал крепко спать. Он не шевелился – я даже начал волноваться, жив ли он. Но сын его оставался спокоен, и я понял, что все так и должно быть.
Глядя на спящего Томохико Амаду, я попытался мысленно представить, каким он был в молодые годы, когда стажировался в Вене. Но, разумеется, толком ничего не вышло. Здесь и сейчас я видел перед собой лишь седого старца, чье лицо сплошь изборождено глубокими морщинами, – он медленно, но неуклонно продвигался к своей физической кончине. Любого без исключения родившегося человека когда-нибудь настигнет смерть, но он уже находился на самом краю.
– А ты сам не собираешься звонить Юдзу? – спросил у меня Масахико.
Я покачал головой:
– Пока что нет.
– Думаю, вам было бы неплохо хотя бы разок поговорить начистоту. О всяком-разном.
– Мы уже официально разведены, этим занимаются адвокаты. Так захотела она. И вскоре собирается рожать ребенка от другого мужчины. Выйдет она за него замуж или нет – сугубо ее дело. Не мне об этом даже заикаться. Говоришь, о всяком-разном? О чем же нам с нею говорить? Тем паче – начистоту?
– Ты разве не хочешь узнать, что происходит?
Я опять качнул головой.
– По-моему, я не хочу знать то, чего мне можно и не знать. Я ведь не железный, мне тоже больно иногда.
– Разумеется.
Однако, признаться, порой я сам не понимаю, страдаю я или нет. Дело в том, что я никак не мог убедиться, достоин я того, чтобы страдать, или нет. Хотя, как ни поверни, если человеку страдать положено, происходит это само по себе.
– Тот парень – мой коллега, – чуть погодя произнес Масахико, – вполне серьезный человек, прилежно трудится, да и характер у него нормальный.
– И сам он симпатяга.
– Да, симпатичный, в этом ему не откажешь. Поэтому он у женщин просто нарасхват. Это же естественно. Те за ним так и бегают, даже завидно. Но есть у него одна вызывающая недоумение особенность, причем – уже давно.
Я молча слушал рассказ Масахико, а тот продолжал:
– Он выбирает себе таких подружек, что уму непостижимо. Вроде есть из кого выбрать, но раз за разом словно бы наступает на одни и те же грабли. Прямо диву даешься. Нет, это, конечно, не про Юдзу. Она, пожалуй, – первая приличная женщина из всех, кого он выбирал. А до нее что одна, что другая – тихий ужас. Почему такое происходит, мне вообще непонятно.
Он пошарил в памяти и слегка склонил голову набок.
– Несколько лет назад, помню, он чуть не женился. Заказали церемониальный зал, отпечатали приглашения, молодые собирались в свадебное путешествие на Фиджи или что-то вроде того. Он даже взял отпуск, купил авиабилеты. Но его избранница была – просто ужас. Он нас как-то познакомил, и с первого взгляда она мне показалась на удивление невзрачной особой. Конечно, по одному внешнему виду судить о человеке невозможно, но насколько я понял, характер у нее тоже оказался не ангельский. А вот он почему-то влюбился в нее без памяти, хоть они совсем и не подходили друг дружке. Все его знакомые думали так же, хоть и не говорили этого вслух. И вот накануне свадьбы невеста отказалась выходить замуж. Взяла и сбежала – к счастью или к несчастью. Все прямо ахнули от изумления.
– Была какая-то причина?
– Я не спрашивал. На него и так смотреть было страшно, поэтому расспрашивать я не решился. Думаю, он и сам ничего толком не понял. Женщина просто сбежала от него, не пожелав выходить замуж. Наверное, что-то ее надоумило.
– И… к чему вся эта история? – спросил я.
– К тому, – ответил Масахико, – что у вас с Юдзу еще есть возможность начать все сначала. Разумеется, если ты этого пожелаешь.
– Но Юдзу собирается рожать ребенка от того человека.
– Да, и в этом вся загвоздка.
И мы опять умокли.
Томохико Амада проснулся незадолго до трех. Немного поерзал, сделал глубокий вдох, и стало заметно, как его грудь под одеялом вздымается. Масахико поднялся, подошел к кровати и посмотрел на отца. Тот медленно открыл глаза. Его седые длинные ресницы мелко дрожали.
Масахико взял с тумбочки у изголовья стеклянный поильник с тонким носиком и смочил им сухие губы отца. Затем вытер марлей воду, пролившуюся мимо рта. Старик захотел попить еще, и сын, наклоняя поильник, понемногу давал ему воду. Словно выполнял обычный ритуал, настолько отточенными были движения его рук. С каждым глотком кадык старика двигался вверх-вниз. Теперь-то я наконец смог убедиться, что Томохико Амада еще жив.
– Отец, – произнес Масахико, показывая на меня. – Это тот человек, который живет в твоем доме на горе. В Одаваре. Он тоже художник. Пишет картины у тебя в мастерской. Он мой товарищ по институту, не слишком-то преуспевает, и от него сбежала красивая жена, но художник он здоровский.
Непонятно, что из всего сказанного моим другом его отец понял. Но во всяком случае, будто следуя за движением пальца сына, он медленно направил свою взгляд в мою сторону. Похоже, старик смотрел на меня, но лицо его оставалось совершенно безучастным. Вроде бы он видел что-то, но теперь это что-то для него было совсем несущественно. Вместе с тем мне показалось, что в глубине подернутых тусклой пеленой глаз таится на удивление ясный свет. Он, возможно, припрятан там для чего-то существенного. Так мне показалось.
Масахико сказал мне:
– Что бы я ни говорил, он, похоже, ничего уже не понимает, но врач рекомендовал с ним разговаривать все равно, свободно и непринужденно, как с обычным человеком. Одному богу известно, что он разбирает, а что нет. Поэтому разговариваем как обычно, по мне так даже проще. Ты тоже попробуй с ним поговорить. Держись естественно.
– Здравствуйте. Рад познакомиться, – сказал я и представился. – Я сейчас живу в вашем доме на горе.
Мне показалось, что Томохико Амада посмотрел на меня, но выражение его лица ничуть не изменилось. Масахико жестами показывал мне: «Что угодно, только говори, не молчи». Я продолжал:
– Я пишу картины маслом. Долго специализировался на парадных портретах, а теперь бросил эту работу и рисую по настроению. Но портреты иногда мне заказывают. Вероятно, человеческие лица меня вообще завораживают. А с Масахико мы товарищи по институту.
Томохико Амада по-прежнему смотрел в мою сторону. В глазах его я различал подобие некой пелены – вроде тонкой тюлевой занавески, отделяющей жизнь от смерти. Тонкая эта ткань будет наслаиваться снова и снова, и все, что сокрыто в глубине этих глаз, постепенно скроется из виду, а в самом конце, вероятно, на них опустится плотный тяжелый занавес.
– У вас очень приятный дом, – продолжал я. – В нем хорошо работается. Надеюсь, вы не будете сердиться, но я самовольно слушаю ваши пластинки. Масахико мне разрешил. У вас восхитительная коллекция. Я часто слушаю оперу. А еще я недавно впервые поднялся на чердак…
На этих словах его глаза, как мне показалось, впервые сверкнули. Лишь незначительный проблеск, и если не следить внимательно, никто его не заметит. Однако я неустанно смотрел ему прямо в глаза и потому не упустил этот проблеск из виду. Скорее всего, отзвук слова «чердак» возбудил в нем какой-то участок памяти.
– На чердаке, похоже, поселился филин, – продолжал я. – По ночам я иногда слышал шорох, он то усиливался, то стихал. Я подумал, что это могут быть мыши, и как-то при свете дня забрался наверх посмотреть. Гляжу – а на балке сидит филин, отдыхает. Красивый такой. Сетка вентиляционного отверстия порвана, и через нее филин спокойно проникал внутрь и выбирался наружу. Для него чердак – подходящее убежище в дневное время.
Глаза старика продолжали смотреть на меня, будто он ожидал услышать от меня что-то другое.
– От филина дому вреда нет, – поддакнул Масахико. – Я слышал, филин в доме – хорошая примета.
– Филин – это прекрасно, но мало того – чердак тоже оказался местом весьма интересным, – добавил я.
Лежа на спине и не шевелясь, Томохико Амада пристально смотрел на меня. Мне показалось, его дыхание опять участилось. В зрачках по-прежнему виднелась слабая пелена, но мне показалось, что скрывавшийся в их глубине тайный свет стал чуть яснее.
Я хотел рассказать ему о чердаке все, но при сыне, конечно, не мог сообщить, что нашел там некую вещь. Масахико, разумеется, захочет узнать, что это за некая вещь. Поэтому мы с Томохико Амадой, как бы подвесив наш странный разговор, словно бы присматривались, как бы изучая друг друга.
Я очень осторожно подбирал слова:
– Тот чердак – прекрасное место не только для филина, но и для картин. В смысле – подходящее место для их хранения. Особенно хорошо на нем можно хранить картины нихонга, которые быстрее выцветают – у них краски нежнее. В подвале их держать не годится, там сыро, а на чердаке – хорошая вентиляция и нет окон, так что можно не бояться прямых солнечных лучей. Конечно, в дождь ветром туда может задувать брызги, поэтому для долгого хранения картины нужно хорошенько упаковать.
– Кстати, я-то сам на чердак до сих пор не заглядывал, – произнес Масахико. – Терпеть не могу пыльные места.
Я не сводил глаз с лица Томохико Амады – и он не спускал взгляд с моего лица. Я чувствовал: у себя в голове он пытается следовать ходу моей мысли. Филин, чердак, хранение картин… Он силится связать в единое целое смысл этих нескольких знакомых ему слов. Для него нынешнего это задача не из легких. Совсем не из легких. Все равно что выбираться из лабиринта с завязанными глазами. Но он чувствует, что для него это важно, – и чувствует очень остро. Я тихонько наблюдал за его одинокой и важной работой.
Подумал было рассказать и про кумирню в зарослях, и про странный склеп за нею… Как вышло, что его вскрыли, какой он формы… Но передумал и не стал. Не стоит все выкладывать за один раз. Для остатков его сознания разобраться даже в чем-то одном – и то тяжкое бремя. Нить, на которой в нем все держится, оборвать очень легко.
– Будешь еще воды? – спросил у отца Масахико, держа в руке стеклянный поильник. Но отец никак не отреагировал, как будто слова его сына влетели ему в одно ухо и тут же вылетели из другого. Масахико подошел ближе и переспросил, но, поняв, что реакции не последует, больше спрашивать не стал. Глаза отца уже не замечали сына. – Похоже, отец проникся к тебе интересом, – сказал мне с восхищением Масахико. – Все время он внимательно смотрит только на тебя. Давно уже он так живо никем и ничем не интересовался.
Я молча смотрел в глаза Томохико Амаде.
– Странно. Что бы я ни говорил, на меня он даже не посмотрел, а с тебя не спускает взгляд.
Я не мог не уловить в тоне Масахико легкий отзвук черной зависти. Ему хочется, чтобы отец смотрел на него, – он желал этого с самого детства.
– Наверное, от меня пахнет красками, – сказал я. – Этот аромат вызывает у него какие-то воспоминания.
– Ты прав, такое вполне может быть. Я-то уже и забыл, когда в последний раз брал в руки настоящие краски.
В его голосе не осталось никаких мрачных оттенков: передо мной вновь стоял прежний беззаботный Масахико. И тут вдруг задрожал его маленький сотовый телефон, лежавший на столе. Масахико вздрогнул.
– Ах, черт! Забыл его выключить. В палате разговаривать по телефону запрещено. Я выйду на улицу и поговорю там. Ничего, если я ненадолго отлучусь?
– Конечно.
Масахико взял в руку трубку, проверил, кто ему звонит, и направился к двери, но по пути обернулся ко мне и сказал:
– Возможно, я немного задержусь. Пока меня не будет, поговори с отцом о чем-нибудь?
Ответив на вызов и что-то шепча в телефон, он вышел из палаты и тихо прикрыл за собою дверь.
Так мы с Томохико Амадой остались в комнате вдвоем. Он все так же пристально смотрел на меня. Пожалуй – пытался меня понять. Мне стало немного не по себе, и я встал с кресла, обошел кровать в изножье и приблизился к окну, смотревшему на юго-восток. За стеклом раскинулась ширь Тихого океана, и линия горизонта словно упиралась в небо. Я проследил ее взглядом от начала и до конца. Такую длинную и красивую прямую человек провести не сможет, какую бы линейку ни взял. В пространстве под этой линией, должно быть, в непрерывном движении копошатся бесчисленные жизни. Мир этот полон бесчисленными жизнями – и таким же количеством смертей.
И тут у меня вдруг возникло ощущение, что мы с Томохико Амадой в палате не одни. Я обернулся и понял: так и есть.
– Да, судари наши, вы здесь не суть только вдвоем, – произнес Командор.
50
Предстоят жертвы, а также испытания
– Да, судари наши, вы здесь не суть только вдвоем, – произнес Командор.
Он разместился в том мягком кресле, где еще недавно сидел Масахико. В обычном одеянии, с обычной прической и мечом, своего обычного роста. Я, ничего не говоря, уставился на него.
– Ваши друзья, судари наши, вряд ли вернутся скоро, – сказал Командор и при этом направил вверх указательный палец правой руки. – Их телефонные разговоры, похоже, будут долгими. Поэтому вы, судари наши, можете вволю и не тревожась поговорить с Томохико Амадами. У вас ведь к нему накопились многие разные вопросы? Все сложности лишь в тех, насколько много вы получите ответов.
– Это вы устранили Масахико?
– Что вы, что вы! – воскликнул Командор. – Вы, судари наши, нас переоцениваете. Мы не суть настолько всесильны. В отличие от вас, судари наши, да нас служащие люди чем-нибудь да заняты. У них к несчастьям не суть бывает выходных.
– Вы были все это время рядом? В смысле – ехали вместе с нами в машине?
Командор покачал головой.
– Нет, мы не суть ехали вместе. Сюда от Одавар долгие пути. Мы бы сразу укачались.
– Однако вы сейчас здесь. Хоть вас никто и не приглашал.
– Действительно, если быть точными, нас сюда не суть приглашали. Но мы здесь по просьбам. Между приглашениями и просьбами разницы весьма незначительны. Однако оставим сие. Нас попросили быть здесь господа Томохико Амады. И мы здесь как разы потому, что хотим быть полезны и вам, судари наши, тоже.
– Быть полезным?
– Воистину так. Ведь мы у вас, судари наши, в небольших долгах. Вы, судари наши, вызволили нас из подземелий. И мы смогли вновь распространиться в сих мирах как идеи. Как вы, судари наши, давеча и говорили. Вот мы и сочли, что нужно когда-нибудь отблагодарить. Даже идеи смекают, что суть аките чувства долгов.
Чувство долга?
– Да, назовем так. Нечты вроде тех, – произнес Командор, будто прочитав мои мысли. – Во всяких случаях вы, судари наши, всеми сердцами своими желаете ведать, куда подевались Мариэ Акигавы, и вернуть ее на эти стороны. В этих не суть ошибки?
Я кивнул. Ошибки в этом не было.
– Вы знаете, где она?
– Ведаем-с. Вот только недавно виделись.
– Виделись?
– Перебросились парами слов.
– Тогда скажите мне, где она?
– Ведать-то ведаем, а сами сказать не можем.
– Почему не можете?
– Нет у нас прав рассказывать.
– Но вы же сами говорили, что здесь именно потому, что хотите быть мне полезным.
– Да, так и говорили.
– Но при этом место, где находится Мариэ Акигава, назвать мне не можете. Так?
Командор покачал головой.
– Сказать вам это не суть наши обязанности. Как нам ни жаль.
– Тогда чья это обязанность?
Командор направил указательный палец правой руки прямо на меня.
– Вы сами, судари наши. Сами себе и скажете-с. Других способов узнать местонахождения Мариэ Акигав у вас нет.
– Я скажу сам себе? Но я совершенно не знаю, где она.
Командор вздохнул.
– Ведаете-с. Просто не ведаете, что ведаете.
– Да вы мне тут из пустого в порожнее переливаете.
– Нет, не суть из пустых в порожние. Вскоре вы, судари наши, сами сие поймете. Только не в этих местах.
Теперь вздыхать настал мой черед.
– Скажите только одно: Мариэ Акигаву кто-то похитил? Или она потерялась сама?
– Это вы, судари наши, узнаете, когда найдете их и вернете в сии миры.
– Ей что, угрожает опасность?
Командор покачал головой:
– Судить, что суть критические ситуации, а что нет, суть обязанности людей, а не идей. Однако если вы хотите вернуть тех девочек, советуем спешно отправиться в пути.
Отправиться в путь? Какой еще путь? Я пристально смотрел Командору в лицо. Опять похоже на игру в загадки. Были бы только в них верные ответы.
– А чем вы тогда собираетесь здесь мне помочь?
Командор ответил:
– Мы сейчас можем, судари наши, отправить вас в те места, где вы сможете встретиться с самими собой. Но сие не суть просто. По меньшим мерам, предстоят жертвы, а также испытания. По сутям, жертвы принесут идеи, испытания же выпадут вам. Ну как – не передумали?
Я толком не понял, что он хотел этим сказать.
– И… что я конкретно должен сделать?
– Все просто: убить нас, – сказал Командор.
51
Времена пришли
– Все просто: убить нас, – сказал Командор.
– Убить вас? – воскликнул я.
– Да, проткнуть нас по примерам тех картин – «Убийств Командоров».
– Чтобы я проткнул вас мечом? Я не ослышался?
– Нет, все так. К тому же у нас мечи с собой суть. Самые настоящие: как мы уже говорили, если порезаться – хлынут крови. Мечи не суть большие, но и мы не велики. Хватит и таких.
Стоя у изножья кровати, я смотрел прямо на Командора. Собирался было что-то сказать, но не нашел подходящих слов – просто бессловесно оторопел. Томохико Амада, все так же неподвижно лежа на кровати, повернулся лицом в сторону Командора, но видел он его или нет, оставалось непонятно. Командор сам выбирал тех, кто способен его видеть.
Я мало-помалу пришел в себя и спросил:
– То есть если я заколю вас этим мечом, то узнаю, где находится Мариэ Акигава?
– Нет, если быть точными, то не суть вполне так. Вы, судари наши, убиваете нас здесь. Стираете, так сказать, нас с лиц земель. И вереницы вызванных сим последствий в конечных итогах приведет вас, судари наши, к ним.
Я попытался понять, что это может значить.
– Я не знаю, что уж там за вереница, но как мне убедиться в том, что все сложится так, как вы предполагаете? А вдруг я вас убью, а после все пойдет не по плану? И так ваша гибель окажется напрасной?
Командор резко вздернул правое веко и посмотрел на меня. Очень похоже делал Ли Марвин в фильме «Выстрел в упор», хладнокровно и невозмутимо. Не думаю, правда, что Командор смотрел «Выстрел в упор».
Он сказал:
– Все так. Вы, судари наши, правы. Не исключено, что на самих делах все пойдут не как по цепочкам. Ведь все, что мы вам толкуем-с, возможно, всего лишь предположенья, наши рассужденья. Возможно, слишком много сих «возможно». Но, откровенно говоря, других способов больше не суть. Ни одних. Выбирать не суть приходятся.
– Но если я вас убью, значит, для меня вы умрете? И потому исчезнете из моей жизни навсегда?
– Именно. Идеи – мы – для вас, судари наши, на сем испустят свои духи. Для идей то будут смерти, одни из мириад. Тем не менее сие, вне сомнений, будут одни отдельно взятые смерти.
– Если убить одну идею, мир от этого не переменится навсегда?
– Еще как переменятся, – сказал Командор и опять дернул веком, как герой Ли Марвина. – А как вы хотите? Если стирать с лиц земель отдельные мысли, а миры при сем останутся неизменными – какие тогда смыслы в таких мирах? Какие тогда смыслы в таких идеях?
– То есть вы считаете, мне нужно вас убить ради каких-то перемен в этом мире?
– Вы, судари наши, вызволили нас из склепов. И вот теперь нас необходимо убить. Если сие не сделать, круги не замкнутся. Открытые круги необходимо где-то замкнуть. Других выборов не суть.
Я посмотрел на Томохико Амаду, все так же лежавшего на кровати. Его взгляд, насколько я заметил, был обращен прямиком на сидевшего в кресле Командора.
– Господин Амада вас различает?
– Да, понемногу мы должны стать им видны, – ответил Командор. – Пожалуй, оне постепенно начинают различать наши речи. И вскоре уже будут понимать их смыслы. Собрав в кулаки все оставшиеся у них силы духов и тел.
– Что он хотел, по-вашему, изобразить на картине «Убийство Командора»?
– О сем не нам судить, и лучше спрашивать не у нас. А прямо у них самих, – ответил Командор. – Разы уж авторы прямо у вас перед глазами.
Я вернулся в кресло, на котором сам недавно сидел, и заговорил, стараясь поймать взгляд лежавшего на кровати старика.
– Господин Амада, я нашел картину, которую вы прятали на чердаке. Ведь вы же ее прятали, да? Судя по плотной упаковке, вы, похоже, не хотели никому показывать эту картину. Но я снял упаковку. Вам это может показаться неприятным, но я не смог сдержать свое любопытство. И обнаружив, что «Убийство Командора» – прекрасная картина, с тех пор я не могу отвести от нее глаз. Она поистине прекрасна! Заслуживает того, чтобы считаться вашим шедевром. Пока что о ней знаю только я – даже Масахико ее не показывал. А кроме меня, эту картину видела только Мариэ Акигава, одна тринадцатилетняя девочка. Но вчера она куда-то пропала.
Здесь Командор предостерегающе поднял руку.
– Дайте им передохнуть, судари наши. В их ограниченные мозги за одни разы многие не поместятся.
Я умолк и вгляделся в лицо старика. Что из моих слов пробилось к его сознанию, определить я, конечно, не мог – лицо его по-прежнему ничего не выражало. Но если заглянуть в его глаза поглубже, там, как и прежде, виднелся некий огонек. Проблеск, как от лезвия перочинного ножика, упавшего на дно глубокого омута.
Я медленно, очень членораздельно продолжал:
– Вот мне интересно, зачем вы написали эту картину. Ведь она совсем не похожа на те картины нихонга, что вы писали раньше. Ни темой, ни средствами, ни композицией, ни стилем. Сдается мне, в этой картине заключено какое-то ваше глубокое личное послание. Какой смысл несет она в себе? Кто кого убивает? Командор – он кто? И кто таков убийца Дон Жуан? И что такое странный бородатый мужчина с длинным лицом, который высовывает голову из подземелья в левом углу полотна?
Командор опять поднял руку, чтобы прервать меня. Я замолчал.
– Хватит вопросов, – произнес он. – Дайте времена, чтобы сказанные проникли в сознания этих людей.
– Он мне на них ответит? Ему хватит на это сил?
Командор покачал головой:
– Нет. Скорее всего, ответов не суть будет. Столько сил в запасах у этих людей не суть.
– Тогда зачем вы заставили меня их задать?
– Вы, судари наши, задали не суть вопросы. Вы, судари наши, просто объяснили. Те факты, что, обнаружив на чердаках картинки «Убийств Командоров», вы открыли их существования. Сие суть первые этапы. С них вам и нужно начинать.
– Тогда что будет на втором этапе?
– Разумеется, вы, судари наши, нас убьете.
– А третий будет?
– Должны быть суть. Конечно же.
– И в чем он заключается?
– Вы что, судари наши, пока не догадываетесь?
– Нет.
Командор сказал:
– Мы воспроизведем здесь суть аллегорий этих картинок, вытянем Длинноголовых. Приведем сюда, в сии комнаты. И тем самым вы, судари наши, вернете Мариэ Акигав.
Я на время лишился дара речи. Я не понимал, с каким миром вообще связался.
– Сие, конечно, не суть просто, – со значением произнес Командор. – Однако сделать вам сие придется. Для сего нас решительно необходимо будет убить.
Я ждал, когда мои слова достигнут сознания Томохико Амады. На это потребовалось время. А пока мне предстояло рассеять несколько томивших меня сомнений.
– Почему Томохико Амада и после войны продолжал молчать о тех событиях в Вене? Ведь тех, кто затыкал ему рот, уже не стало.
Командор ответил:
– Их любимых девушек безжалостно убили нацисты. Убивали их, не торопясь, после длительных пыток. Также уничтожили всех его товарищей. Их попытки завершились, не успев начаться. Еле как уцелели только оне одни – и то из политических соображений. Инциденты оставили в их сердцах глубокие раны. Их самих тоже арестовали, оне провели два месяца в застенках гестап, где их тоже жестоко пытали. Пытки проводили аккуратно, чтоб не до смертей и без следов на телах, но весьма последовательно и с применениями насилий. Садистские пытки, от них рвались нервы, судари наши. И действительно, в итогах у них внутри что-то умерло. Позже их принудительно выслали в Японии, заставив хранить молчанья об этих событьях.
– А незадолго до этого покончил собой младший брат Томохико Амады. Совсем еще молодой, но, видимо, на нем сказалась душевная травма, оставленная войной. После захвата Нанкина он вернулся на родину, демобилизовался и сразу же свел счеты с жизнью. Так?
– Да. Такими образами, Томохико Амады в жестоких вихрях исторических событий потеряли всех своих близких людей, одних за другими. И сами получили глубокие душевные раны. В них укоренились злости и печали. А еще бессилья и отчаянья – ведь идти против целых светов тщетно. Также оне маялись в душах, что остались в живых только оне одни. По этим самым причинам, хоть и не суть было боле преград, какие затыкали им рты, оне и не подумывали рассказывать о венских событиях. Точнее, не могли о них говорить.
Я посмотрел в лицо Томохико Амады, но не увидел на нем ни малейшей реакции. Можно было только догадываться, слышал ли он наш диалог. Я сказал:
– И вот, в какое-то время – когда конкретно, я не знаю, – Томохико Амада создал произведение под названием «Убийство Командора». То, о чем не мог распространяться, он перенес на аллегорическую картину. Больше ничего сделать он не мог. Это выдающаяся, очень мощная работа.
– И все, чего не смогли добиться сами, оне заставили реализоваться на этих картинках, так сказать, замаскированно. Как события, которые пусть и не случились, но могли произойти.
– Однако в итоге готовую картину он, не публикуя и нигде не выставляя, спрятал на чердаке, предварительно хорошенько упаковав, – подхватил я. – Ведь для него все это по-прежнему оставалось ярким воспоминанием – пусть в значительно видоизмененной аллегории. Верно?
– Именно. Сие были суть чистые экстракты их живых душ. И вот в одни из дней эти картинки обнаружили вы, судари наши.
– Выходит, началом всему, что происходит вокруг меня, стало то, что я вынес на свет эту картину? И тем самым разомкнул круг?
Командор, ничего не ответив, лишь развел руками.
Чуть позже на лице Томохико Амады проступил заметный глазу румянец. Мы с Командором внимательно наблюдали, как меняется выражение его лица. По мере того как к нему возвращался цвет, огонек, таившийся в глубине его зрачков, словно сговорившись, тоже мало-помалу вынырнул на поверхность. Как будто неспешно всплывает, привыкая к перемене давления, долго работавший на глубине водолаз. А слабая пелена, прикрывавшая зрачки старика, становилась все тоньше и тоньше, и вскоре глаза его уже смотрели ясно. Передо мной была уже не ссохшаяся немощная мумия, не старик на пороге смерти. В глазах плескалось желание подольше задержаться на этом свете – хотя бы на миг.
– Оне собирают остатки сил, – сказал мне Командор, – пытаются вернуть свои сознанья, насколько сие можно. Однако вместе с теми, как возвращаются сознанья, возвращаются и физические боли. Их тела выделяют особые вещества, чтоб снять физические боли. От их действий люди могут тихонько испустить духи, особо не мучаясь. Однако стоит вернуться сознаньям, как тут же вернутся и боли. Но даже так старики изо всех сил стараются прийти в себя. Как больно б им ни было суть, им придется кое-что выполнить здесейчас.
И, как бы подтверждая эти слова Командора, по лицу Томохико Амады постепенно расползлась гримаса боли. Он вновь почувствовал сейчас, что его тело подточено и разрушено старостью, а органы его вскоре перестанут работать. Как ни крути, это неизбежно. Время его жизненной системы вскоре истечет. Видеть его в таком состоянии было жалко. Возможно, было бы правильнее, не предпринимая ничего лишнего, дать ему спокойно и безболезненно умереть с помутненным сознанием.
– Однако сие выборы самих Томохико Амад, – произнес Командор, словно читая мои мысли. – Как их ни жалко, сие неотвратимо.
– Масахико вернется сюда не скоро? – спросил я Командора.
Тот чуть качнул головой.
– Думаем-с, нет. У них важные разговоры по работам, и переговоры, похоже, сильно затянутся.
Теперь глаза Томохико Амады распахнулись шире. Глубоко впавшие на морщинистом лице, они теперь едва ли не выкатились – словно люди высунулись в окна. Он тяжело и сипло дышал – и хрип его был шершавым при каждом вдохе и выдохе. А взгляд старика был неколебимо устремлен прямо на Командора. Точно – Томохико Амада видел его, и у него на лице выступило несомненное удивление. Он пока что не верил собственным глазам и явно пока не мог осознать, что образ вымышленного персонажа его собственной картины сейчас действительно перед ним.
– Нет, все не суть так, – сказал Командор, прочитав мои мысли. – Это вы, судари наши, видите нас. А Томохико Амады сейчас видят совсем других.
– Он что – видит облик, отличающийся от вашего, который сейчас вижу я?
– Мы же, по сути, идеи. Бывает так, что облики наши легко меняются по желаньям людей, которые нас видят.
– Каким же тогда вас видит Томохико Амада?
– Сие нам неизвестно. Мы, разы уж на тех пошли, – всего лишь зеркала душ человеческих.
– Но когда появились передо мной, вы же специально выбрали этот облик? В смысле – Командора, не так ли?
– Если быть точными, совсем не суть значит, что такие облики выбрали мы сами. В сем сложности причин и следствий. В результатах тех, что мы приняли облики Командоров, были положены начала цепей различных событий. При сем, теми, что мы приняли облики Командоров, будут положены непременные концы. Ежели объяснять согласно понятиям времен миров, в которых живете вы, судари наши, сие выйдут весьма запутанно. Но говоря простыми языками, сие были предопределены заране.
– Если считать, что идея – зеркало души, господин Амада видит то, что хочет увидеть сам?
– Оне видят тех, что им надлежит там видеть, – поправил меня Командор. – Или же, видя сие, может, чувствуют дикие боли. Однако оне сие увидеть должны. Под занавесы жизней.
Я еще раз посмотрел на лицо Томохико Амады – и заметил, что к изумлению у него на лице примешалось глубокое отвращение. И – да, невыносимая боль. Причем не только физическая, вернувшаяся к нему вместе с сознанием. То была скорее глубокая душевная боль его самого.
Командор сказал:
– Оне собрались с последними силами и пришли в сознанья, чтоб увидеть наши облики. Вопреки острым болям. Оне пытаются еще разы вернуться в свои молодости.
Лицо Томохико Амады покраснело совсем. В его сосуды вернулась горячая кровь. Мелко дрожали тонкие потрескавшиеся губы, дыхание то и дело сбивалось – старик начинал задыхаться. Морщинистыми длинными пальцами он отчаянно цеплялся за простыню.
– Ну что, соберитесь с духами, судари наши, и убейте нас. Пока их сознанья связаны воедино, – произнес Командор. – Советуем поторопиться, сии состоянья у них вряд ли продлятся долго.
И Командор легким движением вынул из ножен меч. Его клинок длиной сантиметров двадцать выглядел очень острым. Короткое, но тем не менее смертоносное оружие, способное отнять у человека жизнь.
– Ну что, вот вам мечи, судари наши. Давайте, вонзите их в нас, – сказал Командор. – Воспроизведем здесейчас сцены, что были на той картинке. Давайте быстрей, нечего мешкать.
Я, не в силах решиться, попеременно смотрел то на Командора, то в лицо Томохико Амады. С трудом разобрать я мог одно: Томохико Амада в чем-то очень остро нуждается, а Командор непоколебим в своем решении. И между ними я один колеблюсь, не зная, как быть.
Я слышал, как филин машет крыльями, как звенит среди ночи бубенец.
Все где-то связано между собой.
– Да, все где-то связаны, – сказал Командор, прочитав мои мысли. – И от сих связей вам, судари наши, никуда не деться. Никуда не сбежать. Ну что, соберитесь и убейте нас. Не суть чего чувствовать угрызения совестей. На то воли Томохико Амад. Сделаете вы, судари наши, сие, и Томохико Амады будут спасены. Сделайте здесейчас те, что должны были произойти с ними. Времена пришли – только вы, судари наши, можете напоследки спасти им жизни.
Я встал и направился к креслу, в котором сидел Командор. Взял в руки вынутый им меч. Я был уже не в состоянии судить, что правильно, а что нет. В мире, где отсутствуют пространство и время, не существует даже ощущения вперед-назад, вверх-вниз. И там я ощутил, что как личность перестал быть самим собой. Там я потерял с самим собою связь.
Взяв в руки меч, я понял, что эфес его для меня слишком мал. Меч был миниатюрным, его сделали под руку карлика. Пусть он и остер, зарезать Командора, держа в руке такую короткую рукоять, было почти невозможно. Этот факт меня слегка успокоил.
– Этот меч для меня маловат, я не смогу ничего им сделать, – сказал я Командору.
– Вот как? – воскликнул Командор и еле заметно вздохнул. – Что ж тут поделать? Придется пренебречь еще одними деталями картинок и взять другие средства.
– Другое средство?
Командор показал на шкафчик в углу комнаты.
– Откройте верхние выдвижные ящики.
Я подошел к шкафу и выдвинул верхний ящик.
– Там должны быть ножи для разделок рыб, – сказал Командор.
Выдвинув ящик, я действительно увидел нож – он лежал поверх аккуратно сложенных полотенец для лица. Тот самый, что Масахико Амада привез с собой, чтобы разделывать леща. Увесистое лезвие длиной двадцать сантиметров аккуратно и остро наточено. Масахико с юности понимал толк в инструменте – и, разумеется, держал ножи в порядке.
– Ну, теперь зарежьте нас сими ножами со всех махов, – произнес Командор. – Мечами, ножами – какие разницы. Воспроизведем здесейчас те сцены с картинок «Убийства Командоров». Главные, побыстрей. Времен не суть много.
Стоило мне взять в руки нож, как я ощутил его массивную тяжесть, будто он был сделан из камня. В ярких лучах солнца, лившихся в окно, лезвие сверкало холодящей белизной. Выходит, нож Масахико Амады, пропав из моей кухни, дожидался моего приезда здесь, в выдвижном ящике. И Масахико в итоге наточил это лезвие для своего отца. Похоже, мне никак было не избежать своей судьбы.
Так и не в состоянии решиться, я все же зашел за спину сидевшему в кресле Командору и поудобней сжал нож в правой руке. Томохико Амада все так же лежал на кровати и, распахнув глаза, смотрел на меня, словно у него на глазах разворачивалось великое историческое событие. Рот у него открылся, виднелись пожелтевшие зубы и язык с белым налетом. Язык этот медленно шевелился, пытаясь придать форму каким-то словам. Вот только вряд ли эти слова кто-то на всем белом свете услышит.
– Вы, судари наши, совсем не суть люди агрессивные, – произнес Командор, как бы порицая меня. – Нам сие прекрасно, очень прекрасно известно. Вы, судари наши, в общем-то, созданы совсем не суть для тех, чтоб убивать людей. Однако бывает, что ради спасений чего-то очень важных – или же для высоких целей – людям приходятся делать неприятные вещи. И сейчас как разы такие случаи. Ну, давайте же, убейте нас! Мы некрупные, сопротивляться не станем. Какие-то там идеи, подумаешь. Надо лишь вонзить лезвия в сердца. Дела нехитрые.
Командор показал маленькими пальцами то место, где у него сердце. Подумав о сердце, я не мог не вспомнить про сердце сестры. Я хорошо помнил те дни, когда ей делали операцию в университетской больнице. Она была сложной и уникальной: спасти больное сердце человека – непростая работа. Для нее требуются несколько специалистов и очень много крови. А вот разрушить его – дело нехитрое.
Командор сказал:
– Ну-у, вряды ли сейчас стоит думать об сем. Чтобы вернуть Мариэ Акигаву, вам, судари наши, все равно придется сие сделать, хотите вы того или нет. Уж поверьте нам – отбросьте сомненья, отключите сознанья. Только глаза чур не закрывать – смотрите в оба!
Я замахнулся ножом со спины, но ударить им Командора так и не смог. Пусть для идеи это и не более чем одна из мириад смертей, мысль об этом ничего для меня не меняет: все равно придется уничтожить жизнь, которую я вижу перед собой. И разве это не то же самое, что в Нанкине приказал Цугухико Амаде молодой офицер?
– Нет, не суть те же, – сказал Командор. – В наших случаях мы требуем сие сами. Требуем, чтоб убили нас самих. Сие смерти ради возрождений. Ну, соберитесь уже с духами, судари наши, и замкните круги.
Я закрыл глаза и вспомнил, как душил женщину в интим-гостинице на севере страны. Конечно, то было понарошку. По ее просьбе я слегка сдавил ее шею – лишь так, чтоб не придушить на самом деле. Однако в итоге все равно не смог делать это столько, сколько она сама того хотела. Еще немного – и я задушил бы ее по-настоящему. Тогда, на кровати в той интим-гостинице, я на миг открыл в себе глубокий гнев, которого прежде за собой не припоминал. Чувство это, как окровавленная грязь, закружилось у меня в груди большим черным-пречерным водоворотом – и неумолимо приближалось к настоящей смерти.
Я точно знаю, где и что ты делал, – сказал мне тот мужчина.
– Ну, давайте же, судари наши, всаживайте сии ножи, – опять сказал Командор. – У вас, судари наши, сие должны получиться. Ведь вы убьете не нас – вы здесейчас убьете своих злодеев-отцов. А убив злодеев-отцов, дадите землям напиться их кровями.
Мой злодей-отец? А это еще откуда?
– Кто для вас, судари наши, суть злодеи-отцы? – осведомился, прочитав мои мысли, Командор. – Вы только что должны были их видеть, не так ли?
Не смей меня рисовать дальше, – сказал тот мужчина. И, выглядывая из темного зеркала, погрозил мне пальцем. Эти пальцы, будто острие ножа, вонзились мне в грудь.
И вместе с этой болью я машинально затворил свое сердце. Открыл глаза шире, отогнал все мысли, как это делал Дон Жуан при убийстве Командора, спрятал поглубже свои чувства, убрал с лица всякое выражение и – разом обрушил нож. Его острый клинок вонзился в маленькое сердце – прямо туда, куда показывал Командор. Я ощутил, как нож входит в живую плоть. Сам Командор ничем не выказал, что сопротивляется. Он лишь корчился, хватаясь пальцами маленьких рук за пустоту, – и больше никаких движений не производил. Однако его съежившееся тело, как будто сжав в кулачок последние силы, пыталось избежать подступающей смерти. Командор – идея, но плоть – не идейная. Это – плоть, которую идея позаимствовала. И уж она-то никак не собиралась принимать смерть спокойно. У плоти своя плотская логика. Мне нужно силой сдержать это сопротивление плоти и добить ее окончательно. Командор сказал: «Убей нас!» – но на самом деле я убил плоть кого-то другого.
Мне хотелось все бросить и бежать прочь из этой комнаты. Однако в моих ушах не унимался голос Командора: «Чтобы вернуть Мариэ Акигаву, судари наши, вам все равно придется это сделать. Хотите вы того или нет». Поэтому я еще глубже вогнал лезвие ножа в сердце Командора. Я привык доводить начатое до конца. Острие ножа пронзило насквозь его щуплое тело и вышло наружу из спины. Белое одеяние обагрилось. На моих руках, сжимавших рукоять ножа, теперь тоже была свежая кровь. Она, однако, не брызнула фонтаном, как на полотне «Убийство Командора». Я старался уверить себя, что все это – видение. Я убиваю, но это всего лишь иллюзия. Не более чем символический акт.
Но все же я прекрасно понимал, что никакая это не иллюзия. Пусть и символический акт, но убиваю я никак не видение. Вне всяких сомнений, я убиваю чью-то живую плоть. Маленькое – всего каких-то шестьдесят сантиметров – фантастическое тело, рожденное кистью Томохико Амады, было намного живучей, чем могло показаться. Лезвие ножа, который я сжимал в руке, проткнуло кожу, сломало несколько ребер, пронзило крохотное сердце и вонзилось в спинку кресла. Какая же это иллюзия?
Томохико Амада, распахнув от удивления глаза шире прежнего, смотрел, что происходит у него перед самым носом. На зрелище того, как я закалываю Командора – нет, даже не так: тот бедолага, которого я убивал, для него, Томохико Амады, – не Командор. Кого же тогда он видит? Высокого нацистского чина, на которого он готовил покушение в Вене? Или того молодого офицера, который в Нанкине передал свой меч его младшему брату, заставляя того отсечь головы трем пленным китайцам? Или же нечто еще радикальнее, то, что породило их всех – некое злодейское нечто. Конечно, мне это было неизвестно, а уловить на его лице хоть какое-то подобие эмоции мне не удалось. Все это время рот Томохико Амады не закрывался, но губы его не двигались. Лишь заплетающийся язык продолжал свои тщетные попытки придать форму каким-то словам.
Вскоре Командора покинули силы, обвисли шея и руки. Все тело его стремительно потеряло упругость и начало оседать, как марионетка, у которой обрезали нити. Но я все равно продолжал еще глубже вонзать нож в его сердце. В палате ничто не двигалось – все превратилось в живую картину смерти. И так длилось долго.
Первым признаки жизни подал Томохико Амада. Вскоре после того, как Командор потерял сознание и обмяк, старик, похоже, истратил последние силы на поддержание сознания в себе. Как бы сказав: «Все, что мне требовалось увидеть, я увидел», – он глубоко выдохнул и сомкнул глаза. Неспешно и значительно – так опускают жалюзи на высоких окнах. Рот оставался открытым, но вязкого языка в нем уже не было видно, лишь торчали в ряд неровные пожелтевшие зубы, напоминая собой штакетник заброшенного дома. Лицо его больше не кривилось от мучений, острая боль прошла, и на нем проступило выражение мирного покоя. Похоже, он вернулся в свою кому – тот безмятежный мир без сознания и боли. И я порадовался за старика.
Тогда я наконец ослабил руку и вынул нож из тела Командора. Из открытой раны фонтаном хлынула кровь – примерно так же, как на полотне «Убийство Командора». Сам Командор же теперь, будто утратив мою поддержку, бессильно обмяк в кресле. Глаза его были широко распахнуты, рот отчаянно искривлен от боли, скрюченные пальцы словно царапали воздух. Жизнь полностью покинула его, и только кровь собиралась на полу в красно-черную лужу. Столько крови для такого крохотного тела…
И вот Командор – вернее, идея в облике Командора, – скончался. Томохико Амада вновь глубоко заснул. Сознания в этой палате не утратил один я – стоял, остолбенев рядом с тельцем Командора, сжимая в правой руке окровавленный нож Масахико Амады. До моего слуха должно было доноситься лишь собственное учащенное дыхание. Однако это было не так – уши мои улавливали и другое тревожное движение, и я его не столько слышал, сколько ощущал. Командор некогда велел мне прислушиваться. И я послушно навострил слух.
В этой палате что-то есть. Здесь что-то двигается. С окровавленным ножом в руке я так и стоял, не меняя позы, лишь украдкой водил по комнате взглядом. Краем глаза глянув туда, откуда мне послышалось движение, в углу у дальней стены я заметил фигуру.
То был Длинноголовый.
Зарезав Командора, я выволок Длинноголового в этот мир.
52
Человек в оранжевом конусе вместо шляпы
В палате буквально образовался фрагмент картины «Убийство Командора». Из открывшегося в углу отверстия вдруг показалась длинная голова: субъект этот, держа в руке квадратную крышку, украдкой осматривал комнату. Отросшие длинные волосы запутаны, подбородок и скулы покрыты густой черной щетиной. Голова у него была вытянута, как загнутый баклажан, челюсть выдавалась вперед, глаза – причудливо округлые и большие, а нос – плоский, он казался низко посаженным. Почему-то одни только губы у него выглядели очень яркими, словно фрукт. Длинноголовый был невысокого роста и в целом смотрелся довольно пропорциональным. Примерно так же, как Командор напоминал уменьшенную масштабную копию обычного человека.
В отличие от Длинноголового на картине этот смотрел на останки Командора ошарашенно – с испуганно приоткрытым ртом, как бы не веря собственным глазам. Как долго он пробыл там в такой позе, я не знал: поглядывая на Томохико Амаду, я сосредоточенно наблюдал, как испускает дух Командор, и совершенно не заметил в углу палаты этого человека. Однако тот наверняка вряд ли упустил хоть что-то из виду, наблюдая за происшествием от начала и до самого конца. Ведь именно эта сцена изображена на картине «Убийство Командора».
Длинноголовый не двигался в углу нашей живой картины – как будто его нанесли на холст как часть композиции. Я чуть шевельнулся для проверки, но он никак на это не отреагировал. С квадратной крышкой в руке и широко распахнутыми глазами он – в той же позе, что и на картине Томохико Амады, – пялился на командора. Даже ни разу не моргнул.
Я понемногу ослабил напряжение в теле, отступил от кресла, чтобы нарушить заданную композицию, и стал украдкой подступать к Длинноголовому. С окровавленным ножом в руке, осторожно, как кошка, – и, по возможности, незаметно. Длинноголового нельзя отпускать обратно под землю. Ради спасения Мариэ Акигавы Командор, пожертвовав собственной жизнью, воспроизвел картину «Убийство Командора» и тем самым выволок Длинноголового из-под земли. Жертва его не должна стать напрасной.
Вот только я не мог придумать, как выудить из Длинноголового что-нибудь о Мариэ Акигаве? И по-прежнему совершенно не понимал, как с ним связано исчезновение девочки: кто он вообще, этот Длинноголовый, и что собой представляет? Все, что я узнал о нем от Командора, больше напоминало загадку, чем информацию. Однако что бы ни случилось, его нельзя упустить, а обо всем остальном придется думать позже.
Квадратная крышка в руке Длинноголового была примерно шестьдесят на шестьдесят сантиметров, сверху оклеена таким же бледно-зеленым линолеумом, что и в остальной комнате. Закроешь ее – и не отличить от пола. Хотя нет – наверняка сама крышка должна исчезнуть вовсе.
Хоть я и приблизился, Длинноголовый даже не шелохнулся – он буквально окаменел на месте. Примерно так же в ступор впадают кошки, если оказываются на дороге в свете фар. Или такова миссия, выпавшая здесь на долю Длинноголового: зафиксировать и как можно дольше удерживать композицию картины? Как ни взгляни на это, неподвижность его была мне на руку. Иначе он, увидев, что я приближаюсь, почувствовав опасность, мигом скрылся бы под пол. И та крышка, раз закрывшись, больше бы уже не поднялась.
Я зашел Длинноголовому за спину, отложил нож в сторону и, проворно протянув руки, схватил его за воротник. На Длинноголовом была узкая блеклая одежда, похожая на рабочую спецовку. Ткань ее явно отличалась от дорогого одеяния Командора – шершавая на ощупь, с заплатами в разных местах.
Стоило мне схватить Длинноголового, как он, вздрогнув, пришел в чувства, суетливо встрепенулся и попытался было вновь нырнуть под пол. Однако я крепко держал его за воротник и не отпускал. Что бы ни произошло, нельзя дать ему сбежать. Поднатужившись, я попытался вытащить его на поверхность, но он отчаянно сопротивлялся. Схватившись руками за края люка, он упирался всем телом, не поддаваясь мне. Он оказался сильнее, чем я мог подумать, – и даже попытался укусить меня за руку. Мне больше ничего не оставалось, и я изо всех сил приложил его длинным лицом о край. Затем чуть оттащил подальше и ударил головой об пол еще раз. После этого Длинноголовый потерял сознание и обмяк. Лишь так и удалось мне вытащить этого человека на свет.
Длинноголовый был немногим выше Командора – сантиметров на десять или двадцать. Одет он был практично: в такой одежде работают в поле крестьяне или прибираются во дворе слуги. Грубая рубаха и просторные шаровары, подпоясан толстой соломенной веревкой, сам босиком. Похоже, он так и жил, обходясь без обуви. Ступни у него оказались твердые и толстые, грязные до черноты. Длинные волосы, судя по их виду, давно не мыли и не расчесывали, а половину его лица покрывала черная щетина. Там, где ее не было, кожа была очень бледна и выглядела нездоровой. В общем, Длинноголовый никак не походил на чистюлю, но при этом, как ни странно, от него не воняло.
Судя по его виду, можно было предположить, что Командор скорее всего принадлежал к знатному сословию того времени, а этот был из простонародья. В эпоху Аска простые люди, выходит, носили такую вот одежду? Нет, наверняка Томохико Амада просто представил, что простолюдины эпохи Аска одевались примерно так. Хотя какое мне дело до исторической точности? Сейчас необходимо вытянуть из этого странного типа сведения, которые приведут к Мариэ Акигаве.
Положив Длинноголового ничком, я вынул пояс из больничного халата и крепко связал за спиной ему руки. Затем волоком оттащил обмякшее тело в середину комнаты. Для своего роста Длинноголовый не был тяжелым – примерно как среднего размера собака. Я снял со шторы шнур и привязал им ногу своей добычи к ножке кровати. Пусть приходит в себя – в свою нору он теперь не улизнет. Лежа связанным на полу без сознания, в ярких лучах дневного солнца Длинноголовый выглядел жалким и несчастным. Куда подевался тот зловещий взгляд, каким он следил, высунувшись из темной ямы, так, что становилось не по себе? Когда я разглядел Длинноголового вблизи, он вовсе не показался мне злодеем или человеком с дурными намерениями. Еще он не особо напоминал смышленого малого – вообще в его внешности угадывалось некое флегматичное благочестие, а также робость. В общем, передо мной лежал человек, который не задумывает и решает все сам, а кротко выполняет все, что ему указано свыше.
Томохико Амада все так же тихо лежал с закрытыми глазами на кровати, совершенно не шевелясь. Со стороны оставалось неясным, жив он или умер. Я склонился над ним, подведя свое ухо на несколько сантиметров к его губам. Прислушавшись, уловил едва различимое дыхание, похожее на шум далекого моря. Старик еще не отошел – всего лишь спокойно почивает в глубокой коме. У меня отлегло на душе – не хотелось бы, чтоб в отсутствие Масахико его отец испустил дух. Вот Томохико Амада повернулся на бок, и на лице у него возникло мирное, можно даже сказать – довольное выражение, совсем не то, что раньше. Убедившись, что прямо у него на глазах я зарезал Командора (или кого-то другого, достойного, по его мнению, смерти), он, возможно, обрадовался, что наконец-то осуществилось его давнее желание.
Командор лежал в мягком кресле в той же позе, что и раньше. Глаза распахнуты, во рту за приоткрытыми губами виднелся подвернутый маленький язык. Сердце еще кровоточило, но слабо. Я приподнял его правую руку – она была мягкой, бессильной. Тело еще сохраняло тепло, но я коснулся кожи, и у меня появилось холодящее ощущение безучастности, какое возникает в те минуты, когда жизнь постепенно переходит к безжизненности. Я подумал: хорошо бы привести его в порядок и положить в гроб подходящего размера. В маленький гроб для маленького ребенка – и скромно похоронить в склепе за кумирней, чтоб больше никто его не тревожил. Однако сейчас я мог для него сделать лишь одно – нежно опустить ему веки.
Я сел в другое кресло и стал ждать, когда распростершийся на полу Длинноголовый придет в себя. За окном ослепительно сверкал в лучах солнца бескрайний Тихий океан. Промысловые суда продолжали лов. Было видно, как медленно летит на юг серебристый самолет, подставив лучам свой гладкий борт. То был патрульный самолет противолодочной авиации сил самообороны – с четырьмя пропеллерами и длинной торчащей антенной на хвосте, он, скорее всего, вылетел с аэродрома в Ацуги. Стоял субботний день, но люди спокойно выполняли повседневную работу, каждый – свою. А я… в светлой палате престижного пансионата для престарелых я только что зарезал острым разделочным ножом Командора, пленил вылезшего из-под пола Длинноголового; и все это – чтобы отыскать пропавшую тринадцатилетнюю красивую девочку. Каждому свое.
Длинноголовый никак не приходил в себя. Я уже в который раз бросил взгляд на часы.
Если сейчас внезапно вернется Масахико Амада – что он подумает, увидев такое зрелище? Командор убит и лежит в луже крови, на полу распростерт связанный Длинноголовый. Оба ростом меньше метра и в причудливых древних одеяниях. Впавший в кому Томохико Амада позволил себе едва заметную довольную улыбку – или нечто на нее похожее. В углу палаты в полу зияет квадратная мрачная дыра. Как мне объяснить Масахико, с чего бы всему этому здесь взяться?
Однако Масахико, конечно же, в палату не вернулся. Как и обещал Командор – у него какое-то важное дело по работе, и ему необходимо неспешно обсудить его с кем-то по телефону. Все это устроилось заранее, и мне сейчас никто не помешает. Я, сидя в кресле, посматривал на Длинноголового. От моего удара головой об пол у него наверняка случилось сотрясение мозга, но, чтобы прийти в себя, времени много не нужно. Позже на лбу может вскочить большая шишка – и только.
Вскоре Длинноголовый очнулся – начал ерзать по полу и произнес несколько непонятных мне слов. А после этого чуть приоткрыл глаза. Так, сквозь щелочки смотрят на что-то страшное дети, если смотреть необходимо, но не хочется.
Я сразу встал с кресла и опустился рядом с ним на колени.
– У меня нет времени, – сказал я, оглядев его. – Мне нужно, чтобы ты мне сказал, где сейчас Мариэ Акигава. Тогда я сразу развяжу веревку, и ты сможешь вернуться туда, откуда вылез.
Я показал пальцем на люк в углу палаты. Квадратная крышка лежала рядом. Я не знал, понимает ли он мои слова, однако ничего другого мне не оставалось – лишь на практике пытаться выяснить, что ему понятно, а что нет.
Длинноголовый, ничего не ответив, несколько раз резко помотал этой своей длинной головой. Что можно было расценить двояко: «я ничего не знаю» или «я вас не понимаю».
– Если не расскажешь, я тебя убью, – сказал я. – Видел, как я зарезал Командора? Убить одного или двух, мне разницы нет.
И с этими словами я прижал к грязной шее Длинноголового лезвие ножа со следами крови. Подумал о рыбаках в море и летчиках в небе. Каждый из нас делает свою работу – и мне необходимо сделать свою. Конечно, по-настоящему убивать его я не собирался, но острота лезвия у ножа была самая что ни есть настоящая. Тело Длинноголового мелко задрожало от страха.
– Погодите! – вскрикнул он сипло. – Постойте! Остановите длань свою!
Его речь звучала странновато, хотя мои слова он, выходит, понял. Понимал его и я.
Я чуть отвел лезвие от его горла и сказал:
– Знаешь, где находится Мариэ Акигава?
– Нет, господин! Я сего человека вовсе не ведаю. Истину глаголю.
Я пристально посмотрел ему в глаза – большие и выразительные, в таких удобно читать. И слова его походили на правду.
– Тогда что ты здесь делаешь? – спросил я.
– Моя служба – вести летопись. Поэтому здесь и наблюдал. Истину глаголю.
– Наблюдал. Для чего?
– Мне приказали так сделать. Больше ничего не ведаю.
– И что же ты собой представляешь? Наверное, еще какой-то вид идеи?
– Нет, я никакая не идея. Просто метафора.
– Метафора?
– Да. Скромная метафора. Нечто связующее то и сё. Поэтому будьте ласковы, пощадите.
Моя голова начинала вскипать.
– Если ты – метафора, приведи мне какую-нибудь метафору экспромтом прямо сейчас. Ну?
– Я просто жалкая метафора низкого пошиба. Высокопарных метафор и всяких прочих не ведаю.
– Можно без высокопарных. Давай, скажи какую-нибудь.
Длинноголовый надолго задумался, затем произнес:
– Он был очень приметным человеком, как будто в переполненной электричке в час пик надел оранжевый конус вместо шляпы.
Действительно его метафора не производила впечатления. Для начала, это даже не метафора.
– Это не метафора, а троп, сравнение, – указал я.
– Извините. Тогда вот другая, – произнес Длинноголовый. По лицу его катились крупные градины пота. – Он жил так, будто носил оранжевый конус вместо шляпы в переполненной электричке в час пик.
– Здесь вообще смысл непонятен. К тому же нормальной метафорой пока и не пахнет. Что-то не верится мне в твою историю – ну какая из тебя метафора? Остается только убить.
У Длинноголового от страха задрожали губы. Щетина у него на физиономии вполне мужественная, а вот кишка была явно тонка.
– Извините, я только учусь. Изящную метафору пока что придумать я не в силах. Простите меня! Но я не фальшивка, а самая что ни есть подлинная метафора.
– А старший, кто дает тебе задания, у тебя есть?
– Старшого нет. Может, он и есть то есть, но пока что я его не видел. Я лишь поступаю, как велит связь между явлением и выражением. Я – словно та неумелая медуза, которую качает на волнах. Поэтому пощадите меня. Пожалуйста!
– Могу и пощадить, – сказал я, не отводя ножа от горла жертвы. – Но за это ты проводишь меня туда, куда хотел удрать сам.
– Нет, только не это! – сказал как отрезал Длинноголовый, тем самым немало меня обескуражив. Таким тоном он говорил со мной впервые. – Досюда я прошел метафорическими тропами. У каждого из нас свой путь, и тропы не могут совпадать. Поэтому проводником вашим стать я никак не могу.
– Выходит, я должен пройти по этой тропе сам? Один? И мне нужно найти собственный путь – так, что ли?
Длинноголовый покачал головой.
– Ступать на метафорическую тропу таким, как вы, вельми опасно. Ежели ступивший на тропу живой человек хоть чуточку с пути собьется – попадет в чудно́е место. К тому ж повсюду кроются двойные метафоры.
– Двойные метафоры?
Длинноголовый содрогнулся от страха.
– Двойные метафоры – твари опасные, они кроются в потайном мраке. Те еще громилы.
– Плевать, – сказал я. – Я и так уже по уши в нелепице. Теперь-то какая разница, чуть больше этих нелепиц или чуть меньше. Вот этой самой рукой я убил Командора – и не допущу, чтоб его смерть стала напрасной.
– Делать нечего, зрю я. Только позвольте дать вам совет.
– Что еще за совет?
– Прихватите с собою какой-нибудь свет. Местами там вельми темно. Где-нибудь да непременно наткнетесь на реку. Река сия метафорическая, да только вода в ней несомненная. Глубоко там и холодно, стремнина крутая, без лодки никак. А лодка – на переправе.
Я спросил:
– Переправлюсь я через реку – и что дальше?
Длинноголовый пристально посмотрел на меня и закатил глаза.
– Мир, что ждет вас на той стороне, всецело взаимосвязан. Сами убедитесь.
Я подошел к тумбочке в изголовье кровати Томохико Амады. Как и предполагалось, фонарик там лежал – на случай стихийного бедствия палаты подобных заведений непременно ими оснащают. Я попробовал включить – свет зажегся, батарейки не сели. Я взял фонарик, надел свою кожаную куртку, висевшую на спинке кресла, и направился к дыре, зиявшей в углу палаты.
– Умоляю, – произнес Длинноголовый, – развяжите мне узы. Неловко мне будет остаться здесь в сем виде.
– Если ты истинная метафора, избавиться от пут тебе не должно составить труда. Вы же с идеями и понятиями одного поля ягоды, поэтому способны передвигаться в пространстве и времени?
– Нет, господин, вы меня переоцениваете. Нет у меня такой чудесной силы. Называться понятием или идеей – это все для высшей касты метафор.
– Для тех, что в оранжевых конусах вместо шляп?
Длинноголовый печально смотрел на меня.
– Подтрунивать решили надо мной? А я ведь тоже могу обидеться, знаете.
Я немного помедлил, но в конце концов решил развязать Длинноголового. А поскольку завязывал я на совесть, над узлами теперь пришлось покорпеть. Теперь, когда мы с ним поговорили, он уже не казался мне чем-то скверным. Пусть и не знает, где находится Мариэ Акигава, – но ведь поделился же со мною тем, что знал сам. И если дать ему волю, он вряд ли начнет мне мешать и вредить. Да и правда в том, что оставлять его связанным здесь тоже никак не годится. Заметит его кто-нибудь – и дело примет совершенно иной, неприятный оборот. Сидя на полу, Длинноголовый потирал маленькими руками запястья, где оставались рубцы от веревки. Затем коснулся рукой лба – похоже, там набухала шишка.
– Благодарю, господин! Теперь я могу вернуться в свой мир.
– Ступай вперед, – сказал я, показывая на дыру в углу палаты. – Можешь идти, я за тобой.
– Тогда разрешите откланяться. Только не забудьте после себя плотно закрыть сию крышку, а не то кто-нибудь оступится и упадет. Или полезет внутрь из любопытства. Но отвечать-то мне!
– Я понял. Крышку напоследок непременно закрою.
Длинноголовый мелкими шажками подошел к дыре в полу и слез внутрь, затем высунул обратно только верхнюю часть лица. Крупные глаза его жутко сверкали – прямо как на картине «Убийство Командора».
– Ну, будьте осторожны, – пожелал мне он. – Хорошо, если отыщете того человека. Как вы сказали – Комити?
– Не Комити, нет, – ответил я, а у самого по спине пробежал озноб. В горле вдруг пересохло и такое ощущение, что слиплось. Куда-то подевался голос. – Не Комити. Мариэ Акигава. Постой, ты что-то знаешь о Комити?
– Ничего я и ведать не ведаю, – торопливо ответил Длинноголовый. – Это имя только что случайно всплыло в моей скромной метафорической башке. Ошибочка вышла, простите меня.
И Длинноголовый мигом исчез в дыре – словно дым сдуло порывом ветра. Я замер там, где стоял, с пластмассовым фонариком в руке. Комити? Отчего здесь и сейчас всплыло имя моей покойной сестры? Что – она тоже как-то связана с вереницей всех этих событий? Но обдумывать все это всерьез времени не было. Я спустился в дыру и включил фонарик. Там было темно, вниз тянулся пологий спуск. Вот же странность – палата Амады находилась на третьем этаже здания, и ниже должен располагаться второй. Но я направил фонарик перед собой, и луч света ни во что не уперся. Я полностью погрузился в дыру, вытянул руку вверх и плотно закрыл за собой квадратную крышку. Вокруг сразу стало темно.
Тьма там была настолько кромешной, что все мои пять чувств отключились – как будто прервалась передача данных между телом и сознанием. Очень странное, необычное состояние: такое ощущение, будто я перестал быть самим собой. Но мне все равно следовало двигаться вперед.
Убейте нас – найдете Мариэ Акигав. Так говорил мне Командор. Жертву принес он, а вот испытание выпало мне. Как бы там ни было, нужно идти дальше. Другого не остается.
С единственным своим подспорьем – светом фонарика – я ступил во мрак метафорической тропы.
53
Может, то была кочерга
Меня окружал мрак плотный, без просветов, будто наделенный волей. Сюда не пробивался ни единый лучик света, не было заметно ни малейшей яркой точки. Будто я шагал по дну глубокого моря, куда не проникает солнечный свет, и с миром меня едва связывал только желтый луч фонарика у меня в руках. Тропа тянулась отлого. Галерея была правильного круглого сечения, точно горную породу вынимали по окружности, поверхность твердая и плотная, почти без ухабов. Потолок в этой длинной трубе был низковат, поэтому, чтобы не биться о него головой, мне приходилось постоянно пригибаться. Подземный воздух был так прохладен, что мне становилось зябко, но здесь ничем не пахло. Совсем ничем – это меня и встревожило. Здесь даже воздух был иной – совсем не тот, что на поверхности.
Определить, насколько хватит батареек в фонарике, я, конечно же, не мог. Пока что он светил ровно, не мерцая, но если батарейки сядут (а это, разумеется, когда-нибудь случится), я останусь в кромешной тьме без намека хоть на какой-то просвет. А по словам Длинноголового, где-то в этом мраке скрываются опасные двойные метафоры.
Моя рука, сжимавшая фонарь, от напряжения вспотела. Сердце жестко отбивало глухие удары – они мне напомнили отзвуки барабана, доносящиеся из глубин джунглей. Длинноголовый меня предупреждал: «Прихватите с собою какой-нибудь свет. Местами там вельми темно». Что это значило – что не весь подземный ход полностью темный? Вот бы вокруг хоть немного посветлело, а еще неплохо бы, чтоб потолок стал хоть чуточку выше. В темных и тесных местах у меня всегда нервы взвинчены. Если так будет тянуться еще долго, мне станет трудно дышать.
Я старался поменьше думать о мраке и тесноте… но тогда нужно думать о чем-то другом. Я представил себе тост с сыром. Почему именно его, я и сам не знал, однако на ум почему-то вдруг пришел именно тост с сыром. Он лежал на белой тарелке – квадратный тост с сыром. Красиво зажаренный, с аппетитно расплавленным поверх сыром, он только и ждал, когда я его возьму. А рядом кружка горячего черного кофе с клубящимся паром. Кофе черный-пречерный, будто ночь без луны и звезд. Я с нежностью вспомнил, как все это выставлял утром на стол, чтобы позавтракать. Окна, распахнутые на улицу, большая ива на дворе, бодрый щебет птах, рискованно присевших на ее гибкие ветки, будто канатоходцы. И все это теперь от меня неизмеримо далеко.
Затем я вспомнил оперу «Кавалер розы». Я стану слушать эту музыку, пока буду пить кофе и есть свежий тост с сыром. Черный диск английской фирмы грамзаписи «Decca». Я поставил этот тяжелый винил на вертушку и медленно опускаю иглу звукоснимателя. Венский филармонический, дирижер Георг Шолти и… красивая затейливая музыка. «Даже метлу я могу выразить музыкой», – самоуверенно заявил Рихард Штраус. Что – не метла там была? Может, и не метла. Может, то был зонтик – ну, или кочерга. Все что угодно. И все-таки – как можно выразить музыкой метлу? Что, и впрямь умел? И горячий тост с сыром? Или огрубевшую пятку? Или разницу между тропами – сравнением и метафорой, к примеру?
Рихард Штраус в довоенной Вене дирижировал филармоническим оркестром. До или после Аншлюса это было? В тот день исполняли симфонию Бетховена. Седьмую – безмятежную, ладную и непоколебимую. Это произведение рождено в интервале между светлой и открытой старшей (Шестой) и застенчивой красавицей младшей (Восьмой) «сестрами». Молодой Томохико Амада был в зале среди слушателей. Рядом сидела красивая девушка. Он, вероятно, влюблен.
Я представил себе Вену в тот день. Венский вальс, сладкий «Захерторт», красно-черные стяги со свастиками на крышах домов.
Мысли в темноте недисциплинированно разбегались во все стороны. Вернее сказать – бежали в направлении без вектора, однако я никак не мог сдерживать их полет. Мысли мои теперь мне были неподвластны. В беспросветном мраке держать думы в узде очень непросто. Они становятся загадочными деревьями и тянут свои ветви в глубь темноты (это метафора). Но как бы то ни было, чтобы поддерживать себя, мне нужно продолжать о чем-нибудь думать. Все равно о чем. Иначе от напряжения у меня начнется полипноэ.
Дав волю нескончаемым думам о самых разных нелепицах, я неуклонно спускался по нескончаемому склону. Тропа тянулась по-настоящему прямо, без поворотов и ответвлений. Сколько б я ни шел, ни высота потолка, ни густота мрака, ни консистенция воздуха, ни угол уклона нисколько не изменились. Ощущение времени у меня почти пропало, но если учитывать, как долго я спускался, наверняка уже должен оказаться на приличной глубине. Хотя глубина эта, в конечном счете, не более чем мнимая. Не мог же я спуститься под землю прямо с третьего этажа? И темнота – она тоже должна быть мнимой. Потому я старался думать так: «Все, что здесь есть, – не более чем идея, представление или метафора». Однако плотно окружавшая меня темнота была во всех отношениях настоящей, и угнетавшая меня глубина была во всех отношениях настоящей глубиной.
И когда шея и поясница у меня уже закряхтели от того, что на ходу я непрерывно сутулился, впереди наконец-то показался бледный свет. Последовала череда плавных поворотов – после каждого вокруг заметно светлело. Я даже начал различать окружающее – так постепенно светлеет небо перед рассветом. Для экономии батареек я выключил фонарь.
Хотя вокруг и посветлело, по-прежнему не было ни запаха, ни звуков. Вскоре темная и узкая галерея оборвалась, и я внезапно очутился в открытом пространстве. Задрав голову, неба я не увидел. Где-то в вышине, как мне показалось, должен быть молочного цвета свод, но так это или нет, я не знал. Вокруг едва брезжили тусклые сумерки. Странный это был свет – будто собралось множество светлячков и давай освещать своим мерцанием окружающий мир. Я наконец-то мог расслабиться: мрак отступил, и больше не нужно сгибаться.
Стоило выйти из галереи, как почва под ногами сменилась, и местность стала пересеченной. Ничего похожего на дорогу – лишь простиралась, докуда хватало глаз, покрытая валунами пустошь. Длившийся так долго спуск закончился, и передо мной теперь высился взволок. Глядя себе под ноги, я, не выбирая, куда именно идти, просто шагал дальше вперед. Посмотрел на свои наручные часы, но стрелки их уже ничего не значили. Я это сразу сумел понять: все бессмысленно. Все остальное, что было при мне, тоже никакого практического смысла там не имело – связка ключей, кошелек, водительские права, какая-то мелочь, носовой платок. Больше ничего у меня с собой не было, и все это не могло бы мне здесь никак пригодиться.
Чем дальше я шел, тем круче забирал склон, и вскоре мне пришлось буквально карабкаться, цепляясь руками и ногами. Вот заберусь на вершину, думал я, и, возможно, смогу окинуть взглядом окрестности. Поэтому я, хоть уже и запыхался, без отдыху взбирался все выше. Ни единого звука до меня по-прежнему не доносилось: я слышал только собственный шум – тот, что производили мои руки и ноги. Но даже эти звуки отчего-то походили на искусственные и не воспринимались как настоящие. Насколько хватало глаз, нигде не было ни единого дерева, и трава там не росла. Надо мной не пролетела ни одна птица. И даже ветер не дул. Двигался по этой глуши только я сам. Все вокруг было неподвижным и молчало, будто бы замерло само время.
Наконец, забравшись на вершину, я, как и предполагалось, попробовал окинуть взглядом окрестности. Однако со всех сторон меня окружала белесая дымка, и так далеко, как мне хотелось бы, я ничего не разглядел. Я понял только одно: насколько хватало глаз там простиралась бесплодная земля без каких-либо признаков жизни. Во все стороны тянулась суровая пустошь, усыпанная валунами, – и неба по-прежнему не было видно. Только нависал надо мной сплошной свод молочного цвета – или то, что мне его напоминало. Мне показалось, что я – астронавт, который из-за поломки звездолета в одиночку совершил экстренную посадку на неведомой необитаемой планете. Нужно быть благодарным уже за то, что тут есть чем дышать и все хоть немного освещено.
Хотя признаков жизни вокруг по-прежнему не наблюдалось, я уловил какой-то незначительный звук. Сначала подумал, что это иллюзия или звенит в ушах у меня самого, но вскоре понял, что действительно что-то слышу – причем, вероятно, звук, вызванный неким природным явлением. Скорее всего, это шум воды. Может, та река, о которой говорил Длинноголовый? В полусумраке, тщательно глядя под ноги, я стал осторожно спускаться по неровному склону в ту сторону, откуда доносился шум воды.
Пока прислушивался, я понял, что жутко хочу пить, ведь я совсем ничего не пил все то долгое время, пока был в дороге. Но из-за собственной тревоги о воде я даже не вспоминал, а стоило услышать шум реки, как мне тут же невыносимо захотелось пить. Вот бы еще узнать, пригодна ли эта вода для питья, если шумит взаправду река. Вода может оказаться мутной и грязной, с какими-нибудь бактериями или опасными веществами. А может, та вода – простая метафора, даже горстью не зачерпнуть. Однако ничего другого мне не оставалось – только дойти до реки и проверить самому.
С каждым моим шагом шум воды только усиливался и становился отчетливее. Похоже, там и впрямь бурное течение по каменистым порогам, однако увидеть реку самому мне пока не удавалось. Чем ближе подходил я к предполагаемой реке, тем больше высилась почва с обеих сторон, и немного погодя я уже шел между чем-то похожим на скальные стены, метров десяти, а то и выше. Образовался каньон, зажатый меж отвесных обрывов. Тропа местами поворачивала, змеилась, перекрывая мне обзор. Дорога эта не людскими руками проложена, ее проторила себе сама природа. Похоже, дальше где-то действительно должен течь речной поток.
Я неуклонно двигался вперед по тропе, зажатой между круч. Вокруг все так же не видно было ни деревца, ни пучка травы. И – ни единой живой души на всем моем пути. Лишь череда безмолвных скал перед глазами. Сухой монотонный мир. Как будто пейзаж, который художник не стал разукрашивать, утратив к нему всякий интерес. Шорох моих шагов был еле слышен, будто окрестные скалы поглощали все звуки.
Дорога в основном тянулась ровно, но вскоре опять начался пологий склон. Добравшись со временем до верха, я очутился на чем-то, похожем на скальный хребет. И оттуда, подавшись вперед, наконец увидел реку воочию. Шум теперь доносился намного отчетливее, чем прежде.
Не особо она была и большая – шириной метров пять или шесть, однако течение действительно было весьма стремительное. Интересно, глубока ли она. Заметив местами беспорядочные барашки на воде, я сообразил, что под водой рельеф дна у реки неровный. Река будто пересекала напрямую скалистое плато. Перевалив через хребет, я спустился по обрывистому склону поближе к воде.
Когда я увидел, как река быстро несет свои воды слева направо, у меня немного отлегло от сердца. По крайней мере, здесь и впрямь перемещается много воды: послушно рельефу она откуда-то куда-то направляется. В мире, где все остальное статично, в мире, где даже не дует ветер, движется лишь речная вода, настойчиво заявляя о себе окрестностям. Да, этот мир еще не полностью утратил движение. Сделав такое открытие, я немного успокоился.
Достигнув берега, я подошел к кромке и зачерпнул ладонями воду. Она была приятна и прохладна, как будто бы реку питали растаявшие снега. С виду – прозрачная и, похоже, чистая. Но, разумеется, на вид не определишь, безопасна она или нет? Может, в ней растворены не заметные глазу смертельные вещества или содержатся вредные для организма микробы.
Я понюхал воду у себя в пригоршне. Запаха не было – если я не лишился обоняния. Попробовал набрать в рот – и вкуса тоже не ощутил. И тогда я решительно глотнул. К чему бы это ни привело, горло у меня слишком пересохло, чтобы его не смочить. На пробу это была обычная вода без запаха и вкуса, но, какой бы ни была она, истинной или метафорической, вода эта избавила меня от сухости в горле.
Я несколько раз зачерпывал горстями воду и пил сколько влезет. Пить мне хотелось больше, чем казалось вначале, однако утолить жажду водой без запаха и вкуса на поверку оказалось делом весьма странным. Когда нам хочется пить и мы жадно глотаем холодную воду, она кажется нам вкуснее всего на свете. Этот вкус жадно впитывается всем нашим телом. Ему радуются клетки с головы до пят, он возвращает свежесть всем нашим мышцам. А вода из этой реки, похоже, не дала мне таких ощущений: жажда просто физически отступила и затем пропала.
В общем, вдоволь напившись и тем самым усмирив жажду, я поднялся и вновь окинул взглядом окрестности. По словам Длинноголового, где-то поблизости должна быть переправа. Стоит ее найти, и лодка перевезет меня на другой берег. А там уже я, вероятно, как-то смогу разузнать, где сейчас Мариэ Акигава. Но, посмотрев сперва вверх по течению, затем вниз, я не обнаружил ничего похожего на лодку. А отыскать ее мне так или иначе просто необходимо. Переходить реку вброд будет очень опасно. «Река глубокая, без лодки не преодолеть: течение быстрое и холодное», – что-то подобное, помнится, говорил мне Длинноголовый. Вот только куда отсюда идти, чтоб отыскать эту самую лодку, вверх по течению или вниз? Вот в чем выбор.
И тут я вдруг вспомнил, что Мэнсики зовут Ватару. Имя, означающее «переходить вброд». Он так и сказал мне, когда представлялся, – и добавил: «Почему меня так назвали, я понятия не имею». А потом сказал еще: «Кстати, я левша. Если мне говорят, иди налево или направо, я всегда выбираю налево». То была неожиданная для меня фраза – прозвучала она без связи с остальным. Что его дернуло сказать мне ее, тогда я толком не понял, но именно поэтому отчетливо запомнил слово в слово.
Может, он сказал мне это без особого умысла. Возможно, речь об этом зашла у нас случайно. Однако здесь, по словам Длинноголового, – земля, где все держится на взаимосвязи явления и выражения. И мне, должно быть, необходимо, оказываясь лицом к лицу с разными обозначенными тут намеками и случайностями, относиться к ним осмотрительно. И поэтому, оказавшись перед рекой, я решил пойти налево, следуя бессознательному указанию «бесцветного» господина Мэнсики, – спускаться вниз по течению реки с непахнущей и безвкусной водой. В этом, возможно, есть какой-то намек, а может, ничего и нет.
Шагая вдоль реки, я подумал: обитает ли в ней какая-то живность? Вряд ли. Хотя, конечно, явных доказательств нет, однако в самой реке признаков жизни не ощущалось. Ну какая живность сможет обитать в воде без запаха и вкуса? Казалось, река эта чересчур мнила о себе: мол, «я же река, кому как не мне течь?» Она и впрямь имела форму реки, но, по сути, не была чем-то сверх этого состояния. На поверхности – ни травинки, ни веточки, сносимой течением. Здесь по земной поверхности просто передвигалось много воды.
Вокруг все так же нависала бескрайняя дымка. Она мягко, точно вата, упиралась в меня, когда я, нагибаясь, старался ее миновать, будто подныривая под белым тюлем. Спустя время я начал ощущать в желудке воздействие выпитой воды. Оно не сулило особых бед, но и не давало повода для веселья. Нейтральное такое ощущение – ни то ни се, когда не понимаешь, что с тобой. А к тому же у меня возникло навязчивое ощущение: выпив этой воды, я стал чем-то сделанным из иного, чем прежде, теста. Неужели эти несколько глотков воды изменили мою конституцию, приспособили меня к местным условиям?
Правда, за себя я почему-то не опасался и оптимистично полагал: ничего страшного не произойдет, хотя конкретных оснований обнадеживать себя у меня не было. Просто казалось так, раз до сих пор у меня все как-то складывалось. Я умудрился преодолеть узкий темный коридор. Миновав скалистый массив без компаса и карты, смог добраться до реки. Ее водой утолил себе жажду. Избежал встречи с опасными двойными метафорами, которые таятся в потемках. Возможно, мне просто повезло – или же так было предопределено заранее? Как бы то ни было, продолжайся все в том же духе, мне и впредь должна сопутствовать удача. Так мне казалось. По крайней мере, я старался так думать.
Вскоре в дымке я сумел различить смутные очертания. На творение матери-природы похоже не было: прямые линии выдавали в конструкции дело рук человека. Приблизившись, я понял, что это дебаркадер, маленький деревянный понтон, выступающий от речного берега в воду. Все-таки правильно, что пошел налево, подумал я. Или же в этом мире взаимосвязей все просто подстраивается под мои действия? Выходит, непроизвольный намек Мэнсики благополучно привел меня к этому месту.
Сквозь бледную пелену на дебаркадере я различил одинокий мужской силуэт. Фигура была высокого роста. После моего долгого общения с Командором и Длинноголовым он мне показался настоящим исполином. Мужчина стоял, опершись на какой-то механизм, напоминавший лебедку, и не шевелился, будто о чем-то задумавшись. Речная вода, пенясь, омывала ему ноги. Он был первым человеком, который мне встретился в этих краях. Или же неким подобием человека. Я осторожно приближался к дебаркадеру.
– Здравствуйте! – решительно произнес я издали, когда его фигура проступила сквозь дымчатую вуаль чуть отчетливее. Но ответа не последовало – мужчина стоял как стоял, лишь немного поменял позу. В пелене едва шелохнулся его темный силуэт. Может, он просто не расслышал? Шум речного потока заглушил мой голос? Или в этих краях воздух не разносит звуки? – Здравствуйте! – подойдя ближе, вновь произнес я, на сей раз – громче.
Однако тот по-прежнему молчал. Вокруг раздавался лишь шум воды. А может, он просто не понимает, что я ему говорю?
– Мне слышно. И я все понимаю, – произнес мужчина, будто прочитав мои мысли. Под стать его высокому росту голос его прозвучал раскатистым басом. В нем не было интонации, и я не уловил ни капли эмоций. Так же, как у речной воды не почувствовал ни запаха, ни вкуса.
54
Вечность – очень долгое время
У стоявшего передо мной высокого мужчины не было лица. То есть голова, разумеется, имелась – как положено, поверх шеи. А вот лица не было. Там, где ему полагалось находиться, – сплошная пустота, похожая на бледно-молочную дымку. И голос его исходил из этой пустоты, как будто я слышал завывание ветра из глубокой пещеры.
На мужчине был водоотталкивающий макинтош темно-серого цвета: полы длинные и почти закрывали лодыжки, а ниже выглядывали носки сапог. Макинтош застегнут на все пуговицы до самого горла. Одежда такая, будто мужчина приготовился к буре.
Я молча замер там, где стоял, не в силах проронить ни слова. Издали он напоминал и того мужчину, который ездил на белом «субару форестере», и Томохико Амаду, которого я видел среди ночи в мастерской. А еще – молодого мужчину с картины, который, обнажив меч, пронзал Командора. Все трое были рослыми. Однако приблизившись, я понял, что он – ни один из них. Просто безлицый человек. Черная широкополая шляпа надвинута поглубже, наполовину скрывая пустоту молочного цвета.
– Мне слышно. И я все понимаю, – повторил мужчина. Разумеется, губы у него не двигались, потому что губ у него не было.
– Здесь переправа? – спросил я.
– Да, – ответил Безлицый. – Переправа – здесь. Люди могут переправиться через реку только в этом месте.
– Мне нужно на ту сторону.
– Иные сюда не приходят.
– А что, много таких?
На это мужчина не ответил, а мой вопрос поглотила пустота. Повисло нескончаемое молчание.
– Что там – на той стороне реки? – спросил я. Над рекой нависал белый туман, из-за которого я не мог разглядеть другой берег.
Безлицый пристально смотрел на меня из пустоты. Затем произнес:
– Что на том берегу, зависит от того, что нужно человеку.
– Я ищу, куда девалась девочка по имени Мариэ Акигава.
– Она и есть то, что тебе нужно на том берегу.
– Да, это то, что мне нужно на том берегу. Ради этого я здесь и оказался.
– Как тебе удалось обнаружить вход сюда?
– В палате пансионата для престарелых на плоскогорье Идзу я зарезал разделочным ножом идею в облике Командора. Убил его с его согласия. Так я смог вызвать Длинноголового и заставил его открыть мне тайную тропу.
Какое-то время, ничего не говоря, Безлицый обращал ко мне свое полое лицо. Я не мог определить, понял ли он смысл того, что я ему сообщил.
– Кровь текла.
– Очень много, – подтвердил я.
– Кровь была настоящей.
– Похоже на то.
– Посмотри на руки.
Я посмотрел на свои руки, но следов крови на них не осталось. Наверное, отмылась, когда я черпал горстями воду. А ведь до этого все руки мои действительно были в крови.
– Ладно. Лодка у меня есть. Переправлю тебя на тот берег, – сказал Безлицый. – Только у меня есть одно условие.
Я ждал, пока он скажет, какое.
– Ты мне должен заплатить полагающуюся цену. Таково правило.
– А если не заплачу – переправиться не смогу?
– Да. Так и останешься навечно по эту сторону. Вода в реке холодная, течение быстрое, дно глубокое. А вечность – это очень долгое время. И это я говорю тебе не просто ради красного словца. Это не метафора.
– Мне нечем вам заплатить.
Мужчина тихо сказал:
– Достань и покажи мне все, что есть у тебя в карманах.
Я достал все без остатка из карманов куртки и брюк. В бумажнике денег было около двадцати тысяч иен, кредитка, банковская карточка, водительские права, талон на скидку с заправки. Связка из трех ключей. Бледно-кремовый носовой платок, одноразовая ручка и пять или шесть разных монет. Только и всего. Ну и, конечно же, фонарик.
Безлицый покачал головой.
– Извини, но все это в уплату не годится. Деньги здесь ничего не значат. Что-нибудь еще у тебя есть?
Ничего другого у меня не нашлось. На левой руке – дешевые наручные часы, но время здесь тоже лишено всякой ценности.
– Если найдется бумага, могу нарисовать ваш портрет. Спрашиваете, что еще у меня есть? Пожалуй, только умение рисовать.
Безлицый рассмеялся. То есть, вероятно, то был смех – из глубины пустоты еле послышалось звучное эхо.
– У меня и лица-то для этого нет. Как же ты сможешь нарисовать портрет без лица. Как сможешь изобразить то, чего нет.
– Я – профессионал, – сказал я. – Смогу нарисовать портрет, пусть даже без лица.
Я совершенно не был уверен, смогу ли нарисовать портрет человека без лица. Но попробовать стоит.
– Мне самому стало интересно, каким выйдет портрет, – сказал Безлицый. – Однако, к сожалению, здесь нет бумаги.
Я посмотрел себе под ноги. Подумал было нарисовать портрет прутиком на земле, но под ногами была твердая скала. И я покачал головой.
– Это правда все, что у тебя есть?
Я еще раз обшарил все карманы. В кожаной куртке – ничего. Пусто. Но вот в глубине одного брючного кармана я нащупал маленький предмет: пластмассовую фигурку пингвина. Ту самую, что передал мне Мэнсики, обнаружив ее на дне склепа. С тонким ремешком. Мариэ Акигава носила его, как амулет, прикрепив к своему телефону. Почему он оказался на дне того склепа?
– Покажи-ка, что у тебя в руке, – произнес Безлицый.
Я распахнул руку и показал ему фигурку пингвина. Безлицый равнодушно ее рассмотрел.
– Сойдет, – произнес он. – Возьму в оплату.
Я не мог решать, можно ли насовсем отдать ему эту фигурку. Ведь это ценный амулет, которым дорожила Мариэ Акигава, вещь к тому же не моя. Могу ли я своевольно кому-то ее отдавать? А если это приведет к беде и с Мариэ Акигавой случится что-то дурное?
Но выбора не было. Не дам фигурку Безлицему – не попаду на другой берег. А если не окажусь там, то не смогу и найти девочку. И смерть Командора станет напрасной.
– Я дам вам это в оплату за переправу, – решившись, сказал я. – Пожалуйста, перевезите меня на ту сторону.
Безлицый кивнул.
– Кто знает, может, когда-нибудь тебе придется рисовать мой портрет. Если удастся, тогда и верну тебе пингвина.
Мужчина первым забрался в привязанную к понтону маленькую лодку, больше похожую на плоскую коробку из-под сладостей. Сбита она была из прочных толстых досок, узкая, длиной каких-то пару метров. Я подумал, на такой за один раз много людей не переправить. Примерно посередине лодки возвышался толстый столб, к его верхушке прикреплен с виду прочный металлический обруч диаметром с дециметр, а внутри него проходил толстый канат. Он тянулся от одного берега до другого – туго натянутый, без слабины, совсем как мои нервы. Похоже, лодка курсирует по этому канату, чтобы ее не унесло быстрым и сильным течением. Старая, повидавшая виды, нет у нее ни винта, ни даже весел. Просто покачивается на воде деревянная коробка.
Я сел в лодку следом за Безлицым. К бортам в ней крепилась поперечная доска, и я на ней устроился. Сам же Безлицый остался стоять с закрытыми глазами, прислонившись к столбу, как будто чего-то дожидался. Он молчал. Я тоже. В тишине пролетело несколько минут, и вскоре лодка, точно собравшись с духом, сдвинулась с места. Я не мог понять, что двигало ее вперед, однако мы наконец-то отчалили и бесшумно поплыли через реку. Ни мотор, ни какой-то другой механизм не шумел. Я слышал лишь неумолчный плеск волн о борта лодки. Мы продвигались вперед не быстрее обычного пешехода. Под напором воды лодка качалась, то и дело кренясь набок, но прочный канат не давал течению сносить ее. И точно, как говорил Безлицый, переправиться без лодки человеку здесь просто немыслимо. Как бы сильно ни качало лодку, Безлицый как ни в чем не бывало стоял, прислонившись к столбу.
– А на том берегу я пойму, где Мариэ Акигава? – спросил я у Безлицего, когда мы достигли середины реки.
Он ответил:
– Мое дело – переправить тебя на тот берег. Дать проскользнуть в лазейку между бытием и небытием. А что будет дальше – уже не моя забота.
Вскоре лодка причалила к другому берегу, слегка ударившись о такой же понтон. Наше движение прекратилось, но Безлицый еще какое-то время оставался все в той же позе и не отходил от столба. Он как будто перебирал в уме, ничего ли не забыл. Чуть погодя глубоко выдохнул пустотой и сошел с лодки на дебаркадер. Я последовал за ним. Механизм, напоминавший лебедку, был абсолютно таким же, что и на левом берегу. Мне даже показалось, что мы, сплавав туда и обратно, вернулись на прежнее место. Но стоило сойти с понтона и ступить на землю, как я сразу понял, что это не так. Здесь – другой берег: не твердые скалы, а привычная земля.
– Дальше тебе предстоит идти одному, – сказал мне Безлицый.
– Но я же не знаю, куда и какой тропой.
– Тебе это и не нужно, – раздался низкий голос из молочного ниоткуда. – Ты же пил речную воду? Действуй – и между поступками будет возникать взаимосвязь. Такие уж здесь края.
После этих слов Безлицый поправил широкополую шляпу и, повернувшись ко мне спиной, побрел обратно к лодке. Едва он шагнул в нее, лодка неспешно отправилась обратно – по канату, как шла и сюда. Ни дать ни взять, как хорошо выдрессированная зверушка. Вскоре лодка и Безлицый слились в одну точку и постепенно скрылись в дымке.
Оставив дебаркадер позади, я решил пойти вниз по течению. Наверное, лучше от реки не отдаляться, да и если одолеет жажда, можно будет здесь же напиться. Пройдя немного, я обернулся, но дебаркадер уже скрылся в белой дымке, будто его не было вовсе.
Ниже по течению река постепенно расширялась, течение ее зримо замедлилось, став спокойным. Все меньше попадалось на глаза бурунов и барашков, да и шум самой реки стал почти не слышен. Я даже подумал: чем устраивать переправу на стремнине, неужели трудно было сделать ее здесь, где течение поспокойнее? Ну и пусть река здесь шире – зато переправляться в таком месте, должно быть, намного удобнее. Однако в этом мире наверняка свои принципы, свое мышление. А может, такое спокойное место, наоборот, таит в себе больше опасностей.
На всякий случай я сунул руку в карман, но фигурки пингвина там не оказалось. Утратив этот амулет, возможно – навсегда, – я начал тревожиться. Как быть, если я сделал неверный выбор? Но что я мог поделать, кроме как отдать пингвина тому человеку? Я мог лишь надеяться, что Мариэ Акигава останется целой и невредимой, даже расставшись со своим амулетом. А что еще мне оставалось делать?
Держа в руке фонарик из палаты Томохико Амады, я осторожно, глядя себе под ноги, шагал вдоль реки. Свет пока не включал – мир вокруг был сумрачен, но я пока мог обойтись без фонарика. Я видел тропу у себя под ногами, и впереди путь просматривался на четыре-пять метров. Сразу слева от меня река неспешно и тихо несла свои воды. Другой берег виднелся лишь изредка и очень смутно.
По мере того как я продвигался вперед, передо мной постепенно образовывалось некоторое подобие дороги. Не так, чтобы прямо-таки дорога, но тропа явно играла эту роль. У меня возникло смутное ощущение, что и прежде по ней ходили люди. И дорога эта начала постепенно отдаляться от реки. Я даже остановился, не зная, как мне быть. Продолжать идти вдоль реки к устью – или удаляться от нее по этой подразумеваемой дороге.
Немного подумав, я решил идти дальше по дороге, прочь от реки. Мне казалось, она должна меня куда-то привести. «Действуй – и между поступками будет возникать взаимосвязь», – говорил мне безлицый паромщик. Эта дорога, возможно, – одно из таких звеньев. И я решил послушаться этой вроде бы подсказки.
Отдаляясь от реки, дорога постепенно шла в гору. Незаметно пропал шум реки. Я поднимался размеренным шагом по довольно ровному склону. Дымка к тому времени растворилась, но свет рассеивался тускло и монотонно, видимость была скверной. Но даже при этом свете я шел, глядя под ноги и стараясь не сбивать дыхание.
Как долго я шел? Ощущение времени у меня утратилось давным-давно. Также потерялось и ощущение направления. Все это еще и потому, что на ходу я непрерывно старался размышлять, ведь мне было о чем подумать. Однако на поверку удавалось думать лишь жалкими урывками. Стоило подумать о чем-то одном, как сразу в голову приходила другая мысль, и эта новая мысль целиком поглощала прежнюю, как крупная рыба пожирает маленькую. Таким образом мысли постепенно сбивались совсем не в том направлении, какое я пытался выбрать для них сначала. Поэтому под конец я сам уже переставал понимать, о чем теперь думаю и о чем собирался подумать еще.
Из-за хаоса в голове внимание у меня было рассеянным; еще немного – и я буквально столкнулся бы лоб в лоб с чем-то. Но в тот миг я, оступившись, чуть не упал, еле-еле удержал равновесие, остановился и перевел вверх глаза, которыми только что смотрел себе под ноги. Кожей я почувствовал, как стремительно меняется воздух вокруг, а когда пришел в себя, прямо перед моими глазами высилось нечто, напоминающее гигантский ком, – и наблюдало за мной. Я обомлел и лишился дара речи, какой-то миг не мог вообще понять, что к чему. Это – что? Так не сразу я осознал, что передо мной – лес. Прежде я здесь не замечал ни деревца, ни даже листика, а тут вдруг – целый лес. Как тут не удивиться?
Однако то был лес вне всяких сомнений, густой и пышный. Его деревья, запутанно переплетаясь, разрослись почти беспросветно и выглядели сплошной стеной. Точнее сказать, то был даже не лес, а «море деревьев». Стоя перед ним, я прислушался, но не услышал ничего: ни шороха ветра, качающего ветви деревьев, ни пения птиц. Я не слышал ровным счетом ни малейшего звука. Абсолютная тишина.
От одной только мысли войти внутрь этого леса я инстинктивно сжался от страха. Уж слишком густо сплетались ветви деревьев, и бесконечно глубоким казался мне мрак в этой чаще. Я не знал, большой этот лес или нет и докуда тянется эта дорога. Может, она ветвится и образует лабиринт. Стоит заблудиться внутри – и выбраться наружу будет очень непросто. Но даже при этом – что мне оставалось делать? Дорога, по которой я шел, уходила прямиком в чащу, будто лес ее поглощал, как тоннель поглощает рельсы, и, раз я оказался здесь, возвращаться к реке мне теперь не годилось. Положим, я все-таки вернусь – а где гарантия, что река по-прежнему там? Как ни крути, а я сам принял решение идти по этой дороге и шел по ней до сих пор. Что бы ни случилось, остается лишь двигаться вперед.
Я собрался с духом и вошел в темную чащу. Который час: вечерний, ночной или утренний, – по освещению было не определить. Понятно только одно: эта сумеречная полутьма с течением времени нисколько не менялась. Наверное, в этом мире понятия времени не существует вовсе, и такой свет сохраняется вечно, не становясь ни светлее, ни темнее.
В чаще и впрямь было темно. Бесчисленные ветви заслоняли свет над моей головой. Но фонарик я включать не стал. Постепенно глаза привыкли к этой полутьме, и я различал, куда ступаю, а к тому же не хотелось зря расходовать батарейки. Я старался ни о чем не думать, насколько это было возможно, и просто настойчиво шагал по сумрачной лесной дороге. Вдруг, опасался я, стоит мне задуматься – и возникшая мысль заведет меня в еще более мрачное место. Дорога все еще тянулась отлогим подъемом, и на ходу я слышал разве что свои шаги, но и те казались мне тихими и скрытными, будто их старательно унимали. Еще я боялся, что мне снова захочется пить. Ведь я, пожалуй, ушел уже далеко от реки и вернуться к ней не смогу, какая бы жажда меня ни мучила.
Как долго я шел? Лес, казалось, тянулся бесконечно, и окружающий пейзаж почти не менялся. Сумерки – тоже. Помимо шороха моих шагов – никаких звуков. И воздух по-прежнему был без запаха и вкуса. Деревья высились по обеим сторонам дороги глубоким частоколом, и, кроме них, ничего другого не было видно. Интересно, а в лесу кто-нибудь живет? Тоже вряд ли. Вокруг, насколько хватало глаз, – ни птицы, ни даже мелкой мушки.
При этом меня одолевало неприятно яркое ощущение, будто за мной с самого начала кто-то следит. Из темноты сквозь частокол толстых деревьев несколько пар любопытных глаз наблюдает за моими движениями. Эти пристальные взгляды я жарко ощущал своей кожей будто лучи солнца, собранные линзой. Кто-то желал удостовериться, что привело меня сюда. Здесь их территория, а я вторгся без спросу. Однако ничьих глаз я на самом деле не видел. Возможно, я просто заблуждаюсь, у страха глаза, как известно, велики. Особенно в полутьме.
Вот, например, Мариэ Акигава говорила, что отчетливо ощущает на себе через лощину взгляд Мэнсики, когда тот наблюдает за ней в окуляры своего бинокля. Ей удалось понять, что кто-то регулярно за нею следит, – и она не ошиблась в своих ощущениях. Тот взгляд отнюдь не был плодом ее фантазии.
Тем не менее я решил считать обращенные на себя взгляды чистой иллюзией, не существующей на самом деле. Никаких глаз нигде не было и нет, они плод моей фантазии, вызванный страхом. Я вынужден был думать именно так: мне же предстояло миновать этот гигантский лес (а насколько он пространен, я не знал), пройдя его до конца. И выйти из него по возможности в здравом уме.
К счастью, никаких перекрестков и перепутий мне не попадалось, поэтому я не ломал голову, в какую сторону пойти, и не забредал в лабиринты с неведомым выходом. Путь мой отнюдь не был тернистым. Достаточно было двигаться вперед и прямо.
Сколько же я шел по той дороге? Пожалуй, очень долго – пусть в этих краях понятие времени почти не несет в себе смысла. Но все равно усталости я не чувствовал. И без того я был напряжен и взбудоражен, тут просто не до усталости. Но когда я наконец ощутил тяжесть в ногах, впереди, как мне показалось, блеснул огонек. Где-то вдалеке слабо мерцало желтое пятнышко. Почти как светлячок. Но то не был светлячок. Точка виднелась всего одна, она не шевелилась и не мерцала. Напоминала она искусственный свет, закрепленный в каком-то одном месте. По мере того как я приближался, свет не сразу, но становился крупнее и ярче. Вне сомнений, я постепенно подходил к чему-то.
Доброе оно или злое? Откуда мне было это знать? Поможет мне? Или причинит вред? В любом случае нет у меня выбора. Каким бы оно ни было, мне предстояло убедиться в нем своими глазами. А если мне это противно, зачем было стремиться в такое вот место? И я продолжал переставлять ноги к тому источнику света.
Вскоре лес как будто оборвался. Исчезли стены деревьев по обе стороны дороги. Я вдруг стоял на чем-то похожем на просторную росчисть. В конце концов из чащи мне выбраться все-таки удалось. Площадка была широкой и очертаниями своими напоминала аккуратный полумесяц. Наконец-то я увидел небо у себя над головой. Меня всего опять окутывал свет, напоминавший сумерки. Перед росчистью высился крутой обрыв, и в его стене зиял вход в пещеру. Тот желтый свет, какой я видел издали, проливался наружу из ее мрака.
За спиной осталось мрачное море деревьев, впереди – стена утеса, на которую взобраться почти невозможно, а передо мной – вход в пещеру. Еще раз взглянув на небо, я посмотрел по сторонам. Другой дороги я не увидел, поэтому не оставалось ничего другого – только войти в пещеру. Перед этим я несколько раз глубоко вдохнул и, насколько мог, собрался с мыслями. Чем дальше я захожу, тем больше связей – что-то подобное говорил мне человек без лица? Я проскальзываю в лазейку между бытием и небытием. Мне остается лишь верить ему на слово.
Я осторожно шагнул в пещеру. И сразу же понял: я уже бывал в ней. Мне были памятны ее очертания, я узнавал по запаху ее воздух. И тут меня осенило: это же ветренница возле Фудзи! В детстве, когда молодой дядя на летних каникулах повез нас с сестрой в горы, мы с Коми побывали в этой пещере. И Коми ускользнула от меня в тесный ход и долго оттуда не возвращалась. Пока ее не было, меня охватило беспокойство, что сестра исчезла, что ее навечно затянуло в мрачный лабиринт в глубинах земли.
Вечность – очень долгое время, – говорил человек без лица.
Я медленно продвигался по пещере туда, откуда лился желтый свет. Насколько мог тихо, бесшумно переставляя ноги и стараясь сдержать нараставшее биение в груди. Повернув за угол, я разглядел источник того света. Шахтерский ручной фонарь, старый, с черным железным ободом. Такие горняки в старину брали с собой в шахты. В нем горела толстая свеча, а сам фонарь висел на толстом гвозде, вбитом в скалу.
Я припоминал это слово – «ручной фонарь». Так называлась подпольная организация сопротивления нацистам, организованная венскими студентами. К ней предположительно примкнул Томохико Амада. Постепенно прочерчиваются связи между самыми разными вещами.
Под фонарем стояла женщина, хотя сперва я ее не заметил. Она была очень маленькая, ростом всего сантиметров шестьдесят. Ее черные волосы были аккуратно заплетены и уложены на голове, а сама она была в древней белой одежде. По виду – весьма изысканной. Женщина тоже была персонажем, сошедшим с картины «Убийство Командора»: та молодая красивая дама, которая, поднеся руку ко рту, испуганно наблюдала за происходящим. В опере Моцарта «Дон Жуан» она была Донной Анной, дочерью убитого Дон Жуаном командора.
В свете фонаря черная тень женщины подрагивала, отчетливо падая на скалу у нее за спиной.
– Я ждала вас, – произнесла миниатюрная Донна Анна.
55
Это явно противоречило принципам
– Я ждала вас, – сказала мне миниатюрная Донна Анна. Сама она была крохотной, а голос звучал внятно и легко.
К тому времени я перестал удивляться чему-либо. Наоборот – счел вполне нормальным, что она меня там дожидается. Лицо у нее было красивое, эдак естественно утонченное, а в голосе звучали благородные нотки. Несмотря на ее шестьдесят сантиметров, в женщине было нечто особенное – такое запросто могло пленять сердца мужчин.
– Я поведу вас дальше, – сказала она. – Не могли бы вы взять эту лампу?
Как и было велено, я снял с крючка на стене ручной фонарь. Кто его туда подвесил, я не знал, висел фонарь на не доступной для женщины высоте. Сверху у него было железное кольцо, за которое его и было удобно подвешивать на крюк или держать в руке при ходьбе.
– Вы ждали, пока я приду? – спросил я.
– Да, – ответила она. – Ждала здесь очень долго.
Она, видимо, тоже – разновидность метафоры? Но спросить ее об этом напрямую я постеснялся.
– Вы здесь живете?
– Живу ли я здесь? – переспросила она с недоумением на лице. – Нет. В здешней земле я просто дожидалась вас. Я не понимаю, что значит «здесь живете».
Я постеснялся задавать ей другие вопросы. Она – Донна Анна и здесь дожидалась моего прихода.
Она была укутана в такое же белое одеяние, что и Командор, вероятно – шелковое. Сверху несколько накидок одна поверх другой, снизу – нечто вроде просторных шальвар. Что у нее за фигура, со стороны не очень разберешь, но, похоже, тело – стройное и подтянутое. Обута она была в маленькие черные башмачки из какой-то кожи.
– Ну что, пойдемте, – сказала Донна Анна. – Времени у нас в обрез. Дорога с каждой минутой сужается. Следуйте за мной. И несите лампу.
Вытянув ручной фонарь у нее над головой, я шел следом и освещал ей дорогу. Быстро и привычно Донна Анна углублялась в пещеру. Пока мы шли, в фонаре подрагивало пламя свечи, и мелкие тени плясали на скальных стенах, точно живая мозаика.
– Эта пещера похожа на ветренницу у горы Фудзи, где я прежде бывал, – сказал я. – Это она?
– Все, что здесь есть, – на что-то похоже, – не оглядываясь, ответила Донна Анна, будто бы обращаясь к темноте перед собой.
– Выходит, все здесь не настоящее?
– Никто не знает, какое оно – настоящее, – ровно произнесла в ответ она. – Все, что мы видим перед глазами, в конечном счете – производное взаимосвязи. Свет, который здесь есть, – метафора тени; тень, которая здесь есть, – метафора света. Полагаю, вы это и так знаете…
Не могу утверждать, что я верно понял смысл ее слов, но с вопросами решил повременить. Любой из них мог привести к заковыристой философской дискуссии.
Чем дальше мы двигались вглубь, тем уже постепенно становилась пещера. Потолок опустился ниже, и мне пришлось идти, немного пригнувшись, – как и тогда, в ветреннице на Фудзи. Вскоре Донна Анна остановилась. Обернулась и посмотрела вверх прямо на меня своими маленькими черными глазами.
– Вести вас за собой я могла только до этого места. Отсюда вы должны впереди идти сами. Какое-то время я буду следовать за вами. Но тоже лишь до определенного рубежа. А дальше вы пойдете один.
Двигаться отсюда дальше? Я не ослышался? Куда ни кинь взгляд, мы пришли в темный тупик в скале – здесь пещера заканчивалась. Я посветил тщательнее, но вокруг везде были глухие стены.
– Похоже, дальше хода нет, – сказал я.
– Посмотрите получше. В левом углу должен быть боковой лаз, – произнесла Донна Анна.
Я еще раз осветил фонарем угол по левую руку. Подавшись немного вперед и внимательно приглядевшись вблизи, я различил впадину, скрытую за большим камнем и оттого казавшуюся темной тенью. Протиснувшись между камнем и стеной, я осмотрел ее – и там действительно оказался боковой лаз. Это место тоже походило на лаз в ветреннице Фудзи, куда надолго скрывалась Коми, – только этот был немного шире. Насколько мне помнилось, моя сестренка тогда забиралась в щель поменьше этой.
Я обернулся и посмотрел на Донну Анну.
– Вам нужно внутрь, – сказала мне женщина ростом шестьдесят сантиметров.
Я подыскивал слова для ответа, а сам смотрел на ее красивое лицо. В желтом свете ручного фонаря вытянутая тень женщины колыхалась на стене. Донна Анна сказала:
– Я знаю, что вы с детства очень боитесь темных и тесных мест, а если в такие попадаете – не можете нормально дышать. Я права? Но все равно вам необходимо туда попасть, иначе не добьетесь желаемого.
– А куда ведет этот лаз?
– Этого я не знаю. Куда идти, решите вы сами – ваша душа.
– Но моей душе страшно, – сказал я. – И это меня беспокоит: боюсь, как бы мой страх не пустил все по кривой куда-нибудь не туда.
– Придется повторить, но дорогу выбираете вы сами. А главное то, что ее вы уже определили. Вы явились в этот мир, принеся большую жертву. Переправились через реку. И обратного пути у вас нет.
Я еще раз окинул взглядом отверстие темного лаза. От одной мысли, что я сейчас протиснусь в тесный мрак, меня передернуло. Однако я должен решиться. Женщина права – обратного пути у меня нет. Я опустил на землю ручной фонарь, достал из кармана фонарик. Забраться в эту щель с большим фонарем не удастся.
– Верьте в себя, – тихо, но убедительно произнесла Донна Анна. – Вы же пили воду из той реки?
– Да, мне хотелось пить, и я не смог удержаться…
– И правильно сделали. Та река течет сквозь лазейку между бытием и небытием. В ней полно скрытых возможностей, которые способны проявить лишь тончайшие метафоры. Так же, как замечательный поэт способен в одном образе ярко раскрыть еще один, уже новый образ. Ясно, что наилучшая метафора станет наилучшим стихом. И вам нужно не спускать глаз с другого нового образа.
Я подумал: «Убийство Командора» Томохико Амады, возможно, и было этим «другим новым образом». Та картина, примерно так же, как это делают стихи замечательных поэтов, став наилучшей метафорой, создала в нашем мире еще одну, уже новую реальность.
Я включил фонарик – свет пока что не подрагивал. Значит, заряда батареек на какое-то время хватит. Сняв кожаную куртку, я решил ее оставить здесь – она слишком толстая для такого тесного хода. Джемпера и джинсов мне должно хватить – в пещере было ни холодно, ни жарко.
Собравшись с духом, я нагнулся и почти на четвереньках протиснулся в лаз. Стенки его были из скальной породы, но за долгое время потоки воды отполировали камень, и все поверхности стали очень гладкими и скользкими. Видимо, ход этот некогда служил водопроводом. В лазе почти ничего не выступало, и, при всей тесноте, пробираться вперед оказалось не так трудно, как я предполагал. А когда дотрагивался до стенки ладонью, скала на ощупь была прохладна и сыровата. Подсвечивая фонариком, я, будто насекомое, продвигался вперед.
Высота прохода была сантиметров шестьдесят или семьдесят, в ширину – чуть меньше метра. Двигаться вперед можно было только ползком. Местами то расширяясь, то сужаясь, эта природная темная труба длилась, как мне казалось, до бесконечности. Иногда лаз поворачивал вбок, то поднимался, то опять спускался. Однако, к счастью, больших перепадов высоты не возникало. …Но если лаз этот действительно был водопроводом, в него в любой миг могла стремительно хлынуть вода. Эта мысль пришла мне в голову случайно. Стоило только представить, что я могу утонуть в тесном мраке, как от страха у меня свело все конечности.
Мне захотелось обратно, однако развернуться в этой тесноте было уже невозможно. Мне показалось, что лаз незаметно становится у́же. А преодолеть то расстояние, что я уже прополз, задним ходом у меня тоже вряд ли получится. Меня окутал страх – так, что буквально пригвоздило к этому месту. Я не мог двинуться вперед – и не мог вернуться. Все клетки моего тела задыхались, требуя свежего воздуха. Я был беспредельно одинок и беспомощен, лишен всякого света.
– Так и ползите вперед, не останавливаясь, – твердо произнесла где-то у меня за спиной Донна Анна. Что это – слуховая галлюцинация? Или она действительно обращается ко мне сзади? Понять этого я не мог.
– Мне все тело сковало, – насилу выдавил я, обращаясь к той, кто должна быть позади. – Дышать нечем.
– Соберитесь с духом, – велела мне Донна Анна. – Не то душа уйдет в пятки. Не привяжете ее к чему-то одному – попадетесь двойной метафоре.
– Что такое двойная метафора? – спросил я.
– Это вы уже сами должны знать.
– Откуда?
– Потому что она у вас внутри, – ответила Донна Анна. – Сидя там, выхватывает правильные для вас мысли и одну за другой их пожирает, а от этого тучнеет и толстеет. Это и есть двойная метафора – она давно прижилась в глубоких потемках вашего нутра.
Я интуитивно догадался: Мужчина с белым «субару форестером». Мне этой мысли о нем в себе очень не хотелось, но не подумать так я не мог. Наверняка именно он заставил меня душить ту женщину – и вынудил заглянуть в мрачный омут моей собственной души. Это он, появляясь везде на моем пути, напоминал мне о существовании того мрака. Наверняка так оно и есть. Он как будто говорил мне: «Я точно знаю, где и что ты делал». Разумеется, он знает все – ведь он существует во мне самом.
Душа моя витала в мрачных потемках. Закрыв глаза, я попытался привязать ее к чему-то одному. Я стиснул зубы: знать бы еще, как это сделать… Привязать душу к чему-то одному? И где она, та душа? Я обыскал все свое тело по порядку, но души в нем так и не нашел. Душа моя – ты где?
– Душа – она в памяти; живет, питаясь образами, – произнес женский голос. Но говорила со мной не Донна Анны. То был голос Коми – моей младшей сестры, что умерла в двенадцать лет. – Ищи у себя в памяти, – произнес этот милый моему сердцу голос. – Что-то конкретное ищи. Такое, что можно потрогать руками.
– Коми? – воскликнул я.
Никто не ответил.
– Коми, ты где? – спросил я.
По-прежнему тишина.
Во тьме я рылся в своей памяти. Так шарят руками в старой просторной монашеской суме. Однако память моя, похоже, опустела. Теперь я не мог даже вспомнить, какая она – эта память.
– Погаси свет, прислушайся к шороху ветра, – сказала Коми.
Я выключил фонарик и, следуя ее совету, прислушался к шороху ветра. Но ничего не услышал. С трудом сумел я расслышать лишь биение собственного сердца. Билось оно растерянно, словно москитная сетка на сильном ветру.
– Прислушайся к шороху ветра, – повторила Коми.
Я затаил дыхание, собрал нервы в кулак и снова напряг слух. И теперь, кажется, уловил слабый посвист воздуха – он то усиливался, то ослабевал. Похоже, где-то вдалеке и впрямь дует ветер. Затем я ощутил на лице колебание воздуха – пусть даже едва уловимое. Судя по всему, воздухом задувало откуда-то спереди, и воздух этот нес в себе запах. Несомненный запах – сырой земли. С тех пор, как я ступил во владения метафор, то был по-настоящему первый запах. Этот боковой был лаз с чем-то связан – он вел в такое место, где существуют запахи. То есть – в реальный мир.
– Ну же, пошевеливайтесь, – произнесла Донна Анна. – У нас мало времени.
Не включая фонарик, я пополз дальше в кромешной тьме. Продвигаясь вперед, я старался хоть немного вдыхать задувавший откуда-то истинный воздух.
– Коми? – позвал я еще раз.
Мне по-прежнему никто не ответил.
Я усердно рылся в своем мешке памяти. В ту пору мы с Коми держали кошку – звали ее Какашка, и почему мы ее так назвали, я не помнил[8]. По пути из школы Коми подобрала брошенного котенка и вырастила его. Но однажды кошка пропала. Мы целыми днями искали ее по всей округе. Кому только не показывали ее фотографию, но Какашка так и не нашлась.
Вспоминая ту черную кошку, я полз дальше по тесному лазу. Старался думать, будто забрался в него, ища черную кошку. Старался разглядеть ее перед собой во мраке. Старался расслышать мяуканье потерявшейся кошки Какашки. Черная кошка ведь и есть то определенное, что можно потрогать руками. Я сумел живо вызвать у себя в памяти прикосновение к ее шерсти, тепло ее тела, твердость подушечек на лапах, ее мурлыканье.
– Да, так хорошо, – произнесла Коми. – Продолжай в том же духе.
«Я точно знаю, где и что ты делал», – неожиданно обратился ко мне мужчина с белым «субару форестером». Он был в черной кожаной куртке и кепке для гольфа «Yonex». Голос у него охрип от соленого ветра. От неожиданности я вздрогнул и даже испугался.
Я упорно старался и дальше думать о черной кошке, пытался вдыхать приносимый ветром еле различимый запах земли. Мне казалось – я припоминаю этот запах. Где-то совсем недавно я им дышал. Но где это было, вспомнить, как ни силился, так и не смог. Где же я мог его вдыхать? Пока я старался, но не мог вспомнить этого, память моя опять начинала скудеть.
«Придуши меня этим», – попросила женщина, и между зубов у нее показался розовый кончик языка. Под подушкой лежал приготовленный пояс от банного халата. Ее черные волосы на лобке влажно лоснились, точно намокшая от дождя трава.
– Постарайся вспомнить, что тебе дорого, – произнесла Коми с напряжением в голосе. – Давай скорее!
Я попробовал было опять подумать о черной кошке, но припомнить облик Какашки больше не смог. Она почему-то никак не всплывала передо мной. Возможно, пока я ненадолго отвлекся на что-то другое, ее образ поглотили темные силы. Нужно немедля вызволить из памяти что-нибудь еще. Возникло неприятное ощущение, будто в темноте лаз медленно, но верно сужается. Может, он живой и двигается? Донна Анна говорила, что «времени у нас в обрез». Под мышками у меня холодно повлажнело от пота.
– Ну вспомни же хоть что-нибудь, – произнес голос Коми у меня из-за спины. – До чего можно дотронуться. Что можно быстро нарисовать.
Я, как тот утопающий, что хватается за буек, вспомнил о «пежо-205». Вспомнил свою старую маленькую французскую машину, за рулем которой проехал от Тохоку до Хоккайдо. Та поездка казалась мне теперь событием древней истории, однако грубый рокот четырехцилиндрового мотора до сих пор звучал в ушах. Я не мог забыть то ощущение, как сцеплялись шестеренки, когда я переключался со второй передачи на третью. Полтора месяца эта машина была моим напарником, моим единственным товарищем. И закончила свою жизнь на свалке.
Но даже при этом лаз, вне всяких сомнений, продолжал сужаться. Теперь даже ползком я задевал головой потолок. И тогда я решил включить фонарик.
– Свет не зажигайте! – скомандовала мне Донна Анна.
– Но я ничего не вижу.
– Смотреть нельзя, – сказала она. – Смотреть глазами нельзя.
– Но здесь же становится теснее. Еще немного – и я застряну тут и не смогу двигаться дальше.
Мне никто не ответил.
– Все. Дальше некуда, – сказал я. – Как мне быть?
По-прежнему никто не отвечал.
Я больше не слышал ни голоса Донна Анны, ни голоса Коми. Похоже, их просто не стало. Вокруг была только глубокая тишина.
Лаз продолжал сужаться, и ползти дальше вперед становилось невозможно. Меня охватила паника. Конечности перестали слушаться, будто меня парализовало. Дышать – и то стало тяжко. Ты застрял в этом гробике, – нашептывал голос у меня над ухом. – Ты погребен здесь навечно, не в состоянии ни пробираться дальше, ни вернуться. В этом темном и тесном месте, куда никто не доберется, где все о тебе позабыли.
И тут мне показалось, будто сзади что-то шевелится. Нечто плоское ползло во мраке, приближаясь ко мне. Не Донна Анна и не Коми – даже не человек. Я услышал шорох множества ног и почувствовал неровное дыхание. Подобравшись ко мне вплотную, существо остановилось. Миновало несколько минут тишины. Похоже, существо, затаив дыхание, выжидало. Затем что-то холодное и скользкое коснулось моей оголившейся лодыжки – вроде бы кончик длинного щупальца. По спине наверх пополз бесформенный страх.
Это и есть Двойная Метафора? Та, что живет в моем внутреннем мраке?
Я точно знаю, где и что ты делал.
Больше я ничего не мог припомнить. Куда-то пропало все: и черная кошка, и «пежо-205», и Командор. Вся моя память вновь стала чистым листом.
…Ни о чем не думая, я неистово проталкивал тело вперед, чтобы ускользнуть от тех щупалец. Лаз стал еще теснее, и я почти не мог в нем шевельнуться. Я стараюсь протиснуться в щель у́же собственного тела. Но разве такое возможно? Это же явно противоречило законам физики и было просто невозможно.
Однако я все равно втискивался все глубже. Как говорила Донна Анна, свой путь я уже выбрал, и поменять тропу уже невозможно. Ради этого Командору пришлось умереть – я зарезал его вот этой самой рукой. Его крохотное тело утонуло в луже крови. Нельзя, чтобы все закончилось его напрасной смертью. …А тем временем сзади существо с холодными щупальцами пыталось обхватить меня ими.
Собрав всю силу воли в кулак, я полз вперед. Джемпер мой зацепился за что-то в скале, порвался, и теперь за мною тянулись распускающиеся нитки. Я расслаблял суставы и, как циркач, который освобождается от уз, неуклюже полз сквозь узкий лаз. Продвигался вперед я не быстрее гусеницы. Мое тело было зажато в жуткой тесноте этого лаза, словно в гигантских тисках. От напряжения у меня ныли все кости и мышцы. А тут еще лодыжку обхватило непонятное щупальце – и вскоре несомненно в кромешной тьме обовьет меня всего. И я не просто не смогу больше двигаться – я перестану быть самим собой.
Отбросив все рассуждения, я изо всех сил ввинчивал себя в лаз, который становился все ýже. Все тело стонало от мучительной боли, но необходимо было продвигаться вперед. Пусть бы мне даже пришлось искрошить все свои суставы в труху и как бы мне при этом ни было больно. Все, что здесь есть, – производное взаимосвязи, и безотносительного нет ничего. Ведь даже боль – метафора чего-нибудь. И щупальца – тоже какая-нибудь метафора. Все соотнесено с чем-то еще. Свет есть тень, а тень есть свет. Остается только этому верить. Что еще мне оставалось делать?
Узкий лаз закончился неожиданно. Мое тело швырнуло в никуда, будто из сливной трубы напором воды выдавило застрявший пучок травы. Уже не в силах позволить себе догадаться, что бы это все значило, совершенно беспомощно я падал – полагаю, метров с двух, не меньше. Падая, я успел напрячься, втянуть шею и сгруппироваться, чтобы не удариться головой. Но, к счастью, рухнул я не на голые скалы – земля оказалась более-менее мягкой. Все произошло почти мгновенно, как при броске в дзюдо. Я сильно ушиб плечи и поясницу, но боли почти не почувствовал.
Все вокруг окутывал мрак. Фонарик мой потерялся – вероятно, выскользнул из руки при падении. Теперь я просто стоял в темноте на четвереньках. Не видно ни зги, в голове ни единой мысли. В таком состоянии я с трудом воспринял даже боль, что постепенно усиливалась во всех уголках моего тела – это жаловались разом все кости и мышцы, которые я не щадил, пробираясь через лаз.
Наконец-то пришло осознание: точно! Я сумел преодолеть тот узкий боковой лаз. На лодыжке еще свежо было воспоминание от прикосновений того зловещего щупальца. Чем бы ни была эта тварь, я благодарил судьбу, что сумел от нее ускользнуть.
Ну и… где же я теперь?
Ветра здесь не было. А вот запах ощущался. Тот, который я слегка уловил в порыве ветерка, залетевшем в лаз, – теперь этот запах обволакивал меня со всех сторон. Но я пока не мог вспомнить, что же может так пахнуть? И еще здесь было очень тихо – не доносилось и не раздавалось ни единого звука.
Что бы ни случилось, необходимо нащупать фонарик. Я тщательно зашарил вокруг себя, не поднимаясь с четверенек и понемногу расширяя диаметр поисков. Земля показалась мне чуть влажной. Я опасался прикоснуться в кромешной тьме к чему-нибудь неприятному, но там не оказалось даже ни единого мелкого камушка. Только очень ровная земля – будто участок этот расчистили специально.
Фонарик валялся примерно в метре от того места, куда я упал, и я наконец-то его нащупал. Тот миг, когда он вновь очутился у меня в руке, я могу, пожалуй, назвать одним из самых радостных событий в моей жизни.
Прежде чем включить свет, я закрыл глаза и несколько раз глубоко перевел дух – так, словно не торопясь развязывал запутавшийся узел. Наконец-то дыхание успокоилось, пульс пришел в норму, вернулось прежнее ощущение к мышцам. Я еще раз глубоко вдохнул, выдохнул – и включил фонарик. В глубь темноты пролился желтый свет – однако некоторое время я ничего не видел. Слишком привыкли к полной темноте у меня глаза, и от света теперь разболелась голова.
Прикрыв глаза рукой, я подождал, затем приоткрыл их и, щурясь, сквозь щель между пальцами осмотрелся. Судя по всему, я находился в каком-то округлом помещении. Не очень-то и просторным было это место, вокруг меня – каменная стена, творение человеческих рук. Я посветил над головой – там виднелся потолок. …Нет, не потолок. Нечто напоминающее крышку. Свет сюда ниоткуда не проникал.
И тут меня осенило: это же склеп за кумирней в зарослях! Преодолев боковой лаз из пещеры, где меня ждала Донна Анна, я упал на дно каменной комнаты. Настоящего склепа в реальном мире. Почему – не знаю. Во всяком случае, так вышло. Я, можно сказать, вернулся к исходной точке. Однако почему внутрь не проникает ни единой полоски света? Склеп был закрыт несколькими толстыми досками. Между ними должны оставаться щели, пусть и узкие, а сквозь них должны проникать полоски света. Почему же мрак настолько идеален?
Я растерялся.
Однако, во всяком случае, вряд ли можно теперь сомневаться в том, что я нахожусь на дне каменной комнаты, вскрытой нами за кумирней. Склеп и раньше выдавался запахом, почему же я так долго не мог его вспомнить? Я медленно и осмотрительно водил вокруг себя лучом фонарика. Металлической лестницы, по идее, приставленной к стенке, на месте не оказалось. Похоже, кто-то опять ее вытащил и куда-то унес. Выходит, я заперт на дне этого склепа и выбраться сам из него не смогу.
И к собственному удивлению – пожалуй, это и впрямь было удивительно, – сколько б я ни искал, на той каменной стенке я так и не обнаружил ничего похожего на вход в узкий боковой лаз. Я же выпал из него на пол этого склепа – совсем как родившийся в пустоту младенец. А никакого отверстия нигде не видно, будто лаз вытолкнул меня наружу и тут же плотно закрылся.
Фонарик вскоре высветил на земле нечто. Очень знакомое. То была древняя погремушка, какой звенел на дне этого склепа Командор. Услышав посреди ночи звон бубенца, я и узнал об этом склепе в зарослях. С погремушки все и началось. Потом я положил ее на полку в мастерской. Но погремушка оттуда пропала – я и не заметил, как. Теперь я взял ее в руку и внимательно разглядел при свете фонарика. У нее была истертая временем деревянная ручка. Сомнений не оставалось – та же самая погремушка.
Я долго и пристально разглядывал ее, так ничего и не понимая. Выходит, кто-то ее сюда принес? Нет, возможно, погремушка вернулась сюда сама. Командор же говорил, что она – «от того места». Что бы это значило? Но голова моя слишком устала, чтобы рассуждать о принципах, согласно каким тут все устроено. У меня не нашлось ни единого логического довода, на какой можно было бы опереться.
Я присел на землю, оперся о каменную стену и выключил фонарик. Прежде всего необходимо обдумать, как быть дальше – и как выбраться из этого склепа. Чтобы думать, свет не требуется. К тому же батарейки необходимо экономить как можно дольше.
Ну, что? Как мне быть?
56
Похоже, нужно заполнить несколько пробелов
Я много чего не понимал. Но главное – меня беспокоило, почему в склеп не проникает ни единой полоски света. Наверняка кто-то закрыл склеп чем-то плотным. Но кому и зачем это понадобилось?
Лишь бы этот кто-то, кем бы он ни был, не навалил поверх крышки гору тяжелых огромных камней, воссоздав тем самым прежний курган и преградив доступ к склепу. Если это так, мой шанс выбраться из мрака близок к нулю.
Вдруг мне пришла в голову мысль – я включил фонарь и посмотрел на часы. Стрелки показывали четыре тридцать две. Минутная стрелка, как и полагается, чеканила шаг, равняясь по часовой. Похоже, время не стоит на месте. Как минимум здесь мир, где время существует и систематически движется в определенную сторону.
Но что такое время? – спросил я у себя. Для удобства мы отмеряем течение времени стрелками часов. Но так вообще уместно? Что, время и в самом деле так уж систематически движется в определенную сторону? Может, мы все глубоко заблуждаемся по этому поводу?
Я выключил фонарь и тяжко вздохнул в повторно нагрянувшем мраке. Хватит думать о времени. Хватит думать о пространстве. Мысли об этом ни к чему не приводят. Они только напрасно мотают нервы. Нужно задуматься о чем-нибудь конкретном – о том, что видно и можно потрогать.
Поэтому я думал о Юдзу. Она из тех, кого можно увидеть и к кому можно прикоснуться (конечно, если выпадет такой случай). И сейчас она беременна. В январе родит ребенка, пусть даже его отец и не я, а кто-то другой. Где-то вдали отсюда одно за другим происходят не причастные ко мне события. И в этот мир собирается прийти новая, не причастная ко мне жизнь. При этом Юдзу от меня ничего не нужно. Тогда мне вообще непонятно, почему она не выходит замуж за того мужчину? Если, предположим, она собирается стать матерью-одиночкой, ей наверняка придется уйти из своей нынешней архитектурной конторы. Это скромное частное заведение, там не смогут предоставить ей долгий декретный отпуск.
Но ответа, который бы меня устроил, я так и не нашел, сколько ни размышлял. К тому же во мраке я просто попал впросак, и мрак этот лишь усиливал мою беспомощность.
Если удастся выбраться из склепа, будь что будет – непременно увижусь с Юдзу. Тем, что она завела любовника и ни с того ни с сего оставила меня, она, разумеется, задела меня за живое, и я даже был на нее зол (хотя потребовалось немало времени, прежде чем в этом я себе признался). Но это не значит, что я так и буду с этим жить дальше. Встречусь с нею – и обо всем поговорим: о чем она теперь думает, к чему стремится, мне нужно выяснить у нее самой. Пока еще не поздно… Так я решил для себя. И как только я принял это решение, мне отчасти стало легче. Хочет, чтобы мы оставались друзьями, – пусть. Ничего невозможного в этом нет. Выбраться бы только на поверхность – а дальше разберемся.
После этого я уснул. Без кожаной куртки, которую я оставил перед входом в боковой лаз (интересно, какая судьба ее ждет?), мне со временем стало зябко. На мне была лишь футболка под тонким джемпером, который изрядно обтрепался, пока я полз через узкий лаз. Но вот я вернулся из мира метафор обратно в мир реальный, иными словами – туда, где есть привычные время и температура. Несмотря на зябкость, сонливость побеждала. Я устроился на земляном полу, оперся спиной о твердую каменную стену и незаметно для себя уснул. Совершенно невинным сном – без обманов и сновидений. Как испанское золото, что покоится на дне глубокого моря у берегов Ирландии, недосягаемо ни для кого.
Проснулся я все в том же мраке: даже поднесенный к носу палец не разглядеть. Из-за полной темноты было трудно выявить грань между сном и явью. Я не мог понять, где начинается мир сна, а где явь, и на чьей стороне теперь я сам – или же на чьей стороне меня нет. Как будто, вытащив откуда-то мешочек с памятью, вспоминал одно за другим разные события, будто считаю золотые монеты: черную кошку, которую мы с сестрой у себя держали, «пежо-205», белый особняк Мэнсики, пластинку «Кавалер розы», фигурку пингвина. Все это я смог вспомнить по отдельности и очень отчетливо. Мою душу пока не поедает двойная метафора. Просто я, очутившись в глубоком мраке, с трудом провожу грань между сном и явью.
Включив фонарик, я прикрыл одной рукой его линзу, но света меж пальцами хватило, чтобы посмотреть на часы. Восемнадцать минут второго. Когда я проверял в прошлый раз, стрелки показывали четыре тридцать две. Выходит, в этой неудобной позе я проспал целых девять часов? Верится с трудом. Если все так и есть, тело бы ныло куда сильнее. Куда более логичным мне казалось, что время вернулось на три часа. Но что произошло с ним на самом деле, я не знал. Возможно, из-за того, что я в таком плотном мраке, мое ощущение времени утратилось полностью.
Во всяком случае, холод пробирал меня пуще прежнего. К тому же мне захотелось по малой нужде – так, что невмоготу. Делать нечего, я отошел в угол и помочился на землю. Облегчался долго, однако моча сразу впиталась в почву. Слегка повеяло аммиаком, но этот запашок быстро улетучился. Как только я устранил эту нужду, ее пространство сразу заполнила другая – голод. Мое тело неспешно, но верно продолжало приспосабливаться к реальному миру. Действие воды, которую я пил в метафорической реке, постепенно сходило на нет.
Я опять остро почувствовал: нужно поскорее отсюда выбираться. Если это не удастся, вскоре я умру на дне этого склепа от голода. Живой человек не может поддерживать жизнь без воды и питания, и в этом – главное правило нашего реального мира. А здесь нет ни воды, ни пищи. Есть только воздух: крышка задвинута плотно, но я ощущал, что откуда-то пусть незначительно, но воздух все же проникает. Воздух, любовь, идеалы тоже, конечно, очень важны, но одними ими не проживешь.
Тогда я встал на ноги и попробовал взобраться по гладкой каменной стене. Но, как и предполагал, лишь понапрасну потратил силы. Высота склепа не доходила до трех метров, но лазать по отвесным стенам без каких-либо выступов человеку без специальных навыков просто невозможно. Пусть бы даже я каким-то образом взобрался – склеп закрыт крышкой. Чтобы ее сдвинуть, нужно суметь за нее ухватиться – либо нужен упор для ног.
Смирившись, я опять уселся на пол. Мне оставалось лишь одно. Звенеть погремушкой, как это делал Командор. Но между мной и ним есть одна большая разница: Командор – идея, я – живой человек. Идея не чувствует голода, оставаясь без еды, я же ощущал его очень остро. Идея не умрет от голода, а мне это сделать будет сравнительно просто. Командор может без устали звонить в погремушку хоть сто лет – у него нет ощущения времени; я же смогу звонить без воды и еды от силы дня три или четыре. После у меня не останется даже сил держать эту легкую погремушку в руках.
Но при всем при этом я все же начал ею трясти. Ничего другого мне не оставалось. Конечно, еще я могу звать на помощь, пока не сядет голос. Однако вокруг склепа – запущенные заросли, и в них – частное владение семьи Амада – никто не сунется без веской причины. Вдобавок и вход в этот склеп теперь чем-то плотно закрыт. Ори что есть мочи – все равно никто не услышит. Только охрипнешь, и жажда станет сильнее. А раз так, то звенеть погремушкой куда разумнее.
К тому же тон у нее, похоже, необычный – наверняка она звучит как-то особенно. С точки зрения физики звук-то совсем негромкий, однако я, лежа вдали от склепа на кровати, отчетливо слышал этот звук посреди ночи. И на то время, пока погремушка звенела, надоедливые осенние насекомые прекращали свой стрекот. Будто это им строго-настрого запрещали.
Поэтому я, опершись на каменную стену, продолжал звенеть погремушкой. Тряс ею я безучастно, легко водя запястьем влево-вправо. Временами делал паузы, отдыхал и принимался трясти дальше. Точь-в-точь как это прежде делал Командор. Опустошить себе ум было совсем несложно. Пока я прислушивался к звону погремушки, настроение о чем-либо думать пропало само по себе. Звук ее при свете дня и в кромешной темноте воспринимался совсем иначе. Вполне вероятно, что так оно и есть на самом деле. И пока я звенел погремушкой, оставаясь замурованным в глубоком безвылазном мраке, я не чувствовал страха и ни о чем не тревожился. Я даже забыл про холод и голод – и больше не видел надобности в поиске логических связей. Нечего и говорить, это лишь пошло мне на пользу.
Устав звенеть, я задремал, прислонившись к каменной стене. Каждый раз, открывая глаза, я зажигал свет и смотрел на часы. И с каждым разом убеждался: часы показывают время наобум, а это полный вздор. Конечно, может, вздор – не часы, а я сам. Пожалуй, так оно и есть. Хотя какая теперь разница? В темноте, покачивая запястьем, я безучастно звенел погремушкой, когда уставал – погружался в глубокий сон, а распахнув глаза – опять звенел. И так до бесконечности. В бесконечных повторах сознание мое постепенно ослабевало.
На дно склепа не доходили никакие звуки. Ни пение птиц, ни шум ветра. Почему? Почему ничего не слышно? Здесь должен быть реальный мир. Мир, где чувствуешь голод и где хочется пи́сать. Ведь я же в него вернулся? Реальный мир должен быть полон самых разных звуков.
Как долго длилось мое заточение, я не имел понятия. Постепенно я совсем перестал смотреть на часы. Сдается мне, нам со временем не удалось найти никаких точек соприкосновения. Но часы и минуты – еще куда ни шло, счет датам и дням я потерял вовсе, ведь там не было ни дня, ни ночи. В кромешной темноте я перестал понимать, где моя собственная плоть. Похоже, я перестал находить точки соприкосновения не только со временем, но и с самим собой и не мог понять, что это могло бы значить. Даже не так. У меня пропало само желание попытаться это понять. Ничего тут не поделаешь. Я лишь продолжал звенеть погремушкой, пока запястье у меня окончательно не онемело и не потеряло чувствительность.
После того, как миновала целая вечность (или же время нескончаемо накатывалось и откатывалось, словно прибрежные волны), когда голод стал уже нестерпим, сверху наконец-то послышались какие-то звуки. Будто кто-то собирается, приподняв, отодрать край этого мира. Но звуки эти отнюдь не казались мне настоящими – я понимал, что сделать это никому не под силу. Если, скажем, оторвать слой реального мира – что дальше? Настанет новый мир? Или же просто подступит бескрайнее ничто? Но и это мне все равно. Что бы я ни выбрал, пожалуй, все – одно и то же.
Прикрыв веки в темноте, я ждал, когда закончат отслаивать мир. Но тот все не отслаивался – лишь звуки наверху постепенно становились громче. Похоже, звуки это все-таки настоящие. Они производятся физическим действием, когда некий реальный предмет испытывает на себе некое воздействие. Я решительно открыл глаза и посмотрел наверх. И направил свет фонарика в потолок. Что там происходит, я не знаю, но кто-то наверху чем-то сильно шумит. И шум этот резал мне слух.
Звук стремится мне навредить – или, наоборот, пойдет мне на пользу? Пока непонятно. Как бы там ни было, мне остается и дальше сидеть на дне склепа и, звеня погремушкой, наблюдать, что будет. Вскоре сквозь щель между толстыми досками, лежавшими вместо крышки, пробился луч света – плоской и длинной полосой. Как острый широкий нож разрезает желе, он разделил поперек темноту и вмиг достиг дна. Кончик этого лезвия уперся аккурат в мою лодыжку. Я положил погремушку на землю и, чтоб не заболели глаза, прикрыл лицо руками.
Затем одна доска сдвинулась совсем, и ко дну устремилось еще больше света. Закрыв глаза, я прижал к ним ладони, но все равно ощутил, что темнота перед моими глазами сменилась ярким светом. Вслед за которым сверху медленно осел свежий бодрящий воздух. В нем ощущался морозец начала зимы – такой милый сердцу запах. В памяти у меня воскресло ощущение утра – первого утра, когда я повязывал на шею шарф. Прикосновение мягкой шерсти.
Кто-то наверху назвал мое имя. Наверняка это было моим именем. Я наконец-то вспомнил, что у меня есть имя. Если задуматься, я слишком долго пробыл в мире, где имя не имело смысла.
Потребовалось время, чтобы догадаться: чей-то голос принадлежал Ватару Мэнсики. В ответ я громко закричал. Но не словами – то был бессмысленный, но громкий возглас, просто извещавший, что я еще жив. Я не был уверен, сможет ли он сотрясти окружавший меня воздух. Но голос донесся и до моих ушей, как странный грубый вой самца воображаемого зверя.
– Вы там в порядке? – крикнул мне Мэнсики.
– Мэнсики-сан?
– Он самый, – донесся ответ. – Вы целы?
– Думаю, да, – ответил я и добавил: – Вероятно. – Голос у меня наконец-то успокоился.
– Как долго вы там сидите?
– Не знаю. Когда очнулся, был уже здесь.
– Если я опущу лестницу, сами подняться сможете?
– Пожалуй, смогу, – ответил я. Вероятно.
– Тогда подождите немного. Сейчас спущу вам лестницу.
Пока он нес лестницу, мои глаза понемногу привыкали к свету. Открыть их полностью я пока что не мог, но и закрывать лицо руками больше не требовалось. Благо свет не был очень ярким. Вне сомнения, стоял день, но небо затянуто облаками. А может, дело к вечеру. Вскоре послышался лязг опускаемой лестницы.
– Погодите немного, – сказал я. – Глаза еще не привыкли к свету. Боюсь повредить.
– Разумеется. Не спешите, – сказал Мэнсики.
– Не знаете, почему здесь было так темно? Сюда не проникало ни лучика света.
– Это я пару дней назад плотно затянул сверху крышку полиэтиленовым тентом. Я обнаружил следы – будто кто-то двигал доски, – и сделал так, чтобы в склеп стало непросто забраться. Привез из дому тент из плотного полиэтилена, вбил в землю железные колышки и закрепил его веревками. Это же опасно, если чей-нибудь ребенок по невнимательности упадет вниз. Конечно же, проверил, что внизу никого нет. Склеп, я уверен, был пустым.
Вот оно что! – подумал я. Мэнсики натянул на крышку тент. Поэтому на дне стало так темно. Теперь понятно.
– Других следов потом не было, значит, полиэтилен не снимали, – сказал Мэнсики. – Как я натянул, так все и оставалось. Как же вы там оказались? Ничего не понимаю.
– Я и сам не понимаю, – ответил я. – Когда пришел в себя – уже был здесь.
А что я мог объяснить ему еще? Да и объяснять-то ничего особо не хотелось.
– Может, мне спуститься к вам? – предложил Мэнсики.
– Нет, оставайтесь там. Я поднимусь сам.
Вскоре я смог слегка приоткрыть глаза. Перед ними еще кружился хоровод загадочных фигур, но мозги у меня уже работали. Убедившись в том, где стоит лестница, я собрался шагнуть на первую ступеньку, но сил наступить на нее в себе не нашел, будто это уже не мои ноги. Поэтому я поднимался очень осторожно, очень медленно, ощупывая каждую ступеньку. Чем ближе оказывался я с каждым таким шагом к поверхности земли, тем свежее становился воздух. Теперь и до моих ушей доносился птичий щебет. Стоило мне опереться рукой о кромку склепа, как Мэнсики взял меня за запястье и вытянул на поверхность совсем. Он был куда сильнее, чем я предполагал. В нем чувствовалась такая сила, на которую можно было положиться, и я был этой силе от всего сердца благодарен. Выбравшись из ямы, я тут же рухнул навзничь. Небо над головой, как я и предполагал, затягивали пепельные облака. Который час, я не знал. Было ощущение, что на щеки и лоб мне опускаются маленькие твердые капли, и я неспешно наслаждался их неравномерными касаньями. Раньше я совсем не замечал, какую радость может принести обычный дождь. Насколько полно в нем жизненной энергии, пусть даже это и холодный дождь в начале зимы.
– Я сильно проголодался. К тому же хочется пить. И очень зябко. Будто все тело обледенело, – произнес я. Больше я ничего не сумел выговорить – зубы мои стучали от холода.
Приобняв меня за плечи, Мэнсики повел меня через заросли, а я все никак не мог подстроиться под его шаг. Поэтому выглядело так, будто он тащил меня на себе. Он действительно был очень силен – не зря же каждый день занимался на тренажерах.
– Ключи от дома у вас с собой? – спросил он.
– Справа от двери есть горшок. Ключ под ним. Вероятно. – Слово вероятно было необходимо. В этом мире нет ничего, о чем можно утверждать с уверенностью. Я по-прежнему дрожал от холода, зубы стучали так, что я сам едва разбирал, что говорю.
– Хорошая новость в том, что госпожа Мариэ сегодня после полудня благополучно вернулась домой, – произнес Мэнсики. – Так славно. У меня прямо гора с плеч свалилась. Госпожа Сёко Акигава сообщила это мне примерно час тому назад. Она названивала и вам, но вы не брали трубку. Мне стало неспокойно, вот я и приехал сюда. А тут услышал из зарослей звон погремушки. Подумал, мало ли что может быть, – и на всякий случай снял крышку.
Миновав заросли, мы вышли на пустырь. «ягуар» Мэнсики, как обычно, стоял у меня перед домом. И все так же – без единого пятнышка на серебристом кузове.
– Почему машина у вас всегда такая красивая? – спросил я. Вопрос был, возможно, не самый подходящий для такой ситуации, но мне давно хотелось задать его Мэнсики.
– Ну, не знаю, – ответил тот, не особо удивившись. – Когда мне заняться особо нечем, я драю машину. Сам. Целиком, до последнего уголка. А раз в неделю приезжают специалисты и натирают кузов. Ну и я держу ее в гараже, она не мокнет под дождем. Только и всего.
Только и всего, подумал я. Услышала бы это моя «королла»-универсал, с полгода мокнущая под дождем, – наверняка просела бы на переднее колесо. А может, и заводиться, того и гляди, перестала бы.
Мэнсики достал из-под горшка ключ и отпер входную дверь.
– Кстати, какой сегодня день недели? – спросил я.
– Сегодня? Вторник.
– Вторник? Это точно?
Мэнсики на всякий случай напряг память.
– Вчера был понедельник – я сдавал в утиль банки и бутылки. Значит, сегодня вторник. Точно.
Я был в палате у Томохико Амады в субботу. Выходит, прошло три дня. Я бы нисколько не удивился, окажись, что прошло три недели, три месяца или даже три года. Но прошло всего три дня. Так, с этим разобрались. Я провел ладонью по подбородку, но трехдневной щетины не обнаружил. Подбородок мой оставался на удивление гладким. Интересно, почему?
Мэнсики отвел меня прямиком в ванную, там велел принять горячий душ и переодеться. Снятая одежда была вся в грязи и дырках. Я собрал ее и все выбросил в мусорку. В разных местах на теле отыскались царапины и ссадины, какие-то места оказались натерты докрасна, но никаких ран, травм или увечий я не обнаружил. Как минимум не было следов крови.
Затем Мэнсики отвел меня в столовую, усадил на табурет из кухонного гарнитура и размеренно, понемногу напоил. Я неспешно опустошил целую бутыль минеральной воды. Пока я пил, он нашел в холодильнике несколько яблок и почистил их. Орудовал ножом он ловко и споро – я восхищенно следил за его движениями. Без кожуры выложенные на тарелку яблоки выглядели очень изысканно и аппетитно.
Я съел их три или четыре. Яблоки оказались настолько вкусными, что я даже от души поблагодарил их созидателя, которому пришло на ум вывести такой прекрасный фрукт. Стоило мне доесть яблоки, как Мэнсики где-то отыскал и дал мне коробку крекеров. Я принялся за них. Они немного размякли от влаги, но все равно были самыми вкусными крекерами на свете. Между тем Мэнсики вскипятил воду, заварил черный чай и добавил в него меду. Я выпил этого чаю несколько кружек. Чай и мед согрели меня всего изнутри.
В холодильнике оказалось не так-то много продуктов – только поддон для яиц был полон.
– Хотите омлет? – спросил Мэнсики.
– Если можно, – ответил я. Во всяком случае, мне хотелось чем-нибудь наполнить желудок.
Мэнсики достал из холодильника четыре яйца, разбил их в миске, быстро взболтал палочками для еды, добавил молоко, посолил и поперчил. Затем еще раз хорошенько перемешал палочками. Видно было, что он привычен к таким действиям. Мэнсики включил плиту, нагрел маленькую сковороду, тонко смазал ее сливочным маслом. В выдвижном шкафчике обнаружил лопатку и мастерски приготовил мне омлет.
Как я и предполагал, омлет у него получился безупречным – хоть сейчас показывай его в кулинарной телепрограмме. При виде того, как Мэнсики его готовит, у домохозяек всей страны наверняка захватило бы дух. Он прекрасно разбирался в том, как готовить омлет, вернее будет сказать – и как готовить омлет тоже: он выполнял все отточенно, скрупулезно и без суеты. Мне оставалось лишь с восхищением наблюдать за происходящим. Вскоре омлет перекочевал на тарелку и был подан мне вместе с кетчупом.
Омлет получился таким красивым, что мне тут же захотелось нарисовать его с натуры. Однако я, не колеблясь, воткнул в него нож и быстро поднес вилку ко рту. Оказался он не только красивым, но еще и вкусным.
– Какой безупречный омлет! – похвалил я.
Мэнсики улыбнулся.
– Ну что вы. Бывало, удавался и лучше.
Еще лучше? Что может быть еще лучше? Разве что омлет, оснащенный прекрасными крыльями и способный за пару часов долететь из Токио до Осаки?
Покончив с омлетом, я наконец-то одолел в себе голод, а Мэнсики тут же убрал грязную посуду. После чего он сел за стол напротив меня.
– Ничего, если мы немного поговорим? – спросил он у меня.
– Конечно, – ответил я.
– Не устали?
– Устал, наверное. Но нам есть о чем поговорить.
Мэнсики кивнул.
– Похоже, нам нужно заполнить несколько пробелов за эти дни.
Конечно, если только их возможно заполнить, подумал я.
– Дело в том, что я приезжал к вам и в воскресенье, – сказал Мэнсики. – Сколько ни звонил – не дозвонился, начал беспокоиться и приехал проверить, все ли в порядке. Около часа дня.
Я кивнул. В ту пору я был в каком-то другом месте.
Мэнсики сказал:
– Когда я позвонил в дверь, мне открыл сын Томохико Амады. Как вы его называли? Масахико?
– Да, Масахико Амада мой старый приятель. Хозяин этого дома. У него свой ключ, поэтому он может попасть в дом в мое отсутствие.
– Так вот, он… скажем так, очень переживал за вас. Говорил, в субботу вы вместе ездили проведать его отца Томохико Амаду в пансионат, где тот находился, и вы якобы внезапно пропали прямо из палаты.
Я, ничего не отвечая ему, кивнул.
– Пока Масахико Амада отлучался, чтобы поговорить по телефону, вы неожиданно исчезли. Пансионат находится на плоскогорье Идзу, до ближайшей станции пешком там идти прилично. А такси никто не вызывал. Никто из персонала: ни в регистратуре, ни охранники – не видели, как вы покидаете здание. Потом он пробовал звонить на домашний телефон, но никто не отвечал. Поэтому Масахико Амада забеспокоился и приехал сюда. Он всерьез тревожился за вас, вдруг что-то случилось?
Я вздохнул.
– Масахико я все объясню сам. Ему и так нелегко с отцом, а тут еще я. А как состояние Томохико Амады?
– Последнее время почти не просыпается, в сознание так и не приходит. Сын говорил, что ночевал где-то невдалеке от пансионата. А на обратном пути в Токио заехал сюда посмотреть, что да как.
– Надо будет сейчас же ему позвонить, – сказал я, покачивая головой.
– Согласен, – ответил Мэнсики и положил руки на стол. – Но раз уж будете ему звонить, приготовьтесь обстоятельно объяснить, где и что делали все эти дни. Как вы исчезли из пансионата? Одна ваша фраза «вдруг прихожу в себя – и уже здесь» никого не убедит.
– Вероятно, – сказал я. – А вот вас, Мэнсики-сан, мое объяснение убедило?
Лицо у Мэнсики сделалось смущенным, и он задумался. Затем произнес:
– Я с давних пор привык последовательно мыслить логически. Так меня приучили. Но если честно, тот склеп за кумирней не укладывается у меня ни в какую логику. Такое ощущение, что не покажется странным ничего, что бы внутри него ни произошло. Такое чувство тем более окрепло во мне после того, как я около часа просидел там, на дне, в одиночестве. Это не просто яма в земле. Но тем, кто там не побывал, такого не понять.
Я молчал. Я не знал, что было бы уместно сказать.
– Похоже, вам лучше будет несгибаемо утверждать, что вы совсем ничего не помните, – произнес Мэнсики. – Не знаю, насколько он вам поверит, но другого выхода, пожалуй, нет.
И кивнул. Другого выхода, пожалуй, и не было. Мэнсики сказал:
– В этой жизни многое не поддается объяснению. Также много и такого, чего не стоит объяснять. Особенно в таких случаях, когда после объяснения утрачивается нечто важное в том, что там есть.
– У вас есть такой опыт?
– Конечно. – Мэнсики слегка кивнул. – Причем бывал неоднократно.
Я допил остаток чая и спросил:
– Выходит, Мариэ Акигава цела и невредима?
– Только вся в грязи. Слегка поранилась, но – так, царапина. Похоже, просто упала и ободрала коленку. Совсем как вы.
Совсем как я?
– Где же она была и что делала эти несколько дней?
Мэнсики сконфузился.
– Об этом мне совершенно ничего не известно. Знаю только, что недавно она вернулась домой вся в грязи и с легкой ссадиной. Вот все, что я слышал. Госпожа Сёко все еще в замешательстве, поэтому во время телефонного разговора ей было не до подробностей. Все немного успокоится – тогда и спросите у нее сами. Или же если получится, то у госпожи Мариэ напрямую.
Я кивнул.
– Так и сделаю.
– А теперь не пора ли вам поспать?
Едва Мэнсики это произнес, как я заметил, что и впрямь жутко хочу спать. Нестерпимо – хоть и спал как убитый в склепе. Или должен был спать.
– Да уж, неплохо бы немного вздремнуть, – ответил я, рассеянно глядя на тыльные стороны запястий Мэнсики, покоившихся на столе. Руки у него были очень правильной формы.
– Отдохните хорошенько, сейчас это самое главное. Я чем-то еще могу вам помочь?
Я покачал головой.
– Больше ничего не приходит в голову. Спасибо, вы и так для меня много сделали.
– Ну, тогда я поеду к себе. Если понадоблюсь – звоните без всякого стеснения. Полагаю, что я буду дома, – сказал Мэнсики и медленно встал со стула. – И все-таки хорошо, что госпожа Мариэ нашлась. И хорошо, что я смог выручить вас. Признаться, я тоже эти дни толком не спал, поэтому вернусь домой и тоже прилягу.
И он поехал к себе. Как обычно, захлопнулась дверца машины, послышался глухой рокот мотора. Убедившись, что рокот удаляется и постепенно глохнет вдали, я разделся и нырнул в постель. Стоило мне, опустив голову на подушку, подумать чуточку о старой погремушке (которую, к слову, я вместе с фонариком оставил на дне склепа), как я погрузился в глубокий сон.
57
То, что я когда-то должен буду сделать
Проснулся я в четверть третьего. И опять – в глубоком мраке. На миг меня охватило ощущенье, будто я по-прежнему на дне склепа, но я сразу же понял, что это не так. Абсолютный мрак на дне склепа и ночной мрак на поверхности земли отличаются густотой. На поверхности в самом глубоком мраке присутствует легчайшее ощущение света, и тем он отличается от мрака, где свет заслоняется полностью. Сейчас четверть третьего ночи, и солнце временно светит на другой стороне Земли. Только и всего.
Включив ночник, я выбрался из постели, сходил на кухню и выпил несколько стаканов холодной воды. Вокруг было тихо – настолько тихо, что даже чересчур. Я прислушался, но ничего не услышал. Даже ветер не дул. Пришла зима, и насекомые завершили свои концерты. Не слышно ни голосов ночных птиц, ни звона бубенца. Кстати, впервые звон я услышал примерно в такое же время ночи. Время, благоприятное для всего необычного.
Сна у меня не было ни в одном глазу, всю сонливость как рукой сняло. Надев поверх пижамы свитер, я пошел в мастерскую. Поймал себя на мысли, что, вернувшись в дом, в мастерскую не заходил еще ни разу – и забеспокоился, что там с картинами. Особенно – с «Убийством Командора». Судя по словам Мэнсики, в мое отсутствие здесь побывал Масахико Амада. Может статься, наведался в мастерскую и увидел эту картину. Разумеется, он с первого взгляда поймет, что перед ним картина, написанная его собственным отцом. Однако я, к счастью, накинул на картину покрывало. Сердце у меня было не на месте, поэтому я снял ее со стены и, чтобы скрыть от посторонних глаз, на всякий случай обмотал белой полоской сараси[9]. Если Масахико не снимал покрывало, он не должен был ничего увидеть.
Я вошел в мастерскую и щелкнул выключателем на стене. В мастерской царила полнейшая тишина. Разумеется, никого – ни Командора, ни Томохико Амады. Только я один.
Картина «Убийство Командора» стояла на полу, как я ее и оставил – под покрывалом. Не похоже, чтобы кто-то к ней прикасался. Разумеется, явных доказательств нет, но мне показалось, что так оно и было. Я снял покрывало, под ним – «Убийство Командора». Никаких изменений с тех пор, когда я видел эту картину прежде. Там был Командор, был пронзавший его мечом Дон Жуан. Сбоку – обомлевший слуга Лепорелло. Прелестная Донна Анна, в изумлении поднесшая руки ко рту. И в левом углу полотна – жуткий Длинноголовый, который выглядывал из квадратной дыры в земле.
Признаться, в глубине души я опасался, что после некоторых моих действий картина претерпит какие-то изменения. Например, окажется закрыта крышка люка, из которого высовывался Длинноголовый, и потому его фигура исчезнет с полотна. Или Командор теперь будет заколот не длинным мечом, а разделочным ножом. Однако сколько бы я ни присматривался, никаких изменений на холсте не заметил. Длинноголовой, приподняв рукой крышку, все так же высовывал из-под земли свое странное лицо и осматривался выпученными глазами. Из пронзенного длинным мечом сердца Командора хлестала алая кровь. Я видел все то же произведение живописи с безупречной композицией. Полюбовавшись немного картиной, я опять обмотал ее белой полоской сараси.
Затем я осмотрел две картины маслом, над которыми работал сам. Обе стояли на мольбертах рядом друг с дружкой. Одна – горизонтальная «Склеп в зарослях», другая – вытянутый вертикально «Портрет Мариэ Акигавы». Переводя взгляд с одной на другую, я внимательно изучал их, но и та, и другая были точно такими же, как и в последний раз, когда я их видел. Совершенно никаких изменений. Одна готова, вторая дожидалась последних штрихов.
Затем я перевернул приставленную к стене картину «Мужчина с белым „субаре форестером“» и, сидя на полу, принялся изучать еще раз ее. Изнутри сгустков краски нескольких цветов на меня пристально смотрел тот мужчина. Образ его не был прорисован детально, но я отчетливо понимал, что он там. Он скрывался за толсто нанесенной мастихином краской – и оттуда уставился прямо на меня острым, как у ночной птицы, взором. Его лицо было абсолютно бесстрастным, и он наотрез отказывал мне в том, чтобы я закончил картину. Иными словами – был против того, чтобы его собственный облик стал отчетливым. Он совершенно не желал, чтобы его вытащили из мрака.
Но я все-таки когда-нибудь дорисую его – и тем самым вытащу на свет, как бы отчаянно он ни сопротивлялся. Сейчас, возможно, и не выйдет, но когда-нибудь мне придется довести это дело до конца.
Я еще раз вернулся взглядом к «Портрету Мариэ Акигавы». Присутствия самой модели мне больше не требовалось. Оставалось выполнить лишь несколько технических действий – и картина будет готова. Она, пожалуй, станет наиболее удачной из всех моих работ до сих пор. По крайней мере, на ней – тринадцатилетняя красивая девочка по имени Мариэ Акигава, и она должна получиться очень живо и ярко. В этом я был полностью уверен. Но я вряд ли закончу этот портрет. Чтобы защитить нечто этой девочки, картину надлежит так и оставить незавершенной. И я это понимал.
Мне предстояло как можно скорее разобраться с несколькими делами. Одно из них – позвонить Сёко Акигаве и услышать из ее уст, как же Мариэ вернулась домой. А еще позвонить Юдзу, чтобы сказать ей о том, что я хочу с нею увидеться и не спеша обо всем поговорить. Ведь я решил, что это необходимо сделать, пока сидел на дне того мрачного склепа. Сейчас время для этого пришло. Ну и, конечно же, я должен позвонить Масахико Амаде. Предстоит объяснить ему (хоть я и понятия не имел, каким выйдет объяснение – и выйдет ли оно вообще), как и почему я вдруг пропал из пансионата на плоскогорье Идзу, и три дня никто не знал, где я.
Однако нечего и говорить – в столь поздний час звонить я никому не мог. Нужно дождаться, когда настанет более пристойное время. А оно – если время вообще будет двигаться, как обычно, – должно настать уже скоро. Я разогрел в кастрюльке молоко и стал его пить, заедая песочным печеньем. Я смотрел в окно – за ним простиралась тьма. Мрак, в котором не мерцали звезды. До рассвета еще долго. Сейчас самые длинные в году ночи.
Я понятия не имел, чем бы мне теперь заняться. Самое верное решение – лечь снова в постель, но сон пропал. Читать не хотелось, работать тоже. Не придумав занятия лучше, я решил принять ванну. Пустил воду, и пока ванна наполнялась, валялся на диване, бесцельно таращась в потолок.
Зачем мне было необходимо преодолевать тот мир подземелья? Чтобы оказаться в нем, мне пришлось собственной рукой зарезать Командора. Принеся себя в жертву, он лишился жизни, а я в мире мрака подвергся череде испытаний. И у всего этого, конечно, не может не быть причины. В том подземном мире меня окружала очевидная опасность, преследовал несомненный страх. Никакая странность, что там бы ни произошла, не вызвала бы у меня удивления. Я же – тем, что пробрался сквозь тот мир, тем, что выдержал те испытания, – похоже, сумел освободить откуда-то Мариэ Акигаву. По крайней мере, она целой и невредимой вернулась домой, как это и предсказывал Командор. Но никакой конкретной связи между моими испытаниями в подземном мире и возвращением Мариэ Акигавы я обнаружить не смог.
Возможно, какое-то значение имела вода из той реки: когда я выпил ее, что-то качественно изменилось у меня в организме. Не в силах объяснить ничего логически, я просто живо ощущал это всем своим телом. Благодаря этому качественному изменению, я смог проползти до конца по узкому боковому лазу, который с точки зрения физики преодолеть было, как ни пытайся, просто невозможно. И, чтобы я преодолел укоренившийся во мне страх закрытых и тесных пространств, меня направляли и подбадривали Донна Анна и Коми. Даже не так… возможно, Донна Анна и Коми – это одно лицо. Может, то была Донна Анна и в то же время – Коми. Может, это они уберегли меня от сил мрака, а вместе с тем – и защитили Мариэ Акигаву.
Однако начнем с того, где была заточена Мариэ Акигава. Была ли она вообще в каком-то заточении? Причинил ли я ей какой-нибудь вред уже тем, что отдал (потому что не мог не отдать) фигурку пингвина безлицему паромщику? Или же, наоборот, амулет пригодился, чтобы как-то ее защитить?
Вопросов только прибавлялось.
Возможно, все в той или иной мере наконец прояснится, если мне это расскажет сама Мариэ Акигава. Оставалось только ждать. А может, и не так – как знать, возможно, все кончится тем, что факты нисколько не прояснятся. Может, Мариэ Акигава совершенно не помнит, что с ней произошло. А если и помнит, то решила никого в свою тайну не посвящать (так же, как, впрочем, и я).
В любом случае мне необходимо встретиться с Мариэ Акигавой в этом реальном мире и хорошенько побеседовать с нею наедине. Обменяться с ней информацией о событиях, произошедших с каждым из нас за последние несколько дней. Если получится.
Однако… здесь и в самом деле реальный мир?
Я заново окинул взглядом то, что меня окружало. Все было привычным: тот же запах ветра, что задувает из окна, те же звуки, что наполняют окрестности. Однако все это лишь кажется реальным миром на первый взгляд, а на самом деле, возможно, все совсем не так. Может быть, я просто считаю это реальным миром. Спустившись в какую-то дыру на плоскогорье Идзу, я преодолел подземный мир, чтобы через три дня выбраться через какой-то не тот выход на горе в пригороде Одавары. И где гарантия, что я вернулся в тот же самый мир, который покидал?
Я поднялся с дивана, разделся и улегся в ванну. Еще раз прошелся по всему телу мочалкой с мылом, тщательно вымыл голову, почистил зубы, уши ватной палочкой, постриг ногти. Также побрился, хотя щетина еще не отросла. Заново переоделся в свежее белье. Надел свежевыглаженную белую сорочку из хлопка, парусиновые брюки цвета хаки со стрелками. Я старался предстать перед реальным миром как можно благопристойнее. Однако ночь еще не закончилась, за окном висел кромешный мрак. Такой, что начинало казаться, будто утро не настанет никогда.
Но утро вскоре настало. Я сварил кофе, поджарил тосты, намазал их маслом и съел. В холодильнике продуктов почти не оставалось. Всего пара яиц, скисшее молоко и кое-что из овощей. Я подумал, что днем необходимо съездить за покупками.
Пока я мыл на кухне кофейную чашку и тарелку – поймал себя на мысли, что давно не встречался со своей замужней подругой. Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Без ежедневника точную дату я не припоминал, но, во всяком случае, – очень давно. Из-за того, что в последнее время сразу произошло немало событий (причем необычных и неожиданных), я даже не удосужился вспомнить, как давно она не выходила на связь.
Интересно, почему? Ведь обычно звонила как минимум дважды в неделю. «Ты как? Живой?» Я же звонить ей сам не мог. Номер сотового она не давала, а электронной почтой не пользуюсь я. Поэтому даже если мне захочется с нею увидеться, придется дожидаться ее звонка.
И в десятом часу утра – как раз когда я рассеянно думал о ней – раздался звонок. Звонила она.
– Мне нужно тебе кое-что сказать, – выпалила она, даже не поздоровавшись.
– Хорошо. Говори, – ответил я.
Я разговаривал с нею, опираясь на кухонную стойку. За окном постепенно расползались толстые тучи, до сих пор скрывавшие небо, и между ними робко проглядывало зимнее солнце. Погода улучшалась. Но звонок подруги, как мне показалось, не предвещал ничего хорошего.
– Я считаю, нам лучше перестать встречаться, – сказала она. – К сожалению.
Я не мог определить по одному лишь тону ее голоса, вправду она сожалеет или нет. Ее голосу явно не хватало интонации.
– Тому есть несколько причин.
– Несколько причин, – повторил я ее же слова.
– Для начала, муж начинает понемногу меня подозревать. Похоже, ощущает какие-то знаки.
– Знаки, – повторил я за ней.
– Когда возникает такая ситуация, женщины подают определенные знаки. Например, пуще прежнего следят за своим макияжем и внешним видом, меняют парфюм, садятся на жесткую диету. Я, конечно, старалась, чтобы такое не проявлялось. Но все равно…
– Вот как?
– Да и вообще – не годится, чтобы такие отношения продолжались до бесконечности.
– Такие отношения, – повторил я.
– В смысле – бесперспективные, без надежды на будущее, что как-то все разрешится само собой.
А ведь она права, подумал я. Наши отношения, по сути, – и «без будущего», и «неразрешимые». К тому же продолжать их слишком рискованно. Мне-то терять особо нечего, а у нее, в общем, приличная семья, две дочки-подростка, которые ходят в частную школу.
– К тому же, – продолжала она, – возникли неприятности у дочери. У старшей.
Старшая дочь. Если мне не изменяет память, успевает она хорошо, родителей слушается – спокойная девочка, не доставлявшая хлопот.
– Возникли неприятности?
– Просыпаясь по утрам, она не встает с кровати.
– Не встает с кровати?
– Послушай, перестань повторять за мной, как попугай.
– Прости, – извинился я. – А что это может значить – не встает с кровати?
– То и значит. Буквально. Уже недели две ни за что не встает с кровати. В школу не ходит. Валяется целыми днями в постели как есть, в пижаме. Кто бы ни пытался с ней заговорить, не отвечает. Приносим еду в постель – почти ничего не ест.
– К специалистам обращались?
– Естественно, – сказала она. – Обращались к школьному психологу, но толку никакого.
Я задумался. Но сказать мне было нечего. Ведь я даже ни разу не видел эту девочку.
– Поэтому, думаю, больше мы не сможем встречаться, – сказала подруга.
– Потому что ты вынуждена находиться дома и присматривать за ней?
– И поэтому тоже. Но не только.
Она больше ничего не сказала, но я примерно понимал, что́ у нее на душе. Она испугана и как мать винила во всем себя, наш с нею роман.
– Очень жаль, – сказал я.
– Но я сожалею куда сильнее, чем ты.
Может, так оно и есть, подумал я.
– Хочу сказать тебе напоследок одно, – произнесла она и глубоко вздохнула.
– Что же?
– Думаю, ты сможешь стать хорошим художником. В смысле – даже лучше, чем теперь.
– Спасибо, – сказал я. – Мне стало уверенней.
– Прощай.
– Удачи.
Положив трубку, я лег на диван в гостиной и, глядя в потолок, задумался о подруге. Если разобраться, несмотря на все наши частые встречи, у меня ни разу не возник замысел нарисовать ее портрет. Настроение такое почему-то ни разу не возникало. Зато я сделал несколько набросков – в маленьком альбоме, мягким карандашом 2B. Почти не отрывая грифеля от бумаги. На многих изображалась развратная нагая женщина. Есть и такие, где она, широко раскинув ноги, обнажает влагалище. Я даже набрасывал сцены соития – то были простенькие зарисовки, но каждая выглядела весьма натурально. И безгранично вульгарно. Ее очень радовали такие картинки.
– Как все-таки хорошо у тебя выходят непристойные картинки! Вроде рисуешь так легко и непринужденно, а получается порнография.
– Это просто забава, – отвечал я.
Сделав такие почеркушки, я тут же их выбрасывал. Мало ли кто может увидеть, да и хранить такое никуда не годится. Хотя, возможно, стоило оставить хотя бы одну. Как доказательство самому себе, что эта женщина все-таки существовала.
Я не спеша встал с дивана. День только начался. И мне предстояли беседы с несколькими людьми.
58
Вроде как слушаю о красивых каналах на Марсе
Я позвонил Сёко Акигаве. Стрелки часов миновали половину десятого – время, когда обычные люди в основном приступают к повседневным делам. Но к телефону никто не подошел. После нескольких гудков включился автоответчик: «Я не могу ответить на ваш звонок. Если потребуется, оставьте сообщение после сигнала…» Но я ничего не оставил. Возможно, она занята тем, что разбирает последствия пропажи и внезапного возвращения племянницы. Я набирал ее номер несколько раз с интервалами, но трубку там никто не брал.
Тогда я подумал было позвонить Юдзу, но не захотел беспокоить ее в рабочее время и отказался от этой мысли, решив дождаться обеденного перерыва. Если сложится, может, получится с ней коротко поговорить. Ведь мое дело не требует длительной беседы. «Не могла бы ты встретиться со мной в ближайшее время?» Вот и весь разговор, который завершится ответом «да» – или «нет». Если «да» – условимся о месте и времени встречи, если «нет» – на этом всё.
Затем я – нехотя и скрепя сердце – позвонил Масахико Амаде. Тот ответил тут же. Услышав мой голос, он глубоко вздохнул:
– Значит, дома?
– Да, – ответил я.
– Перезвоню чуть позже. Не против?
– Не против.
Через пятнадцать минут раздался звонок. Мне показалось, он звонил с сотового, выйдя на крышу здания – или вроде того.
– Где ты пропадал? – спросил он непривычно резко. – Вдруг пропал, ничего не сказав, из палаты пансионата. Куда подевался – никто не знает. Я даже подорвался в Одавару проверить, нет ли тебя дома.
– Извини, я не специально, – сказал я.
– И когда вернулся?
– Вчера вечером.
– Где же тебя носило все эти три дня, с субботы по вторник?
– По правде говоря, совсем не помню, где был и что делал.
– Хочешь сказать, у тебя амнезия, вдруг пришел в себя – и уже дома?
– Вот именно.
– Ты что, серьезно?
– Другого объяснения у меня нет.
– Однако смахивает на враки.
– Разве так не бывает в кино или книгах?
– Я тебя умоляю. Когда по телевизору в фильмах или мыльных операх заходит речь о потере памяти, я тут же выключаю. Слишком уж дешевая уловка.
– Потеря памяти была у Хичкока.
– В «Завороженном»? У Хичкока это второсортный фильм, – сказал Масахико. – Ладно… что было на самом деле?
– Пока что сам не могу понять, что произошло. Не получается связать воедино разные обрывки. Если немного подождать, память, глядишь, постепенно вернется, и тогда я смогу объяснить все толком. Но не сейчас, прости. Дай мне время.
Масахико немного подумал и вскоре будто бы примиренно сказал:
– Хорошо. Пока что будем считать это потерей памяти. Однако, надеюсь, наркотики, алкоголь, психические расстройства, девочки плохого поведения, похищение космическими пришельцами здесь ни при чем?
– Это – нет. Закон и общественную нравственность я тоже не нарушал.
– Бог с ней, с этой общественной нравственностью, – ответил Масахико. – Скажи мне только одно.
– Что?
– Как ты умудрился улизнуть из пансионата, из глуши того плоскогорья, посреди субботнего дня? Там очень строгий пропускной режим. Среди пациентов немало знаменитостей, поэтому там стараются, чтоб и муха не пролетела. На входе бюро пропусков, ворота круглые сутки сторожат подготовленные охранники, работают камеры слежения. Однако ты взял да исчез оттуда средь бела дня. Никто тебя не видел, на камерах ты не заснят. Как тебе это удалось?
– Есть там одна лазейка, – сказал я.
– Какая?
– Такая, что можно выйти никем не замеченным.
– Но как ты мог об этом знать? Ты же был там впервые.
– Показал твой отец. Вернее – дал подсказку. Косвенную.
– Мой отец? – удивленно переспросил Масахико. – Да ты шутишь. У отца голова теперь немногим отличается от вареной цветной капусты.
– И это я и сам толком объяснить не могу.
– Ну что с тобой делать, – вздохнув, произнес Масахико. – Был бы кто другой, я б разозлился, мол, хватит чушь пороть, а с тобой, похоже, остается лишь смириться. Ты ж ни на что другое не годен – только рисовать всю жизнь картинки. Никчемный ты человек.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Кстати, как отец?
– В субботу, поговорив по телефону, я вернулся в палату – тебя нигде нет, отец спит и просыпаться вроде как не намерен, дышит слабо. Ну и я, конечно же, – в панику. Что здесь произошло? Умом-то я понимал, что все это не твоих рук дело, но не винить тебя не мог – а что мне еще оставалось думать?
– Я очень перед тобой виноват, – сказал я, и это была правда. Однако вместе с тем я вздохнул с облегчением: в палате не осталось ни моря крови, ни зарезанного Командора.
– Что ты виноват – это само собой. В общем, я снял номер в хостеле поблизости, чтоб быть рядом, но дыхание вернулось в норму, и отцу стало лучше, поэтому на следующий день вечером я вернулся в Токио. Работа ведь тоже не ждет. Но в конце недели, пожалуй, опять туда поеду.
– Достается же… и тебе тоже.
– А что поделать? Я ж тебе, кажется, говорил, когда умирает человек, это всегда тяжко. Тяжелее всего, как ни крути, конечно, ему самому. И с этим ничего не поделать.
– Если я смогу тебе чем-то помочь… – начал было я.
– Помочь мне ты уже ничем не сможешь, – ответил Масахико. – Неплохо будет, если не станешь доставлять лишних хлопот… Кстати, на обратном пути в Токио, когда заглянул в дом, беспокоясь за тебя, как раз заезжал тот самый господин Мэнсики. Статный седой джентльмен на чудесном серебристом «ягуаре».
– Да, я его уже видел. Он тоже говорил, что ты был в доме.
– Перебросился с ним в дверях парой слов. Весьма занятный малый.
– Очень занятный, – сдержанно поправил я.
– Чем он занимается?
– Ничем. Денег у него хоть отбавляй, и работать ему незачем. Вроде бы занимается сделками через Интернет – акции, валюта… Но это у него просто хобби. Он сам говорил, что так убивает время, а заодно извлекает кое-какую выгоду.
– Какая прелесть, – восхищенно сказал Масахико. – Это как слушать о красивых каналах на Марсе. Там марсиане, загребая золотыми веслами, плывут на длинноносой пироге, а сами через уши курят медовый табак. Слушаю тебя, а у самого на сердце теплеет… Да, кстати, нашелся нож, который я оставил в доме в прошлый раз?
– Извини, но я его не нашел, – ответил я. – Сам не могу понять, куда запропастился. Куплю и верну тебе новый.
– Да нет, не переживай. Он, как и ты, девался куда-то, а память потерял. Со временем, глядишь, вернется.
– Возможно, – сказал я. Выходит, нож в палате Томохико Амады не остался – он куда-то исчез, как и море крови, и труп Командора. Как и говорит Масахико, вскоре, быть может, вернется.
На этом наш разговор закончился. Мы положили трубки, условившись в ближайшее время посидеть где-нибудь вместе.
Затем на своей запыленной «тоёте королле» я спустился с горы в торговый центр за покупками. В супермаркете я слился с ордой местных домохозяек. Время шло к полудню. Хоть бы одно радостное лицо среди их постных физиономий… Наверняка ничто их в жизни их не радует. Они ведь не ищут переправу в метафорическом мире.
Закинув в корзинку все, что попадалось на глаза: мясо, рыбу, молоко, тофу, – я расплатился за покупки. У меня с собой была вместительная сумка, поэтому на кассе я отказался от полиэтиленового пакета и тем сэкономил пять иен. После этого заглянул в дешевую алкогольную лавку и купил там ящик баночного пива «Саппоро». Вернувшись домой, разобрал покупки и расставил их в холодильнике. Что нужно было заморозить – обернул пленкой и положил в морозильник. Пиво поставил охлаждаться одну упаковку – шесть банок. Затем вскипятил в большой кастрюле воду и отварил спаржу и брокколи для салата. Сварил вкрутую несколько яиц. В общем, за делами по хозяйству с пользой убил время. Но не целиком, поэтому даже подумывал, не помыть ли мне по примеру Мэнсики машину – но представил, что она вскоре опять запылится, и все желание у меня тут же улетучилось. Варить на кухне овощи куда полезнее.
Когда стрелки часов чуть перевалили за двенадцать, я позвонил в архитектурную контору, где работала Юдзу. Признаться, мне хотелось несколько повременить, чтоб еще крепче взять себя в руки перед разговором с ней, однако мне также хотелось, чтобы она как можно скорее узнала о моем решении, принятом на дне склепа. Иначе кто знает, что может переменить мое настроение? Но от одной мысли, что мне сейчас предстоит разговаривать с Юдзу, трубка отчего-то показалась очень увесистой. Раздался бодрый голос молоденькой девушки. Я назвал имя и сказал, что хочу поговорить с Юдзу.
– Вы – муж? – непринужденно спросила она.
– Да, – ответил я. По сути, я уже не должен быть ее мужем, но объяснять по телефону все эти условности не собирался.
– Подождите, пожалуйста, – сказала девушка.
Ждать пришлось долго. Но я никуда не торопился – прислонившись к кухонной стойке, я держал в руках трубку и терпеливо ждал, когда Юдзу подойдет к телефону. Прямо перед окном, хлопая крыльями, пролетела ворона. Насыщенная чернота ее крыльев блестела в лучах солнца.
– Алло, – сказала Юдзу.
Мы поздоровались просто. Я понятия не имел, как должны здороваться едва разведенные супруги, какую дистанцию должны соблюдать между собой в разговоре, поэтому решил ограничиться простым и поверхностным приветствием. Как поживаешь? Нормально. А ты? Наши короткие слова, точно ливень жарким летом, в мгновение ока впитались в сухую поверхность действительности.
– Хотел встретиться с тобой и с глазу на глаз поговорить о разном, – решительно сказал я.
– О разном – например, о чем? – спросила Юдзу. Я не ожидал в ответ получить такой вопрос (хотя вопрос: почему не ожидал?) и на миг лишился дара речи. Разное – оно какое?
– О подробностях я пока не думал, – немного запнувшись, ответил я.
– Но хочешь поговорить со мной о разном?
– Да. Если подумать, мы ж толком так ни о чем и не поговорили. Все как-то само по себе вышло.
Она немного задумалась.
– Знаешь, я… беременна. Встретиться я не против, но живот у меня уже начинает расти. Когда увидишь – не удивляйся.
– Я знаю. От Масахико. Он говорил, что ты попросила его мне об этом сообщить.
– Так и есть, – подтвердила она.
– Я не знаю, как это будет для живота, но если тебе самой не в тягость, буду рад встрече.
– Можешь немного подождать? – спросила она.
Я ждал. Похоже, она, шелестя страницами, сверялась со своим ежедневником. Тем временем я силился вспомнить, в каком стиле играли «The Go-Go's». Я не считал их выдающейся группой, как это утверждал бы Масахико… или же он прав и перекос – именно в моих взглядах на мир?
– В следующий понедельник вечером устроит? – спросила она.
Я посчитал в уме. Сегодня – среда, значит, через пять дней. В этот день Мэнсики отвозит в пункт приема тары пустые банки и бутылки. Это день, когда у меня нет занятий в изостудии. У меня никаких планов нет – можно даже не листать ежедневник. Вот интересно, а как одевается Мэнсики, когда ездит сдавать пустую тару?
– Пусть будет понедельник вечером, не возражаю, – ответил я. – Где угодно и когда угодно. Приеду, назови только место и время.
Она сообщила название кафе рядом со станцией Синдзюку-гёэн. Старое доброе место, очень памятное нам кафе недалеко от ее места работы. Когда мы еще были с нею женаты, мы несколько раз встречались там. Если, к примеру, собирались где-нибудь вместе поужинать после ее работы. Недалеко от того кафе был маленький устричный бар, и там подавали сравнительно недорогие свежие устрицы. Ей нравились маленькие устрицы, сдобренные хреном, под бокал охлажденного «шабли». Интересно, бар по-прежнему там?
– Тогда встретимся там в начале седьмого. Идет?
Я ответил, что меня устраивает.
– Постараюсь не опаздывать.
– Пустяки. Я буду ждать.
– Тогда до встречи, – сказала она и повесила трубку.
Я пристально смотрел на телефонный аппарат, держа его в руке. Вскоре я собираюсь встретиться с Юдзу. Моей бывшей женой, которая вскоре собирается рожать ребенка от другого мужчины. Мы условились о месте и времени встречи, так что все в порядке. Но я теперь уже не был уверен, что поступаю верно. И трубка по-прежнему казалась мне очень увесистой – как будто ее сработали в каменном веке. Однако разве существуют в этом мире абсолютно правильные или целиком неправильные вещи? В этом мире, где мы все живем, дождь льет с вероятностью то тридцать процентов, то семьдесят. Пожалуй, то же самое и с истиной. Вероятность ее осадков – то тридцать процентов, то семьдесят. В этом смысле воронам намного легче: для них дождь либо льет, либо нет. И никакие проценты не забивают им головы.
После разговора с Юдзу я некоторое время ничего не мог делать. Сел на табурет в кухне и, то и дело поглядывая на стрелки, провел так примерно час. В следующий понедельник я встречусь с Юдзу, и тогда мы поговорим «о разном». Мы встретимся с нею впервые с марта. Тогда стоял воскресный вечер, прохладный мартовский вечер, тихо шел дождь. Юдзу теперь на седьмом месяце. Это – большая перемена. В свою очередь, я – по-прежнему обычный я. Несколько дней назад выпил воды метафорического мира, переправился через реку, разделяющую бытие и небытие, – и толком не понимаю, изменилось что-то тем самым внутри меня или не изменилось совсем ничего.
Затем я взял трубку и вновь позвонил в дом Сёко Акигавы, но мне опять никто не ответил. Снова включился автоответчик. Я оставил эту затею и сел на диван в гостиной. Сделал еще несколько звонков, после чего никаких занятий у меня не осталось. Спустя долгое время мне захотелось поработать в мастерской, порисовать, но что нарисовать, я придумать не мог.
Тогда я поставил на проигрыватель пластинку Брюса Спрингстина «The River», завалился на диван и с закрытыми глазами слушал музыку. Закончилась первая сторона – перевернул и стал слушать вторую. И в который раз поймал себя на мысли, что «The River» Спрингстина – это музыка, которую положено слушать именно так. Закончится «Independence Day» на стороне А – нужно поднять пластинку обеими руками, перевернуть и осторожно опустить иглу на начало стороны B. И по комнате растечется «Hungry Heart». Если это условие соблюсти невозможно, в чем тогда ценность альбома «The River»? Если кого-то интересует мое личное мнение, его невозможно слушать с компакт-диска. Как и «Rubber Soul» или «Pet Sounds». Чтобы слушать выдающуюся музыку, существует стиль, существует поза, в которых надлежит ее слушать.
Так или иначе, игра «E Street Band» на этом альбоме была почти безупречной. Группа воодушевляла певца. Певец вдохновлял группу. Позабыв на время о разных своих насущных заботах, я прислушивался к отдельным мелким деталям музыки.
Дослушав первую пластинку и подняв иглу, я подумал, что неплохо бы позвонить еще и Мэнсики. С тех пор, как он вчера вызволил меня из склепа, мы толком еще не разговаривали. Но почему-то звонить не захотелось. С ним у меня возникает иногда такое настроение. То есть человек он, конечно, интересный, но временами мне бывает крайне в тягость встречаться с ним и беседовать. Уж слишком велика пропасть между нами. Почему? Этого я не знал. Но, во всяком случае, сейчас желания слышать его голос у меня не возникло.
В итоге я не стал звонить Мэнсики. Сделаю это позже. День только начался. И я поставил на проигрыватель второй «лонгплей» «The River». Лежа на диване, я слушал «Cadillac Ranch», когда на фразе «Все встретятся на Ранчо Кадиллак» зазвонил телефон. Я поднял иголку, прошел на кухню и поднял трубку, предполагая, что это Мэнсики. Но звонила Сёко Акигава.
– Случаем, не вы звонили мне утром несколько раз? – прежде всего спросила она.
– Да, я. Вчера я узнал от господина Мэнсики, что госпожа Мариэ вернулась, вот и подумал спросить, что произошло?
– С нею все в порядке. Вернулась она вчера после полудня. Я звонила, чтобы вам об этом сообщить, но вас, похоже, не было дома. Вот я и набрала номер господина Мэнсики. Вы куда-то ездили?
– Да, возникли неотложные дела, пришлось немного прокатиться. Вернулся только вчера вечером. Хотел было позвонить вам с дороги, но телефона под рукой не оказалось, а сотовым я не пользуюсь, – сказал я, и это не было сплошной ложью.
– Мариэ вернулась вчера после полудня – одна и вся в грязи, но, к счастью, обошлось без увечий.
– А где она была?
– Пока что не знаю, – приглушенно произнесла она, будто опасалась, что ее подслушивают. – Что с нею было, Мариэ мне не говорит. Я подала заявление в полицию, поэтому к нам приезжали полицейские и задавали ей разные вопросы. Так хоть бы на один ответила. Просто молчит и все. У полицейских просто руки опустились. Они сказали, что заедут позже, когда она немного успокоится, и опять обо всем расспросят. Главное – что она вернулась домой, и ей ничего не угрожает. Но ни мне, ни своему отцу она совершенно ничего не рассказывает. Сами же знаете, характер у нее еще тот.
– Но она была вся в грязи?
– Да, вся в чем-то перемазалась. Школьная форма тоже истрепана, руки-ноги в царапинах. Но не настолько, чтобы везти ее в больницу.
Совсем как у меня, подумал я. Весь в грязи. Одежда потрепана. Неужто Мариэ вернулась в этот мир тем же самым узким лазом, что и я?
– И ничего не говорит?
– Нет, вернувшись домой, не произнесла ни слова. Не то чтобы слова – ни звука. Голоса не подала, будто у нее действительно отняли язык.
– Может, она перестала говорить, пережив какой-нибудь стресс? Лишилась слов от пережитого потрясения? Вы так не думаете?
– Нет, сдается мне, дело не в этом. Мне кажется, она сама решила, что не раскроет рта, и просто продолжает играть с нами в молчанку. У нее и прежде такое бывало – если она сильно дулась на что-нибудь. Такой уж она ребенок: если решит делать что-то по-своему, так этого и добивается, чего бы ей оно ни стоило.
– А с преступностью это никак не может быть связано? – спросил я. – Например, кто-то ее похитил? Или держал взаперти?
– Тоже ничего сказать не могу. От нее самой же добиться ничего невозможно. Хотя когда все немного успокоится, ей придется в полиции давать показания, – сказала Сёко Акигава. – Поэтому извините за беспардонность, сэнсэй, но у меня к вам есть одна нескромная просьба.
– И какая же?
– Если вы не против, не могли бы вы сами встретиться и поговорить с Мариэ? Наедине. Мне кажется, она доверяет только вам. Поэтому вам-то и может рассказать, что с нею произошло.
Не выпуская из правой руки трубку, я обдумывал ее предложение. Я совершенно не представлял себе, как и насколько откровенно говорить с девочкой, оставшись с нею с глазу на глаз. У меня свои загадки, у нее, должно быть, – свои. Неужто, если наши загадки взять и наслоить, всплывет какой-нибудь ответ? Но, разумеется, не встретиться с Мариэ я не мог. Мне и самому нужно с ней кое о чем поговорить.
– Хорошо. Я согласен с нею встретиться, – наконец ответил я. – Скажите, куда мне приехать?
– Нет-нет, это мы хотим приехать к вам, как обычно. Думаю, так будет лучше. Конечно, если вы не будете против.
– Договорились, – сказал я. – У меня планов нет. Приезжайте, когда вам будет угодно.
– Ничего, если прямо сейчас? Сегодня я решила не отправлять ее в школу… разумеется, если Мариэ согласится к вам поехать.
– Передайте ей, что она может ни о чем мне не рассказывать. Скажите, что поговорить с нею хочет сэнсэй.
– Поняла, так и передам. Простите меня за беспокойство, – сказала мне красивая тетя Мариэ Акигавы и тихо положила трубку.
Минут через двадцать опять раздался звонок. То опять была Сёко Акигава.
– Хотим навестить вас сегодня около трех, – сказала она. – Мариэ согласна. Точнее, она только раз коротко кивнула.
– Хорошо. Жду вас к трем.
– Большое вам спасибо, – сказала она. – А то я ничего не понимаю: что происходит? Как быть дальше? И потому вся в растерянности.
Я хотел ей сказать, что и сам в таком же положении, но не сказал. Она, должно быть, ждет от меня совсем другого ответа.
– Постараюсь сделать все, что в моих силах. Хотя уверенности у меня нет, – сказал я и первым положил трубку.
И тут же украдкой осмотрелся: не видно ли где Командора? Но его, конечно, нигде не было, а мне так его не хватало. Всего облика его, странной манеры выражаться. Наверное, я больше никогда его не увижу – ведь я сам убил его собственной рукой, пронзив насквозь его сердечко острым разделочным ножом, который принес сюда Масахико Амада. Ради того, чтобы спасти откуда-то Мариэ Акигаву. И мне нестерпимо хотелось узнать: где же было то место, откуда я ее спас?
59
Пока смерть не разлучила нас
До приезда Мариэ Акигавы я опять рассматривал ее портрет, которому до завершения оставалось совсем чуть-чуть. Я уже мог живо представить, как будет выглядеть полотно. Только завершено оно не будет – как ни жаль, это неизбежно. Почему нельзя дописывать этот портрет, я и сам пока объяснить не умел – доказать логически, разумеется, тоже. Просто чувствовал, что не делать так – необходимо. А причина со временем, пожалуй, станет ясна. Как бы то ни было, я имел дело с чем-то очень опасным, и здесь важно быть предельно осторожным.
Затем я вышел на террасу, сел в шезлонг и бесцельно разглядывал белый особняк Мэнсики напротив. Статный седовласый господин Мэнсики – человек, «избавившийся от цвета». «Перебросился с ним в дверях парой слов. Весьма занятный человек», – сказал мне Масахико. «Очень занятный человек», – поправил я его тогда. «Очень, очень, очень занятный человек», – заново поправил я, теперь уже – себя.
За несколько минут до трех к дому, взобравшись по склону, подъехала все та же ярко-синяя «тоёта приус» и остановилась на своем обычном месте. Стих мотор, отворилась водительская дверца, и вышла Сёко Акигава. Очень изящно – сперва развернувшись со сведенными коленями. Чуть погодя с пассажирского места выбралась Мариэ Акигава – двигалась она подчеркнуто неохотно и вяло. Утренние облака куда-то подевались, осталось лишь чистое голубое небо начала зимы. Несущий с гор прохладу ветер беспорядочно трепал мягкие волосы женщин. Мариэ Акигава то и дело поправляла челку, спадавшую ей на лоб.
Как ни странно, Мариэ сейчас была в юбке – шерстяной темно-синей, до колен. Под нею – голубые лосины, сверху кашемировый свитер с V-образным вырезом, из которого проглядывала белая блузка. Свитер – насыщенного виноградного цвета, обута девочка в темно-коричневые мокасины. В таком виде она выглядела красивой и здоровой, заботливо воспитанной в благородной семье. Ничто не выдавало в ней никакую эксцентричность. Только грудь оставалась плоской.
Сёко Акигава сегодня была в светло-серых узких брючках, хорошо начищенных черных туфлях на низком каблуке и в длинном белом кардигане, подпоясанном на талии ремнем. У нее грудь как раз отчетливо выступала. В руке Сёко держала нечто вроде черного лакового кошелька – женщины всегда носят такие. Что там могло быть внутри, я даже не представлял. А Мариэ, похоже, не знала, куда деть свои руки – карманов, куда их можно засунуть, у нее не было.
Взрослая тетя и племянница-подросток – при всей их разнице в возрасте и зрелости обе они просто красавицы. Я наблюдал за ними сквозь щель между шторами. Тетя и племянница – когда я видел их вместе, казалось, мир становится чуточку ярче. Как Рождество и Новый год всегда настают вместе.
В прихожей раздался звонок, я открыл дверь. Сёко Акигава вежливо поздоровалась со мной, и я пригласил их в дом. Мариэ, сжав губы в ровную линию, не говорила ничего. Как будто рот ей кто-то накрепко сшил. Девочка с железной волей – такая, приняв решение, ни за что не отступит.
Как обычно, я провел их в гостиную. Сёко Акигава принялась пространно извиняться за причиненное беспокойство, но я ее остановил – времени на светские беседы у нас не было.
– Если вы не против – оставьте нас с Мариэ на некоторое время вдвоем, – сказал я ей без обиняков. – Думаю, так будет лучше. А через пару часов возвращайтесь за ней. Можно так сделать?
– Да, разумеется, – согласилась девочкина тетя, немного оторопев. – Если Мариэ не против, то я, конечно, тоже за.
Мариэ слегка кивнула, что означало: она не возражает. Сёко Акигава посмотрела на серебряные наручные часики.
– Я вернусь в пять, а пока побуду дома. Если понадоблюсь – звоните.
– Если понадобитесь – позвоню.
Как будто из-за чего-то переживая, она продолжала молча стоять, сжимая в руке черный лакированный кошелек. Затем, словно передумав, вздохнула и, бодро улыбнувшись, направилась к выходу. Завелся двигатель «тоёты приуса» (его шум я не расслышал то есть, но полагаю – завелся), и машина скрылась из виду вниз по склону. И в доме остались только двое – я и Мариэ Акигава.
Она села на диван, сжала губы и пристально уставилась на свои колени. Обтянутые лосинами, они были плотно сжаты и выглядели единым целым. Синяя плиссированная юбка у нее была выглажена очень аккуратно.
Глубокое молчание затянулось, и я сказал:
– Знаешь, можешь ничего не говорить. Если хочешь молчать – молчи, сколько влезет. Поэтому нечего так напрягаться. Говорить буду я, а ты просто слушай. Идет?
Мариэ подняла голову и посмотрела на меня, но ничего не сказала. И не кивнула, и не покачала головой. Просто пристально посмотрела на меня. В ее взгляде не было чувств. Нисколько. При взгляде на нее мне показалось, будто я смотрю на зимнее белое полнолуние. Мариэ, вероятно, пока что сделала свое сердце похожим на луну – твердый кусок камня, плывущий по небу.
– Прежде всего мне нужна твоя помощь, – сказал я. – Давай перейдем в мастерскую.
Стоило мне направиться в мастерскую, как и она, чуть помедлив, встала с дивана и пошла за мной следом. В студии было зябко. Первым делом я разжег керосиновую печку. Открыл шторы – за окном яркие лучи дневного солнца освещали склоны гор. На мольберте стоял незавершенный портрет девочки. Мариэ вскользь глянула на картину и быстро отвела глаза – будто увидела недозволенное.
Я присел на корточки, снял покрывало, в которое была обмотана картина «Убийство Командора» Томохико Амады, и повесил ее на стену. Затем посадил Мариэ Акигаву на табурет, чтобы она сидела прямо перед полотном.
– Эту картину ты уже видела, так?
Мариэ слегка кивнула.
– Название картины – «Убийство Командора». По крайней мере, так было написано на том, во что она была изначально завернута. Картина принадлежит кисти Томохико Амады, когда он ее закончил – неизвестно, но картина явно завершена. Композиция в ней великолепная, техника безупречная, каждый персонаж прописан достоверно и выглядит очень убедительно.
На этом я сделал короткую паузу – ждал, когда мои слова отложатся в сознании Мариэ. После чего продолжил:
– Однако эта картина до недавних пор была спрятана на чердаке этого дома. Похоже, долгие годы она, завернутая в бумагу, пылилась там, чтобы не попадаться на глаза людям. Однако я случайно ее нашел, спустил с чердака и принес сюда. Кроме автора, эту картину видели, пожалуй, только ты и я. Должно быть, в самый первый день ее успела заметить твоя тетя, но, кажется, ничуть не заинтересовалась. Почему Томохико Амада хранил картину на чердаке, я не знаю. Вроде бы такая прекрасная работа, по сути – шедевр во всем его творчестве. Зачем же он скрывал ее от людских глаз?
Мариэ молча сидела на табурете и с серьезным видом пристально рассматривала «Убийство Командора».
– Так вот, с тех пор, как я ее обнаружил, будто по чьему-то сигналу одно за другим начали происходить разные события. Всякие странности. Прежде всего со мной изо всех сил постарался сблизиться человек по фамилии Мэнсики. Господин Мэнсики, который живет на той стороне лощины. Ты же ездила к нему домой?
Мариэ слегка кивнула.
– Затем я обнаружил ту странную яму за кумирней в зарослях. Посреди ночи послышался звон бубенца, я пошел на звук и добрался до склепа. Точнее, звон раздавался из-под кучи камней. Сдвинуть их вручную не представлялось возможным – они были слишком большие и слишком тяжелые. Тогда господин Мэнсики вызвал рабочих, и с помощью экскаватора камни сдвинули. Зачем ему нужно было заниматься этим хлопотным делом, я и тогда не знал, не понимаю и теперь. Но как бы там ни было, благодаря трудам и средствам господина Мэнсики каменный курган разобрали. Под ним оказался склеп, округлое помещение метра два в диаметре. Каменные стены с хорошей кладкой, камни подогнаны очень плотно и тщательно. Кто и для чего строил склеп, остается только гадать. Конечно, теперь и ты знаешь о склепе, так?
Мариэ кивнула.
– Мы открыли склеп, и оттуда явился Командор. Тот же самый, что и на картине.
Я подошел к полотну и показал на Командора. Мариэ пристально смотрела на его фигуру, не меняясь в лице.
– Выглядел он точь-в-точь как этот и так же одет. Только ростом всего шестьдесят сантиметров, компактный такой. И у него был очень странный говор. Похоже, только мне он и являлся, называл себя идеей, говорил, что его замуровали в том склепе. А мы с господином Мэнсики его освободили. Тебе что-нибудь известно об идее?
Она покачала головой.
– Идея – это, в сущности, понятие. Но вовсе не значит, что любое понятие – идея. Например, любовь как таковая – пожалуй, не идея. А вот то, что к ней приводит, – вне сомнения, идея. Без идеи любовь существовать не может. Но стоит завести этот разговор, и ему не будет ни конца, ни края. Признаться, я и сам не знаю верного определения, но, как бы то ни было, идея – это понятие, а понятие – бесформенно. Нечто абстрактное. Но раз так, идея не будет видна человеческому глазу, и вот эта идея первым делом приняла облик Командора с картины – скажем так, позаимствовала его и предстала передо мной. Пока ясно?
– Примерно, – впервые проговорила Мариэ. – Я с ним тоже встречалась.
– Как встречалась? – удивленно переспросил я, уставившись на нее. У меня не было слов. И тут вдруг вспомнил слова, сказанные Командором в пансионате на плоскогорье Идзу. «Вот только недавно виделись, – говорил мне Командор. – Перебросились парой слов».
– Ты встречалась с Командором?
Мариэ кивнула.
– Когда? Где?
– В доме господина Мэнсики, – сказала она.
– И что он тебе сказал?
Мариэ опять поджала губы, тем самым как бы говоря: «Хватит пока что». И я оставил мысль о дальнейших расспросах.
– Возникали и другие персонажи этой картины, – продолжал я. – Видишь в левом нижнем углу мужчину со странным небритым лицом? Вот этого, – сказал я и показал. – Для себя я зову его Длинноголовым. Странный он – ростом сантиметров семьдесят, но тоже выбрался с полотна и объявился передо мной: подняв крышку, как и на картине, открыл мне проход и проводил в подземный мир. Вернее, я его заставил это сделать насильно и довольно грубо.
Мариэ долго рассматривала Длинноголового, но ничего не говорила. Я продолжал:
– Затем я миновал этот мрачный подземный мир, перевалил через холм, переправился за реку с быстрым течением и встретился с молодой и красивой женщиной, которая тоже здесь изображена. Вот она. По аналогии с персонажами оперы Моцарта «Дон Жуан» назовем ее Донна Анна. Она тоже была маленького роста и привела меня в боковой лаз пещеры, а потом вместе с моей умершей младшей сестрой поддерживала меня и помогала, пока я пробирался по нему. Если б не они, я бы так и застрял в том подземном мире. И кто знает, возможно, Донна Анна была любимой девушкой Томохико Амады, когда он стажировался в Вене. Ее казнили как политического преступника почти семьдесят лет назад. Хотя это не более чем мое предположение.
Мариэ смотрела на Донну Анну на картине. Все так же безучастно, словно белая зимняя луна.
А может, Донна Анна – умершая от укусов шершней мать Мариэ Акигавы, подумал я. И старалась она уберечь свою дочь Мариэ. Кто знает – вдруг Донна Анна одновременно олицетворяет разное, в зависимости от того, кто на нее смотрит? Но, конечно же, вслух этого я не произнес.
– У нас есть еще один мужчина, – сказал я и развернул картину, стоявшую на полу лицом к стене. Незаконченный портрет «мужчины с белым „субару форестером“». Если не приглядываться, на холсте виднелись только мазки краски трех цветов, однако в глубине этих густых штрихов был запечатлен облик мужчины с белым «субару форестером». Я так и видел его на полотне – а вот другие его не замечали. – Я же тебе его уже показывал, да?
Мариэ Акигава молча согласилась кивком.
– И ты еще сказала, что картина уже готова и хорошо оставить как есть.
Мариэ повторно кивнула.
– Здесь нарисован – или же должен быть нарисован – человек, которого я зову «мужчиной с белым „субару форестером“». Я встретился с ним в маленьком приморском городке в префектуре Мияги. То была очень загадочная и значительная встреча. Я совсем не знаю, что он за человек – даже имени его не знаю. Но при этом в один из дней я понял, что должен написать его портрет, – причем понял это весьма отчетливо. Так и начал рисовать – по памяти, вспоминая детали, – но почему-то завершить картину не смог. Вот она и остается как есть, замазанная краской.
Губы Мариэ по-прежнему были крепко сжаты ровной полоской. Затем она покачала головой.
– Действительно страшный, – сказала Мариэ.
– Кто? Он? – спросил я и проследил за ее взглядом. Мариэ пристально смотрела на мою картину «Мужчина с белым „субару форестером“». – Ты об этой картине? О этом мужчине?
Мариэ согласно кивнула опять. Выглядела она испуганной, но при этом вроде бы не могла отвести от картины взгляд.
– Ты видишь в ней этого мужчину?
Мариэ кивнула.
– Вижу – за мазками краски. Он там стоит и наблюдает за мной. В черной кепке.
Я взял картину и снова развернул к стене.
– Тебе на этой картине виден облик мужчины с белым «субару форестером». А обычным людям – нет, – сказал я. – Но лучше тебе впредь его не видеть, потому что тебе это пока что не нужно.
Мариэ опять кивнула, соглашаясь со мной.
– Существует ли на самом деле в этом мире мужчина с белым «субару форестером»? – продолжал я. – Это мне тоже неизвестно. Может, кто-то или что-то просто на время тоже позаимствовали у него облик – так же, как идея воспользовалась обликом Командора. Или, может, я просто вижу в нем собственное отражение. Однако в истинном мраке то была не просто моя проекция, а нечто живое и подвижное, да к тому же еще и достоверно осязаемое. Люди в тех краях называли это двойной метафорой. Я подумываю когда-нибудь закончить эту картину, но не сейчас – пока еще слишком рано, чересчур опасно. В этом мире бывает и такое, что нельзя вот так просто взять и выставить на свет. Однако я, пожалуй…
Мариэ пристально смотрела на меня и молчала. Осекшись, я уже не смог продолжить начатую фразу.
– …В общем, с помощью разных людей я пересек тот подземный мир, преодолел тесный и мрачный боковой лаз и как-то вернулся в мир этот. И почти одновременно и параллельно с этим ты тоже освободилась откуда-то и вернулась домой. Я нисколько не считаю это случайным совпадением. Ты куда-то пропала в пятницу – и я куда-то пропал на три дня, но в субботу. И мы оба вернулись во вторник. Эти два события наверняка должны быть как-то связаны между собой. И какую-то связующую роль сыграл здесь Командор, однако его в этом мире больше нет. Он завершил свою миссию и удалился куда-то навсегда. Остались только ты да я, и нам не остается ничего другого, как замкнуть этот круг. Ты мне веришь?
Мариэ кивнула.
– Вот что я хотел тебе рассказать. Поэтому и устроил так, чтобы нас оставили вдвоем.
Мариэ, не отрываясь, смотрела на меня. Я продолжал:
– Если рассказать, как все было на самом деле, думаю, никто меня не поймет, просто примут за сумасшедшего. Что ни говори, история выйдет неубедительная и совершенно неправдоподобная. Но я считал, что ты-то наверняка меня поймешь – ну и для полноты картины, так сказать, нужно увидеть «Убийство Командора», иначе сам разговор бессмыслен. Однако мне не хочется показывать ее кому бы то ни было, кроме тебя.
Мариэ молча смотрела на меня. В ее зрачки, похоже, свет жизни постепенно возвращался.
– В эту картину Томохико Амада вложил всю свою душу. Она наполнена его самыми глубокими мыслями, и в ней столько чувства, как будто писал он ее собственными плотью и кровью. Такие произведения удаются лишь раз в жизни. Он рисовал ее для себя – а еще для тех, кого уже нет на этом свете, если можно так сказать – за упокой. Этим произведением он совершал обряд очищения за пролитую кровь. Много пролитой крови.
– За-у-по-кой?
– Это реквием – произведение, чтобы усмирить духов, успокоить их, исцелить раны, утишить душевную боль. Поэтому для него не имели никакого смысла ни пустозвонная критика, ни хвалы окружающих, ни гонорар. Наоборот, всего этого не должно было быть. Его устраивало, что картина эта написана и существует где-то в этом мире – пусть даже завернутой в бумагу, спрятанной на чердаке подальше от людских глаз. И я хочу уважить его желание.
На время повисла глубокая тишина.
– Ты ведь давно приходишь сюда играть? По своей тайной тропе?
Мариэ Акигава кивнула.
– А с самим Томохико Амадой встречалась?
– Видела его, но так, чтобы встречаться и разговаривать, – нет. Только наблюдала за ним украдкой издалека. Как он рисовал картину. Ведь я, получается, самовольно проникла на чужую тер-ри-то-ри-ю.
Я кивнул, и сцена живо нарисовалась у меня перед глазами. Спрятавшись в тени густых зарослей, Мариэ украдкой следит за мастерской. Томохико Амада, сидя на табурете, сосредоточенно водит кистью. Ему совершенно невдомек, что кто-то за ним может подсматривать.
– Вы хотели, чтобы я вам помогла?
– Да, – ответил я. – Нужно хорошенько упаковать две эти картины и спрятать их на чердаке подальше от людских глаз. «Убийство Командора» и «Мужчину с белым „субару форестером“». Поскольку я считаю, что они нам больше не нужны. Я хочу, чтобы ты помогла мне это сделать.
Мариэ молча кивнула. Мне и впрямь не хотелось проделывать это в одиночку. Помимо реальной помощи с упаковкой мне требовался очевидец и свидетель – кто-то неболтливый, с кем я бы мог поделиться тайной.
Я принес из кухни шпагат и резак. И мы вместе с Мариэ хорошенько упаковали «Убийство Командора» – осторожно обернули в прежнюю коричневую бумагу васи, обвязали шпагатом, сверху покрыли белой тканью и поверх опять перетянули шпагатом. Крепко-накрепко, чтобы такую упаковку не удалось вскрыть запросто. На «Мужчине с белым „субару форестером“» краска еще не высохла, поэтому мы ограничились простой упаковкой. Затем с картинами в руках мы зашли в стенной шкаф гостевой комнаты. Я встал на стремянку, отворил люк в потолке (он все-таки весьма напоминал мне ту квадратную крышку, которую приподнимал Длинноголовый) и забрался на чердак. Воздух там оказался прохладным, но то была скорее приятная прохлада. Мариэ снизу подала мне картины, я их принял. Сначала полотно Томохико Амады, затем свое. И приставил их к стене одну рядом с другой.
И вдруг заметил, что на чердаке я не один. Там ощущалось еще чье-то присутствие. У меня невольно перехватило дыхание – здесь кто-то есть!.. Но кем-то оказался филин – пожалуй, тот же самый, кого я видел, поднявшись сюда в первый раз. Ночная птица сидела на той же балке и так же тихонько отдыхала, особо не обращая внимания на то, что я к ней подкрался. Так у нас с ним было и в прошлый раз.
– Слушай, поднимайся сюда, – позвал я сверху Мариэ. – Покажу тебе одну классную штуку. Только не шуми и поднимайся тихо.
Она, не скрывая интереса, поднялась по стремянке и через люк начала выбираться на чердак. На полу здесь лежал тонкий слой пыли, и я подтянул Мариэ руками наверх, чтобы она не испачкала свою новую шерстяную юбку. Но девочку, похоже, это нисколько не беспокоило. Я сел и показал на балку, где спал филин. Мариэ, встав рядом со мной на колени, зачарованно смотрела на птицу. Та была очень красива и походила на кошку с отросшими крыльями.
– Этот филин давно здесь прижился, – тихо сказал я девочке. – На ночь улетает в лес за добычей, а утром возвращается. Так и живет. Вон там у него вход.
Я показал на вентиляционный лючок с дырявой сеткой. Мариэ кивнула. Ее мелкое тихое дыхание коснулось моего уха.
Мы продолжали молча смотреть на филина, а тот спокойно и скромно сидел себе, не обращая на нас ни малейшего внимания. У нас с ним сложилось негласное понимание того, что мы вместе делим этот кров. Один из нас активен ночью, другой – днем, и потому царство сознания у нас тоже поделено поровну.
Мариэ взяла меня за руку своей маленькой ладошкой, а голову опустила мне на плечо. Я мягко пожал ей руку. Примерно так же мы подолгу сиживали с моей сестрой Коми. Мы были дружными братом и сестрой, всегда умели чувствовать настроение друг дружки. Пока смерть не разлучила нас.
Было заметно, как Мариэ расслабляется: постепенно спадало напряжение, сковывавшее ее тело. Я гладил ее по голове, лежавшей у меня на плече. Волосы у нее прямые и мягкие. Прикоснувшись к щеке девочки, я ощутил на ней влагу – горячие слезы, будто кровь, бьющая из сердца. Я, не шевелясь, некоторое время сидел, обняв ее. Ей нужно поплакать. Но получалось это у нее неумело – вероятно, так было всегда. И мы с филином, ничего не говоря, сторожили Мариэ, пока она плакала.
Через вентиляционное отверстие с рваной проволокой на чердак струились косые лучи дневного солнца. Нас окружали только тишина да белая пыль. Тишина да пыль, похоже, присланные нам из далекой древности. Ветра тоже не было слышно. И филин, сидя на балке, безмолвно сохранял мудрость леса. Ее он тоже унаследовал от далекой древности.
Мариэ Акигава плакала долго – и совершенно беззвучно, только мелкая дрожь ее плеч выдавала, что она плачет. Я продолжал мягко гладить ее по волосам. Мы оба словно бы брели вспять, вверх по течению реки времени.
60
Если у человека руки будут очень длинные
– Я была в доме господина Мэнсики. Все эти четыре дня, – сказала Мариэ Акигава. Поплакав некоторое время, она смогла наконец-то говорить.
Мы с нею вернулись в мастерскую. Мариэ сидела на рабочем табурете, плотно сжав колени, не прикрытые юбкой, я стоял, прислонившись к подоконнику. Ноги у Мариэ были очень красивые – это можно было понять даже в толстых лосинах. Созреет она еще немного – и эти ноги наверняка будут манить к себе целые толпы мужчин. К тому времени, глядишь, и грудь у нее набухнет. А пока что она – лишь неуравновешенная девочка, которая оказалась в замешательстве на самом пороге жизни.
– Была в доме господина Мэнсики? – переспросил я. – Ничего не понимаю. Можешь объяснить подробнее?
– Я пошла к господину Мэнсики, считая, что должна узнать его лучше. Прежде всего мне хотелось выяснить, почему он каждый вечер пялится на мой дом в бинокль. Мне кажется, он нарочно для этого купил тот большой дом. Чтобы смотреть на наш – с той стороны. Но зачем ему это нужно, я никак не могла взять в толк, ведь это же не пустяки. Мне казалось, на то должна быть очень веская причина.
– И потому ты посетила дом господина Мэнсики?
Мариэ качнула головой.
– Не посетила. А проникла. Украдкой. А потом не смогла оттуда выбраться.
– Проникла?
– Да, будто взломщица. Хотя поступать так я совсем не собиралась.
В пятницу, когда закончились утренние занятия, она сбежала из школы через задний двор. Если ученика нет с самого утра и об этом не предупреждали, из школы сразу же звонят домой. А вот если сбежать и пропустить все уроки после обеда, никто звонить не станет. Не знаю, почему, но так у них принято. Прежде она ничего подобного себе не позволяла, поэтому надеялась, что, даже если учитель сделает ей замечание, на первый раз как-нибудь да получится выкрутиться. Она села в автобус, вышла недалеко от дома, но домой не пошла, а забралась на противоположную гору и оказалась перед особняком Мэнсики.
Проникать в имение украдкой она изначально не собиралась – такая мысль не приходила ей в голову даже мимоходом. Однако при этом просить его о встрече как полагается, позвонив в дверь, в ее планы тоже не входило. Вообще-то у нее не было никакого плана. Тот белый особняк просто ее притягивал, словно магнит железо. Однако одним взглядом на дом из-за ограды загадку Мэнсики не разгадать, это Мариэ понимала. Но при этом свое любопытство сдержать не могла, и ноги сами вели ее туда.
Чтобы добраться до особняка, ей пришлось подняться по весьма долгому склону. Оглянувшись, она увидела, как меж горами ослепительно поблескивает море. Особняк окружала высокая ограда, вход преграждали массивные ворота на электроприводе. По обеим сторонам висели камеры наружного наблюдения. На столбе Мариэ заметила наклейку охранной компании. С налету эту крепость не взять. Девочка спряталась в зарослях недалеко от ворот и некоторое время осматривалась. Однако ни в особняке, ни вокруг него не заметила никакого движения: никто не входил и не выходил, и никаких звуков из дома не доносилось.
Проведя так с полчаса, она, уже махнув рукой, собиралась восвояси, как вдруг увидела медленно взбиравшийся по склону микроавтобус. Судя по расцветке – службы доставки. Автомобиль остановился перед воротами, распахнулась дверца, и вышел молодой работник в мундире и с планшетом в руке. Он приблизился к воротам, нажал на звонок на столбе ворот и коротко переговорил с кем-то по внутренней связи. Вскоре большая деревянная створка медленно отворилась внутрь, мужчина запрыгнул в кабину и въехал на участок.
Раздумывать было некогда. Едва машина заехала, как Мариэ выскочила из зарослей и что было сил побежала – и успела проскользнуть внутрь, пока ворота закрывались. Успела едва-едва – ворота тут же захлопнулись у нее за спиной. Возможно, ее засняли видеокамеры – но если и так, то никто не прибежал и не окликнул ее. Она боялась не столько камер, сколько собак: вдруг по участку свободно ходят сторожевые псы? Но, пока бежала, об этом даже не думала, а как только оказалась внутри и ворота закрылись, с содроганием поймала себя на этой мысли. Ничего удивительного, если по такому просторному поместью свободно разгуливают доберманы или овчарки. Шутка ли попасться такой собаке в лапы. Собак она боялась, но, к счастью, в имении их не оказалось – никто не лаял даже вдали, а когда они с тетей были здесь не тайно, речи о собаках не заходило.
Она спряталась в кустах у ограды и осмотрелась. В горле неприятно пересохло. Я забралась в дом, как вор, думала она. Нарушаю закон. Камеры наверняка уже записали мое преступление.
Она вовсе не была уверена, правильно поступила или нет. Видя, как микроавтобус минует ворота, рванула внутрь чуть ли не машинально. Прикидывать, чем это может закончиться, времени у нее не оставалось, и другой такой возможности не выпадет. Решаться нужно было сразу, а дальше – мгновенный поступок. Тело само выбрало не вдаваться в смысл, а действовать. Но при всем этом Мариэ почему-то отнюдь не раскаивалась.
Из кустов она видела, как микроавтобус доставки вскоре вновь взобрался к воротам по извилистой дорожке. Створки еще раз неспешно отворились, машина стала выезжать. Если отступать, то именно сейчас – выбегать, пока ворота не закрылись совсем. Так ей удастся вернуться в прежний безопасный мир, и она как бы не станет преступницей. Но этого она не сделала. Спрятавшись в кустах, Мариэ лишь смотрела, как медленно закрываются створки. Непрерывно покусывая губы.
Затем подождала десять минут. Засекла на своих наручных часиках «Casio G-Shock» ровно десять минут, после чего вышла из кустов. Пригнувшись, чтобы не попадаться в объективы камер, быстро сбежала по плавному склону к крыльцу. Часы показывали половину третьего.
А на ходу размышляла, как ей поступить, если попадется на глаза Мэнсики. Но если даже это и случится, Мариэ была уверена, что как-нибудь выкрутится. Ей казалось, что Мэнсики питает к ней глубокий интерес – или нечто похожее на то. «Гуляла в этой округе, – скажет. – Ворота оказались открытыми, вот я и вошла». Как будто это игра. Скажет так с детским невинным личиком – и Мэнсики наверняка ей поверит. Ведь этот человек хочет во что-то верить. Если я так скажу, думала она, он должен поверить мне на слово. Но с чего бы у него к ней возникал этот самый интерес и каковы его намерения, она, конечно, не знала.
Внизу, за поворотом шедшей под уклон дорожки она увидела крыльцо. У двери – звонок. Однако звонить в него, конечно же, было нельзя. Она обогнула подъездной круг и, прячась за отдельными деревьями и кустами, пустилась вдоль бетонной стены дома по часовой стрелке. Сбоку от крыльца располагался гараж на две машины, рольставня ворот опущена. Еще немного дальше, чуть в стороне от дома стоял стильный флигель, похожий на коттедж, судя по всему – для гостей. За ним виднелся теннисный корт. Дом с теннисным кортом Мариэ видела впервые в своей жизни. Интересно, с кем здесь играет в теннис господин Мэнсики? Но корт выглядел заброшенным, будто им не пользовались очень давно. Сетка снята, все покрытие замело опавшей листвой, белые линии разметки поблекли.
Окна особняка со стороны гор были маленькие, на всех плотно опущены жалюзи, поэтому заглянуть в дом через окна не получалось. Изнутри по-прежнему не доносилось никаких звуков. Собачьего лая тоже не слышно, только иногда на высоких ветвях щебетали птахи. Мариэ прошла чуть дальше, и за домом оказался еще один гараж – тоже на две машины. Похоже, его пристроили позже. Дом оборудован для того, чтобы хранить в нем много машин.
За домом на склоне был разбит просторный сад в японском стиле. Там имелась лестница, стояли тщательно расставленные грубые валуны и, будто сшивая их воедино, тянулись дорожки. Еще очень красиво там были подстрижены кусты азалии и над головой свои ветви тянули сосны ярких оттенков зелени. В глубине виднелось строение, напоминавшее беседку. Внутри стояла кушетка с откидной спинкой – на такой удобно отдыхать и читать книги. Рядом – кофейный столик. Там и тут расставлены садовые светильники – фонари-драконы.
Затем Мариэ повернула за угол дома и оказалась на стороне, выходящей в лощину. Там к дому примыкала широкая терраса. Прежде она уже выходила на эту террасу – оттуда Мэнсики наблюдает за ее домом. Стоило ей только зайти на террасу, как сразу стало ясно – она уловила это вполне отчетливо.
Мариэ сосредоточенно смотрела в сторону своего дома – тот стоял сразу по ту сторону лощины. Казалось, стоит лишь протянуть руку (если у человека руки будут очень длинные) – и можно до него дотянуться. Отсюда ее дом выглядел совсем беззащитным. Когда его строили, на этой стороне не было ни одного дома, а с этой стороны строительство началось недавно (но все равно больше десяти лет назад), когда ослабили некоторые нормы застройки. Поэтому дом, в котором она живет, никак не защищен от взглядов с противоположной стороны: все видно почти как на ладони. И мощного бинокля или подзорной трубы хватит, чтобы разглядеть, что происходит у них за окнами. Например, у нее в комнате, если присмотреться, все видно весьма отчетливо. Она, разумеется, девочка осмотрительная, поэтому, переодеваясь, например, всегда задвигает штору. Но нельзя утверждать, будто она никогда не бывает рассеянной. Что же Мэнсики уже успел разглядеть?
Она спустилась по наружной лестнице у дома и оказалась этажом ниже, где располагалась библиотека, но и здесь окна были плотно закрыты жалюзи. Что там внутри – не разглядеть. Тогда она спустилась еще ниже. Там в основном находились служебные и технические помещения: прачечная, гладильная, комната для прислуги, с другой стороны – весьма просторный спортзал, где внутри помещались пять или шесть тренажеров. Они, в отличие от теннисного корта, похоже, использовались весьма часто: все выглядели до блеска отшлифованными и аккуратно смазанными. К потолку была подвешена крупная боксерская груша. С этой стороны бдительность блюли не так строго, как на противоположной: многие окна здесь были даже без штор, все хорошо видно прямо с улицы. Но все равно все окна и двери прочно закрыты с внутренней стороны, так что попасть внутрь невозможно. И на дверях тоже – этикетки охранной компании, чтобы воры оставили даже саму мысль чем-то поживиться в этом доме. Стоит взломать дверь – и в охранную компанию поступит сигнал тревоги.
Особняк оказался очень большим. Мариэ с трудом верилось, что в таком громадном доме и на такой обширной территории проживает всего один человек. И при этом, несомненно, живет очень одиноко. Особняк сделан из бетона, все входы и выходы перекрыты – муха не пролетит. Больших собак хоть и не видно (быть может, он их просто терпеть не может), но для защиты применяются все мыслимые средства.
Как же ей быть дальше? У Мариэ не возникло никаких соображений. Попасть внутрь дома она не могла, но и за ограду выбраться – тоже никак. Вне сомнения, Мэнсики сейчас дома: это же он сам нажал на кнопку, чтобы принять что-то у службы доставки. Уборщики приезжают к нему раз в неделю, а помимо них посторонних в доме почти не бывает. Так говорил сам Мэнсики, когда они с тетей были у него в гостях.
Попасть внутрь невозможно, поэтому нужно спрятаться где-то снаружи. Если просто бродить вокруг, ее наверняка заприметят. Поискав, в углу сада она обнаружила сарай, где хранился инвентарь. Дверь была не заперта. Внутри лежали садовые инструменты и шланги, аккуратно лежали мешки с удобрениями. Она вошла туда и уселась на такой мешок. Конечно, место не самое удобное, но, если отсюда не выходить, можно не бояться, что попадешься в объективы камер. Вряд ли кто-то придет сюда проверять. А тем временем наверняка что-нибудь произойдет. Нужно только подождать.
Ситуация вроде бы казалась безвыходной, но Мариэ все равно ощущала в себе скорее эдакую приподнятость. Тем утром, стоя после душа голой перед зеркалом, она заметила, что грудь у нее уже начала чуть набухать. И это, наверное, тоже теперь добавило ей бодрости. Хотя, конечно, просто могло показаться, и она выдала желаемое за действительное. Те мягкие выпуклости, которых – как ни старалась она беспристрастно смотреть под разными углами, как ни пыталась их потрогать – совсем недавно еще не было, теперь, как ей казалось, начали возникать. Соски оставались все такими же маленькими (никакого сравнения с тетушкиными, напоминавшими косточку маслины), однако в них уже угадывались признаки начала роста.
Время в сарае текло в думах о маленьких выпуклостях груди. Мариэ воображала, как эти выпуклости постепенно будут расти. Каково это – жить с пышными формами? Мариэ представила себя в настоящем бюстгальтере достойного размера – например, таком, какой носит ее тетя. Но до этого еще далеко. Даже месячные у нее только-только начались весной этого года.
Ей захотелось пить, но пока можно потерпеть. Мариэ посмотрела на свои массивные часы: «G-Shock» показывали пять минут четвертого. Сегодня пятница, занятие в изокружке, которое она сразу решила пропустить. Даже не захватила сумку с кисточками и красками. Но если она не вернется домой к ужину, тетя наверняка станет переживать, поэтому еще нужно будет придумать подходящее оправдание.
Затем она вроде немного поспала, хоть и сама не могла поверить, что сможет даже ненадолго уснуть в такой обстановке и в таком месте. Однако сама не заметила, как задремала – минут на десять или пятнадцать. Всего-то. А может – и того меньше, но при этом – глубоко. Когда же, вздрогнув, Мариэ проснулась, сознание у нее раздвоилось. Какой-то миг она не могла понять, где сейчас находится и что здесь делает. В минуты забытья она, похоже, успела увидеть туманный сон. Тот был как-то связан с пышной грудью и молочным шоколадом. Во рту у Мариэ скопилась слюна. Затем девочка быстро вспомнила: «Я проникла в дом Мэнсики и прячусь в садовом сарае».
Ее разбудил какой-то звук, долгий и механический. То с лязгом поднималась дверь гаража, что располагался рядом с крыльцом. Возможно, Мэнсики, сев в машину, собирается куда-то уезжать. Мариэ тут же выскочила из сарая и крадучись направилась к передней части дома. Когда рольставня поднялась до упора, моторчик смолк. Зато завелся двигатель машины, и медленно показалась морда серебристого «ягуара». За рулем сидел Мэнсики. Стекло с его стороны было опущено, и в лучах солнца поблескивали его белоснежные волосы. Мариэ наблюдала за ним из кустов.
Если бы Мэнсики повернул голову чуть правее, он бы наверняка заметил фигурку Мариэ в тени кустов. Слишком маленьким было это укрытие, чтобы за ним можно было полностью спрятаться. Однако Мэнсики смотрел прямо перед собой. Могло показаться, что он, сжимая руль, о чем-то серьезно размышлял. «Ягуар» проехал вперед и, повернув перед домом, пропал из виду. Железные жалюзи гаража начали медленно опускаться. Тогда Мариэ выскочила из своего укрытия и стремглав поднырнула под почти опустившуюся рольставню. Так это делал Индиана Джонс в фильме «В поисках утраченного ковчега». Это с ней также произошло мгновенно и машинально. Мариэ моментально решила: стоит оказаться в гараже – а оттуда наверняка можно будет пробраться внутрь. Гаражный сенсор, что-то почувствовав, на миг притормозил закрытие, но рольставня продолжила опускаться и вскоре плотно закрылась.
В гараже стояла еще одна машина – изящный темно-синий спортивный автомобиль с бежевым куполом – тот самый, который прежде с восхищением разглядывала тетя. Мариэ машины не интересовали, вот и на эту она даже не посмотрела. Она была с жутко длинным носом и такой же эмблемой, как и серебристый «ягуар». То, что она очень дорогая, могла легко представить даже ничего не понимавшая в машинах Мариэ. Да к тому же, вероятно, еще и коллекционная.
В глубине гаража виднелась дверь в дом. С замиранием сердца Мариэ повернула ручку и поняла, что она не заперта. Девочка выдохнула с большим облегчением. Ну кто будет днем закрывать дверь из гаража в дом? Но Мэнсики человек осторожный и осмотрительный, поэтому она особо ни на что и не надеялась. Однако Мэнсики, возможно, глубоко задумался о чем-то важном, так что можно сказать, что ей повезло.
Через ту дверь она и проникла в дом. Она не знала, как поступить с обувью, но в итоге решила разуться и нести ее в руках. Оставлять здесь не годилось. В доме стояла гробовая тишина, как будто все вокруг затаило дыхание. Теперь, когда Мэнсики куда-то уехал, она была уверена, что здесь больше никого нет. Сейчас в этом особняке нахожусь только я, думала она. И какое-то время могу ходить, куда захочу, и делать все, что мне вздумается.
Когда она побывала здесь раньше, Мэнсики провел их с тетушкой по дому, и Мариэ все хорошенько запомнила. Расположение комнат в доме она себе представляла. Первым делом направилась в гостиную, занимавшую почти весь первый этаж. Оттуда можно выйти на просторную террасу – через стеклянную раздвижную дверь. Недолго Мариэ колебалась, можно ли ее открыть или нет. А вдруг, уезжая, Мэнсики включил сигнализацию? И стоит лишь приоткрыть эту дверь, как сразу заголосит сирена, замигает лампа сигнализации охранной компании. Оттуда позвонят сюда – выяснить, что происходит. Чтобы прекратить гвалт, нужно будет назвать пароль… – так размышляла Мариэ, держа в руках свои черные туфли.
Но затем она пришла к выводу, что хозяин не включал сигнализацию. Раз уж он не запер дверь из дома в гараж, значит, далеко уезжать не собирался. Так, за покупками или что-нибудь вроде того. Мариэ решительно повернула ручку стеклянной двери и открыла ее изнутри. Немного подождала – звонок не зазвенел, из охранной компании не позвонили. Тогда она, выдохнув с облегчением (если бы примчались на машине охранники, шутками бы она уже не отделалась), вышла на террасу. Там опустила туфли на пол и сняла пластмассовый кожух с крупного бинокля. Тот оказался слишком тяжелым для нее, и она положила было его на перила террасы, как на подставку, но все равно управлялась с трудом. Мариэ огляделась и обнаружила у стены подставку для бинокля. Та напоминала треногу и была такого же бледно-оливкового цвета, что и сам бинокль.
Бинокль крепился к ней на шарнире. Мариэ установила его, села рядом на низкий табурет и прильнула к окулярам. Теперь ей было удобно смотреть, а вот с обратной стороны ее не было видно. Вот так наверняка Мэнсики и следит за другой стороной лощины.
Мариэ поразило, насколько отчетливо ей стало видно все, что было у нее дома. Сквозь линзы все выглядело на порядок четче и ярче, чем на самом деле. Наверное, у бинокля для этого есть какая-то особая оптическая функция. Некоторые окна, выходившие на лощину, оказались не зашторены, и Мариэ могла разглядеть в них все вплоть до мельчайших предметов, точно до них было рукой подать. И вазу, стоявшую на столе, и лежавший рядом с ней журнал. Тетушка наверняка дома, вот только ее нигде не видно.
Какое же это все-таки странное чувство – видеть издалека свое жилище в мельчайших деталях. Такое ощущение, будто сама уже умерла (не важно, как, но раз – и уже мертвая) и наблюдаешь с того света за домом, в котором жила прежде. Долгое время он был твоим, но больше тебе там не место. Близок и знаком до боли, но вернуться в него ты уже никогда не сможешь. Такое вот странное отчуждение охватило Мариэ.
Затем она посмотрела на свою комнату. Окно ее выходило в лощину, но было завешено шторами – плотно, без единой щели. Шторы привычного оранжевого цвета с рисунком изрядно выцвели на солнце и заметно потускнели. Что за шторами, не разобрать, а вот вечером, когда в доме горит свет, ее собственный силуэт должен быть смутно виден. Насколько – не поймешь, пока не окажешься здесь ночью. Мариэ потихоньку вращала бинокль на подставке. Где-то в доме должна быть тетушка, но Мариэ нигде ее не видела. Может, хлопочет на кухне – готовит ужин? А может, отдыхает у себя в комнате? Так или иначе, другую сторону дома отсюда не видно.
Мариэ захотелось прямо сейчас вернуться домой, и желание молниеносно захлестнуло ее. Хочу сидеть на обычном кухонном стуле, и пить из своей кружки горячий черный чай, и смотреть, как тетя готовит еду. Как это было бы прекрасно! – думала она. Прежде она даже на миг не могла себе представить, что когда-нибудь станет с любовью думать о собственном доме. Она долго считала его пустым и безобразным – ей было нестерпимо неприятно в нем жить. Она мечтала поскорее стать взрослой, чтобы покинуть этот дом и поселиться одной в таком жилище, что будет ей по душе. Однако прямо сейчас, глядя на свой дом с другой стороны лощины сквозь линзы бинокля, она желала в него вернуться во что бы то ни стало. Потому что там, как ни крути, моя родина – и там мне надежно и безопасно.
В ту минуту ей послышался легкий гул, она оторвалась от бинокля и увидела, как в небе летит нечто черное. Пчела! Крупная пчела с длинным телом – наверное, все-таки шершень. Агрессивная тварь, которая убила ее мать, с очень острым жалом. Мариэ поспешно заскочила в дом и, плотно задвинув стеклянную дверь, заперла ее. Шершень какое-то время кружил за стеклянной дверью, будто бы подкарауливая Мариэ. Он даже несколько раз бился в стекло, но вскоре отчаялся и куда-то улетел. Мариэ облегченно перевела дух, но дышать ей все еще было тяжело, сердце чуть не выпрыгивало из груди. Шершни – она их боится больше всего на свете. Сколько раз отец рассказывал ей, какие они страшные создания. Сколько раз она видела их на картинках в атласе природы. Постепенно ей стало страшно, что она когда-нибудь разделит участь матери – умрет, искусанная шершнями, ведь не исключено, что она унаследовала от матери аллергию на пчелиный яд. Когда-нибудь и она умрет, с этим ничего не поделаешь, но это должно произойти намного позже. Прежде ей хотелось бы все-таки хоть раз ощутить, каково это – иметь пышную грудь и упругие соски? А умереть раньше от укуса шершня – очень жестоко и несправедливо.
Мариэ посчитала, что на улицу лучше пока не высовываться. Эти свирепые шершни наверняка еще могут вернуться. Ей казалось, будто эти твари теперь выбрали ее чуть ли не своей личной мишенью, и потому решила подробнее изучить дом изнутри, а по участку снаружи не бродить.
Первым делом она обошла всю просторную гостиную и не заметила никаких изменений с прошлого визита. Там стоял большой рояль «Стейнвей», на котором лежало несколько партитур. Инвенция Баха, соната Моцарта, ноктюрн Шопена, все технически – не самые сложные произведения. Но даже такое играть не каждому по силам, Мариэ это понимала. Она некогда брала уроки игры на фортепьяно (но особо не преуспела – к рисованию ее тянуло больше).
На кофейном столике с мраморной крышкой лежало несколько книг, все – начатые, страницы заложены закладками. Один том – философский трактат, другой – книга по истории, еще две книги – что-то художественное (одна из них – на английском). Названий она прежде никогда не видела, авторов тоже не знала. Немного полистала несколько, но содержание ее ничуть не заинтересовало. Хозяин дома читает заумные книги, любит классическую музыку. А между делом украдкой наблюдает через мощный бинокль за ее домом на другой стороне лощины.
Он просто извращенец? Или здесь все-таки имеется какая-то цель? Он что – интересуется тетушкой? Или мной? Или нами обеими, пусть такое и кажется немыслимым?
Затем Мариэ решила изучить комнаты этажом ниже. Спустившись по лестнице, двинулась прямиком в кабинет Мэнсики. Там на стене висел портрет хозяина дома – Мариэ остановилась посередине комнаты и некоторое время его рассматривала. Картину эту она видела и раньше (собственно, чтобы ее посмотреть, они с тетушкой сюда и приезжали). Однако теперь она пристально всматривалась в полотно заново, и у нее постепенно возникло ощущение, будто Мэнсики и вправду здесь. Поэтому она торопливо отвела взгляд и осторожно, стараясь не попадаться портрету на глаза, один за другим принялась осматривать предметы на столе. Мощный стационарный компьютер «Apple», но включать его она не стала: Мариэ прекрасно понимала, что на компьютере установлена гибкая защита, которая будет ей не по зубам. Другого на столе было не так уж и много. Перекидной еженедельник – но почти без записей, лишь местами – непонятные значки и цифры. Вероятно, настоящий календарь у него в компьютере да на разных гаджетах. Конечно, все они – под надежной защитой программ: господин Мэнсики – человек очень бдительный и следов после себя не оставляет.
Кроме того на столе были разложены самые обычные канцелярские принадлежности, какие встречаются на столах в любых обычных кабинетах. Карандаши почти все одинаковой длины – с красиво заточенными грифелями. Скрепки в ячейках по размеру. Чистый белый лист для записей терпеливо дожидался, когда на нем что-нибудь напишут. Электронные настольные часы достоверно отсчитывали время. Во всяком случае, все здесь содержалось в пугающем порядке. Если он только не искусно созданный киборг, подумала Мариэ, то у человека, именуемого «господин Мэнсики», вне сомнения, должна быть хоть какая-то странность.
Все выдвижные ящички стола, конечно, оказались замкнуты, кто бы сомневался. Больше в кабинете смотреть было не на что. Ни стоявшие на полках книги, ни стеллажи с компакт-дисками, ни дорогая аудиоаппаратура ее внимания не привлекли. Все это лишь проявления его пристрастий и вкусов, которые не помогут лучше узнать его как человека и никак не связаны с тайной, которую он, вероятно, хранит в себе.
Оставив кабинет, Мариэ двинулась по тусклому коридору, отворяя двери некоторых комнат. Все они были не заперты. В прошлый приезд эти комнаты им не показали – их проводили только в гостиную на первом этаже, а еще в кабинет, столовую и кухню этажом ниже (и еще Мариэ сходила в туалет для гостей на первом этаже). Теперь же она одну за другой распахивала двери в незнакомые комнаты. Первая оказалась спальней Мэнсики – главной, очень просторной, с гардеробной и ванной комнатами. Большая двойная кровать, постель заправлена очень аккуратно, поверх накинуто стеганое покрывало. Горничная в доме не живет, выходит, постель Мэнсики заправляет сам? Даже если и так, что в этом удивительного? В изголовье лежит аккуратно сложенная пижама темно-коричневого цвета. На стенах спальни – несколько маленьких гравюр, похоже на серию одного автора. На тумбочке – еще одна начатая книга. Этот человек постоянно читает в разных местах. Окно спальни выходило на лощину, но было небольшим, и жалюзи опущены.
Мариэ толкнула дверь в гардеробную: ей открылось просторное помещение, заставленное рядами одежды. Полных костюмов мало, сплошь пиджаки и блейзеры, галстуков тоже было немного. Вероятно, носить формальную одежду ему особо не приходится. Сорочки все только что из химчистки, упакованы в полиэтилен. На полках рядами расставлены кожаные полуботинки и мокасины. Чуть в стороне висела верхняя одежда самой разной толщины и плотности. Подобранные со вкусом вещи содержались в идеальной чистоте, хоть сейчас на страницы модного журнала. Количество их не то что было очень велико, но и не сказать, что одежды у Мэнсики мало, – и во всем сохранялась разумная умеренность.
Выдвижные ящики комода были полны носков, платков, трусов и нательных маек: все свернуты без единой морщинки и аккуратно разложены. Были также отдельные ящики под джинсы, рубашки поло и толстовки. Для свитеров оказался предусмотрен отдельный ящик, размером побольше. Там были собраны красивые свитеры разных расцветок, все без узоров. Однако и в гардеробной не нашлось ничего такого, что приоткрыло бы тайну Мэнсики. Все было совершенно чистым и рассортированным по своей функциональности, на полу – ни пылинки, развешанные по стенам литографии – все как по линейке.
Про Мэнсики Мариэ отчетливо поняла одно: жить с таким человеком она бы ни за что не смогла. Для обычного живого человека так существовать просто невыносимо. Насколько ее тетушка любит порядок, но до такой тщательности не доходит даже она.
Следующая комната, похоже, была гостевой спальней. В ней стояла заправленная двойная кровать, у окна – письменный столик и офисное кресло. Был даже телевизор, но никаких следов и признаков того, что в ней когда-либо кто-то ночевал. Складывалось такое ощущение, что эту комнату, если можно так выразиться, позабыло время. Выходит, господин Мэнсики не такой уж и гостеприимный хозяин, а спальню для гостей держит просто на всякий случай (какой? даже трудно себе представить).
Соседняя с ней комната была чем-то вроде кладовой. Кровати здесь не было, а на полу, покрытом зеленым ковром, штабелем высился с десяток картонных коробок. Судя по весу – с документами, на приклеенных бирках – какие-то знаки, нанесенные шариковой ручкой. Каждая коробка была прочно обмотана скотчем. Мариэ предположила, что в них какие-то его рабочие документы. В этих коробках, возможно, скрывается некий важный секрет, но это, несомненно, – его секрет по работе, никак не относящийся ко мне.
Ни одна из комнат не была заперта, и окна каждой, плотно закрытые жалюзи, выходили на лощину. Некому здесь наслаждаться ярким солнечным светом и превосходным видом. В комнате было мрачно, и стоял затхлый дух заброшенности.
А вот четвертая комната оказалась для Мариэ самой занимательной. То есть сама комната особо ничем внимание не привлекла – в ней почти не было мебели. Только стул из столового гарнитура да деревянный столик, лишенный какого бы то ни было своеобразия. Голые стены без картин, ощущение пустоты. Хоть бы какое украшение. Похоже, в эту комнату вообще редко заходят. Но когда Мариэ из любопытства приоткрыла дверки встроенного гардероба – увидела в нем женскую одежду. Не очень много, но взрослой женщине вполне хватило бы на несколько дней. Мариэ представила, что в этом доме, вероятно, регулярно останавливается женщина и потому хранит здесь свои вещи, и невольно нахмурилась. Интересно, а тетушка знает, что у Мэнсики есть такая вот женщина?
Однако девочка сразу поняла, что ошиблась: вся висевшая на плечиках одежда без единого исключения оказалась старых фасонов примерно пятнадцатилетней давности. И платья, и блузки, и юбки – все известных марок, стильные и, по всей видимости, очень дорогие. Но теперь такую одежду никто не носит. Мариэ не особо разбиралась в моде, но такое было понятно и так. Наверняка одежда эта была писком моды еще до ее, Мариэ, рождения, а теперь вся отдает нафталином. Висела она здесь явно уже очень долго, однако за ней, похоже, хорошо следили, потому что Мариэ не заметила никаких признаков моли. Температуру и влажность здесь тоже, судя по всему, поддерживали, потому что одежда не выцветала. Размер платьев – 5. Рост женщины – сантиметров сто пятьдесят пять. Судя по размеру юбок, у нее была очень хорошая фигура. Размер обуви – двадцать третий[10].
Выдвижные ящики хранили в себе трусики, носки, пеньюары. Чтобы не пылились, все были упакованы в целлофан. Мариэ достала первое, что попалось ей под руку – бюстгальтер размера 65C. Глядя на его чашечки, она представила себе форму груди той женщины. Пожалуй, чуточку меньше, чем у тетушки (а форму сосков, разумеется, она знать не могла). Все белье там было изящным, тонкой работы – и даже чуточку сексуальным. Такое отборное белье обеспеченная взрослая женщина приобретает в дорогих бутиках для интимной близости с любящим ее мужчиной. Тончайший шелк и кружева – все сплошь требовало стирки вручную. Такое не надевают, чтобы постричь газон перед домом. В ящиках тоже сильно пахло нафталином. Мариэ все осторожно свернула, положила в целлофан и закрыла ящик гардероба.
Всю эту одежду лет пятнадцать-двадцать назад носила женщина, которая прежде была в близких отношениях с Мэнсики, – к такому выводу пришла Мариэ. И почему-то женщина эта, носившая одежду пятого размера, обувь – двадцать третьего, бюстгальтеры – 65C, – оставила ему свой составленный со вкусом гардероб. И больше к нему не вернулась. Вот только почему она оставила такую роскошную одежду? Если люди расстаются, такое они обычно забирают с собой. Причины Мариэ, конечно же, не знала – видела лишь то, что господин Мэнсики очень бережно хранит оставшуюся немногочисленную одежду, как рейнские нибелунги, охраняющие легендарное золото. И временами он приходит в эту комнату, смотрит на эту одежду, берет ее в руки. Сменяются времена года – и Мэнсики ставит новую банку средства от насекомых: эту работу он не может доверить никому другому.
Где теперь та женщина и как она поживает? Может, стала чьей-нибудь женой? Или умерла от болезни или несчастного случая? А он все так же нуждается в ней и хранит память о ней. (Разумеется, Мариэ не знала, что эта женщина – ее собственная мать, а у меня не имелось ни единой убедительной причины сообщать ей правду. Таким правом обладал, пожалуй, лишь сам Мэнсики.)
Мариэ задумалась: следует ли ей после этого относиться к господину Мэнсики дружелюбнее – из-за того, что он долгие годы продолжает думать о той единственной женщине? Или же, наоборот, ей должно быть неприятно потому, что он так бережно и идеально хранит ее одежду?
Мариэ глубоко задумалась – и тут вдруг услышала, как поднимается рольставня гаражных ворот. Это вернулся Мэнсики. Она увлеклась одеждой и совсем не заметила, как открылись въездные ворота, как по дорожке проехала машина. Нужно скорее убираться отсюда, спрятаться в каком-нибудь надежном месте. И тут она вдруг, охнув, сообразила, какой промах допустила. Жутко важный промах. Ее всю охватила паника.
На террасе осталась забытая обувь. А бинокль вынут из чехла и по-прежнему стоит на треноге. Увидев шершня, она в ужасе все побросала и заскочила в дом. Оставив на террасе все, как было. Если Мэнсики, выйдя на террасу, это заметит (а рано или поздно он это сделает), то вынужден будет сразу догадаться, что в его отсутствие кто-то пробрался к нему в дом. Взглянув на размер черных туфелек, он с первого взгляда поймет, что они – ребенка. Мэнсики человек смышленый – вряд ли ему понадобится много времени на то, чтобы догадаться, что туфли эти – ее, Мариэ. Наверняка же после этого перевернет весь дом – ну и, разумеется, запросто ее отыщет в любом укрытии.
Времени выскочить на террасу, забрать туфли и положить бинокль на место у нее не было. Если побежит – может столкнуться с ним нос к носу. Как быть, Мариэ не знала. У нее сперло дыхание, участился пульс, руки и ноги сделались будто ватные от страха.
Двигатель смолк, рольставня стала с лязгом опускаться. Вскоре Мэнсики должен войти в дом. Что же делать? Что же мне… В голове у нее стало пусто. Сев на пол, Мариэ закрыла глаза и взялась руками за виски.
– Достаточно сидеть здесь неподвижно, – раздался чей-то голос.
Мариэ решила, что ей послышалось, но то не была галлюцинация. Девочка решительно распахнула глаза – перед ней был старичок ростом сантиметров шестьдесят, сидел на низком комоде. Волосы с проседью собраны в узел на голове, облачен в старинный белый балахон, на поясе – маленький меч. Само собой, Мариэ поначалу решила, что и это ей мерещится: ударилась в панику, и сознание играет с нею злые шутки.
– Нет, мы не суть иллюзии, – произнес старик тихо, но звучно. – Нас зовут Командоры. И мы вас, судари наши, спасем.
61
Необходимо стать смелой и умной девочкой
– Мы не суть галлюцинации, – повторил Командор. – Существуем мы или же нет, в сем мнения незначительно расходятся, но как бы там ни были, мы не суть иллюзии. И мы здесейчас, чтобы вас, судари наши, спасти. Пожалуй, вам наши помощи здесейчас не помешают.
Мариэ предположила, что «судари наши» – это, пожалуй, она сама, – и кивнула. Говорит он, конечно же, странно, подумала она, но все так и есть. И мне действительно требуется помощь.
– Теперь уже идти за обувями на террасы поздновато, – произнес Командор. – Забудьте также и о биноклях, хотя не суть переживайте. Мы приложим все усилия и сделаем так, чтобы дружища Мэнсики не вышли на террасы, по крайним мерам – пока. Но после закатов и сии окажутся тщетными. Когда стемнеют, оне выйдут на террасы и станут разглядывать в бинокли ваши, судари наши, дома на тех сторонах лощин. Сие у них привычки. А до тех пор нам необходимо ликвидировать неувязки. Вы понимаете, что мы имеем в видах?
Мариэ просто кивнула. Вроде бы она понимала.
– Вы, судари наши, прячетесь в сих гардеробах, – продолжал Командор. – Сидите тихо, чтоб духи ваши не были слышны. Других выходов не суть. Когда придут часы – дадим вам знать. А до тех пор даже не двигайтесь с мест. Что бы ни случились. И помалкивайте. Ясно?
Мариэ кивнула еще раз. Я что, вижу сон? Или это что-то вроде феи?
– Мы суть и не сны, и не феи, – ответил Командор, словно прочтя мысли Мариэ. – Мы суть идеи, искони бесформенные. Но так мы будем вам, судари наши, не видны, а сие весьма неудобно, вот мы и приняли на времена облики командоров.
Идея, Командор… – не произнося этих слов вслух, повторяла про себя Мариэ. Этому человеку под силу читать мои мысли. И тут она, ахнув, вспомнила. Это же он изображен на картине нихонга, которую она видела в доме Томохико Амады. Наверняка он сошел с той картины – потому и такого маленького роста.
Командор сказал:
– Так и суть. Мы позаимствовали облики людей с тех картинок. Командоры? Нам тоже не вполне ясно, что эти слова значат. Однако покамест нас зовут именно так. Ждите здесь тихо, мы придем за вами. Бояться не суть чего. Вас, судари наши, защитят все облаченья сии.
Защитят облаченья? Мариэ толком не понимала, что он имеет в виду, но ответа на свои сомненья так и не получила. В следующий же миг Командор пропал с ее глаз – как пар, растворившийся в воздухе.
Мариэ притаилась в гардеробе. Как и советовал Командор, она старалась не двигаться и не шуметь. Мэнсики зашел в дом – похоже, он ездил за покупками. Мариэ послышалось, как шуршат прижатые к его груди бумажные пакеты. Когда он, переобувшись в домашние тапочки, прошел мимо комнаты, где пряталась Мариэ, у нее перехватило дух.
Дверцы гардероба представляли собой жалюзи, и сквозь направленные вниз щели между пластинами едва пробивался свет. Совсем не яркий, а ближе у вечеру в комнате начнет темнеть. В щели виднелся лишь застеленный ковром пол. Внутри гардероба было тесно и удушающе пахло нафталином. Вокруг только стены, никуда отсюда не деться. Именно это пугало девочку больше всего.
«Когда придет час – дам знать», – сказал ей Командор, и теперь оставалось лишь ждать, веря ему на слово. Еще он сказал: «Вас защитят облаченья». Пожалуй, он имел в виду одежду, которая здесь хранится, – то старье, которое носила, вероятно, еще до моего рождения неизвестная мне женщина. С чего бы ей меня защищать? Мариэ вытянула руку и коснулась рукава цветастого платья, висевшего прямо перед ней. Розовая материя его оказалась мягкой и приятной на ощупь. И некоторое время Мариэ мягко сжимала эту ткань в своей руке. От прикосновения к одежде ей – непонятно, почему – стало немного спокойнее на душе. Она подумала: если захочу – могу надеть это платье. Мы с этой женщиной примерно одного роста. Ничего странного, если я надену пятый размер. Конечно, груди у меня пока еще нет, поэтому в то место нужно будет что-нибудь подложить. Но если у меня возникнет такое желание или почему-либо придется так поступить, я смогу переодеться в то, что здесь висит. От этой мысли у нее почему-то чаще забилось сердце.
Шло время. В комнате постепенно смеркалось. Близился вечер. Мариэ посмотрела на ручные часы, но в потемках ничего не разглядела. Нажав на кнопку, она включила подсветку циферблата. Время приближалось к половине пятого. Солнце, должно быть, начинает садиться. В эту пору дни все короче, а с наступлением темноты Мэнсики выйдет на террасу – и тут же обнаружит, что кто-то проник в его дом. Необходимо оказаться там раньше него и ликвидировать улики.
Мариэ с трепетом ждала, когда за ней придет Командор. Но тот все никак не приходил. Может, все получается не так, как он задумал, и Мэнсики не поддается на его уловки? К тому же она не знала, насколько в действительности силен человек, которого зовут Командором, – он же «идея» – и насколько ему можно довериться? Однако ничего другого ей все равно не оставалось. Сидя на полу в гардеробе и обхватив руками колени, Мариэ смотрела сквозь щели в жалюзи на ковер. Иногда вытягивала руку и сжимала в ней рукав того платья, будто тот был для нее жизненно важным ремнем безопасности.
Когда сумерки в комнате сгустились еще плотнее, в коридоре опять послышались шаги. Все те же, неторопливые и мягкие. Человек поравнялся с комнатой, где она скрывалась, и звуки резко стихли, будто он учуял запах. Возникла пауза, затем послышалось, как отворяется дверь. В эту самую комнату – несомненно. Сердце у Мариэ заледенело и, казалось, вот-вот остановится. Этот кто-то (наверняка Мэнсики, ведь кроме него в этом доме больше никого быть не должно) вошел в комнату и медленно закрыл за собой дверь. Теперь он был в комнате – тоже несомненно. Как и она, затаил дыхание и прислушивался к чему-то, это Мариэ понимала. Свет мужчина не включал, лишь всматривался в сумеречное пространство. Почему он не зажигает свет? Разве не это делают прежде всего? Причины этого Мариэ не знала.
Она впилась глазами в пол, видневшийся сквозь щели жалюзи. Если этот кто-то приблизится сюда, ноги его станет видно. Пока – ничего, но он был внутри, Мариэ ощущала его присутствие. И мужчина этот – вероятно, Мэнсики (кто же еще?) – в потемках пристально смотрит на дверцу гардероба. Что он заподозрил? Что внутри гардероба происходит нечто необычное? И как он поступит дальше? Конечно же, откроет дверцу. Ничего другого и быть не может. На дверце, разумеется, никакого замка. Открыть ее очень просто – протянув руку, потянуть на себя за ручку.
Мужчина подошел еще ближе. Все тело Мариэ сковал жуткий страх. Под мышками потекли струйки холодного пота. Нечего было сюда приходить. Сидела бы лучше дома, думала она. В своем милом добром доме на вершине горы напротив.
Здесь нечто страшное, и я не должна к нему приближаться. Здесь работает чье-то сознание. Шершни, вероятно, с этим сознанием заодно. И сейчас до этого нечто – рукой подать. Сквозь щель в жалюзи стал виден носок ноги – похоже на кожаные домашние тапочки коричневого цвета. Но уже слишком стемнело, и ничего другого видно не было.
Мариэ машинально вытянула руку и отчаянно сжала рукав висевшего рядом платья – пятого размера, в цветочек – и взмолилась: Спаси меня! Если можешь – защити!
Мужчина долго и неподвижно стоял перед дверцами гардероба, не издавая ни малейших звуков. Мариэ не слышала даже его дыхания. Мужчина просто ждал чего-то, не шелохнувшись, будто он – истукан. Всюду лишь гнетущая тишина и наползавший мрак. Тело девочки, свернувшейся на полу гардероба в клубок, мелко дрожало. Тихонько постукивали зубы. Мариэ хотелось закрыть глаза и заткнуть уши, она стремилась отогнать подальше от себя все свои мысли. Но не стала этого делать – она чувствовала, что так поступать нельзя. Как бы ни было страшно, нельзя позволять страху повелевать собой. Нельзя становиться нечувствительной. Нельзя лишаться мыслей. Поэтому она раскрыла пошире глаза, напрягла слух и, следя за носкам тапочек, крепко сжимала мягкий материал розового платья, будто цеплялась за него.
Она неистово верила, что одежда ее защитит. Вся одежда, что здесь есть, – за меня. Защитит меня, закутает, я стану прозрачной среди всей этой одежды пятого размера, двадцать третьего и 65C. Меня здесь нет. Меня здесь нет.
Трудно сказать, сколько прошло времени. Длилось оно неравномерно и непоследовательно, но даже так сколько-то его прошло. В какой-то миг мужчина протянул руку, собираясь открыть гардероб, – такое явственное ощущение возникло у Мариэ. Она приготовилась. Распахнется дверца, и мужчина увидит ее. Ну и она, конечно, тоже увидит его. Что затем произойдет, она не знает, даже не представляет себе. На миг проскользнуло сомнение: А вдруг мужчина этот – не Мэнсики. Тогда кто он?
Однако в итоге мужчина дверцу не открыл. Поколебавшись, отпустил ручку и отступил от гардероба. Почему он в последний миг передумал, Мариэ не поняла – вероятно, его сдержало нечто. После этого он отворил дверь комнаты и вышел в коридор. Дверь захлопнулась. Комната опять стала безлюдной. Несомненно – и это никакая не уловка. Теперь Мариэ была уверена, что кроме нее в комнате больше нет никого. Девочка наконец-то закрыла глаза и глубоко выдохнула скопившийся внутри воздух.
Сердце у нее по-прежнему стучало учащенно. В каком-нибудь романе использовали бы фразу «будто бьет в набат», хотя что такое «набат», Мариэ пока не было известно. Опасность и вправду была близка, но что-то в самый последний миг ее защитило. И все равно здесь слишком опасно. Тот некто ощутил, что я в этой комнате, сомнений тут быть не может. Скрываться здесь до бесконечности не годится. На этот раз пронесло, но кто даст гарантию, что удача улыбнется мне и в дальнейшем?
Она подождала еще. В комнате становилось все темнее. Однако Мариэ терпеливо ждала, просто не издавая ни звука, сдерживая беспокойство и терпя страх. Командор не должен о ней позабыть. Мариэ поверила его словам. Точнее, иного выбора, кроме как положиться на человечка со странным говором, ей не оставалось.
Когда она очнулась, перед ней уже стоял Командор.
– Судари наши, выходите отсюдова, – раскатисто произнес он. – Времена пришли! Ну, поднимайтесь же!
Мариэ оторопела. Она так долго просидела, скрючившись, на полу, что все тело затекло, и подняться у нее никак не получалось. Пора выходить из гардероба – а ее охватил новый страх. Возможно, за пределами этого одежного шкафа ее поджидает нечто гораздо страшнее.
– Дружища Мэнсики сейчас принимают души, – произнес Командор. – Оне, как вы заметили, чистюли. В душевых комнатах проводят много времен. Но, разумеется, не суть бесконечно. Шансы у вас, судари наши, только здесейчас. Нужно поторапливаться.
Мариэ собралась с силами и умудрилась подняться с пола. Нажав на дверцы гардероба, она их распахнула. Комната была мрачна и пуста. Прежде чем выйти из шкафа, Мариэ обернулась и еще раз посмотрела на развешанную там одежду. Вдохнула воздух, пропитанный нафталином. Всю эту одежду она видит, возможно, в последний раз. Отчего-то вся она показалась ей и очень родной.
– Ну, скорей же, – отрывисто распорядился Командор – Времен мало. Налево и по коридорам.
Мариэ с сумкой через плечо отворила дверь, вышла наружу и повернула налево. Взбежала по лестнице, заскочила в гостиную, пересекла всю эту просторную залу и открыла дверь на террасу. Возможно, шершень все еще там. Вокруг заметно стемнело, и насекомые уже должны прекратить свои труды… Но нет – это могут быть такие шершни, которым темнота нипочем. Как бы там ни было, думать об этом времени нет. Стоило Мариэ оказаться на террасе, как она быстро открутила винт, сняла бинокль с подставки и вернула под пластиковый кожух. Затем сложила саму треногу и приставила, как прежде, к стене. От напряжения пальцы не слушались, и времени ушло больше, чем она предполагала. Проделав все это, она подхватила с пола свои черные туфли. Командор, присев на табурет, наблюдал за нею. Шершня нигде не было, и это успокоило Мариэ.
– Вот и славно, – сказал, кивнув, Командор. – Закрывайте стеклянные двери и заходите внутрь. Оттуда в коридоры и по лестницам вниз на два этажа.
По лестнице вниз на два этажа? Так я только глубже нырну в этот дом. Разве я не могу убежать отсюда прямо сейчас?
– Здесейчас убежать отсюд не удастся, – прочитав мысли девочки, сказал Командор, покачивая головой. – Выходы плотно перекрыты. И вам, судари наши, придется какие-то времена скрываться внутри особняков. Теперь, судари наши, вам лучше делать то, что мы вам скажем.
Мариэ оставалось лишь верить Командору, поэтому она вышла из гостиной и, крадучись, спустилась на два этажа. Там находился второй подземный этаж: комната для прислуги, рядом с ней – прачечная и дальше – кладовая. В конце коридора – спортзал с тренажерами. Командор показал на комнату для прислуги.
– Судари наши, будете какие-то времена прятаться тамздесь, – сказал Командор. – Тутсюда дружища Мэнсики не заходят. Разы в дни оне стирают вещи, спускаются здесюда в спортзалы, но в комнаты прислуг не заглядывают. Поэтому если сидеть тамтогда тихо, вас никто не заметят. В комнатах есть умывальники, холодильники, на случаи землетрясений в кладовых хранятся запасы минеральных вод и продуктов. Поэтому с голодов не суть умрете. И вы, судари наши, сможете провести дни в сравнительных спокойствиях.
Провести дни? – удивленно спросила Мариэ, держа в опущенной руке черные туфли. Но спросила она это не вслух. Хотите сказать, я проведу здесь несколько дней?
– Как ни прискорбно сие, вам, судари наши, сразу выйти отсюда не удастся, – покачивая маленькой головой, ответил Командор. – Здесейчас принимаются очень строгие меры предосторожностей. В разных смыслах все под присмотрами. Так что даже мы бессильны помочь. Возможности, которыми наделены идеи, увы, не безграничны.
– И как долго мне здесь быть? – тихонько спросила Мариэ. – Мне нужно поскорее вернуться домой. Если не вернусь, тетя станет переживать, а то и заявит в полицию. Тогда хлопот не оберешься.
Командор опять покачал головой.
– Нам очень жаль, но ничем помочь мы не можем. Остается лишь терпеливо дожидаться здесейчас.
– А господин Мэнсики – опасный человек?
– Непростые сие вопросы, – сказал командор и нахмурился, как бы показывая, насколько вопрос это непростой. – Дружища Мэнсики в общем-то не суть злые люди. Скорее их можно назвать достойными уважений людьми с более высокими, чем у других, способностями. В них даже можно распознать признаки благородств. Однако вместе с тем в их душах суть некие пространства, которые в конечных результатах обладают способностями притягивать к себе нечты ненормальные и опасные. Вот в чем все беды.
Что это означает, Мариэ, разумеется, понять не могла. Нечто ненормальное? Она спросила:
– Человек, который неподвижно стоял там, перед гардеробом, – это был господин Мэнсики?
– Да, дружища Мэнсики, и вместе с теми не оне.
– А сам господин Мэнсики это замечает?
– Вероятно, – сказал командор. – Вероятно, замечают, хотя сами с сим ничегы поделать не могут.
Нечто опасное и ненормальное? Возможно, оно проявилось и в том шершне, подумала Мариэ.
– Именно. С шершнями лучше вести себя осторожнее. Ведь они – во всех отношениях смертоносные твари, – сказал Командор.
– Смертоносные?
– Такие, что могут вызвать смерти, – пояснил Командор. – Здесейчас же вам, судари наши, не суть чего остаются, как смирно ждать в этих комнатах. Выйдете из нее – суть быть бедам.
Смер-то-нос-ны-е, повторила про себя Мариэ, ощутив в этом слове очень трагический отзвук.
Девочка открыла дверь в комнату прислуги и вошла внутрь. Там оказалось чуть просторнее, чем в гардеробе спальни Мэнсики. Простенькая кухня с холодильником и электроплиткой, а также компактной микроволновкой, кран и мойка. Имелась крохотная душевая кабина и кровать без постели, в шкафу – матрас, одеяло и подушка. Стоял непритязательный столовый гарнитур – чтобы поесть, хватит, но стул только один. И было маленькое окно, выходящее на лощину: из щели между шторами открывался вид на нее.
– Если не хотите попадаться на глаза, сидите здесейчас тихо и не шумите, судари наши, – сказал Командор. – Вам понятно?
Мариэ кивнула.
– Вы, судари наши, девочки храбрые, – продолжал Командор. – Чутка безрассудные, но, во всяких случаях, храбрые. И сие, в общих-то, неплохо. Но пока вы здесейчас, всесторонне проявляйте вниманья и не теряйте бдительности. Здесейчас трудно сказать, где точно, но повсюду не суть обычные места. Потому что слоняются разные пройдохи.
– Слоняются?
– Бродят тудасюда.
Мариэ кивнула. Ей хотелось больше разузнать, в каком это смысле здесь «трудно сказать, где точно, но повсюду необычное место», и что это за такие пройдохи, что слоняются здесь, но она не сумела правильно составить вопрос. Столько всего непонятного, что даже не знаешь, с какой стороны подступиться.
– Возможно, мы больше не сможем здесейчас оказаться, – произнес Командор так, будто открывал ей какую-то тайну. – Нужно еще койкуда попасть и там койчто сделать. Причем, можно сказать, очень важные дела. Поэтому простите великодушно, но далее я ничем не смогу вам, судари наши, помочь. И вам, судари наши, не суть остается ничег иных, как справляться собственными силами.
– Но как я смогу выбраться из этого места одними лишь своими силами?
Командор, прищурившись, посмотрел на Мариэ.
– Хорошенько прислушивайтесь, хорошенько приглядывайтесь, будьте очень внимательны. Иных путей не суть. Когда придут времена, вы, судари наши, должны сие знать. Вроде того как «О! Настали те часы!». Вы, судари наши, смелые умные девочки. Сможете узнать, если только будете держаться насторожах.
Мариэ кивнула. Да, мне нужно быть смелой и умной девочкой, подумала она.
– Ну, будьте здоровы, судари наши, – ободрительно произнес Командор. И, будто вспомнив, добавил: – Можете не беспокоиться. Ваши, судари наши, вот эти вот груди вскоре станут побольше.
– Размером с 65C?
Командор с озадаченным видом наклонил голову вбок.
– Не ведаем-с. Мы же, как ни вертите, всего лишь идеи. Знаниями о размерах дамских исподних не располагаем-с. Но, во всяких случаях, те, что вырастут, намного больше, чем тутеперь, ни суть каких сомнений. Не суть беспокойтесь, времена расставят всех по местам. Для всех, что облечены в формы, времена суть великие вещи! Они не суть будут сколько угодно, но пока они у нас есть, судари наши, нужно ими пользоваться. Поэтому наслаждайтесь.
– Спасибо, – поблагодарила его Мариэ. Это, несомненно, стало для нее приятным известием – ей требовалось как можно больше всего, что может добавить ей смелости.
И Командор внезапно исчез – действительно, словно водяной пар, что растворяется в воздухе. Стоило Командору исчезнуть, и окружающая тишина стала еще тяжелее. От одной мысли, что она, быть может, больше не свидится с Командором, Мариэ стало грустно. Больше надеяться не на кого. Мариэ легла на матрас и уставилась в потолок. Потолок был низкий и забран белым гипсокартоном, посередине лампа дневного света. Хотя ее Мариэ, разумеется, не включала. Зажигать свет вовсе не стоило.
Как долго мне еще здесь быть? Скоро время ужина. Не вернусь домой до половины восьмого – тетушка наверняка позвонит в изостудию и узнает, что я сегодня пропустила занятие. От этих мыслей у нее ныло в груди. Тетушка, несомненно, станет сильно волноваться. Что со мной могло произойти? Нужно ей как-то сообщить, что я цела и невредима. И тут Мариэ вспомнила, что в кармане куртки у нее лежит сотовый телефон, который так и остался выключенным.
Мариэ вытащила его и включила. На экране появилась надпись «батарея разряжена». Причем, судя по всему, полностью, потому что экран тут же погас. У нее никак не доходили руки зарядить этот телефон – в жизни она фактически не нуждалась в сотовом, и этот аппарат был ей, в общем, до лампочки. Ничего странного, что батарея успела сесть, винить здесь некого – Мариэ виновата сама.
Она глубоко вздохнула. Действительно, телефон нужно иногда заряжать – кто знает, что может произойти. Однако что уж тут теперь говорить… Мариэ было сунула испустивший дух сотовый обратно в карман, но, что-то заметив краем глаза, опять вынула его. На чехле телефона не оказалось фигурки пингвина, обычно висевшей на нем. Фигурку она получила, накопив бонусы в пончиковой, и с тех пор хранила как талисман. А сейчас, видимо, оборвался шнурок – и где она могла его обронить? Мариэ не имела понятия – доставала телефон из кармана она крайне редко.
Поначалу она встревожилась от этой потери, но, немного подумав, успокоилась. Вероятно, пингвина она где-то потеряла случайно, но вместо него меня спасла та одежда из гардероба. И сюда меня привел этот крошка Командор с причудливым говором. Меня по-прежнему кто-то надежно защищает, поэтому жалеть о пропаже пингвина нечего.
Кроме того, из личных вещей у девочки были разве что кошелек, носовой платок, мешочек с монетами, ключ от дома да полпачки жвачки «Coolmint». И только. В школьной сумке через плечо лежали канцелярские принадлежности, несколько учебников и тетрадей. Ничего полезного не нашлось.
Мариэ осторожно вышла из комнаты прислуги, чтобы проверить, что хранится в кладовой. Как и говорил Командор, там было много припасов на случай землетрясения. Почва в горном районе Одавары сравнительно прочная, и ущерб от стихии вряд ли будет существенным. Во время Великого землетрясения Канто 1923 года сам город Одавара пострадал весьма сильно, а вот в горах все обошлось легким испугом (как-то в начальной школе им задали на лето изучать ущерб от того землетрясения в окрестностях Одавары). Однако сразу после удара стихии раздобыть продовольствие и воду очень непросто. Особенно если живешь в такой местности – на вершине горы. Вот Мэнсики и хранил на случай бедствия и то, и другое: он был во всех отношениях человеком предусмотрительным.
Мариэ взяла из запасов две бутылки минеральной воды, пачку крекеров, плитку шоколада и вернулась с трофеями в комнату. Такую пропажу вряд ли кто заметит – даже щепетильный Мэнсики вряд ли станет пересчитывать бутылки с водой. Мариэ взяла минеральную воду, потому что не хотела пить обычную, из крана: кто знает, с каким шумом она польется? Командор же предупредил, чтоб сидели здесь тихо и не шумели. Поэтому нужно соблюдать осторожность.
Мариэ вошла в комнату и заперла дверь изнутри на замок. Конечно, как ни запирайся, у Мэнсики наверняка есть ключ от этой двери. Но, может, это даст ей хоть небольшую отсрочку. Хотя бы для самоуспокоения.
Аппетита у нее не было. Она погрызла на пробу несколько крекеров, выпила воды. Обычные крекеры, обычная вода. На всякий случай проверила упаковку. И то, и другое – в пределах срока годности. Порядок, от голода я здесь не умру, подумала она.
На улице тем временем темнело. Мариэ слегка приоткрыла штору и посмотрела в окно. На другой стороне лощины виднелся ее дом. Без бинокля разглядеть, что в нем творится, невозможно, но было видно, что в некоторых комнатах горит свет. Если напрячь зрение, можно различить силуэт человека. Тетушка там сейчас наверняка переживает, ведь я не вернулась в обычное время. Неужели ниоткуда здесь нельзя позвонить? Где-то ведь должен быть стационарный телефон? Только сообщить: со мной все в порядке, не беспокойтесь, – и тут же положить трубку. Если сделать это быстро, Мэнсики может и не заметить. Однако ни в этой комнате, ни где-либо поблизости стационарного телефона не оказалось.
Неужели я не смогу выбраться отсюда ночью, под покровом темноты? Найду где-нибудь стремянку, перевалю через ограду и – поминай как звали. Кажется, я видела складную лестницу в садовом сарае. Однако она вспомнила слова Командора. Здесь очень строгие меры предосторожности. В разных смыслах все под наблюдением. И под строгими мерами он, должно быть, имел в виду не одну лишь систему сигнализации охранной компании.
Мариэ посчитала, что лучше поверить Командору на слово. Место здесь необычное. Слоняются всякие пройдохи. И мне нужно стать осмотрительной. Научиться терпеть. Не действовать опрометчиво, тем более – нахрапом. Как и советовал Командор, побуду-ка я здесь какое-то время. Спокойно, не поднимая шума, осмотрюсь. И буду выжидать, когда представится случай.
Когда придут времена, вы, судари наши, должны сие знать. Вроде того как «О! Настали те часы!». Вы, судари наши, смелые умные девочки.
Точно! Мне нужно стать смелой и умной девочкой. Выйти из этой переделки, чтоб увидеть, как у меня растет грудь.
Так размышляла Мариэ, лежа на голом матрасе, а вокруг сгущались сумерки – предвестники куда более глубокого мрака.
62
Это уже похоже на лабиринт
Время текло, следуя собственным принципам, никак не связанным с намерениями Мариэ. Девочка лежала на голом матрасе в той маленькой комнате и просто выжидала, а у нее на глазах неспешно шло и проходило это самое время. Ей больше нечем было заняться. Подумывала почитать, но под рукой не нашлось ни одной книги – да если б и нашлась, все равно включать свет Мариэ не могла. Оставалось лишь неподвижно лежать в потемках. Среди экстренных припасов она обнаружила фонарик и запасные батарейки, но старалась без необходимости его не включать.
Вскоре настала ночь, и Мариэ уснула. Спасть в незнакомом месте боязно – ее б воля, так Мариэ не смыкала бы глаз, – однако постепенно веки отяжелели, и она больше не могла бороться со сном. На голом матрасе ей показалось зябко, и тогда Мариэ достала из шкафа одеяло, завернулась в него рулетиком и закрыла глаза. Обогревателя в комнате не было, включать кондиционер не годилось.
(Здесь необходимо пояснить временны́е рамки: вероятно, пока Мариэ спала, Мэнсики вышел из дома и приехал ко мне. Ту ночь он провел у меня и вернулся домой на следующее утро. Следовательно, ночью его не было дома, и особняк оставался без своего хозяина. Вот только Мариэ об этом не знала.)
Посреди ночи она один раз проснулась и сходила в туалет. Воду не спускала. Днем – еще куда ни шло, но если спускать воду ночью, когда вокруг полная тишина, шум бачка, вполне вероятно, услышат. Ведь нечего и говорить, Мэнсики – очень осторожный и обстоятельный человек. Никакая мелочь не скроется от него. Значит, и ей не стоит рисковать почем зря.
Тогда же она посмотрела на часы – около двух. Два часа ночи, суббота. Пятница уже миновала. Сквозь щель между шторами она опять посмотрела в окно, в сторону своего дома по ту сторону лощины. В гостиной по-прежнему горел яркий свет. Время за полночь, я не вернулась, подумала она. Тетушка и отец наверняка не спят. Мариэ понимала, что поступила скверно, – она считала себя виновной даже перед отцом (а такое она себе позволяла крайне редко). Но теперь понимала, что не должна была поступать так безрассудно. Она же вообще ничего подобного делать не собиралась, но вдруг пошла на поводу у своих чувств, и вот – такой результат.
Однако сколько ни раскаивайся, сколько себя ни кори, одним этим, перемахнув через долину, в свой дом не вернешься. Ее тело не такое, как у ворон, летать по небу не приспособлено. Как и не умеет, подобно Командору, по собственному произволу то пропадать из виду, то где-то появляться. Она – всего лишь неловкое создание, заключенное в тело подростка, жестко ограниченное в свободе действий пространством и временем. Грудей и тех почти нет. Они у нее совсем как неудавшиеся блинчики.
Одна и в темноте Мариэ Акигава, разумеется, боялась – и не могла остро не чувствовать собственное бессилие. Был бы сейчас рядом Командор, думала она. Так много чего хотелось у него расспросить. Не знаю, правда, ответил бы он или нет, но было бы с кем поговорить хотя бы. Излагает он для современного японского языка весьма странно, но понимать суть его слов ничто не мешает. Однако же Командор, вероятно, перед нею больше не объявится. Он сам предупредил: «Нужно еще кое-куда попасть и там кое-что сделать». И теперь Мариэ от этого было очень грустно.
Из-за окна донесся глухой крик ночной птицы. Наверное, неясыть или филин. Они-то уж точно под покровом ночного леса напрягают все свои извилины. Вот и мне нужно не уступать им и напрячь свои. Стать умной и смелой девочкой. И тут на Мариэ вновь навалился сон, и держать глаза открытыми она больше не могла. Опять укуталась в одеяло и сомкнула веки. Спала она без сновидений, а когда открыла глаза в следующий раз, уже начал брезжить рассвет. Часы показывали половину седьмого.
Мир встретил новую субботу.
Весь субботний день Мариэ провела в комнате прислуги. Вместо завтрака опять погрызла крекеры, съела несколько долек шоколада, запила все это минеральной водой. Выйдя из комнаты, тайком пробралась в спортзал и быстро вернулась с подборкой лежавших там стопкой журналов «National Geographic» на японском (Мэнсики, судя по всему, крутя педали велотренажера или шагая на степпере, читал их – местами на страницах попадались следы высохшего пота). Перечитала их по по нескольку раз. Там были статьи об условиях существования сибирских волков, о тайнах растущей и убывающей Луны, о жизни инуитов, о сокращающихся из года в год тропических лесах Амазонии. Обычно Мариэ такие статьи не читала, но теперь ничего другого не было, и она вчитывалась, запоминая их наизусть, разглядывала фотографии чуть ли не до дыр.
А когда уставала читать, ложилась на бок и дремала. И смотрела сквозь щель между штор на свой дом на той стороне лощины. Вот бы сюда бинокль! – думала она. Можно было б рассмотреть весь дом до последнего сантиметра. И увидеть, кто там. А еще она хотела вернуться домой, к себе в комнату с оранжевыми шторами. Принять горячую ванну, тщательно вымыться от ушей до пят, затем переодеться в свежую одежду и вместе с кошкой нырнуть в теплую постель.
В десятом часу утра послышалось, будто кто-то неспешно спускается по лестнице. Шаги звучали, как у мужчины в домашних тапочках. Вероятно, Мэнсики. Походка у него была своеобразная. Ей захотелось выглянуть в замочную скважину – вот только скважины в этой двери не было. Мариэ напряглась, забилась клубком в углу комнаты. Если откроется эта дверь, бежать ей будет некуда, хоть Командор и говорил, что Мэнсики в эту комнату никогда не заглядывает. Оставалось лишь верить ему на слово. Однако, что может произойти на самом деле, не знал никто, потому что в этом мире нет ничего достоверного на все сто. Прогнав эти мысли, она подумала об одежде в гардеробе и попросила ее, чтобы с нею и сейчас ничего не случилось. В горле пересохло.
Похоже, Мэнсики принес вещи в стирку. Наверное, каждое утро в этот час он приносит белье за прошлый день. Кинул вещи в стиральную машину, добавил моющего средства, выбрал на панели режим стирки и нажал кнопку запуска. Все это – привычными движениями. Мариэ прислушивалась к звукам его цепочки действий – все они слышались на удивление отчетливо. Вот барабан машинки неспешно завращался. Покончив с этим, Мэнсики перешел в спортзал и принялся заниматься на тренажерах. Выходит, по утрам, пока крутится барабан стиральной машины, он разминается – и делает это под классическую музыку. Из динамиков, закрепленных на потолке, полилось что-то барочное: Бах, или Гендель, или Вивальди. Мариэ разбиралась в классике слабо, и определить, где Бах, где Гендель, а где Вивальди, ей было не под силу.
Около часа она прислушивалась к звукам стиральной машинки, равномерному шуму спортивных тренажеров и музыке то ли Баха, то ли Генделя, то ли Вивальди. Неспокойный ей выдался час. Пожалуй, Мэнсики не заметил, что стопка «National Geographic» немного похудела, а запасы минеральной воды, крекеров и шоколада немного уменьшились. Изменения эти на общем фоне были совсем незначительные. Однако никому не известно, что может произойти. Поэтому терять бдительность нельзя, ослаблять внимание – тоже.
Вскоре стиральная машинка остановилась и подала сигнал окончания стирки. Не торопясь, Мэнсики прошел в прачечную, вынул постиранное белье, перегрузил его в сушилку и запустил аппарат. Теперь закрутился барабан сушилки. Удостоверившись в этом, Мэнсики неспешно зашагал вверх по лестнице. Похоже, утренние занятия на этом закончились, настало время для обстоятельного душа.
Мариэ, закрыв глаза, вздохнула с облегчением. Наверняка примерно через час Мэнсики явится сюда вновь за высохшим бельем. Однако самое опасное уже позади – так ей показалось. Он не заметил, что я скрываюсь в этой комнате. Он не учуял мое присутствие. И это ее успокоило.
И все же, кто стоял тогда перед дверью гардероба? «Дружище Мэнсики и вместе с тем не он», – говорил Командор. Как ей это понимать? Мариэ не могла догадаться, что Командор хотел сказать ей этой фразой. Слишком сложно для меня, думала она. Но, во всяком случае, этот некто прекрасно знал, что я – или кто-то другой – нахожусь там, в гардеробе. По крайней мере, он почуял, что внутри кто-то есть. Однако этот некто почему-то открыть дверцы гардероба не смог. Интересно, по какой такой причине? Неужели меня и вправду оберегли висящие там старые красивые платья?
Конечно, расспросить бы Командора подробней, но он куда-то исчез. И объяснить девочке все это больше было некому.
В тот субботний день Мэнсики из дому не отлучался ни на шаг. Насколько она могла разобрать, двери гаража не поднимались, мотор машины не заводился. Он спустился вниз забрать высохшее белье и все так же неторопливо поднялся с ним по лестнице. Только и всего. Дом в конце тупиковой дороги на вершине горы никто не посещал. Почту не развозили, срочных писем с уведомлением не доставляли. Входной звонок беспробудно молчал. За весь день телефонный звонок раздался всего пару раз. Очень тихо, будто издалека, однако Мариэ сумела его расслышать. Первый раз телефон прозвонил два раза, а перед третьим звонком трубку сняли (и так она поняла, что Мэнсики дома). Под музыку «Annie Laurie» медленно взобралась по склону городская мусорная машина и так же спокойно спустилась вниз (суббота – день сбора горючего мусора). Больше никаких звуков Мариэ не слышала. Весь дом был погружен в глубокую тишину.
Миновал субботний полдень, прошли дневные часы, приближался вечер.
(Здесь мне опять нужно объяснить ситуацию со временем: пока Мариэ тихо сидела в той тесной комнатке, я в палате пансионата на плоскогорье Идзу заколол Командора, схватил высунувшегося из-под пола Длинноголового и спускался в подземный мир.)
Но Мариэ так и не сумела улучить миг для побега из дома. Командор ее предупреждал: чтобы убежать отсюда, нужно терпеливо дождаться «того самого часа». «Когда придет время, вы, судари, должны это знать. Вроде того: „О! Настал тот час!“» – говорил ей Командор.
Однако тот самый час все никак не наставал, и Мариэ постепенно устала ждать. Неподвижно и тихо чего-то дожидаться было вовсе не в ее характере. Мне что, так и таиться в этой комнате целую вечность? – думала она.
Ближе к вечеру Мэнсики начал свои упражнения на рояле. Судя по всему, он открыл в гостиной окна, и теперь до ее укрытия доносились звуки инструмента. Похоже было на сонату Моцарта, мажорную. Мариэ помнила эти ноты, лежавшие на рояле. Мэнсики сыграл всю медленную часть произведения, затем, закрепляя, стал отрабатывать отдельные фразы. Он перебирал пальцами, пока сам не начинал считать, что этого будет достаточно. Попадались сложные места, где пальцы его не слушались, и мелодия звучала неровно – Мэнсики понимал это на слух. Многие сонаты Моцарта в общем-то нельзя назвать сложными для исполнения, но соберешься сыграть так, чтобы понравилось самому, – и ощущаешь себя в лабиринте. Мэнсики же был как раз из тех, кто не боится решительно вступить в такой лабиринт. Мариэ вслушивалась, как он терпеливо плутал по его закоулкам. Занятие продлилось около часа. Затем до нее донесся хлопок рояльной крышки, и она смогла различить в этом хлопке отзвук раздражения. Но раздражения не сильного, умеренно изящного. Господин Мэнсики, пусть даже находясь (или считая, будто находится) в одиночестве в своем просторном особняке, не мог забыть о самоконтроле. Такой уж он был человек.
Дальше было повторение того, что случилось накануне. Садилось солнце, смеркалось, вороны с криками возвращались на ночевку в горы. В домах, видневшихся по ту стороны лощины, постепенно зажигались огни. Свет в доме семьи Акигава не гас даже глубокой ночью. В свете этом чувствовалось беспокойство людей, ломавших голову, куда она – Мариэ – могла запропаститься. По крайней мере, так ощущала она сама. Ей было тяжко от того, что она ничего не могла сделать для людей, болевших за нее душой.
А вот в доме Томохико Амады (иными словами, в том, где проживал я сам) по ту же – противоположную – сторону лощины совсем не было видно никаких огней. Как будто в нем больше никто не жил. Темнело, но внутри все равно не горел ни один огонек. И нисколько не походило, будто внутри него могут оказаться какие-то люди. Странно, склонив голову набок, думала Мариэ. Куда это мог подеваться сэнсэй? Интересно, он знает, что я пропала?
Ночью настал тот час, когда Мариэ опять жутко захотелось спать. Ей в глаза будто песку насыпали. Не снимая блейзера школьной формы, Мариэ закуталась в одеяло и, вся дрожа, уснула. А перед этим вдруг поймала себя на мысли: «С кошкой мне было бы теплее». Кошка, которую дома держала Мариэ, почему-то совсем не мяукала, лишь изредка урчала. Поэтому вполне можно было бы скрываться здесь вместе с ней. Но кошки, разумеется, рядом не было. И сама Мариэ, безгранично одинокая, запершись в маленькой и совершенно мрачной комнате, не могла оттуда сбежать.
И вот минула воскресная ночь. Когда Мариэ проснулась, в комнате было еще мрачновато. Ее наручные часы показывали около шести. День постепенно становится все короче. За окном шел дождь. Беззвучный, тихий, зимний дождь. Догадаться, что он идет, можно было разве что по каплям, падавшим с веток деревьев. В комнате было прохладно и сыро. Мариэ подумала: «Вот бы сюда свитер!» У нее под шерстяным блейзером была лишь тонкая вязаная жилетка да хлопковая блузка. Под блузкой – майка с короткими рукавами. Одежда для теплого дня, и свитер нисколько бы не помешал.
И тут она вспомнила, что в гардеробе той комнаты есть свитер – теплый белесый свитер из кашемира. Вот бы как-то умудриться и сходить за ним наверх, подумала Мариэ. Надеть под блейзер – сразу станет тепло. Однако выйти отсюда и подняться по лестнице на верхний этаж слишком опасно. Особенно в ту комнату. Поэтому остается лишь терпеть в том, что есть. Конечно, холод не так уж и нестерпим, ведь я не на каком-нибудь Крайнем Севере, где проживают, скажем, инуиты. Здесь все-таки пригород Одавары, а зима только началась.
Однако дождливое зимнее утро медленно, но верно пронизывало холодом все ее тело. Казалось, озноб пробирает ее до самых костей. Мариэ закрыла глаза и подумала о Гавайях. Когда она была маленькой, тетя с подругой ездили туда отдыхать и брали ее с собой. На пляже Вайкики, взяв напрокат маленькую доску для серфинга, она резвилась на волнах, а когда уставала – падала на белый песок и загорала. Во всяком случае, было тепло, все вокруг казалось ей безмятежным и приятным. Где-то высоко шелестели пальмовые листья – их покачивал пассат. В морскую даль уплывали белые облака. Наслаждаясь этими видами, Мариэ пила лимонад, до того холодный, что ломило в висках. Она вспомнила все это очень подробно, вплоть до мелочей. Получится ли еще раз побывать в таком месте? Чтобы такое оказалось возможным, я готова отдать взамен все, что угодно, подумала девочка.
В десятом часу опять послышался шорох домашних тапочек, на служебный этаж спустился Мэнсики. Нажали на кнопку пуска стиральной машины, полилась классическая музыка (на этот раз, кажется, симфония Брамса), и примерно час продолжался лязг тренажеров. Повторение прежнего. Отличалась только музыка, а во всем остальном – ни малейших отклонений. Хозяин дома, вне всяких сомнений, был человеком привычек. Постиранное белье переместили в сушилку, а еще через час забрали. После этого господин Мэнсики больше вниз не спускался. Комната прислуги его, похоже, и впрямь совсем не интересовала.
(Здесь опять мой комментарий о времени. Мэнсики в тот день после полудня отправился в мой дом, где столкнулся с Масахико Амадой, заехавшим проверить, не дома ли я, и они побеседовали. Не знаю, почему, но и тогда Мариэ, похоже, не заметила отсутствие Мэнсики.)
Размеренность всей жизни Мэнсики Мариэ была только на руку. Так она понимала, чего ей ожидать, и могла планировать собственные действия. Сильнее всего нервы изматывает, когда одно за другим происходят непредвиденные события. Мариэ запомнила жизненный уклад Мэнсики и приспосабливалась к нему. Хозяин почти не выходил из дома (насколько она знала то есть, никуда не выходил). Работал у себя в кабинете, сам стирал белье, сам готовил еду, когда наступал вечер, садился в гостиной за «Стейнвей» и учился играть. Иногда ему звонили, но не часто – от силы несколько звонков за день. Похоже, он вообще недолюбливал телефон. Вероятно, всю необходимую связь по работе (в каких объемах, правда, непонятно) поддерживает через компьютер в кабинете.
В доме Мэнсики главным образом прибирался сам, но раз в неделю вызывал уборщиков. Мариэ помнила, как он сам говорил об этом, когда они с тетушкой были здесь в прошлый раз. Мол, совершенно не гнушается уборкой – как и стряпня на кухне, это хороший способ отвлечься. Вот только с уборкой всего дома в одиночку он не справится, это бесполезно, поэтому приходится вызывать профессионалов. При уборке он на полдня покидает дом. Интересно, в какой день недели это происходит? Если выпадет такой день, возможно, я смогу отсюда сбежать, думала Мариэ. Наверняка несколько человек с инвентарем заедут в имение на машине. Для этого ворота должны несколько раз открыться и закрыться. Да и самого Мэнсики, пока идет уборка, дома не будет. Выбраться из имения вряд ли окажется слишком уж сложно. Пожалуй, другой возможности для побега может и не представиться.
Вот только службой уборки и не пахло. Понедельник проходил так же, как и воскресенье, спокойно и без происшествий. Моцарт в исполнении Мэнсики день ото дня звучал точнее, становясь все больше похожим на музыку. Обстоятельный и терпеливый человек. Поставил себе цель – и неуклонно движется к ней. Мариэ не могла им не восхищаться. И все ж даже если Моцарт в его исполнении будет звучать целостно, без провалов, насколько приятна эта музыка будет на слух? – в сомнении думала Мариэ, прислушиваясь к звукам с верхнего этажа.
Она питалась крекерами и шоколадом, пила минералку. Ела питательные батончики с орехами. Попробовала консервы с тунцом. Зубной щетки нигде не нашлось, поэтому чистила зубы пальцем, а рот полоскала минеральной водой. Читала от корки до корки журналы «National Geographic» из стопки в спортзале – и почерпнула для себя много новых знаний. О тиграх-людоедах в Бенгалии, о редких лемурах на Мадагаскаре, об изменении рельефа в Большом каньоне, о добыче природного газа в Сибири, о среднем возрасте пингвинов Антарктиды, о жизни кочевников на горных плато в Афганистане, о жестоком обряде посвящения, который необходимо преодолеть юношам из глубин Новой Гвинеи. Получила представление о СПИДе и лихорадке Эбола. Все эти разнообразные знания о живой природе, может быть, ей когда-нибудь и пригодятся. А может, не пригодятся вовсе, но в любом случае других книг под рукой не оказалось. И Мариэ продолжала грызть японские издания журналов «National Geographic».
Иногда она запускала руку себе под майку, чтобы проверить, не выросла ли у нее грудь, но та все никак не росла. Наоборот, ей даже показалось, что грудь у нее стала меньше обычного. Затем она подумала о месячных. До следующих, кажется, оставалось еще дней десять. Никаких гигиенических принадлежностей здесь нигде нет (на случай землетрясения припасена туалетная бумага, но ни тампонов, ни влажных салфеток она не обнаружила – видимо, присутствие женщин в расчеты хозяина этого дома никак не входило). Еще не хватало, если прямо здесь у нее начнется менструация. Но до тех пор она, вероятно, как-нибудь отсюда да выберется. Вероятно. Не торчать же ей в таком месте целых десять дней.
Во вторник около десяти наконец-то приехала машина службы уборки. С верхнего двора послышалась оживленная болтовня женщин, достававших из кузова инвентарь. Тем утром Мэнсики не стал заниматься ни стиркой, ни упражнениями и совсем не спускался, поэтому Мариэ и понадеялась: неужели сегодня? Для того чтобы Мэнсики изменил своим повседневным привычкам, должна быть веская причина. Ее надежда оправдалась. Стоило появиться фургону службы уборки, как Мэнсики сел в «ягуар» и куда-то уехал.
Мариэ спешно прибралась в комнате прислуги. Бутылки из-под воды и бумажную обертку крекеров собрала в мусорный пакет и оставила его на виду – наверняка уборщики его заметят и заберут. Одеяло аккуратно свернула и положила обратно в шкаф, начисто удалила следы нескольких дней своего пребывания в комнате. Все она делала очень тщательно. Затем повесила на плечо сумку и крадучись поднялась по лестнице. Чтобы не попасться на глаза уборщикам, просчитала время и на цыпочках миновала коридор. Стоило подумать о той комнате, как учащенно забилось сердце, но об одежде из гардероба она вспоминала тепло. Вот бы разглядеть да потрогать ее в свое удовольствие… Но времени на это нет, нужно спешить.
Не замеченная никем, она вышла из прихожей и бегом устремилась вверх по дорожке. Как она и надеялась, ворота не закрывали: работавшие на участке люди то и дело сновали туда-сюда, и для каждого открывать и закрывать ворота никто не собирался. Мариэ с беспечным видом вышла из поместья наружу.
Проходя через ворота, она вдруг поймала себя на мысли: а что, действительно можно так просто, совершенно не напрягаясь, взять и уйти прочь из этого места? Неужели не нужно платить никакую цену, не будет ничего сложного и сурового? Вроде того мучительного обряда посвящения, какой устраивали юношам того коренного племени Новой Гвинеи? О нем Мариэ прочла в «National Geographic». Разве это не требуется в качестве некоего свидетельства? Но такая мысль пронеслась у нее в голове и мигом пропала. Куда больше ее переполняла радость освобождения после удачного побега. Было пасмурно – казалось, из льнувших к земле густых туч вот-вот хлынет промозглый дождь. Однако Мариэ, задрав голову к небу, несколько раз глубоко вдохнула и ощутила себя бесконечно счастливой. Как некогда на пляже Вайкики, глядя на пальму, шелестящую листьями на ветру. Я свободна! – думала она. Могу пойти куда захочу! Больше не нужно, сжавшись, дрожать во мраке. Я жива, и мне следует радоваться и благодарить уже за это. Прошло всего четыре дня, но мир, представший теперь перед ее глазами, выглядел оживленно и ярко. Казалось, каждый кустик, каждое деревце пышет свежестью и полно жизненных сил. Запах ветра заставлял сердце Мариэ биться учащенно.
Однако мешкать в таком месте не годилось: вдруг Мэнсики что-нибудь забыл и сейчас вернется? Нужно поскорее отсюда убираться. Чтобы никто ничего не заподозрил, глядя на нее, Мариэ, как уж смогла, разгладила мятую школьную форму (она спала, не снимая ее, несколько ночей кряду), пригладила волосы и с невозмутимым видом быстро спустилась по склону.
Спустившись с одного склона, она перешла через дорогу и поднялась на другой. Только при этом направилась не к себе домой, а первым делом пришла ко мне – хотела поделиться своим замыслом. Но в доме никого не оказалось: сколько б ни давила Мариэ на кнопку звонка, никто ей так и не открыл.
Поняв, что все бесполезно, девочка направилась в заросли и подошла к склепу за кумирней. Там она увидела, что крышка плотно затянута полиэтиленовым тентом. Прежде его здесь не было. Тент прочно привязали ко вбитым в землю колышкам, а поверх него разложили камни-грузила. Нарочно, чтобы в склеп просто так попасть или заглянуть стало невозможно. Пока ее тут не было, кто-то (кто именно – неизвестно) преградил к нему доступ, видимо, решив, что оставлять склеп открытым опасно. Встав перед закрытой ямой, Мариэ прислушалась, но изнутри никаких звуков не донеслось.
(Мой комментарий: если она не слышала звона погремушки, значит, к тому времени меня еще не было в склепе – или я просто уснул.)
Упали первые капли холодного дождя. Мариэ подумала, что пора возвращаться домой – наверняка же все родные уже извелись. Ну, хорошо, допустим, я вернусь, рассуждала она. Придется объяснять, где была все эти четыре дня. Сознаваться, что тайком проникла в дом господина Мэнсики и там скрывалась, никак нельзя. Скажи кому такое – и будет скандал. Наверняка они сообщили о моей пропаже в полицию. Там узнают, что я незаконно пробралась в дом господина Мэнсики, и, глядишь, привлекут к ответственности.
Тогда Мариэ придумала отговорку, будто оступилась и упала в склеп – и все эти четыре дня не могла оттуда выбраться. Но сэнсэй – в смысле, это она обо мне – случайно заметил ее там и спас. Придумав такой вот сценарий, Мариэ надеялась сговориться со мной, чтоб мы отвечали на вопросы складно. Вот только меня дома не оказалось, а склеп оказался затянут тентом так, что попасть внутрь, а тем более – выбраться из него – было очень непросто. Ее план провалился, хотя, если бы все сложилось, мне пришлось бы объяснять в полиции, зачем потребовалось нарочно подгонять технику и вскрывать этот склеп, что само по себе сулило мне немалые хлопоты.
Тогда ей пришло на ум инсценировать потерю памяти. Кроме этого, в голову ничего не приходило. Дескать, что было со мной все эти четыре дня – совершенно не помню. Вместо памяти – пустота. Пришла в себя на другой стороне горы. Оставалось только держаться этой легенды. Помнится, она видела сериал, связанный с потерей памяти. Мариэ не знала, как люди воспримут ее объяснение: наверняка начнут дотошно расспрашивать – и родственники, и полиция. Еще к психиатру, глядишь, поведут. Поэтому лучше всего стоять на своем: ничего не помню, и точка. Растрепать волосы, измазать грязью руки и ноги, местами поцарапаться и всем своим видом показывать, будто все это время провела в горах. А что еще делать? Только разыгрывать от начала и до конца такой вот спектакль.
Она так и поступила. Даже комплимента ради ее представление нельзя было назвать искусным, однако другого выбора у нее не оставалось.
Вот что поведала мне Мариэ Акигава. Примерно на этом месте вернулась ее тетушка. Было слышно, как «тоёта приус» останавливается перед моим домом.
– Думаю, лучше помалкивать и никому не говорить, что приключилось с тобой на самом деле, – сказал я Мариэ. – Не говори ничего больше никому. Пусть это останется нашим с тобой секретом.
– Конечно, – ответила она. – Конечно, я никому ни за что не скажу. А если даже и расскажу, мне все равно никто не поверит.
– Я верю.
– Тем самым круг замкнется?
– Не знаю, – ответил я. – Боюсь, еще не полностью. Но… как-нибудь сдюжим. Самая опасная фаза, надеюсь, уже позади.
– Смер-то-нос-на-я?
Я кивнул.
– Да, смертоносная фаза.
Мариэ секунд десять смотрела на меня в упор, а затем тихо спросила:
– Командор на самом деле существует?
– Да, Командор на самом деле существует, – ответил я. И я заколол его насмерть вот этой самой рукой. На самом деле. Но об этом я, конечно же, сказать ей не мог.
Мариэ только раз коротко кивнула. Наверняка она сохранит нашу тайну навсегда. Это будет наша с нею очень важная тайна.
Если б я только мог, то хотел бы поведать Мариэ правду: всю ту одежду в гардеробе, защитившую девочку от чего-то, носила до замужества ее покойная мать. Но и этого сделать я не мог. Не было у меня такого права. Вряд ли имелось оно и у Командора. Этим правом в целом мире обладал лишь один человек – Мэнсики, вот только он вряд ли этим правом воспользуется.
А мы все живем, храня тайны, которых не можем поведать друг другу.
63
Вот только думаешь ты о другом
У нас с Мариэ была тайна. Важная тайна, известная только нам двоим. Я рассказал ей, что мне пришлось испытать в подземном мире, она же поведала мне, что с ней приключилось в доме Мэнсики. Картины «Убийство Командора» и «Мужчина с белым „субару форестером“» надежно упакованы и спрятаны на чердаке дома Томохико Амады. Об этом знают тоже лишь два человека на всем белом свете: я и она. Конечно, еще знает об этом и филин, только он ничего не расскажет и будет хранить нашу тайну в идеальной тишине.
Мариэ временами захаживала ко мне в гости (скрываясь от тетушки, приходила по своей тайной тропе). И тогда мы с ней на пару, припоминая детали, пытались выяснить, нет ли между нашими параллельными историями общих точек соприкосновения.
Я, признаться, тревожился, что Сёко Акигава что-то заподозрит: почему это четырехдневная потеря памяти у Мариэ и мое «трехдневное дальнее путешествие» совпадают по срокам? Однако ей это даже не пришло на ум – ну и, конечно, полиция тоже упустила этот факт из виду. О тайной тропе они не знали, а дом, в котором живу я, – аж «на той стороне горного кряжа». Полиция не считала меня «человеком, живущим по соседству», и потому не удосужилась наведаться для выяснения обстоятельств. То, что Мариэ позировала мне, Сёко Акигава, похоже, полиции не сообщила – видимо, не сочла эти сведения достойными внимания. Если бы полицейские соотнесли сроки пропажи Мариэ и моего исчезновения, возникла бы щекотливая ситуация.
В конечном итоге я так и не закончил портрет Мариэ Акигавы. Он был близок к завершению, и мне оставалось нанести последние штрихи и мазки, однако я опасался последствий. Положим, я закончу картину, и Мэнсики сделает все возможное и невозможное, чтобы заполучить ее в свои руки. Что бы он там ни говорил, в этом он был предсказуем. Я не хотел отдавать ему в руки этот портрет. Я не мог позволить картине занять место на стене в «храме» Мэнсики. Крылось в этом нечто опасное. Поэтому в конечном итоге я решил оставить картину незавершенной. Впрочем, Мариэ она очень понравилась: «Здесь очень точно передан мой нынешний внутренний мир», – сказала она – и еще сказала, что, по возможности, хотела бы оставить картину себе. Я с радостью вручил ей незаконченный портрет (приложив, как и обещал, три эскиза). Она решила: наоборот, хорошо, что картина незавершенная.
– По-моему, это классно. Картина незавершенная, а значит, я сама так и останусь на ней навсегда будто бы незавершенной, несовершенной, – добавила Мариэ.
– Людей с совершенной судьбой не бывает. Все люди бесконечно несовершенны.
– Господин Мэнсики тоже? – спросила Мариэ. – Он как никто другой выглядит очень совершенным.
– Господин Мэнсики тоже, скорее всего, несовершенен, – ответил я.
Мэнсики нисколько не совершенный человек – я в этом убежден. Именно поэтому он по ночам высматривает через окуляры высокоточного бинокля Мариэ Акигаву. Он просто не может без этого жить. Скрывая свою тайну, он тем самым ловко сохраняет баланс собственного бытия в этом мире. Вероятно, для Мэнсики это в чем-то сродни длинному шесту в руках циркача-канатоходца.
Конечно же, Мариэ знала, что Мэнсики наблюдает за ее домом в бинокль. Однако не сказала об этом больше никому (кроме меня) – не поделилась даже с собственной тетей. Зачем ему это нужно? Причина так и осталась неясна, но отчего-то желание выяснить это у Мариэ не возникало. Она просто ни в коем случае не раздвигала шторы у себя в комнате. Ее выцветшие оранжевые шторы так и оставались все время плотно задернутыми. А переодеваясь по вечерам, она следила, чтобы свет в комнате был потушен. Что же касалось других комнат, ее особо не беспокоило, что там за ней постоянно украдкой подсматривают. Наоборот, осознание этого ее даже чем-то забавляло. А может, для нее имело значение, что об этом знает лишь она одна.
По мнению Мариэ, Сёко Акигава продолжала свои отношения с Мэнсики: раз или два в неделю садилась в машину и ехала к нему. И каждый раз, похоже, их встречи заканчивались постелью (Мариэ упоминала об этом обиняками). Тетя не говорила, куда ездит, но девочке и так было понятно. Когда тетя возвращалась домой, цвет ее моложавого лица был лучше обычного. Так или иначе, каким бы особым личным пространством ни окружал себя Мэнсики, способов препятствовать его отношениям с Сёко Акигавой у Мариэ не оказалось. Что ж поделаешь? Пусть идут совместной дорогой, раз они того хотят. Мариэ желала, чтобы их отношения продвигались, насколько это возможно, не касаясь ее. И чтобы она могла сохранять свою независимость поодаль от этого водоворота.
Однако мне казалось, что это, во всяком случае, было непросто. Рано или поздно в той или иной степени Мариэ, того не подозревая, сама угодит в этот водоворот – с далекого его края вскоре окажется в самой что ни есть сердцевине. Мэнсики, должно быть, продолжал отношения с Сёко Акигавой с прицелом на Мариэ – мысль об этой девочке никогда его не покинет. Был в этом изначально умысел или нет, но теперь иначе он поступать не мог – в этом он сам, вся его суть. А хотел того или нет, познакомил их все-таки я. Мэнсики и Сёко Акигава впервые встретились в этом доме, как того потребовал он. А он – человек, привыкший получать то, чего захочет, невзирая ни на что.
Мариэ не знала, какая участь ожидает платья пятого размера и обувь, но предполагала, что вся эта одежда бывшей любовницы хозяина особняка наверняка будет вечно храниться бережно сокрытой от посторонних глаз там же, в гардеробе, или в каком-либо другом месте. Как бы в дальнейшем ни складывались отношения Мэнсики с Сёко Акигавой, у него вряд ли поднимется рука выбросить или сжечь всю эту одежду. Почему? Она – отражение его души и потому заслуживает вечного поклонения в его храме.
Я отказался дальше вести кружок рисования. Руководителю Школы художественного развития объяснил, что хочу больше уделять времени собственному творчеству. Он пусть и неохотно, но согласился с этим. Так и сказал:
– О вас как о преподавателе я получаю очень хорошие отзывы. – И это, как мне показалось, не было голословной лестью. Я вежливо поблагодарил его за добрые слова. До конца года я продолжал вести кружок, а он тем временем подыскал мне замену: женщину с хорошим характером и слоновьими глазами, лет шестидесяти пяти, в прошлом – преподавателя живописи в старших классах средней школы.
Мэнсики иногда мне звонил – просто так, без какого-либо повода, и мы с ним болтали. Каждый раз он спрашивал, все ли по-старому в склепе за кумирней, и каждый раз я ему отвечал, что там нет никаких перемен. Так оно и было на самом деле. Склеп оставался плотно затянут полиэтиленовым тентом синего цвета. Иногда на прогулке я заглядывал в то место, чтобы проверить, но никаких следов не замечал. Никто не пытался его содрать, все камни-грузила тоже покоились на своих местах. И больше с этим склепом не происходило ничего странного и подозрительного. Не доносился посреди ночи звон погремушки, не появлялся Командор (равно как и кто-либо другой). Склеп попросту мирно существовал среди своих зарослей. Напрасно раздавленный гусеницами экскаватора мискантус постепенно обрел прежнюю бодрость и опять разросся, укрыв склеп своими буйными стеблями.
Мэнсики считал, что все дни, пока меня не было дома, я безвылазно провел в склепе. Как мне удалось там очутиться, он объяснить не мог, но ведь обнаружил он меня именно там. Это неоспоримый факт, опровергнуть который невозможно, а потому он и не связывал мое исчезновение с пропажей Мариэ. Для него два этих события – случайное совпадение. Я попытался осторожно прощупать, не возникало ли у него ощущение, как если бы в те напряженные дни кто-то украдкой прятался у него дома. Но никакой опаски в его ответах не уловил – судя по всему, Мэнсики совсем ничего не заметил. Положим, так – но тогда выходит, что перед гардеробом запретной комнаты стоял не он? Кто же это мог быть?
Звонить-то он звонил, но с тех пор ко мне больше не заглядывал. Пожалуй, обретя Сёко Акигаву, он перестал испытывать потребность в наших встречах – или же просто утратил ко мне интерес. А может – и то, и другое. Однако мне, в общем-то, было все равно, вот только порой я скучал по рокоту двигателя «ягуара», когда машина взбирается ко мне по склону.
Но даже так, если судить по его редким звонкам – а звонил он обычно ближе к восьми вечера, – сдается мне, ему по-прежнему было необходимо поддерживать хоть какую-то связь между нами. Или же ему не давал покоя сам факт, что он доверил мне свою тайну: Мариэ может быть его родной дочерью. Правда, я не думаю, что он беспокоится, будто я выдам его тайну, скажем, Сёко Акигаве или самой Мариэ. Он, разумеется, знал, что я не болтлив и держу язык за зубами. В людях, похоже, он разбирался весьма неплохо. Однако кем бы ни был его собеседник, то, что Мэнсики доверил кому-то свою сокровенную тайну, стало поступком совсем для него не характерным. Даже такой волевой человек, как он, – и тот порой устает хранить секрет в одиночку. А может, в то время он попросту нуждался в чьем-то участии, и я показался ему сравнительно безвредным.
Намеренно ли Мэнсики использовал меня с самого начала или нет – в любом случае я должен оставаться ему благодарным, ведь именно он вызволил меня из склепа. Если бы он не пришел и, спустив мне лестницу, не вытащил меня на поверхность, я бы закончил свои дни там, в кромешной темноте. Мы в некотором смысле выручали друг друга и потому теперь квиты.
Когда я сообщил Мэнсики, что преподнес Мариэ ее незаконченный портрет, он лишь кивнул в ответ. Картину заказывал он, однако теперь, вероятно, особо в ней не нуждался. А может, считал, что смысла в незавершенной картине нет. Или вообще думал как-то иначе.
Через несколько дней после нашего последнего разговора я вставил картину «Склеп в зарослях» в простенькую раму и преподнес ее Мэнсики. Положил в багажник «короллы» и повез ему домой. Как оказалось потом, мы с ним виделись в последний раз.
– Это вам в благодарность за мое спасение. Примите на память, – сказал я.
Картина ему, похоже, понравилась (я и сам считаю, что она получилась довольно-таки неплохо). Он предложил мне принять вознаграждение, но я решительно отказался. И без того я получил от него больше, чем полагалось, поэтому брать сверх того даже не подумывал. Не хотелось, чтобы между нами опять как-то всплыли деньги. Теперь мы были просто соседями, жили по разные стороны узкой лощины, и мне хотелось поддерживать наши отношения таковыми.
Томохико Амада покинул мир в субботу в конце той недели, когда я спасся из склепа. В коме, длившейся с четверга, у него просто остановилось сердце. Отошел он тихо и очень естественно, будто локомотив замедлил ход, прибывая на конечную станцию. Масахико все это время находился рядом, а когда его отца не стало, позвонил мне.
– Ушел мирно, – сообщил он. – Когда придет мой черед, хотелось бы так же спокойно. В уголках его губ точно застыла легкая улыбка.
– Улыбка? – переспросил я.
– Да нет, не улыбка – просто мне так показалось.
Я говорил, тщательно подбирая слова.
– Конечно, мне жаль, что он умер, но твой отец смог уйти спокойно – и это, наверное, хорошо.
– До середины недели он еще приходил в сознание, но передать на словах ничего не захотел. Прожил девяносто с лишним лет – пожил вволю, как хотел, и наверняка перед смертью ни о чем не жалел, – сказал Масахико.
Нет, ему было о чем сожалеть – на сердце у него лежала какая-то тяжесть. Какая конкретно, знал только он, а теперь не узнает никто. Вовеки.
Масахико сказал:
– Сдается мне, предстоят хлопотные деньки. Как-никак отец был известной личностью. Много чем придется заниматься, ведь я его наследник, мне и предстоит брать все в свои руки. Немного поутихнет – спокойно поговорим.
Я поблагодарил Масахико за то, что он меня известил, и на этом мы попрощались.
Смерть Томохико Амады, как мне показалось, принесла в его дом еще более глубокую тишину. Да оно и понятно, ведь то была обитель, в которой он прожил долгие годы. Я провел несколько дней вместе с этой тишиной – густой, но отнюдь не претящей. Это была ни с чем не связанная, можно сказать, чистая, без примеси тишь. Мне казалось, что на этом завершилась череда событий, и здесь воцарилось спокойствие, которое приходит после того, как улажено важное дело.
Через две недели после кончины Томохико Амады меня тайно навестила Мариэ Акигава – прокралась вечером, точно осторожная кошка. Поговорив со мной, отправилась обратно. Встреча наша продлилась недолго: дома теперь за нею приглядывали строже, и она больше не могла свободно покидать дом, как прежде.
– Похоже, грудь у меня постепенно подросла, – сообщила мне Мариэ. – Поэтому недавно мы с тетушкой ездили покупать мне лифчик. Оказывается, есть лифчики для начинающих. Вы знали?
Я ответил, что нет. Посмотрел на ее грудь, но под шетландским свитером каких-то выпуклостей не заметил.
– Пока не вижу разницы, – сказал я.
– Потому что там лишь тонкие вставки. Если грудь у меня начнет ни с того ни с сего выделяться, все сразу подумают, будто я что-то подкладываю. Разве нет? Поэтому я и начала с самых тонких, а со временем понемногу буду подкладывать больше. Дело это хлопотное.
Еще Мариэ рассказала мне, как женщина из полиции подробно расспрашивала, где она провела четыре дня. В целом обращалась с ней по-доброму, но несколько раз всерьез разозлилась. А Мариэ, как бы там ни было, стояла на своем: кроме того, как бродила в горах, ничего не помню, по пути заблудилась, а дальше перед глазами словно пелена. В сумке всегда носила с собой минеральную воду и шоколадные батончики. Видимо, ими и питалась. И кроме этого, ничего не сказала – держалась, в общем, крепко, как огнестойкий сейф, в этом ей не откажешь. Выяснив, что девочку не похищали с целью выкупа, ее отвезли в указанную полицией больницу, где осмотрели травмы на теле. Они хотели знать, нет ли следов сексуального принуждения, а когда поняли, что ничего подобного не случилось, похоже, утратили к ней профессиональный интерес. Просто девочка-подросток несколько дней не возвращалась домой, слонялась по окрестностям. Не такое уж и редкое явление.
Мариэ полностью уничтожила ту школьную форму, что была на ней. Всё: темно-синий блейзер, юбку в клеточку, белую блузку, вязаный жилет, туфли, – и купила весь комплект заново. Так сказать, для смены настроения. И дальше продолжила привычную жизнь, будто с ней ничего не случилось, – вот только перестала посещать изостудию (да и в любом случае она уже вышла из возраста детской группы). Собственный – незавершенный – портрет моей работы она повесила у себя в комнате.
Я не мог представить, какой она станет женщиной. Девочки ее возраста стремительно меняются как внешне, так и внутренне. Встретимся спустя годы – глядишь, совсем ее не узнаю. Поэтому я был очень рад, что сумел сохранить в таком виде – пусть и на незавершенном портрете – облик тринадцатилетней Мариэ. Ведь в этом реальном мире нет ни одного облика, который сохранялся бы долго.
Позвонив прежнему агенту в Токио, я сообщил, что хочу вновь приняться за портреты. Агент был несказанно рад моему пожеланию. Ведь они постоянно нуждаются в опытных художниках.
– Но вы, кажется, говорили, что перестали рисовать портреты на заказ, – сказал агент.
– Я несколько изменил свое мнение, – ответил я, но при этом не уточнил, каким образом. А он тоже не стал спрашивать.
Какое-то время я хотел пожить, не думая ни о чем. Механически водить рукой, выдавая на-гора один за другим обычные заказные портреты. Эта работа должна была принести мне экономическую стабильность. Я сам не знал, как долго продлится такой образ жизни, но теперь хотел заниматься именно этим. Просто бездушно применять отработанные приемы и не пропускать в себя никаких лишних эмоций. Хотел не иметь никакого отношения к идеям и метафорам. Хотел не впутываться в мудреные личные обстоятельства очень обеспеченного загадочного человека, живущего на другой стороне лощины. Мне хотелось без всякой задней мысли выставить хранящуюся в секрете известную картину – и в результате не оказаться втянутым в узкий боковой лаз мрачного подземелья. Вот то главное, что требовалось мне сейчас.
Я встретился и поговорил с Юдзу. Мы пили кофе и «Перрье» в кафе поблизости от ее конторы и беседовали. Ее живот оказался не таким большим, как я его мысленно представлял.
– Ты что, не собираешься замуж за того человека? – первым делом поинтересовался я.
Она покачала головой:
– Пока что нет.
– Почему?
– Просто мне кажется, что лучше этого не делать.
– Но ребенка рожать будешь?
Она коротко кивнула.
– Конечно. Обратного пути уже нет.
– Сейчас живешь вместе с ним?
– Вместе мы не живем. С тех пор, как ты ушел, я все время одна.
– Почему?
– Ну, для начала потому, что я с тобой до сих пор не разведена.
– Но я же поставил печать и подпись в документах, которые мне присылали. Поэтому, естественно, считал, что развод уже оформлен.
Юдзу, молча поразмыслив, ответила:
– По правде говоря, заявление на развод я еще не отправила. Почему-то не захотелось мне этого, и я оставила все как есть. Поэтому, говоря юридически, мы с тобой благополучно были и остаемся супругами. И хоть разводись, хоть нет, но рожденный ребенок по закону будет считаться твоим. Разумеется, у тебя нет необходимости нести за это какую-либо ответственность.
Я толком ничего не понял.
– Но ведь ты собираешься родить ребенка от того человека? Говоря биологически.
Юдзу, умолкнув, пристально смотрела на меня. Затем сказала:
– С этим не все так просто.
– В каком смысле?
– Как бы тебе объяснить… У меня нет никакой уверенности, что отец ребенка – он.
Тут уж настал мой черед смотреть на нее пристально.
– Ты хочешь сказать, что не знаешь, от кого забеременела?
Она кивнула, как бы говоря: как раз этого я и не знаю.
– Но это не то, о чем ты сейчас мог подумать. Я не сплю с каждым первым встречным. Если у меня и бывает когда-то секс, то лишь с кем-то одним. Поэтому и с тобой я с какого-то времени делать это перестала. Ведь так же было?
Я кивнул.
– Но мне тебя было жаль.
И кивнул еще раз. Юдзу продолжила:
– Так вот, даже с тем человеком я тщательно предохранялась, потому что не собиралась заводить ребенка. Ты сам это прекрасно знаешь, в таком я человек весьма осмотрительный. Но когда заметила, уже была беременна.
– Как ни остерегайся, бывают и промахи.
Она опять покачала головой.
– Если такое произойдет, женщина так или иначе должна почувствовать, потому что сработает интуиция. Полагаю, мужчинам не понять такого.
Разумеется, мне этого не понять.
– И ты, как бы там ни было, собираешься рожать этого ребенка, – произнес я.
Юдзу кивнула.
– Однако ребенка ты все это время не хотела. По крайней мере – от меня.
– Да, я не хотела детей. Ни от тебя, ни от кого другого.
– Но сейчас готовишься дать жизнь ребенку, не зная точно, кто его отец. Если б ты захотела, то, по идее, могла бы прервать беременность на раннем сроке.
– Разумеется, я думала и об этом. Колебалась.
– Но не сделала.
– В последнее время я стала задумываться, – сказала Юдзу. – Моя жизнь – это мое личное дело, но почти все, что в ней происходит, решается и развивается само по себе в каком-то таком месте, что не имеет ко мне ни малейшего отношения. Вроде и живу, наслаждаясь свободным выбором, но в итоге сама ничего важного не выбираю. И моя беременность, считаю, – тоже одно из таких проявлений.
Я, ничего не говоря, слушал ее.
– Это может отдавать фатализмом, но я на самом деле так почувствовала. Очень искренне, очень сильно – и подумала: раз уж так произошло, я во что бы то ни стало сама рожу и в одиночку воспитаю этого ребенка. А заодно посмотрю, что произойдет со мной в дальнейшем. Мне это показалось очень важным.
– Хочу спросить тебя об одном, – решительно сказал я.
– О чем?
– Вопрос простой, поэтому достаточно ответить «да» или «нет». И больше я ничего не скажу.
– Хорошо. Спрашивай.
– Ты не против, если я вернусь к тебе?
Она слегка нахмурилась и опять пристально посмотрела на меня.
– В смысле, ты хочешь, чтоб мы опять жили как супруги?
– Если это возможно.
– Хорошо, – тихо и почти не колеблясь ответила Юдзу. – Ты пока что мой муж, в твоей комнате – как ты вышел – так все и осталось. Захочешь вернуться – можешь это сделать когда угодно.
– А с тем человеком тебя что-либо связывает? – спросил я.
Юдзу легко покачала головой.
– Нет. Все кончено.
– Почему?
– Для начала, я не хочу давать ему отцовских прав.
Я молчал.
– Для него, пожалуй, это стало неожиданностью. Само собой, – сказала она и несколько раз потерла руками щеки.
– А мне – не против?
Она положила обе руки на стол и еще раз пристально посмотрела на меня.
– Ты, похоже, немного изменился. Что-то в лице – и чем-то еще…
– Про выражение лица я не знаю, но считаю, что кое-чему научился.
– Я тоже, возможно, кое-чему научилась.
Я взял чашку, допил кофе из нее и сказал:
– Масахико теперь после смерти отца совсем не просто. Потребуется время, чтобы все успокоилось. А когда все поутихнет – думаю, вскоре после Нового года, – я хочу привести вещи в порядок, все собрать и перебраться из того дома обратно в нашу квартиру на Хироо. Ты не против, если я так и сделаю?
Она очень долго смотрела мне в лицо – будто после долгой разлуки увидела милый сердцу пейзаж. Затем вытянула руки и нежно ими накрыла мои, тоже лежавшие на столе.
– Если получится, я хотела бы попробовать все исправить. С тобой, – сказала Юдзу. – Признаться, я долго об этом думала.
– Я тоже, – сказал я.
– Я не знаю, как все сложится.
– Я тоже не знаю. Но попробовать стоит.
– Я вскоре рожу ребенка от непонятно какого отца и буду его воспитывать. Ты не против?
– Я не против, – ответил я. – И вот что еще. Я скажу, но только ты не подумай, что я спятил. Может быть, я и есть вероятный отец ребенка, которого ты собираешься родить. Мне так кажется. Может быть, тебя сделала беременной моя любовь, мои мысли о тебе издалека. Мой замысел – по какому-то особому каналу.
– Твой замысел?
– Такова одна из моих гипотез.
Юдзу задумалась над моими словами, а потом произнесла:
– Если так, то это чудесная идея.
– В этом мире нет ничего достоверного, – ответил ей я. – Но мы хотя бы способны во что-нибудь верить.
Она улыбнулась. На этом наш разговор в тот день закончился. Она вернулась домой на метро, а я на запыленной «королле»-универсал поехал в дом на горе.
64
Как некая благодать
Через несколько лет после того, как я вернулся к жене и мы стали жить вместе, 11 марта в восточной части Японии произошло сильное землетрясение. Я, сидя перед телевизором, наблюдал, как от префектуры Иватэ до префектуры Мияги один за другим рушатся и гибнут прибрежные города. Места, по которым я прежде бесцельно путешествовал на стареньком «пежо-205». Среди них наверняка был и тот городок, где я встретился с «мужчиной с белым „субару форестером“». Однако на экране телевизора я видел лишь останки многочисленных городков, сметенных и разметанных гигантским чудовищем цунами. Я не обнаружил ничего, что было бы связано с тем городком, который я тогда проезжал, – ведь я даже не помнил его названия, а потому и никак не мог выяснить, насколько сильно он пострадал от стихии и как изменился его облик.
Не в состоянии что-либо делать, буквально онемев от потрясения, я несколько дней напролет просто пялился в экран телевизора и не мог от него оторваться. Мне хотелось приметить в тех кадрах хоть какой-то пейзаж, связанный с моими воспоминаниями. Иначе, как мне казалось, что-то ценное, сохранившееся у меня внутри, унесет в какую-то неведомую даль, и оно там попросту сгинет. Мне хотелось немедленно сесть в машину и поехать туда – своими глазами убедиться в том, что там осталось. Но это, конечно, мне не удастся: трассы в разных местах перерезаны, городки и деревни в изоляции. Разрушены и утрачены все жизненно важные коммуникации – электричество, газ, водопровод. А в граничащей с юга префектуре Фукусима – примерно там, где умер мой «пежо-205», – случился коллапс на прибрежных атомных электростанциях. В такой ситуации мне никак туда не пробраться.
Когда я путешествовал по тем местам, я не был счастливым человеком. С какой стороны ни посмотри, я был одинок и погружен в тяжкие неопределенные мысли – во многих смыслах был человеком потерянным. Но и при этом, продолжая свое путешествие, я оказывался между разными незнакомыми людьми, выпутывался из их жизненных перипетий. И это имело для меня очень важный смысл – куда более важный, чем я сам тогда считал. Вышло так, что по пути я – зачастую непроизвольно – что-то отбрасывал от себя, что-то подбирал. Проехав по этим местам, я изменился, став несколько другим человеком, чем был прежде.
Я думал о картине «Мужчина с белым „субару форестером“», которую спрятал на чердаке дома в Одаваре. Тот мужчина – будь он живым человеком или чем-то еще – так и живет в том городке? И та худая молодая женщина, с которой я провел странную ночь, – по-прежнему там же? Что с ними? Смогли они выжить, уцелев после землетрясения, спасшись бегством от цунами? Что стало с интим-гостиницей, с придорожным рестораном того городка?
Каждый вечер в пять я шел в детский садик за ребенком. Это стало моей повседневной привычкой (жена опять вышла на работу в архитектурную контору). Детсад находился минутах в десяти ходьбы от нашего дома. И я, держа за руку дочь, неспешно вел ее домой. Когда не было дождя, мы заходили в парк, отдыхали там, сидя на скамейке, и я наблюдал, как прогуливаются соседские собаки. Дочь просила себе песика, но в нашем многоквартирном доме держать животных запрещали. Потому дочь и не могла сдержаться, чтоб не посмотреть на собачек в парке. Иногда ей разрешали погладить какую-нибудь маленькую спокойную псину.
Дочь звали Муро. Такое имя дала ей Юдзу. Оно приснилось ей незадолго до родов. Во сне Юдзу была одна в просторной японской комнате с татами. Комната открывалась в красивый обширный сад, и в ней стоял старинный низкий письменный стол, на нем лежал лист белой бумаги. На листе – единственный иероглиф «室»[11], блестяще выведенный черной тушью. Кто написал, неизвестно, но написано очень изящно, каллиграфически. Такой вот сон, и Юдзу, проснувшись, смогла отчетливо его вспомнить. А поэтому настояла, что таким должно быть имя будущего ребенка. Я, разумеется, не возражал. Что ни говори, а ребенка-то рожает она. Я вдруг подумал: а вдруг этот знак начертал Томохико Амада? Просто подумал так – и все. В конце концов, то был всего лишь сон.
Я был рад, что родилась девочка. Из-за того, что я провел детство с младшей сестрой Коми, мне отчего-то становилось спокойно, когда рядом со мной – маленькая девочка. Для меня это было во всех отношениях естественно. И еще мне было приятно, что ребенок появился на свет с определенным именем, в котором ни у кого не было никаких сомнений. Ведь имя, что ни говори, – дело важное.
Муро, вернувшись домой, смотрела вместе со мной новости по телевизору. Я старался не показывать ей те кадры, где надвигалась волна цунами. Это слишком тревожные кадры для маленького ребенка. Когда на экране возникала волна, я вытягивал руки и закрывал ими дочери глаза.
– Почему? – спрашивала Муро.
– Тебе такое лучше не смотреть. Еще маленькая.
– Это на самом деле?
– Да, где-то далеко это происходит на самом деле. Но это не значит, что тебе необходимо смотреть все, что происходит на самом деле.
Муро задумалась над моими словами, но, разумеется, что они значили, понять не смогла. Также она не понимала, что такое землетрясение и цунами, не понимала и тот смысл, который несет в себе смерть. Но как бы то ни было, я плотно закрывал ей руками глаза и старался, чтобы она не видела кадров с цунами. Что-либо понимать и что-либо видеть – вещи разные.
Однажды я заприметил в углу экрана телевизора «мужчину с белым „субару форестером“». Или мне так показалось. Камера съемочной группы остановилась на большом рыболовецком судне, вынесенном цунами на верх холма, – там оно и осталось. И рядом стоял тот человек. Вместе они напоминали слона, который больше не мог выполнять свои обязанности, и его погонщика. Но этот кадр тут же сменился на другие, поэтому я и не уверен, был ли то «мужчина с белым „субару форестером“» или нет. Однако высокая фигура человека в черной кожаной куртке и черной кепке с логотипом «Yonex» показалась мне именно им.
Его изображение возникло и тут же пропало. Я видел его всего какой-то миг – и камеру переключили на другой ракурс.
Но я тогда не только смотрел новости о землетрясении – я продолжал рисовать коммерческие парадные портреты. Они приносили мне средства к существованию. Ни о чем не думая, я стоял перед холстом и наполовину автоматически водил рукой. В этом и заключалась жизнь, которая была мне нужна. Как и то, что от меня было нужно людям. Работа эта приносила мне гарантированный доход – и он тоже был мне нужен. У меня все-таки семья, которую необходимо кормить.
Спустя два месяца после землетрясения в районе Тохоку при пожаре сгорел дом под Одаварой – тот самый, где мне выдалось пожить. Дом на вершине горы, где половину своей жизни провел Томохико Амада. Об этом мне сообщил по телефону Масахико. С тех пор, как я съехал оттуда, жильцов не находилось. Дом очень долго пустовал, и у Масахико болело за него сердце. Его беспокойство оказалось не напрасным – в доме вспыхнул пожар. Сразу после Золотой недели[12] на рассвете вспыхнул огонь, и пока приехали пожарные, старый деревянный дом сгорел дотла (узкая извилистая дорога по склону затруднила подъезд габаритных пожарных машин). К счастью, накануне шел дождь, и на соседнюю рощу огонь не перекинулся. Пожарное управление провело расследование, но причину пожара в конечном итоге выявить не удалось. Как сказали, могло быть короткое замыкание, а могли и поджечь намеренно.
Услышав эту новость, я сразу же представил картину «Убийство Командора». Наверняка она сгорела вместе с домом – как и моя картина «Мужчина с белым „субару форестером“». И огромная коллекция виниловых пластинок с классической музыкой. А тот филин на чердаке – удалось ли ему спастись?
Картина «Убийство Командора», вне всяких сомнений, – один из шедевров, который оставил по себе Томохико Амада, и то, что она сгорела при пожаре, должно быть, станет чувствительным уроном для японского мира искусства. Эту картину видели лишь несколько человек (включая меня и Мариэ Акигаву; Сёко Акигава – мельком, но видела тоже; ну и, конечно же, сам ее автор – Томохико Амада; а больше, скорее всего, никто). И вот столь ценная неизвестная картина, сгорев в пламени пожара, навеки исчезла из этого мира. Отчасти в этом я чувствовал свою вину. Быть может, следовало как можно громче раструбить на весь свет об этом «тайном шедевре Томохико Амады», но вместо этого я вновь упаковал ее как можно надежней и вернул на чердак. И вот эта прекрасная работа обратилась в пепел. Я лишь подробно зарисовал всех ее персонажей, и теперь эти мои наброски – единственное, что осталось от шедевра. От одной мысли об этом у меня, художника посредственного и захудалого, сердце обливалось кровью. Я долго еще сокрушался и считал свои действия предательскими по отношению к искусству.
Однако вместе с тем я считал, что произведение это, вероятно, не могло не быть утраченным. Мне казалось, в картину эту Томохико Амада вложил чересчур много своей души. Работа получилась, конечно, превосходной, но вместе с тем обладала некой заманивающей силой. Можно сказать, силой страшной и опасной. И в самом деле: обнаружив эту картину, я разорвал некий круг. Быть может, такое творение и не стоило демонстрировать массам – по крайней мере, разве не так считал сам его автор? И потому не отважился ее публиковать, отправил на чердак. Если все так, я только уважил волю Томохико Амады. В общем, картина сгинула в пламени, и никому повернуть время вспять уже не под силу.
А об утрате портрета «Мужчины с белым „субару форестером“» я особо не сожалел. Я могу еще раз попытаться его нарисовать, если захочу. Правда, для этого мне нужно стать более стойким и непоколебимым человеком – ну и подрасти как художнику. И когда у меня опять появится настроение «нарисовать свою картину», должно быть, я воссоздам портрет «Мужчины с белым „субару форестером“» совсем в другой форме и под иным углом. И он, вероятно, станет моим «Убийством Командора». Если так произойдет на самом деле, можно будет считать, что я принял от Томохико Амады бесценное наследие.
Сразу после пожара мне позвонила Мариэ Акигава, и мы целых полчаса разговаривали о сгоревшем доме. Она с почтением относилась к этому маленькому старому строению. Ну, может, не столько к нему самому, сколько к пейзажу с этим домом – или же к тем дням, когда этот пейзаж только отпечатался у нее в сознании. Томохико Амаде тоже было место в этом пейзаже, пока художник был жив. В ее памяти он, уединившись в мастерской, все время корпел над своими картинами. Таким она видела его по ту сторону оконного стекла. И теперь Мариэ от всего сердца жалела, что пейзаж этот утрачен навсегда. Я мог разделить с нею эту нагрянувшую печаль. Ведь сам этот дом – хоть я не прожил там и восьми месяцев – имел для меня очень глубокий смысл.
Под конец разговора Мариэ сообщила, что грудь у нее стала намного больше, чем раньше. Ей к тому времени уже исполнилось шестнадцать или около того. После того, как я съехал из того дома, мы с ней не виделись ни разу, только иногда перезванивались. У меня не возникало настроения побывать там еще раз, а никаких дел в тех местах у меня не было. Звонила всегда она.
– Конечно, объема пока недостает, но тем не менее выросла, – прошептала в трубку Мариэ, будто открывала мне великую тайну. Потребовалось какое-то время, прежде чем я догадался, что она рассказывает мне о размерах собственной груди. – Как и предсказывал Командор.
– Вот и славно, – ответил я. Подумывал спросить, не завела она себе бойфренда, но передумал и не стал.
Ее тетя Сёко Акигава по-прежнему встречалась с господином Мэнсики. Возник подходящий случай, и она призналась в этом Мариэ. Мол, они находятся в очень близких отношениях. А также добавила, что, вполне вероятно, в скором времени выйдет за него замуж.
«Если все так и выйдет, будешь жить с нами?» – спросила тетя.
Мариэ сделала вид, будто не услышала вопрос. Как она это постоянно делала.
– И как? Собираешься жить вместе с господином Мэнсики? – немного обеспокоенно спросил я у Мариэ.
– Думаю, что нет, – ответила она. А затем как бы добавила: – Хотя я сама не знаю.
Я сама не знаю?
– Я так понимаю, у тебя остались не самые лучшие воспоминания о том доме? – немного оторопев, спросил я.
– Ну, это дело прошлое. Тогда я еще была ребенком, а теперь воспринимается так, будто приключилось давным-давно. Но даже при этом я не представляю свою жизнь вдвоем с отцом.
Давным-давно?
Мне же казалось, будто все произошло буквально вчера. Я попробовал ей это сказать, но она ничего не ответила. Или она желает забыть о тех странных событиях, какие ей выпало испытать в том доме? Или, возможно, и на самом деле уже забыла? А может, с возрастом ей стал очень интересен человек по имени Мэнсики? Может, она начала улавливать в нем нечто особенное – то общее, что течет в их кровеносных сосудах?
– Мне очень хочется узнать, что в доме господина Мэнсики стало с той одеждой из гардероба, – сказала Мариэ.
– Да, точно – тебя же тянет к себе та комната.
– Потому что там одежда, которая меня уберегла, – сказала она. – Но все-таки я и сама пока не знаю. Поступлю в институт – возможно, стану жить где-то отдельно.
Я ответил, что так будет лучше всего.
– А что стало с тем склепом за кумирней? – спросил я.
– Ничего. Все по-прежнему, – ответила Мариэ. – После пожара синий полиэтиленовый тент так и остался на месте. Вскоре опадут листья – так вообще станет непонятно, что там был склеп.
На дне склепа так и лежит древняя погремушка. Вместе с фонариком, который я позаимствовал в палате Томохико Амады.
– Командора больше не видела? – спросил я.
– С тех пор ни разу не встречались. Теперь я и сама с трудом верю, что он взаправду был.
– Командор взаправду был, – подтвердил я. – Лучше этому верить.
Но я также понимал, что Мариэ будет понемногу забывать все это. Она вступает в пору юности, ее жизнь стремительно наполняется запутанными и важными для нее вещами. Скоро ей совсем не будет дела до каких-то непонятных идей и метафор.
Временами мне хочется узнать, что же стало с той фигуркой пингвина. Я отдал ее в уплату за переправу тому безлицему паромщику. Чтобы перебраться через реку со стремительным течением, я не мог поступить иначе. Оставалось уповать лишь на то, что этот маленький пингвин и теперь откуда-то – вероятно, курсируя между бытием и небытием, – продолжал оберегать Мариэ.
Я все еще не знаю, чей это ребенок – Муро. Можно выяснить, сделав анализ ДНК, но мне не хотелось узнавать результаты такого анализа. Вскоре что-нибудь произойдет, и однажды я это, возможно, узнаю. Придет тот день, когда станет очевидной правда о том, кто на самом деле ее отец. Однако сколько смысла в такой вот «правде»? Муро по закону мой ребенок, и я горячо люблю свою маленькую дочь. Обожаю с нею возиться, кем бы ни был иль не был ее биологический отец. Мне все равно – это все мелочи. От этого ничего не изменится.
Пока я в одиночестве скитался из города в город по Тохоку, я переспал с Юдзу во сне. Я пробрался в ее сон, и в результате она зачала, а через девять месяцев и несколько дней родила. Я предпочитаю считать именно так (пускай втихомолку и лично для себя). Отец этого ребенка – я как идея либо я как метафора. Подобно тому, как передо мной появился Командор, как вела во мраке Донна Анна, я сделал Юдзу беременной в другом – отдельном – мире.
Но таким, как Мэнсики, я не стану. Он строит свою жизнь, балансируя возможностями: Мариэ Акигава, быть может, его дочь, а может – и нет. Кладет на весы обе и пытается среди нескончаемых, еле заметных колебаний отыскать смысл собственного бытия. А вот мне бросать вызов такой обременительной интриге (как ни верти, а ее трудно назвать естественной) – надобности нет. Почему? Потому что во мне жива сила веры. В каком бы узком и мрачном месте я ни оказался, на какую бы дикую пустынную равнину меня ни занесло, мне удается искренне верить, что где-нибудь найдется то, что покажет мне дорогу. Это я усвоил на собственном опыте – из тех необычных событий, что произошли, пока я жил в пригороде Одавары, в доме на вершине горы.
Картина «Убийство Командора» навеки сгинула в предрассветном пожаре, но это превосходное произведение искусства и поныне живет в моем сердце. До сих пор я могу отчетливо увидеть перед своими глазами облики Командора, Донны Анны, Длинноголового. Они до того определенны и живы, что кажется, протяни руку – и можно до них дотронуться. Когда я думаю о них, мне становится безгранично спокойно на душе. Совсем как в те минуты, когда я наблюдаю за проливным дождем над просторной гладью водохранилища. В моей душе этот дождь не прекратится.
Вероятно, они так и будут жить дальше вместе со мной. И Муро – моя маленькая дочь – это подарок, переданный мне от них. Как некая благодать. Так мне очень сильно кажется.
– Командор и вправду был, – говорю я Муро, крепко спящей подле меня. – Тебе лучше этому верить.
