Амстердам бесплатное чтение
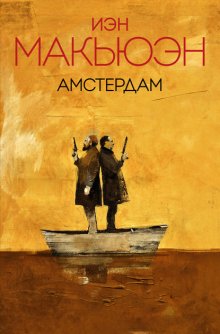
I
Двое бывших любовников Молли Лейн стояли у часовни крематория спиной к холодному февральскому ветру. Обо всем уже было говорено, но они проговорили еще раз.
– Так и не поняла, что на нее обрушилось.
– А когда поняла, было поздно.
– Быстро скрутило.
– Бедная Молли.
– Ммм.
Бедная Молли. Началось с покалывания в руке, когда она ловила такси у ресторана «Дорчестер»; ощущение это так и не прошло. Через несколько недель она уже с трудом вспоминала слова. «Парламент», «химию», «пропеллер» она могла себе простить, но «сливки», «кровать», «зеркало» – это было хуже. Когда временно исчезли «аканф» и «брезаола»,[1] она обратилась к врачу, ожидая, что ее успокоят. Однако ее направили на обследование, и, можно сказать, оттуда она уже не вернулась. Как же быстро боевая Молли стала больной пленницей своего угрюмого собственника-мужа Джорджа. Молли, ресторанный критик, фотограф, женщина неиссякаемого остроумия, дерзновенная садовница, возлюбленная министра иностранных дел, способная легко пройтись колесом в свои сорок шесть лет. О ее стремительном погружении в безумие и боль судачили все: потеря контроля над отправлениями, а с ним – и чувства юмора, а затем – постепенное затмение с эпизодами бессильного буйства и приглушенных криков.
При виде появившегося из часовни Джорджа любовники Молли отошли подальше по заросшей гравийной дорожке. Они добрели до участка овальных розовых клумб с табличкой «Сад памяти». Все растения были безжалостно срезаны на высоте нескольких сантиметров над промерзшей землей – Молли такую практику осуждала. Газон был усеян сплющенными окурками – здесь люди дожидались, когда предыдущая группа освободит здание. Прохаживаясь взад и вперед, старые друзья возобновили разговор, к которому возвращались уже раз десять до этого в разных формах; но он утешал их больше, чем пение «Пилигрима».
Клайв Линли узнал Молли первым, в шестьдесят восьмом, когда они были студентами и жили одним домом, хаотическим и зыбким, в Вейл-оф-Хелте.[2] – Ужасный конец.
Он смотрел, как растворяется в сером воздухе пар его дыхания. Сказали, что в центре Лондона температура минус одиннадцать. Минус одиннадцать. Что-то очень неладно в мире, и не обвинишь в этом ни Бога, ни его отсутствие. Первое непослушание человека, его падение, нисходящий мотив, гобой, девять нот, десять нот. У Клайва был абсолютный слух, и он слышал, как они спускаются от соль. Записывать не было нужды.
Он продолжал:
– Понимаешь – умирать, ничего не сознавая, как животное. Ослабеть, стать полностью зависимой, не успев отдать последние распоряжения и даже попрощаться. Болезнь подкралась…
Клайв пожал плечами. Они дошли до края вытоптанной лужайки и повернули обратно.
– Она предпочла бы самоубийство такому концу, – отозвался Вернон Холлидей.
Он прожил с ней год в Париже в семьдесят четвертом, когда впервые поступил на работу в «Рейтер», а она пописывала для «Вога».
– С мертвым мозгом и в клешнях Джорджа, – сказал Клайв.
Джордж, грустный богатый издатель, не чаял в ней души, и она, к всеобщему удивлению, так и не бросила его, хотя всегда обходилась с ним дурно. Они посмотрели в его сторону: Джордж стоял у двери в группе людей, принимал соболезнования. Смерть жены избавила его от общего презрения. Он будто вырос на дюйм или два, спина у него выпрямилась, голос стал гуще, новообретенное достоинство сузило глаза, погасило жадный, просящий взгляд. Отказавшись сдать ее в приют, он ухаживал за ней собственноручно. И, что существеннее, вначале, когда люди еще хотели ее навещать, он фильтровал посетителей. Для Клайва и Вернона допуск был строго ограничен, поскольку считалось, что при них она разволнуется, а после будет удручена своим состоянием. Другой ответственный гость, министр иностранных дел, также был нежелателен. Люди стали ворчать, в колонках светской хроники появилось несколько сдержанных замечаний. А потом все это потеряло значение: по рассказам, она чудовищно изменилась, люди не хотели ее навещать и были рады, что Джордж их не пускает. Однако Клайв и Вернон с удовольствием продолжали его ненавидеть.
Когда они повернули обратно, в кармане у Вернона запищал телефон. Он извинился и отошел в сторону, предоставив другу продолжать прогулку в одиночестве. Клайв запахнул пальто и замедлил шаг. У крематория собралось уже сотни две людей в черном. Пора подойти и сказать что-нибудь Джорджу, иначе будет сочтено невежливостью. Наконец-то Джордж ею завладел – когда она уже не узнавала свое лицо в зеркале. С романами ее он ничего не мог поделать, но в финале она стала целиком его. У Клайва занемели ноги, он стал топать, и в том же ритме вернулись десять нисходящих нот ритардандо,[3] английский рожок, а в контрапункт с ним, мягко, восходящий мотив виолончелей, зеркальный образ. В нем – ее лицо. Конец. Все, что было нужно ему сейчас, – тепло, тишина его студии, рояль, недописанная партитура – и закончить. Он услышал слова Вернона, завершавшего разговор: «Отлично. Перепишите резюме и поставьте на четвертую полосу. Я буду часа через два». Затем Клайву:
– Чертовы израильтяне. Нам пора подойти.
– Пожалуй.
Однако они сделали еще один круг по лужайке: в конце концов, они тут для того, чтобы хоронить Молли.
С заметным усилием над собой Вернон отодвинул служебные заботы.
– Она была милой девочкой. Вспомни бильярдный стол.
В 1978 году под Рождество компания друзей сняла большой дом в Шотландии. Молли и ее тогдашний спутник, королевский адвокат[4] по фамилии Брейди, изобразили на бильярдном столе Адама и Еву: он в трусах, она в трусах и лифчике, подставка для кия – змей, красный шар вместо яблока. В пересказах, однако, история приобрела несколько иной вид и в таком виде не только попала в один некролог, но даже запомнилась кое-кому из свидетелей: «Молли плясала в сочельник нагишом на бильярдном столе в шотландском замке».
– Милая девочка, – повторил Клайв.
Делая вид, будто откусывает яблоко и жует, она смотрела прямо на него и развратно улыбалась. Она выкатила бедро и подбоченилась, пародируя уличную девку. Он счел ее упорный взгляд сигналом, и правда, в апреле они снова сошлись. Молли переехала в его студию в Южном Кенсингтоне и осталась на все лето. В это время как раз открылась ее ресторанная колонка и сама она выступила по телевизору, раскритиковав мишленовский путеводитель[5] как «кулинарный китч». Он тоже впервые обозначился перед публикой – «Оркестровыми вариациями» в Фестивал-холле. Второй заход. Она, вероятно, не изменилась, а он – определенно да. За десять лет он узнал достаточно, чтобы еще кое-чему у нее научиться. Его система всегда была – молот и наковальня. Она научила лукавому сексу, тому, что иногда необходима неподвижность. Лежи тихо, вот так, смотри на меня, смотри как следует. Мы – бомба замедленного действия. Ему было почти тридцать; по нынешним меркам запоздалое развитие. Когда она нашла себе квартиру и собрала чемоданы, он предложил ей пожениться. Она поцеловала его и прошептала на ухо: «Чтоб она не ушла, он женился на ней, / И теперь она с ним, как репей». Она была права, потому что после ее отъезда он радовался одиночеству как никогда и написал «Три осенние песни» меньше чем за месяц.
– Ты чему-нибудь у нее научился? – вдруг спросил Клайв.
В середине 80-х Вернон тоже прошелся по второму кругу – во время отпуска, в одном имении в Умбрии. Он был тогда римским корреспондентом газеты, которую теперь редактировал, и женатым человеком.
– Я секс не запоминаю, – ответил он, помолчав. – Наверняка это было изумительно. Но помню, что она объяснила мне все про порчини[6] – как выбирать, как готовить.
Клайв счел это отговоркой и тоже решил не откровенничать. Он оглянулся на дверь часовни. Придется подойти. И сам себе удивился, когда с некоторой яростью произнес:
– Знаешь, мне надо было жениться на ней. Когда она стала сдавать, я бы задушил ее подушкой или как-нибудь еще и спас бы от всеобщей жалости.
Вернон, засмеявшись, повел друга из Сада памяти.
– Легко сказать. Представляю, как ты пишешь гимны для прогулок заключенных аферистов – вроде этой, как ее – суфражистки…
– Этель Смит. Будь уверен, мои были бы лучше.
Друзья Молли, собравшиеся на похороны, предпочли бы не присутствовать в крематории, но Джордж предупредил, что панихиды не будет. Он не желал, чтобы три бывших любовника публично сравнивали свои впечатления на кафедре Сент-Мартина или Сент-Джеймса или переглядывались во время его речи. Подойдя к толпе, Клайв и Вернон услышали привычный гомон фуршета. Подносов с шампанским не было, и голоса не отражались от ресторанных стен, но в остальном это вполне могло сойти за очередной вернисаж в галерее или прием в редакции. Клайв никогда не видел столько лиц при свете дня, притом ужасно выглядящих – кадавры, поставленные стоймя, чтобы приветствовать новопреставленную. В приливе мизантропической энергии он плавно двинулся сквозь гам, не оборачиваясь, когда его окликали, убирая локоть, когда за него хватались, – прямо к Джорджу, который разговаривал с двумя женщинами и старым сморчком в мягкой шляпе и с палкой.
«Какой холод, надо уходить», – услышал Клайв чей-то возглас, но пока что никто не мог преодолеть центростремительную силу светского события. Вернона он потерял – того утащил владелец телеканала.
Наконец Клайв ухватился за руку Джорджа, неплохо изобразив искренность.
– Чудесная служба.
– Очень приятно, что вы пришли.
Ее смерть облагородила Джорджа. Спокойная важность была не в его манере, как правило просительной и хмурой; хотел нравиться, но неспособен был принять дружелюбие как должное. Бремя чрезмерно богатых.
– Извините, пожалуйста, – добавил он, – это сестры Финч, Вера и Мини, приятельницы Молли с бостонских времен. Клайв Линли.
Они обменялись рукопожатиями.
– Вы композитор? – спросили Вера и Мини.
– Да.
– Это большая честь, мистер Линли. Моя одиннадцатилетняя внучка разучила вашу сонатину для экзамена и просто влюбилась в нее.
– Рад слышать.
Мысль о том, что его музыку играют дети, слегка угнетала.
– А это, – сказал Джордж, – тоже из Штатов – Харт Пулман.
– Харт Пулман. Наконец-то. Помните, я положил ваши стихи «Ярость» на музыку для джаз-оркестра?
Пулман был поэт-битник, последний оставшийся в живых из поколения Керуака. Высохшая ящерка с трудом повернула голову, чтобы взглянуть на Клайва.
– Я теперь ничего не помню, то есть ни хера, – произнес он тонким, жизнерадостным голосом.
– Но Молли-то вы помните, – сказал Клайв.
– Кого? – Секунды две Пулман сохранял серьезный вид, потом закудахтал и тонкими белыми пальцами схватил Клайва за руку. – Ну как же, – сказал он своим мультипликационным голосом. – Мы с Молли сдружились в шестьдесят пятом, в Ист-Виллидже.[7]
Стараясь не выдать своей обеспокоенности, Клайв произвел в уме вычитание. В июне 65-го ей исполнилось шестнадцать. Почему она ни разу об этом не упомянула? Он нейтрально осведомился:
– Наверно, она приезжала на лето.
– Угу. Пришла на мою крещенскую вечеринку. Какая девочка, а, Джордж?
Значит, растление. За три года до него. Ни разу не сказала ему про Харта Пулмана. А на премьере «Ярости» она была? В ресторан не пришла потом? Не помнит. То есть ни хера.
Джордж отвернулся и разговаривал с американскими сестрами. Решив, что терять нечего, Клайв приложил ладонь ко рту и наклонился к уху Пулмана.
– Никогда ты с ней не спал, лживая рептилия. Она бы не опустилась до такого.
Он не имел намерения сразу удалиться, потому что хотел услышать ответ Пулмана, но тут слева и справа надвинулись две шумные группы: одна – засвидетельствовать почтение Джорджу, другая – почтить поэта, и в образовавшемся круговороте Клайв был оттеснен в сторону и ушел. Харт Пулман и несовершеннолетняя Молли. С отвращением он протолкался сквозь толпу и, очутившись на свободном пятачке, благополучно никем не востребованный, остановился, чтобы оглядеть друзей и знакомых, занятых разговорами. Кажется, он единственный ощущал потерю. Может быть, если бы он женился на ней, то был бы хуже Джорджа и даже этого собрания не вынес бы. И ее беспомощности. Наклонить коричневый пластмассовый флакончик, и тридцать снотворных таблеток на ладонь. Ступка, немного виски. Три столовые ложки желтоватой кашицы. Она смотрела на него, глотая, как будто понимала. Левой рукой он поддерживал ей подбородок, чтобы не вылилось. И обнимал ее, пока она спала, а потом – всю ночь.
Он один ощущал потерю. Он окинул взглядом собравшихся: многие – его возраста, возраста Молли, на год-другой моложе или старше. Какие благополучные, какие влиятельные, как расцвели при правительстве, которое почти семнадцать лет презирали. «Говоря о моем поколении…» Такая энергия, такая удачливость. Вспоенные молоком и соком послевоенного Государства, а затем подкармливаемые невинным и неуверенным благосостоянием родителей, взрослыми вступили в мир полной занятости, новых университетов, книг в ярких бумажных обложках, в Августов век рок-н-ролла и обеспеченных доходами идеалов. Когда лестница позади них затрещала, когда Государство отняло титьку и стало сварливой бабой, они уже были в безопасности, они объединились и принялись обзаводиться теми или иными вкусами, мнениями, состояниями.
Он услышал веселый возглас женщины: «Я ни рук ни ног не чувствую, я ухожу!» Обернувшись, увидел молодого человека, уже протянувшего руку к его плечу. Лет двадцати пяти, то ли лысый, то ли бритый, в сером костюме, без пальто.
– Мистер Линли. Извините, что помешал вашим мыслям, – сказал молодой человек, убрав руку.
Клайв решил, что он музыкант или любитель автографов, и стянул лицо в маску терпения.
– Ничего страшного.
– Не найдется ли у вас времени подойти и поговорить с министром иностранных дел? Он очень хочет вас видеть.
Клайв поджал губы. Он не хотел знакомиться с Джулианом Гармони, но и не хотел быть демонстративно невежливым. Никуда не денешься.
– Показывайте дорогу, – сказал он, и его повели мимо сбившихся в кучки приятелей: некоторые пытались угадать, куда он идет, и заманить в свою компанию.
– Эй, Линли. Никаких переговоров с врагом!
Действительно, враг. Чем он ее привлек? Внешность странная: большая голова, шапка черных волнистых волос, притом собственных, жуткая бледность, тонкие невыразительные губы. Он сделал себе состояние на политическом рынке с весьма заурядным товаром карательных идей и ксенофобии. У Вернона объяснение было простое: высокопоставленный мерзавец и бойкий в койке. Но таких она могла найти сколько угодно. Должен быть какой-то скрытый талант, который помог ему взобраться туда, куда он взобрался, а теперь еще и нацелиться на кресло премьера.
Помощник подвел Клайва к подкове, выстроившейся перед Гармони, который, видимо, произносил речь или рассказывал какую-то историю. Он прервался, чтобы сунуть руку Клайву и с чувством, словно они были вдвоем, промолвить:
– Много лет мечтал с вами познакомиться.
– Здравствуйте.
Гармони говорил для публики, среди которой были двое молодых людей с приятными, откровенно нечестными лицами газетных хроникеров. Министр был на сцене, а Клайв служил бутафорией.
– Моя жена знает кое-какие из ваших фортепьянных пьес на память.
Опять. Клайв озадачился. И впрямь он такой ручной, одомашненный гений, как утверждают некоторые критики помоложе, – Горецкий[8] для мыслящих?
– Прекрасная, должно быть, пианистка.
Он давно не сталкивался с политиком вплотную и забыл это движение глаз, неустанный поиск слушателей, или дезертиров, или же фигуры более высокого ранга поблизости, или иного какого-то шанса, чтобы, не дай бог, не упустить.
Гармони озирался, контролируя аудиторию.
– Начинала блестяще. Голдсмитс-колледж, потом Гилдхолльская школа. Ее ждала сказочная карьера… – Пауза для комического эффекта. – Потом познакомилась со мной и выбрала медицину.
Захихикали только помощник и еще одна женщина из сопровождения. Журналисты остались равнодушны. Возможно, они это уже слышали.
Взгляд министра снова остановился на Клайве.
– И еще одно. Я хотел вас поздравить с государственным заказом. «Симфония тысячелетия». Вы знаете, что решение принималось на правительственном уровне?
– Слышал. И вы голосовали за меня.
Клайв позволил себе нотку усталости, но Гармони отреагировал так, как будто перед ним рассыпались в благодарностях.
– Это – самое малое, что я мог сделать. Кое-кто из моих коллег предлагал эту поп-звезду, бывшего «битла». Так как продвигается дело? Идет к завершению?
– Почти.
Конечности у него уже полчаса как окоченели, но только теперь холод пронял его до нутра. В тепле своей студии он сидел бы без пиджака, работая над последними страницами симфонии, до первого исполнения которой оставались считаные недели. Он уже дважды отодвигал срок сдачи, и ему не терпелось домой. Он подал министру руку:
– Рад был познакомиться. Мне пора.
Но Гармони не принял его руки и заговорил через него: можно было выжать еще немного из встречи со знаменитым композитором.
– Знаете, я часто думал: право художника, такого, как вы, свободно заниматься творчеством есть то, что придает смысл моей должности…
Последовало еще что-то в том же ключе; Клайв смотрел на него, ничем не выдавая растущей неприязни. Гармони тоже был из его поколения. Высокий пост лишил его способности на равных разговаривать с незнакомым. Может быть, это и дарил он ей в постели: волнующее соприкосновение с безличным. Мужчина, вертящийся перед зеркалами. Но она, конечно, предпочитала душевное тепло. Лежи тихо, смотри на меня, как следует смотри. Может быть, эта связь была не более чем ошибкой – Молли и Гармони. Так или иначе, теперь она представилась Клайву непереносимой.
– Интересно, – сказал он бывшему любовнику Молли, – вы по-прежнему отстаиваете казнь через повешение?
Министра нисколько не обескуражил этот неожиданный поворот, однако взгляд его посуровел.
– Полагаю, большинству людей известна моя позиция в этом вопросе. В данный же момент я с радостью разделяю точку зрения парламента и коллективную ответственность кабинета. – Он изготовился к схватке и одновременно включил обаяние.
Оба газетчика придвинулись ближе со своими блокнотами.
– Прочел, в какой-то речи вы заявили, что Нельсон Мандела заслуживает виселицы.
Гармони, которому в будущем месяце предстояло посетить Южную Африку, спокойно улыбнулся. Речь эту бесцеремонно выкопала на днях газета Вернона.
– По-моему, нет смысла пригвождать людей к словам, произнесенным в ту пору, когда они были опрометчивыми студентами. – Он усмехнулся. – Почти тридцать лет назад. Уверен, что и у вас бывали довольно скандальные высказывания или мысли.
– Конечно бывали, – ответил Клайв. – О том и речь. Если бы тогда вышло по-вашему, теперь и смысла не было бы менять точку зрения.
Гармони слегка кивнул, принимая довод.
– Справедливо. Но в реальном мире, мистер Линли, ни одна система правосудия не свободна от человеческой ошибки.
И тут министр иностранных дел сделал нечто необыкновенное, опрокинувшее теорию Клайва об эффектах общественной должности и даже вызвавшее, задним числом, его восхищение. Гармони приблизился и, взяв его двумя пальцами за лацкан пальто, подтянул к себе и произнес так, чтобы никто не услышал:
– Когда я в последний раз виделся с Молли, она сказала, что вы импотент и всегда им были.
– Совершенный вздор. Она не могла так сказать.
– Конечно, вы будете отрицать. Можем обсудить это вслух перед теми джентльменами – или же вы можете отстать от меня и вежливо попрощаться. Другими словами, пошел к чертовой матери.
Речь была быстрой и горячей, а закончив, Гармони отодвинулся, с улыбкой потряс руку Клайва и громко сказал помощнику:
– Мистер Линли любезно согласился присутствовать на обеде.
Это, возможно, было условленной фразой: молодой человек тут же подошел, чтобы увести Клайва, а Гармони, повернувшись к ним спиной, сказал журналистам:
– Выдающаяся личность – Клайв Линли. Обозначить разногласия и остаться друзьями – не это ли суть цивилизованного существования?
Часом позже машина Вернона, несуразно маленькая для человека, разъезжающего с шофером, привезла Клайва в Южный Кенсингтон. Он вылез и попрощался.
– Ужасные похороны.
– Даже выпить не дали.
– Бедная Молли.
Клайв вошел в дом и остановился в передней, вбирая тепло радиаторов и тишину. Записка от экономки сообщала, что в студии есть для него термос с кофе. Он поднялся туда в пальто, взял карандаш и бумагу и, положив ее на рояль, записал десять нисходящих нот. Потом стоял у окна, смотрел на листок и мысленно вслушивался в контрапункт виолончелей. Часто бывали дни, когда заказ на симфонию представлялся ему дурацкой напастью: бюрократическое вторжение в его творческую жизнь; полная неясность с тем, где конкретно сможет репетировать с Британским симфоническим оркестром знаменитый итальянский дирижер Джулио Бо; легкое, но непрестанное раздражение от чрезмерно возбужденного или враждебного любопытства прессы; то, что он дважды продлевал срок – да и до конца тысячелетия еще не один год. Но случались и такие дни, как сегодня, когда он не думал ни о чем, кроме самой музыки, и его неудержимо тянуло домой. Держа все еще не отошедшую от холода левую руку в кармане, он сыграл записанный пассаж – медленный, с хроматизмами, ритмически замысловатый. Там было даже два размера. Затем, по-прежнему правой рукой и в медленном темпе, он сымпровизировал восходящую мелодию виолончелей, сыграл ее несколько раз, варьируя, пока она его не удовлетворила. Он записал новый голос, который будет звучать в самом верхнем регистре виолончелей и создаст ощущение выброса яростной энергии. Радостно будет высвободить ее в финале симфонии.
Он отошел от рояля, налил кофе и выпил на своем обычном месте у окна. Половина четвертого, а уже темно, и надо зажигать свет. Молли стала пеплом. Он проработает ночь и проспит до обеда. В общем-то, делать больше нечего. Сделай что-то и умри. Выпив кофе, он вернулся обратно и, стоя, нагнувшись над роялем, в пальто, сыграл обеими руками в хиреющем свете только что записанные ноты. Почти правильно, почти правда. В них было сухое томление по чему-то недоступному. По кому-то. В такие минуты он звонил ей и просил приехать – когда не мог усидеть за роялем из-за беспокойства, но и не мог оставить его в покое, настолько был возбужден новыми идеями. Если она была свободна, то приезжала, заваривала чай или смешивала экзотические напитки и усаживалась в углу, в вытертое кресло. Иногда они разговаривали, а иногда она заказывала музыку и слушала с закрытыми глазами. Вкусы ее были на удивление строгими для любительницы вечеринок. Бах, Стравинский, редко – Моцарт. Она уже не была той молодой женщиной, не была его любовницей. Им было приятно в обществе друг друга, но отношения стали ироничнее, страсть ушла, и теперь они любили свободно поговорить о своих романах. Молли вела себя по-сестрински и оценивала его женщин великодушнее, чем он – ее мужчин. А в остальном разговоры шли о музыке и еде. Теперь она сделалась мелким пеплом в алебастровой урне, которую Джордж будет держать на гардеробе.
