Спартак бесплатное чтение
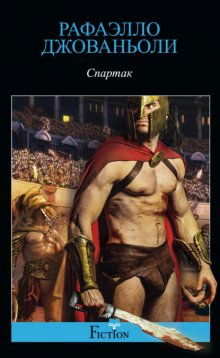
I. Бой гладиаторов
За четыре дня до ноябрьских ид (10 ноября) 675 года римской эры, в правление консулов Публия Сервилия Вотия Изаврийского и Аппия Клавдия Пульхра, Рим с самого восхода солнца кишел народом, со всех концов города направлявшимся к большому цирку.
Из узких извилистых переулков плебейских кварталов Эсквилина и Субурры толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам – Таберноле, Фигуле и другим, которые вели к цирку.
Горожане – ремесленники, неимущие, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бледные изувеченные ветераны победоносных легионов, покорители Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, фигляры, комедианты, плясуны и целые стайки скачущих детей, – все они стекались к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано беззаботное веселье; у всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное даровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных роев.
Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал даже меланхолический вид неба, сулившего скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов дул свежий утренний ветерок. Многие из горожан кутались в плащи с капюшонами; иные были с покрытой головой – в шляпах или войлочных шапках, и все, видимо, надели свое лучшее платье.
Цирк, построенный Тарквинием Старшим после покорения Апиолы в 138 году римской эры и значительно расширенный и украшенный Тарквинием Гордым, стал называться Большим с 533 года, после того как цензор Фламиний соорудил другой цирк, названный его именем.
В то время, когда начинается наш рассказ, Большой цирк, расположенный в Мурцийской долине, между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезаре и Октавии Августе, но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел две тысячи сто восемьдесят римских футов длины, девятьсот девяносто восемь – ширины и мог вмещать более ста двадцати тысяч зрителей.
Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился оппидум, здание из тридцати арок, посреди которого находился один из двух главных входов цирка, называвшийся Парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры – помещения для колесниц и лошадей, когда арена служила ристалищем, и для гладиаторов и диких зверей, когда предстояли смертоносные бои – самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны Парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны ко входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками, с местами для женщин.
Против Парадных ворот находились Триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости Парадных ворот отворялась «погребальная дверь», через которую вытаскивались с арены с помощью длинных крючьев окровавленные и обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. Над арками, на платформе, были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок.
Посреди арены, между двумя главными воротами, тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристалища; на обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены высился обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом, опоясанным каналом с водой и железной решеткой, из предосторожности против нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене.
В этом огромном сооружении, достойном народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ, и не одни плебеи, а также воины, патриции, матроны, – словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений.
Что же предстояло в описываемый нами день?.. На какое зрелище сбегались эти толпы народа?..
Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии и гроза Рима, желая, должно быть, отвлечься от мучившей его уже два года неизлечимой болезни, велел объявить за несколько недель перед тем, что римскому народу будут даваться три дня кряду пиры и увеселительные зрелища.
Уже накануне вся римская чернь угощалась на Марсовом поле и на набережной Тибра за столами, накрытыми для нее по повелению свирепого диктатора. Толпа шумно пировала до поздней ночи, и пир перешел под конец в самую разнузданную оргию. Народ был обязан этим пиром желанию страшного врага Кая Мария блеснуть более чем царской щедростью. В триклинии, импровизированном под открытым небом для угощения квиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались кушанья.
О безумной расточительности Суллы можно судить уже по тому, что в продолжение этих празднеств, дававшихся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни десятую часть своего состояния, большое количество съестных припасов бросалось в реку, и разливалось вино, более сорока лет хранившееся в погребах.
Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то, что награбила у него хищная правая, и квириты принимали от него эти пиры и увеселения лишь по наружности с довольным видом, хотя весь римский народ питал глубокую, неискоренимую ненависть к Луцию Корнелию Сулле.
Было уже около полудня. Солнце, сначала выглядывавшее из-за туч, постепенно засияло ярко и облило своими лучами вершины холмов, храмы и дворцы патрициев, сверкавшие белоснежным мрамором. Народ, согретый живительными лучами, рассыпался по ступеням цирка.
Сто с лишним тысяч зрителей расселись по этим ступеням, чтобы полюбоваться самым любимым зрелищем римского народа – кровопролитной борьбой гладиаторов и диких зверей. Среди этой стотысячной толпы выделялись на лучших местах живописные группы матрон, патрициев, всадников, сборщиков податей, менял и богатых иностранцев, съехавшихся в Вечный город изо всех частей Италии и всего мира.
Трудно себе вообразить величие и пестроту панорамы, какую представлял в такие минуты Большой цирк: пестреющие всеми красками туники, тоги, пеплумы, столы, волнующиеся головы, машущие руки, несмолкаемый рокот стотысячной толпы, похожий на гул и клокотание вулкана.
Многие вынимали принесенную с собой провизию и с аппетитом ели холодное мясо, ветчину, любимую кровяную колбасу или хлеб с медом, перекидываясь остротами, не всегда пристойными шутками и поддерживая в себе веселость частыми возлияниями. На некоторых пунктах продавались дешевые лакомства – пряники, жареный горох. Плебеи покупали их, чтобы побаловать своих жен и детей. Для утоления жажды, вызываемой жареным горохом, тут же покупалось и вино, вернее, жидкость, не по праву претендовавшая на название тускуланского вина.
На третьей ступени, близ Триумфальных ворот, сидела между двумя всадниками матрона замечательной красоты. Высокая, стройная, гибкая, с роскошными плечами, она являлась истинной дочерью Рима. Правильные черты лица, высокий лоб, тонко вылепленный нос, маленький рот, губы которого сулили страстные поцелуи, большие, черные, живые глаза, – все придавало этой женщине чарующую прелесть. Густые шелковистые волосы цвета воронова крыла, придержанные на лбу диадемой, сверкавшей драгоценными камнями, ниспадали на плечи обильными кудрями. Красавица была одета в белую тунику из тончайшей шерстяной материи, обшитую золотой бахромой и позволявшую любоваться стройными линиями ее тела. Поверх туники ниспадала изящными складками белая палла на пурпурной подкладке. Эту блиставшую красотой и роскошью женщину, которой нельзя было дать по наружности и тридцати лет, звали Валерией. Она была дочь Валерия Мессалы и единоутробная сестра знаменитого оратора Квинта Гортензия, соперника Цицерона и впоследствии консула. За несколько месяцев до того времени, с которого начинается наш рассказ, муж Валерии развелся с ней под предлогом ее бесплодия. Истинной же причиной развода, как говорили почти вслух в Риме, было неблаговидное поведение жены. Общественное мнение считало Валерию женщиной развратной, и тысячи уст шепотом передавали рассказы о ее любовных похождениях. Как бы то ни было, а предлог, под которым состоялся развод, достаточно прикрыл ее честь от подобных обвинений.
Возле Валерии сидел Эльвий Медуллий, бледное лицо которого носило кислое, скучающее выражение. В тридцать пять лет ему уже наскучила жизнь. Эльвий Медуллий принадлежал к тем изнеженным, пресыщенным наслаждениями римским патрициям, которые составляли римскую олигархию. Они предоставляли плебеям покорять народы, завоевывать страны и умирать со славой за отечество; сами же предпочитали проедать свои наследственные богатства среди роскоши и праздности, если не грабить какую-нибудь провинцию, порученную их управлению.
По другую сторону красавицы виднелось красное, круглое и веселое лицо Марка Деция Цедикия, патриция лет пятидесяти, проводившего половину дня в отведывании тонких блюд, которые изготовлял его повар, славившийся своим искусством на весь Рим. Остальная половина дня проходила в предвкушении приятных ощущений, которые ему предстояло снова испытать за ужином в своем триклинии.
К этой же группе присоединился пришедший позже других Квинт Гортензий, славившийся на весь мир своим красноречием. Ему не было еще тридцати шести лет. От так долго упражнялся в искусстве придавать изящество своим жестам и речи, так хорошо усвоил себе умение управлять каждым своим движением и словом, что в сенате ли, в триклинии ли или в другом месте вся его фигура всегда была исполнена удивительного благородства и величия, которые казались притом же совершенно естественными.
Он одевался обыкновенно в темные цвета, но складки его тоги были расположены с таким нарочитым изяществом, что это немало содействовало производимому им привлекательному и внушительному впечатлению.
В эту пору своей жизни он уже успел пожать военные лавры в легионах, сражавшихся с союзными итальянцами в так называемой социальной войне, и в два года сделался сначала центурионом, а затем и трибуном.
Гортензий был не только ученым и красноречивым оратором, но также и замечательным артистом. Половиной своих успехов он был обязан своему мелодическому голосу и всем тонкостям декламаторского искусства, которыми он владел в совершенстве. Знаменитый в ту пору трагик Эзоп и не менее славившийся Росций приходили на форум слушать его речи, чтобы поучиться у него декламаторскому искусству.
Покуда Гортензий, Валерия и двое других ее кавалеров беседовали между собой, а один отпущенник бегал, по желанию матроны, за таблицей, на которой были написаны имена гладиаторов, долженствовавших выступить в этот день на арене, священная процессия с изображениями богов обошла вокруг срединной стены и поставила эти изображения на платформу на стене.
Неподалеку от того места, где находилась уже знакомая нам группа, сидели под надзором своего учителя два юных патриция, одетые в белые тоги на пурпуровой подкладке. Одному из них можно было дать лет четырнадцать, другому – лет двенадцать, и оба своими широкими костлявыми лицами с резко очерченными линиями представляли чисто римский тип. Это были Цепион и Катон из фамилии Порция, внуки Катона Цензора, прославившегося во времена Второй Пунической войны и настаивавшего на разрушении Карфагена.
Младший из двух братьев, Цепион, казался более разговорчивым и любезным, чем его брат, и часто обращался к Сарпедону, своему учителю, тогда как юный Марк Порций Катон оставался молчаливым и угрюмым, и брови его были насуплены совсем несоответственно его возрасту. У него уже с этого возраста замечалась необыкновенная твердость характера и стойкость убеждений. О нем рассказывали, что, когда ему было восемь лет, Марк Помпедий Силон, один из главных предводителей итальянцев в войне за право римского гражданства, взял его однажды на руки в доме его дяди Друза и выставил за окно, грозя страшным голосом сбросить его на мостовую, если он не заступится перед своим дядей за итальянских граждан. Но, несмотря на угрозы, Помпедию не удалось вырвать у ребенка ни единого слова и ни малейшего движения, которое свидетельствовало бы о страхе или о готовности уступить. Из этого четырнадцатилетнего мальчика, наделенного от природы железным характером, уже складывался благодаря изучению греческих философов, в особенности стоиков, а также под влиянием традиций, завещанных его суровыми предками, тот идеальный гражданин, который лишил себя жизни в Утике, унеся с собой в могилу знамя латинской свободы.
Над Триумфальными воротами, у самого выхода, сидел со своим учителем другой мальчик-патриций и разговаривал с юношей лет семнадцати с еле пробивающейся растительностью на лице, но уже одетым в тогу, как взрослый. Юноша был маленького роста, слабого телосложения, с бледным лицом в рамке блестящих черных волос и с большими черными глазами, в которых светился живой ум. Это был Тит Лукреций Кар, из благородной римской фамилии, составивший себе впоследствии бессмертное имя своей поэмой De Rerum Natura («О сущности вещей»).
Другой мальчик, имевший более бравый вид, был двенадцатилетний Кай Лонгин Кассий, сын консула Кассия и также потомок патрицианской фамилии. Он был предназначен судьбой к одной из самых блестящих ролей в истории событий, предшествовавших падению Римской республики.
Двое юношей вели оживленный разговор. Будущий великий поэт, уже два или три года посещавший дом консула, открыв в юном Кассии рано развившийся ум и благороднейшее сердце, горячо привязался к нему. И Кассий не менее полюбил Лукреция, с которым его сближали сходство чувств и стремлений, одинаковое презрение к жизни, одинаковые взгляды на людей и богов.
Неподалеку от Лукреция и Кассия сидел сын Суллы, Фауст, хилый юноша с бледным лицом, испещренным следами недавних ушибов, с рыжими волосами и голубыми глазами. По тщеславному выражению его хитрого лица можно было угадать, что ему нравится, когда на него указывают как на сына счастливого диктатора.
Между тем на арену уже выступили гладиаторы-ученики и сражались с похвальным усердием мнимогеркулесовскими палицами и деревянными мечами в ожидании прибытия консулов и Суллы, доставившего римлянам это удовольствие.
Пока шло это безобидное сражение, которым никто не интересовался, кроме разве старых легионеров и отставных гладиаторов, ветеранов, выдержавших сотни битв, в громадном амфитеатре вдруг раздались оглушительные, почти единодушные рукоплескания.
– Да здравствует Помпей!.. Да здравствует Помпей Великий! – кричали тысячи голосов.
Вошедший в цирк Помпей занял место на платформе оппидума, около весталок, уже сидевших на своих местах в ожидании кровавого зрелища, которое нравилось даже и этим девам, посвятившим себя служению целомудренной богине. Помпей поднялся с места и грациозно поклонился, посылая толпе воздушные поцелуи в знак признательности за овацию.
Кнею Помпею было в это время около двадцати восьми лет. Он был высокого роста и богатырского сложения, с густой шапкой черных волос, спускавшихся почти до бровей, из-под которых властно глядели большие черные глаза, не отличавшиеся, однако, выразительностью и подвижностью. Строгие и резкие черты его красивого лица и могучие формы тела производили впечатление мужественной красоты. Однако при внимательном изучении этой неподвижной физиономии вряд ли кто усмотрел бы в ней признаки возвышенных идей и способности на великие дела, хотя этот человек на протяжении двадцати лет играл первую роль в Римской империи. Двадцатипятилетним юношей он одержал победы в Африке, и сам Сулла, в припадке необъяснимого благодушия, дал ему прозвище Великого.
Но как бы кто ни смотрел на Помпея и на его удачи, дела и заслуги, при появлении его в Большом цирке 10 ноября 675 года все симпатии римского народа несомненно были на его стороне. В двадцать пять лет он уже был увенчан лаврами побед и снискал себе такую популярность среди легионов, закаленных в боях и опасностях, что они провозгласили его императором.
Быть может, своей популярностью среди римского народа Помпей был обязан отчасти ненависти римского плебса к Сулле. Не смея выразить эту ненависть иначе, римляне рукоплескали молодому человеку, который хотя и считался другом диктатора, но доказал свою способность достигать великих подвигов собственными силами.
Вскоре после Помпея прибыли в цирк консулы Публий Сервилий и Аппий Клавдий, срок службы которых на этих постах оканчивался 1 января следующего года. Сервилию, очередная служба которого приходилась на этот месяц, предшествовали ликторы; за Клавдием же, исполнявшим консульские обязанности в предшествовавшем месяце, следовали люди с пучками прутьев в руках в знак его консульского звания.
Когда консулы вступили на платформу оппидума, вся публика поднялась с мест из уважения к высшей власти в республике и снова села только после того, как Сервилий и Клавдий заняли свои места. Возле них поместилось двое избранных уже комициями консулов на следующий год – Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катулл.
На поклон Помпея консулы ответили благосклонно, даже почтительно, после чего тот подошел пожать руку Марку Лепиду, который был обязан своим избранием Помпею, поддержавшему его кандидатуру своим всесильным влиянием и действовавшему в этом случае наперекор желанию Суллы.
Лепид ответил на приветствие с почтительной любезностью и вступил в разговор с молодым полководцем, между тем как будущему коллеге Лепида Помпей поклонился холодно и сдержанно.
Во время выборов новых консулов Сулла, хотя уже отказавшийся от диктатуры, всеми силами противодействовал кандидатуре Лепида, не без причины подозревая в нем своего врага и приверженца Кая Мария. Это противодействие, даже помимо поддержки Помпея, способствовало тому, что кандидатура Лепида не только прошла в комициях, но даже получила первенство перед кандидатурой Катулла, которого поддерживала олигархическая партия. Сулла не преминул упрекнуть Помпея за поддержку Лепида.
Прибытие консулов положило конец состязанию учеников, и толпа настоящих гладиаторов ждала только сигнала, чтобы выступить на арену и, согласно обычаю, продефилировать перед правителями. Все взоры были обращены на оппидум в ожидании сигнала консулов к началу борьбы, но те обводили глазами ступени амфитеатра, словно ища кого-то, кто должен подать ожидаемый сигнал. Они действительно ждали Суллу, который хотя и сложил с себя диктатуру, но все-таки оставался верховным властителем Рима.
Наконец раздались рукоплескания, сначала слабые, но постепенно разраставшиеся и в конце концов загремевшие по всему цирку. Все глаза обратились к Триумфальным воротам, в которые входил в эту минуту Сулла в сопровождении многих сенаторов, друзей и клиентов. Этому необыкновенному человеку было в эту пору пятьдесят девять лет. Скорее высокого, чем среднего роста, он был хорошо и крепко сложен, и если шествовал в эту минуту медленными и нетвердыми шагами, как человек с растраченными силами, то это было только последствием необузданных оргий, которым он предавался всю жизнь, а в последнее время более чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленности была мучительная, неизлечимая болезнь, наложившая на его черты и на всю фигуру печать страдания и ранней старости.
Лицо Суллы было поистине ужасно, хотя правильные черты, высокий лоб, орлиный нос и полные властные губы большого рта должны были бы сделать его красивым. Эти правильные черты обрамлялись густыми рыжеватыми волосами и освещались парой серо-голубых глаз, живых, глубоких, проницательных, ярких, как у орла, хитрых и свирепых, как у гиены. В каждом взгляде их читалась жажда власти или крови.
Читатели, конечно, найдут, что нарисованный нами портрет не оправдывает эпитета «ужасный», но дело в том, что лицо Суллы было покрыто красноватой сыпью вперемежку с белыми пятнами, что делало его похожим, по выражению одного афинского сатирика, на негра, обсыпанного мукой.
Если и в молодости Сулла был безобразен, то легко понять, как увеличилось это безобразие с годами вследствие злобы и разврата, отравлявших его кровь. Оргии сделали свое дело: не только лицо, но и все тело Суллы покрылось гнойными прыщами и болячками.
Он вошел в цирк со скучающим видом. Вместо обычной тоги на нем была надета поверх белой шерстяной туники с золотыми арабесками, обшитой такой же бахромой, ярко-пурпурная хламида, также расшитая золотом и пристегнутая на правом плече золотым аграфом, осыпанным драгоценными камнями, сверкавшими на солнце. Как человек, презирающий человечество вообще и своих сограждан в частности, он был одним из первых, кто стал носить вместо римской тоги греческую хламиду. В руке он держал трость с золотым набалдашником, на котором был вырезан с неподражаемым искусством эпизод из сражения при Оркомено, в котором Сулла остался победителем.
Рукоплескания толпы вызвали у него сардоническую улыбку, и он пробормотал;
– Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!
В эту минуту консулы дали знак начинать, и сотня гладиаторов выступила на арену.
Впереди шли Рециарий и Мирмильон, которые должны были сразиться первыми. Трудно было поверить, что эти двое людей, которые шли рядом, мирно разговаривая, через минуту должны будут стараться убить друг друга. За ними следовали девять лаквеаторов, вооруженных только трезубцами и сетями, которые они должны были стараться накинуть на девятерых секуторов, с мечами и щитами, долженствовавших преследовать бегущих по арене лаквеаторов, если тем не удастся накинуть на них сети.
За этими девятью парами следовали тридцать пар гладиаторов, которым предстояло разделиться на две партии, чтобы изобразить в малом виде настоящее сражение. Это были тридцать фракийцев и столько же самнитов, все красивые молодые люди огромного роста и богатырского сложения.
Фракийцы были вооружены короткими, загнутыми на концах мечами и держали в руках квадратные выпуклые щиты. Одеты они были во фракийский национальный костюм – короткую алую тунику и шлем без забрала с двумя черными перьями. Самниты были в национальных костюмах самнитских воинов – в голубой тунике и шлеме с крыльями и двумя белыми перьями. Вооружение их состояло из короткого прямого меча, небольшого квадратного щита, железного наручника на правой руке и набедренника на левой ноге.
Кортеж завершался десятью парами андабатов, в коротких белых туниках и вооруженных только коротким кинжалом. Шлемы их были с опущенным забралом, в котором были проделаны лишь узкие отверстия для глаз, с тем чтобы эти несчастные, выгнанные на арену, дрались, как бы играя в жмурки, на посмешище толпе. После того как она достаточно натешится, служители цирка, лорарии, должны были понуждать их раскаленным железом выстраиваться друг против друга и сражаться насмерть. Сто гладиаторов обошли вокруг цирка среди криков и рукоплесканий зрителей и, остановившись перед местом, где сидел Сулла, подняли головы и прокричали, согласно инструкции своего наставника Ациана:
– Приветствуем тебя, диктатор!
– Недурно, недурно! – сказал Сулла окружающим, обозревая опытным взглядом победоносного полководца ряды гладиаторов. – Эти молодцы обещают интересное зрелище. В противном случае горе Ациану! Ведь за эти пятьдесят пар гладиаторов этот плут стянул с меня двести двадцать тысяч сестерциев!
Гладиаторы, обойдя вокруг цирка и поклонившись консулам, вернулись в свои карцеры. На арене, блестевшей на солнце, как серебро, остались только двое, Мирмильон и Рециарий, стоявшие друг против друга.
Вся публика притихла, и все взоры были сосредоточены на двух борцах, готовых сразиться.
Мирмильон, родом галл, был двадцатидевятилетний красивый белокурый юноша, рослый и ловкий. Шлем его был украшен серебряной рыбой; одной рукой он держал небольшой щит, другой – короткий и широкий меч. Рециарий, в простой голубой тунике, вооруженный только трезубцем и сетью, стоял в двадцати шагах от противника и, казалось, обдумывал, как бы половчее напасть и накинуть на него сеть.
Мирмильон, скорчившись и согнув колени, готовый к прыжку, выжидал нападения и держал меч полуопущенным у правого бедра.
Рециарий вдруг рванулся и, пронесшись мимо противника, с быстротой молнии набросил на него сеть. Но тот быстрым движением откинулся в сторону, пригнувшись почти до земли, а потом вскочил и бросился на Рециария, который, видя, что маневр его не удался, пустился бежать.
Мирмильон преследовал его, но Рециарий был гораздо проворнее и, успев обежать вокруг арены до того места, где лежала его сеть, схватил ее. Едва он успел сделать это, как Мирмильон уже почти настиг его. Рециарий, обернувшись и увидев, что противник готов нанести ему удар, снова набросил на него сеть. Однако Мирмильон и на этот раз успел избежать ловушки, выскользнув из-под нее на четвереньках.
В одно мгновение Мирмильон был на ногах, и удар трезубцем, направленный в него противником, встретил щит галла.
Рециарий снова пустился бежать, и в толпе послышался негодующий ропот. Публика считала себя оскорбленной тем, что неопытный гладиатор, не умеющий искусно владеть сетью, осмелился предстать в цирке.
На этот раз Мирмильон, вместо того чтобы преследовать врага, вернулся к тому месту, где упала сеть, и встал в нескольких шагах от нее. Рециарий, поняв его маневр, остановился и тихо пошел назад, прячась за стеной, разделявшей арену. Дойдя до той части цирка, где находились Парадные ворота, он выбежал из-за стены в нескольких шагах от своей сети. Поджидавший его Мирмильон тотчас бросился к нему навстречу, между тем как тысячи голосов свирепо кричали:
– Держи его, держи!.. Убей Рециария, убей этого неуча, труса!.. Зарежь его!.. Отправь ловить лягушек на берегу Ахерона!
Мирмильон, подстрекаемый криками толпы, все сильнее и сильнее напирал на противника, который, побледнев, старался отдалить его своим трезубцем, делая в то же время всевозможные усилия, чтобы схватить свою сеть. Но Мирмильон, отклонив трезубец своим щитом, уже направил свой меч в грудь врага, как вдруг этот последний, бросив трезубец на щит противника, ловко схватил с земли свою сеть. Он не успел, однако, сделать это настолько быстро, чтобы меч Мирмильона не врезался ему в левое плечо, из которого фонтаном брызнула кровь. Это не помешало Рециарию проворно убежать со своей сетью. Отбежав шагов на тридцать, он обернулся и громко крикнул:
– Рана легкая!.. Не беда!
А потом запел:
– Приди ко мне, приди, мой прекрасный галл! Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди ко мне, мой галл! Не тебя мне нужно, а твою рыбу. Приди, приди ко мне, мой галл!
Уловка Рециария, имевшая целью вернуть ему сочувствие публики, удалась вполне: песенка его вызвала в толпе взрыв хохота; многие принялись даже рукоплескать этому человеку, которому инстинкт жизни помог найти в себе столько мужества, чтобы шутить в ту минуту, когда он, обезоруженный, раненный, истекал кровью.
Мирмильон, взбешенный насмешками врага и замечая, что сочувствие публики переходит от него к противнику, яростно бросился вслед за ним. Но Рециарий, отступая прыжками и предусмотрительно избегая удара, продолжал кричать:
– Приди ко мне, мой галл! Сегодня вечером я пошлю с тобой жареной рыбы доброму Харону.
Эта новая шутка произвела громадный эффект и вызвала новое нападение Мирмильона. Но на этот раз Рециарий так ловко накинул на него сеть, что совершенно опутал его ею при оглушительных рукоплесканиях зрителей.
Мирмильон делал невероятные усилия, чтобы выпутаться, но только больше запутывался, вызывая этим общий смех публики. Тем временем Рециарий побежал за своим трезубцем. Взяв его, он вернулся к противнику, крича на бегу:
– Будет у Харона рыба! Будет у Харона рыба!
Но в ту минуту, когда он уже готов был нанести врагу удар своим трезубцем, Мирмильон сделал отчаянное усилие и, разорвав своими богатырскими руками сеть, высвободил руки, чтобы встретить удар. Ноги же его оставались опутанными и, несмотря на усилия, не могли сдвинуться с места.
Новый взрыв рукоплесканий огласил цирк, и все зрители стали следить с напряженным вниманием за каждым движением борцов. От малейшего движения их мог зависеть теперь исход борьбы. В то самое мгновение, когда Мирмильон порвал сеть, Рециарий, собрав всю свою силу, нанес ему страшный удар трезубцем. Галл успел прикрыться щитом, но от удара щит разбился на куски, и железные зубцы вонзились в обнаженную руку гладиатора, из которой потекла кровь. Мирмильон быстрым движением схватил трезубец левой рукой и, бросившись на врага всей тяжестью тела, вонзил меч до половины лезвия в его правое бедро. Раненый Рециарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, оставляя за собой кровавый след, но, не сделав и сорока шагов, опустился на колени и затем распростерся на земле. От напряжения, с которым Мирмильон нанес удар, он и сам не устоял на ногах, но потом вскочил и, распутав руками свои ноги, бросился к упавшему врагу.
Бурные рукоплескания, сопровождавшие последний акт борьбы, продолжались и в то время, когда Рециарий, приподнявшись на локте, показал народу свое мертвенно-бледное лицо. Готовый бесстрашно и с достоинством встретить смерть, он исполнил, однако, предписываемое обычаем правило: попросил публику оставить ему жизнь, хотя не питал никакой надежды, что просьба его будет исполнена.
Между тем Мирмильон стоял, упираясь ногой в тело противника, и, направив меч против его груди, обводил глазами публику, ожидая ее решения.
Более девяноста тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, опустили большой палец правой руки книзу, что означало смерть, и не более пятнадцати тысяч подняли его кверху в знак желания, чтобы побежденному гладиатору была оставлена жизнь.
Достойно внимания, что в числе требовавших смерти находились и целомудренные, благочестивые весталки, без сомнения желавшие доставить себе невинное удовольствие полюбоваться агонией злополучного борца.
Мирмильон нагнулся, чтобы поразить побежденного, но тот предупредил его и, выхватив меч из его руки, вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Мирмильон вынул оружие, обагренное дымящейся кровью, а Рециарий, судорожно приподнявшись, крикнул страшным, нечеловеческим голосом:
– Будьте прокляты! – и упал на спину мертвый.
II. Спартак на арене
Толпа неистово рукоплескала, и цирк гудел от криков и комментариев сотни тысяч голосов. Мирмильон вернулся в карцеры, а на арену вышли Плутон и Меркурий со служителями цирка, вооруженные железными крючьями, чтобы увлечь тело павшего гладиатора в погребальные ворота, удостоверившись предварительно с помощью раскаленных железных прутьев, что несчастный действительно мертв. На лужу крови было высыпано несколько мешков мелкого блестящего мраморного песка, и арена снова засияла под лучами солнца.
Рукоплещущая толпа не умолкая кричала:
– Да здравствует Сулла!
Предмет этих оваций обернулся к сидевшему возле него Кнею Корнелию Долабелле, бывшему консулу, и проговорил:
– Клянусь моим покровителем Аполлоном Дельфийским, эти плебеи – самые презренные существа в мире. Ты думаешь, что они мне рукоплещут?.. Нет, они рукоплещут моим поварам за то, что те приготовили для них вчера обильный и вкусный обед.
– Отчего ты не сел на оппидуме? – спросил Кней Долабелла.
– Не думаешь ли ты, что этим увеличилась бы моя слава? – ответил Сулла и, помолчав, прибавил: – А этот ланист[1] Ациан продал мне недурной товар!
– Как ты щедр, как ты велик, Сулла! – сказал сенатор Тит Аквиций, сидевший возле Суллы.
– Да поразит Юпитер своими громами презренных льстецов! – с раздражением вскричал бывший диктатор, нетерпеливо почесывая правой рукой левое плечо, чтобы унять зуд, причиняемый ему отвратительными паразитами. – Я отказался от диктатуры, удалился в частную жизнь, – продолжал он, – а на меня еще смотрят как на властителя!.. О, низкие люди! Они не могут не раболепствовать!
– Не все, Сулла, таковы, – смело заметил один патриций из свиты диктатора, сидевший неподалеку от него.
Этот смельчак был Луций Сервий Катилина.
В то время, с которого начинается наш рассказ, ему было около двадцати семи лет. Это был рослый, широкоплечий мужчина С могучей грудью и мускулистыми, богатырскими руками и ногами. Большая голова его с широким лбом и смуглым мужественным лицом была покрыта шапкой густых черных вьющихся волос. Толстая, налитая кровью жила пересекала лоб от черепа до переносья; темно-серые глаза смотрели свирепо и грозно; резкие мышцы лица беспрестанно передергивались, выдавая видные внимательному наблюдателю малейшие движения души этого человека.
В описываемую эпоху Луций Катилина уже пользовался репутацией человека страшного и внушал ужас своим вспыльчивым, сангвиническим характером. Он уже убил патриция Гратидиана, когда тот мирно прогуливался по берегу Тибра, – убил только за то, что тот отказался ссудить ему под залог его имений большую сумму денег. Катилина нуждался в ней для покрытия своих бесчисленных долгов, так как без этого он не мог получить ни одной из тех общественных должностей, на которые он имел виды. Это были времена проскрипций, когда неумолимая жестокость Суллы заливала Рим кровью. Гратидиан не был в числе опальных и даже принадлежал к партии Суллы, но он обладал огромным богатством, а имения осужденных конфисковались. Поэтому, когда Катилина притащил труп его в курию и бросил к ногам Суллы, говоря, что убил его, как врага диктатора и отечества, Сулла взглянул на это дело сквозь пальцы, предпочитая раскрыть глаза только на несметные богатства жертвы.
Вскоре после того Катилина поссорился со своим братом, и оба схватились за мечи. Но Луций, кроме своей замечательной силы, пользовался еще репутацией самого искусного борца в Риме. Брат его пал мертвым, и Луций получил в наследство все его богатство, избежав, благодаря этому преступлению, конечного разорения, до которого он был доведен своим мотовством и развратом. Сулла взглянул сквозь пальцы и на это убийство, а квесторы, судившие братоубийцу, и совсем зажмурили глаза.
При смелом замечании Катилины Сулла спокойно обернулся к нему и спросил:
– А как ты думаешь, Катилина, много ли найдется в Риме граждан с твоими чувствами и также способных выказывать величие души как в добродетели, так и в преступлении?
– Я не могу, славный Сулла, – ответил Катилина, – рассматривать людей с высоты твоего величия. Я знаю только, что я должен любить свободу, если хочешь, даже до распущенности, и ненавидеть деспотизм, сколько бы ни прикрывался он лицемерным великодушием и мнимым желанием блага отечеству. Я полагаю, что наше отечество, даже при внутренних раздорах и смутах, все же будет счастливее под управлением всех, чем при диктатуре одного. И скажу тебе чистосердечно, не входя в разбирательство твоих поступков, что я открыто порицал и порицаю твою диктатуру. Я верю, что в Риме найдется еще немало граждан, скорее готовых на все, чем на подчинение новой тирании одного, тем более если этот один не будет называться Луцием Корнелием Суллой, если чело его не будет увенчано сотней побед и диктатура его не будет, как твоя, оправдываться до известной степени насилиями, совершаемыми Марием, Карбоном и Пинной.
– Почему же в таком случае, – спросил Сулла спокойным тоном, но скривив губы в насмешливую улыбку, – почему же не призовете вы меня на суд свободного народа? Почему не обвиняете меня, не требуете отчета в моих поступках?
– Чтобы не вызвать новых междоусобиц и кровопролития, десять лет раздиравших Рим… Но не в этом дело. Я вовсе не намерен обвинять тебя: ты мог во многом ошибаться, но за тобой много и великих дел, память о которых день и ночь волнует мою душу, так как и я, о Сулла, жажду славы и могущества. Но скажи, разве это не говорит тебе, что в жилах нашего народа еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как в тот день, когда ты, в присутствии сената, добровольно сложил с себя в курии диктатуру и, отпустив ликторов, пошел с друзьями домой, – вспомни, как один молодой гражданин стал поносить тебя за то, что ты лишил римлян свободы, наполнил Рим резней и грабежом и сделался его тираном! Согласись, Сулла, что для такого смелого поступка надо было иметь душу твердую, как алмаз, так как по одному твоему знаку смельчак мог лишиться жизни. Но ты показал себя великодушным, – знай, что я говорю это не из лести: Катилина не знает, что такое льстить! – и ничего не сделал юноше. Но согласись, что если скромный, безвестный плебей, – к сожалению, я не знаю его имени, – оказался способным на такой подвиг, то в спасении отечества и республики нельзя отчаиваться.
– Твоя правда: это был смелый поступок, а так как я ценю и уважаю храбрость, то и не захотел мстить этому юноше за нанесенное мне оскорбление. Но знаешь ли ты, Катилина, какое последствие имели его слова?
– Какое? – спросил тот, глядя пытливым взглядом в тусклые глаза диктатора.
– А то, что теперь всякий, кому удастся захватить власть в республике, уже не выпустит ее из своих рук.
Катилина опустил голову и задумался, но потом, как бы поборов самого себя, с живостью возразил:
– Да вопрос еще, хватит ли у кого силы и умения захватить власть!
– Э, хватит! – ответил Сулла, хихикая. – Для этой подлой толпы, – он обвел жестом ступени амфитеатра, усеянные народом, – для этой подлой толпы всегда найдутся властители.
Весь этот разговор происходил среди грома несмолкаемых рукоплесканий зрителей, поглощенных зрелищем кровопролитной борьбы на арене между лаквеаторами и секуторами, – борьбы, скорей окончившейся смертью семи из первых и пяти из вторых. Остальные шесть гладиаторов, израненные, избитые, удалились в карцеры, провожаемые рукоплесканиями, криками, смехом и остротами публики.
Пока служители цирка убирали и засыпали лужи крови на арене, Валерия, глядевшая с некоторых пор на Суллу, который сидел неподалеку от нее, встала со своего места и, подойдя сзади к диктатору, выдернула шерстяную нить из его хламиды. Тот с удивлением обернулся и уставил свой страшный взгляд дикого зверя на молодую женщину, осмелившуюся прикоснуться к его одежде.
– Не толкуй моего поступка дурно, диктатор, – сказала она с очаровательной улыбкой. – Я взяла эту нить, чтобы позаимствовать у тебя твое счастье.
Она учтиво поклонилась, приложив, по обычаю, руку к губам, и вернулась на свое место. Сулла, приятно польщенный ее словами, также ответил ей ласковым поклоном и, постаравшись придать своим глазам добродушное выражение, проводил ее долгим взглядом.
– Кто эта женщина? – спросил он, снова повернувшись лицом к цирку.
– Валерия, дочь Месаллы, – ответил Корнелий Долабелла.
– А!.. Сестра Квинта Гортензия?
– Она самая.
Сулла снова обернулся в сторону Валерии, которая глядела на него влюбленными глазами.
Между тем Гортензий встал и перешел на место возле Марка Красса, богатейшего патриция, славившегося своей скупостью и своим честолюбием. Эти две противоположные страсти всю жизнь уживались в этом человеке в странной гармонии.
Красс сидел неподалеку от гречанки редкой красоты. Она будет играть важную роль в нашем рассказе, а потому остановимся, чтобы взглянуть на нее.
Эвтибидэ – так звали эту молодую девушку – была высока, стройна и гибка. Греческое происхождение ее выдавал покрой ее платья. У нее был тонкий стан, который, казалось, можно было охватить пальцами обеих рук. Прелестное лицо ее, белое, как алебастр, оживлялось нежным румянцем; золотистые вьющиеся волосы обрамляли правильный лоб; большие глаза, миндалевидной формы, были зеленовато-голубого цвета морской волны и так фосфорически блестели, что будили страстное влечение к ней. Маленький, тонко очерченный и слегка вздернутый носик довершал общее вызывающее впечатление этого лица, красота которого завершалась полными, чувственными коралловыми губками, показывавшими два ряда жемчужных зубов, и прелестной ямочкой на подбородке. Ослепительно-белая шея, руки и бюст были достойны резца скульптора.
Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, затканной серебряными звездами и обрисовывавшей античные формы красавицы, был накинут голубой плащ, также усеянный звездами. Волосы ее были собраны надо лбом под маленькую диадему; в крошечных ушах сверкали сапфировые звезды с жемчужными подвесками; от жемчужного ожерелья на шее спускалась на полуобнаженную грудь звезда из крупных сапфиров. На руках было по паре серебряных браслетов, сделанных в виде листьев и цветов; стан охватывал широкий серебряный пояс с золотыми украшениями. На маленьких розовых ножках были надеты котурны, состоявшие из одной подошвы, привязанной к ноге голубыми ремнями, а над ремнями ноги были обвиты серебряными змейками тончайшей работы.
Словом, эта женщина, которой едва минуло двадцать четыре года, могла назваться идеалом изящества, красоты и обольстительной грации; казалось, это сама Венера, сошедшая с Олимпа, чтобы опьянить смертных очарованием своей божественной красоты.
Такова была Эвтибидэ, поблизости которой сел незадолго перед тем Марк Красс, восторженный поклонник ее красоты. Он был поглощен созерцанием ее, когда к нему приблизился Гортензий. В эту минуту молодая девушка, видимо скучавшая, продолжительно зевнула, играя сапфирами, висевшими на ее груди.
Крассу было в ту пору тридцать два года. Он был выше среднего роста, сильного сложения, но уже обнаруживал наклонность к полноте. На его бычьей шее сидела большая, пропорциональная телу голова, но лицо, имевшее бронзовый оттенок, было худощаво, с резкими чертами строго римского типа, с орлиным носом и выдающимся подбородком. Желтовато-серые глаза его то метали огненные лучи, то казались неподвижными, бесцветными, потухшими.
Знатное происхождение, замечательный дар красноречия, несметное богатство, учтивость и любезность снискали Крассу не только популярность, но и славу и влияние.
Он уже не раз храбро боролся за Суллу с враждебными ему партиями.
– Здравствуй, Марк Красс, – сказал Гортензий, выводя его из оцепенения. – Я вижу, что ты погружен в созерцание звезд.
– Клянусь Геркулесом, ты угадал! – ответил Красс. – Это звезда.
– Которая?
– Вон та красавица гречанка, что сидит двумя ступенями выше нас.
– А… вижу: Эвтибидэ.
– Эвтибидэ? Что это значит?
– Это ее имя. Она действительно гречанка… и куртизанка, – пояснил Гортензий, садясь возле Красса.
– Куртизанка!.. А я принял ее за богиню Венеру! Клянусь Геркулесом, я не могу себе представить более точного воплощения красоты божественной дочери Юпитера!
– Ты прав! – заметил Гортензий, улыбаясь. – Быть может, супруга Вулкана не так уж и недоступна? Или она также распространяла свои милости и на богов, и на полубогов, и даже на смертных, когда они имели счастье понравиться ей?
– А где живет эта красавица?
– На Священной дороге… близ храма Януса.
Видя, что Красс не обращает на него внимания, погруженный в созерцание обворожительной гречанки, Гортензий прибавил:
– И ты лишился рассудка из-за этой женщины? Ведь на одну тысячную часть своего богатства ты можешь подарить ей дворец и сделать ее своей.
Глаза Красса блеснули тем фосфорическим блеском, который так часто появлялся в них, и затем погасли. Он обернулся к Гортензию и спросил:
– Тебе нужно поговорить со мной о чем-нибудь?
– Да, о деле серебреника Трабулена…
– Говори, я слушаю.
Пока они говорили о деле, интересовавшем Гортензия, а почти шестидесятилетний Сулла, всего четыре месяца назад похоронивший свою четвертую жену, Цецилию Метеллу, завязывал на старости лет любовную идиллию с красивой Валерией, гром труб подал сигнал к началу сражения между тридцатью фракийцами и столькими же самнитами, уже стоявшими на арене, выстроившись друг против друга.
Разговоры и смех смолкли, и все глаза сосредоточились на гладиаторах.
Первое столкновение было ужасно; металлический звук щитов и мечей резко раздавался среди глубокой тишины, воцарившейся в цирке; вскоре полетели вокруг сражающихся перья, осколки шлемов, обломки щитов; гладиаторы, разгоряченные и запыхавшиеся, все яростнее и яростнее бросались друг на друга, нанося и отражая удары.
Не прошло и пяти минут с начала борьбы, а кровь уже рекой текла по арене, и трое из борцов умирали мучительной смертью под бешено топтавшими их ногами сражающихся.
Зрители с замиранием сердца, не отрывая глаз, следили за этой кровопролитной борьбой. Причиной столь напряженного интереса было то, что по меньшей мере восемьдесят тысяч из присутствующих держали пари на сумму от десяти сестерциев до пятидесяти талантов, смотря по своему состоянию, кто за красных фракийцев, кто за голубых самнитов.
И по мере того как ряды сражающихся редели, взрывы рукоплесканий и криков учащались, и возбуждение зрителей росло.
Так прошел час, и бойня близилась к концу. Пятьдесят разбросанных тел, мертвых и умирающих, обливали кровью арену; те, которые еще были живы, испускали дикие крики и корчились в агонии.
Державшие пари за самнитов, казалось, могли уже быть уверены в победе. Семеро самнитов окружили и теснили трех уцелевших фракийцев, которые, образовав из себя треугольник и держась спиной к спине, дрались с мужеством отчаяния, отражая превосходящих численностью победителей.
Между этими тремя фракийцами, оставшимися еще в живых, находился Спартак.
Его атлетическая фигура, необычайная сила мышц, безукоризненная гармония форм и несокрушимая храбрость, естественно, должны были сделать из него человека необыкновенного в такие времена, когда первым условием успеха была сила мышц и энергия духа.
Спартаку едва минуло тридцать лет. Кроме тех качеств, о которых мы упомянули, он и по степени умственного развития стоял выше своего положения, отличаясь при этом редким благородством чувств и величием души, которые впоследствии он доказал блестящим образом.
Красивое, мужественное лицо его с правильными чертами было обрамлено длинными, белокурыми волосами и густой бородой. Большие голубые глаза, полные жизни и чувства, светились фосфорическим блеском и в спокойном состоянии духа придавали его лицу меланхолически-доброе выражение, совсем непохожее на то, какое оно имело в эту минуту яростной борьбы. Теперь глаза его метали молнии, лицо было страшно.
Спартак родился во Фракии[2] в Родопских горах. Он сражался против римлян, когда они вторглись в его отечество, и, попав в плен, был зачислен за свою силу и храбрость в один из легионов. В качестве римского легионера он участвовал в войне против Митридата и его союзников и отличился такой храбростью, что его произвели в деканы, то есть в начальники отряда из десяти человек, и наградили цивическим венком[3]. Но впоследствии, когда римляне стали воевать с фракийцами, Спартак дезертировал и стал в ряды своих соотечественников против своих бывших соратников. Будучи ранен, он снова попал в руки неприятеля, но вместо заслуженной смертной казни его обрекли служить гладиатором, и он был продан ланисту, который перепродал его другому ланисту – Ациану.
С тех пор прошло не более двух лет. С первым ланистом Спартак объехал почти все итальянские города и участвовал более чем в ста сражениях, ни разу не будучи серьезно ранен. Как бы ни были сильны и храбры другие гладиаторы, он превосходил всех к этих качествах и каждый раз выходил победителем из борьбы, разнося славу о своих подвигах по всем циркам Италии.
Ациан приобрел его за чрезвычайно высокую цену – за двенадцать тысяч сестерциев, и, хотя владел им уже шесть месяцев, еще ни разу не показывал его в римском цирке. Быть может, он дорожил им, как учителем фехтования, кулачной борьбы и гимнастики в своем заведении, и не решался подвергать его жизнь опасности в сражениях, приносящих не столько выгоды, чтобы вознаградить его за потерю такого гладиатора, если бы он был убит.
Но щедрость Суллы заставила Ациана выпустить Спартака на кровавую бойню в цирке. За сто гладиаторов, участвовавших в этот день в борьбе, Сулла уплатил ему двести двадцать тысяч сестерциев. Такая сумма могла с лихвой вознаградить даже и за смерть Спартака.
Тем не менее, в виду того, что неубитые гладиаторы оставались собственностью ланиста, исключая тех случаев, когда жизнь даровалась им народом, Ациан стоял бледный и озабоченный, прислонившись к дверям карцера, весь поглощенный последними эпизодами борьбы, и не трудно было заметить, с каким напряженным вниманием следил он за каждым ударом, за каждым движением Спартака.
– Смелее, смелее, самниты! – кричали тысячи голосов из тех, кто держал пари за эту сторону.
– Бейте, колите этих трех варваров, – поощряли другие.
– Не щади его, Небульян! Коли, Крикс! Напирай, напирай, Порфирий! – кричали те, у кого были в руках таблички с именами гладиаторов.
Но против этих голосов слышались не менее громкие голоса противной партии, хотя уже обескураженной, но продолжавшей еще держаться за последнюю нить надежды: за Спартака, который был еще в шлеме и сохранил свой щит. Как раз в эту минуту он проколол насквозь одного из семи окружавших его самнитов.
Гром рукоплесканий огласил цирк при этом ударе, и тысячи голосов закричали:
– Браво, Спартак! Браво! Да здравствует Спартак!
Двое фракийцев, поддерживавших бывшего легионера в этой отчаянной борьбе, были тяжело ранены и, обессиленные, вяло наносили удары.
– Охраняйте мою спину! – крикнул им Спартак громовым голосом, отражая с быстротой молнии своим коротким мечом натиск самнитов, все удары которых были теперь направлены против него.
– Охраняйте мою спину! Еще минута… и мы победим!
Голос его прервался – у него захватывало дух. По бледному лицу его струились крупные капли пота, глаза сверкали, в них была написана отчаянная, твердая решимость победить.
Вскоре под мечом его упал с распоротым животом еще один самнит, обливая арену кровью и волоча по ней выпавшие внутренности; он дико ревел, изрыгая проклятия среди ужасной агонии. Но в то же время упал мертвым, с рассеченным черепом, и один из фракийцев, оберегавших спину Спартака.
Цирк гудел от криков, рукоплесканий, поощрений; глаза всех зрителей были прикованы к кучке сражающихся и следили за их малейшими движениями. Луций Катилина, сидевший возле Суллы, вскочил на ноги и, сдерживая дыхание, казалось, не видел ничего, кроме этой кровавой борьбы. Глаза его были прикованы к мечу Спартака, словно от движений этого меча зависела его жизнь. Он держал пари за фракийцев.
Третий самнит повалился возле своего товарища с перерезанной сонной артерией. Но в то же время и третий фракиец, последняя опора Спартака, упал, даже не вскрикнув, сраженный несколькими ударами.
Все зрители содрогнулись, и по рядам пробежал ропот, похожий на рев, но вслед за тем воцарилась глубокая, торжественная тишина, позволявшая слышать хрипящее дыхание борцов. Напряженное состояние нервов толпы не могло бы быть сильнее, даже если бы от результата этой борьбы зависела судьба Рима.
В продолжение этой полуторачасовой бойни Спартак благодаря своей необычайной ловкости и искусству в фехтовании получил всего три легкие раны, вернее, царапины. Но теперь он очутился один против четырех сильных противников, хотя и истекавших кровью от ран, но все же страшных своим численным превосходством.
Как ни был силен и храбр Спартак, однако при виде падения своего последнего товарища он счел себя погибшим.
Но вдруг глаза его заблестели: его посетила счастливая мысль повторить известный маневр Горация в борьбе с Куриациями. Он пустился бежать; самниты преследовали его. В толпе зрителей послышался грозный ропот.
Но Спартак, не пробежав и полсотни шагов, вдруг обернулся и всадил свой нож в грудь ближайшего из преследовавших его врагов. Раненый зашатался, вытянул руки, как бы ища, за что ухватиться, и упал, а Спартак кинулся на второго противника, уже занесшего над ним меч, и, отразив щитом удар, положил на месте этого самнита среди восторженного рева публики, которая почти вся была теперь за фракийца.
Когда упал второй самнит, к Спартаку приблизился третий, который был уже весь изранен. Фракиец, считая излишним употреблять против него меч и, видимо, не желая убивать его, только ударил его по голове своим щитом. Самнит, оглушенный ударом, завертелся на месте и упал, в то время как последний из его товарищей подоспел к нему на помощь. Но этот уже совсем изнемог от потери крови. Спартак набросился на него и, не желая убивать, только вышиб у него из руки меч, потом охватил его своими сильными руками и повалил на землю, шепча ему на ухо:
– Не страшись, Крикс! Быть может, мне удастся спасти тебя.
Говоря это, он поставил одну ногу на грудь Крикса, уперся коленом другой ноги на грудь того самнита, которого он оглушил ударом щита, и ждал народного решения.
Долгие единодушные оглушительные рукоплескания прокатились по всему цирку, словно подземный грохот, и почти все зрители подняли вверх указательный и средний пальцы в знак того, что двум самнитам даруется жизнь.
– Какой храбрец! – обратился Сулла к Катилине, с лица которого ручьями тек пот. – Такому храбрецу надлежало бы родиться римлянином.
А тем временем сотни голосов кричали в цирке:
– Свободу храброму Спартаку!
Глаза гладиатора засверкали огнем, и бледное лицо его еще более побледнело. Он прижал руку к сердцу, словно силясь унять его необузданное биение, вызванное этим словом, этой мелькнувшей надеждой.
– Свободу! Свободу! – вторили тысячи голосов.
– Свобода! – прошептал гладиатор задыхающимся голосом. – О, боги Олимпа, сделайте, чтобы это не был сон! – И глаза его увлажнились слезами, сердце бешено колотилось в могучей груди.
– Он дезертировал из наших легионов! – закричал кто-то громовым голосом. – Изменник не достоин свободы!
К этому голосу присоединилось много других, принадлежавших тем из зрителей, которые проиграли пари из-за Спартака.
– Нет, нет! – кричали они с раздражением. – Нельзя давать свободу перебежчику!
Лицо фракийца судорожно передернулось. Он поднял голову и обратил глаза в ту сторону цирка, откуда раздался первый крик обвинения против него, ища своего врага полным ненависти взглядом. Но десятки тысяч голосов кричали:
– Свободу Спартаку! Свободу, свободу!
Невозможно изобразить, какое страшное томление переживал бедный гладиатор в эти минуты, когда решался вопрос более чем о его жизни. Страшная бледность лица и неестественный блеск глаз ясно говорили, какая борьба между страхом и надеждой идет в его душе. Человек, полтора часа боровшийся со смертью, не поддаваясь ни малейшей слабости, продолжавший драться один против четырех, не теряя надежды на спасение, убивший недрогнувшей рукой двенадцать или пятнадцать своих товарищей по несчастью, – этот человек чувствовал теперь, что у него подкашиваются колени, и, чтобы не упасть в обморок среди цирка, оперся на плечо одного из служителей, пришедших убирать трупы.
– Свободу! Свободу! – ревела толпа.
– Он вполне достоин ее, – шепнул Катилина на ухо Сулле.
– И он удостоится ее! – вскричала Валерия, на которую любовно глядел в эту минуту Сулла.
– Ну что же, – промолвил диктатор, глядя Валерии в глаза, с нежностью и состраданием молившие его о пощаде, – что же, даруем ему свободу!
Он кивнул в знак согласия, и Спартак, среди грома рукоплесканий, получил свободу.
– Сулла дарует тебе свободу, – сказал ему служитель цирка.
Спартак не отвечал и не шевелился. Он закрыл глаза и не решался открыть их, чтобы не рассеялась сладкая иллюзия: он еще не верил, что это действительность.
– Ты разорил меня своей храбростью, плут! – шепнул ему на ухо чей-то голос.
При этих словах Спартак пришел в себя и, открыв глаза, увидел перед собой ланиста Ациана. Тот сошел на арену, чтобы поздравить Спартака, пока еще рассчитывал, что он останется его собственностью, а теперь проклинал его храбрость. Глупая, по его мнению, жалость народа и великодушничанье за чужой счет Суллы обошлись ему, Ациану, по его вычислению, в двенадцать тысяч сестерциев.
Замечание ланиста убедило фракийца, что он не бредит. Он выпрямился во весь свой огромный рост, величественно поклонился Сулле и народу и ушел с арены среди нового взрыва рукоплесканий.
– Не богами, не богами все создано, – говорил в этот момент Тит Лукреций Кар, продолжая рассуждать со своими молодыми друзьями, Кассием и Каем Меммом Гемеллом, которые пришли в цирк во время игрищ и сели возле него.
Последний был страстным любителем литературы, искусств и философии, и Лукреций посвятил ему впоследствии свою поэму «О сущности вещей», уже задуманную им в пору нашего рассказа.
– Так кто же создал мир? – спросил Кассий.
– Мир создан вечным движением материи, которым руководит невидимая нам сила. Ты видишь на земле и в небе много созданий и, не понимая, откуда они происходят, думаешь, что все создается нашими богами? Ничто никогда не создается из ничего.
– А Юпитер, Юнона, Сатурн? – с удивлением спросил Кассий, очень любивший вступать в рассуждения с Лукрецием.
– Это создания людского невежества и страха. Я посвящу тебя, милый мальчик, в единственное истинное учение великого Эпикура, который не страшился ни громов небесных, ни землетрясений, распространяющих ужас на земле, ни могущества богов, ни молний, которые они будто бы держат в своих руках. Побеждая все препятствия, создаваемые закоренелыми людскими предрассудками, он смело проник в заповедные тайны природы и допытался до происхождения и причины вещей.
Но тут учитель Кассия стал звать его домой, напомнив, что отец его приказал ему вернуться из цирка до сумерек. Юноша встал, не возражая, и одновременно с ним поднялись со своих мест и Лукреций с Меммом. Они все вместе направились к ближайшему выходу.
Им пришлось пройти мимо того места, где сидел сын Суллы, Фауст, перед которым стоял, беседуя с ним ласково, Помпей, покинувший оппидум, чтобы побеседовать со знакомыми матронами и друзьями, находившимися в цирке.
Проходя мимо него, Кассий остановился и сказал, обращаясь к Фаусту:
– Посмотрим, Фауст, повторишь ли ты в присутствии великого Помпея те безумные слова, которые ты сказал третьего дня в школе. Ты утверждал, что отец твой хорошо поступил, лишив римлян свободы и сделавшись владыкой своего отечества. Я избил тебя за эти слова, так что знаки и теперь еще остаются на твоем лице, и готов еще раз проучить тебя таким же образом в присутствии Помпея.
Но Кассий тщетно ждал от Фауста ответа. Тот опустил голову и молчал перед этим двенадцатилетним отроком, которому горячая любовь к отечеству придала смелость поколотить и пристыдить сына владыки Рима.
Не получив ответа, Кассий почтительно поклонился Помпею и ушел из цирка вместе с Меммом, Лукрецием и своим учителем.
Тем временем с одной из ступеней над погребальной дверью поднялся молодой человек лет двадцати шести, одетый в тогу длиннее обыкновенного, прикрывавшую его тонкие ноги. Худощавый и слабо сложенный, он был, однако, высок ростом и имел величавую осанку. Он сидел возле дамы, окруженной молодыми патрициями.
– Прощай, Галерия, – сказал он, целуя руку этой молодой и красивой дамы.
– Прощай, Марк Туллий, – ответила она. – Помни, что я буду ждать тебя послезавтра в театре Аполлона на представлении «Электры» Софокла.
– Буду помнить, не беспокойся.
– Прощай, Цицерон, – сказал красивый мужчина лет пятидесяти пяти, нарядный и надушенный, и пластичным жестом протянул руку молодому человеку.
– Храни тебя Талия, достопочтенный Эзоп, – ответил Туллий, отвечая рукопожатием великому актеру.
Группа, от которой отошел Цицерон, состояла из служителей муз: знаменитой трагической актрисы Галерии Эмболарии, красавице было в ту пору не более двадцати трех лет, великого трагика Эзопа, служившего образцом бессмертному артисту Квинту Росцию, заставлявшему плакать, смеяться и трепетать весь римский народ. Последний, которому было под сорок лет, находился в полном расцвете своего таланта и славы. Римляне обожали его, и самые знаменитые из граждан искали его дружбы и гордились ею, тем более что Росций был не только гениальный артист, но и человек безупречных нравов и высокого ума.
Вокруг этих трех первоклассных артистов группировались звезды меньшей величины из артистической плеяды, которая привлекала и ту пору в театры толпы римской публики, сбегавшейся смотреть на трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и на комедии Аристофана Плавта.
К той же группе влекло и светских франтов, и шалопаев, желавших выставиться перед толпой и изведать новые ощущения. О том, как поклонялись в ту пору римляне актерам, можно судить по их богатству. Росций, например, получал по тысяче динариев за выход, и ежегодный доход его достигал ста сорока тысяч динариев.
Цицерон, пройдя несколько скамеек, подошел к сидевшим рядом Катону и Цепиону и, подсев к ним, вступил в разговор с юным Катоном, которого он очень любил.
– Скажи, ради великих богов, правда ли то, что о тебе говорят? – спросил он мальчика.
– Правда, – ответил тот мрачно.
– Ты был прав, мой смелый мальчик, – сказал вполголоса Цицерон, целуя Катона в лоб. – К сожалению, не всегда можно поднимать голос за правду: часто, почти всегда, сила оказывается сильнее справедливости.
После этих слов оба помолчали.
– Но как это произошло? – выдержав паузу, спросил Цицерон, обращаясь к ментору отрока Сарпедону.
– Ввиду ежедневных убийств, которые совершаются по приказанию Суллы, – ответил тот, – я взял за правило водить в месяц раз этих двух мальчиков в гости к Сулле для того, чтобы этот кровожадный человек считал их своими друзьями и чтобы ему не могла прийти в голову мысль распространить на них проскрипцию. И он действительно всегда принимал их благосклонно и отпускал с ласковыми словами. Но однажды, когда, выйдя от него, мы переходили форум, до нашего слуха донеслись из Мамертинской тюрьмы душераздирающие вопли…
– Я спросил Сарпедона, – перебил Катон, – кто так кричит, и он ответил: «Граждане, которых убивают по повелению Суллы». – «За что же их убивают?» – спросил я. «За то, что они стоят за свободу».
– И тогда этот сорванец, – перебил в свою очередь ментор, – закричал громким голосом, который, к несчастью, был услышан близстоящими: «О, зачем ты не даешь мне меча, чтобы я мог убить этого жестокого тирана отечества?!»
– А как ты узнал об этом случае? – спросил Сарпедон, помолчав.
– О нем уже многие говорят, и все восторгаются гражданским мужеством этого мальчика, – ответил Цицерон.
– Значит, того и гляди об этом узнает и сам Сулла, – с отчаянием произнес ментор.
– Пускай узнает! – презрительно сказал Катон, насупив брови. – Я повторю мои слова и в присутствии этого человека, перед которым вы все трепещете. Я хотя и отрок, а не боюсь его, клянусь всеми богами Олимпа!
Цицерон и ментор с удивлением переглянулись поверх его головы, а мальчик горячо прибавил:
– Ах, если бы я уже носил тогу.
– Да что бы ты сделал тогда, сумасброд? – спросил Цицерон и тотчас прибавил: – Помолчи-ка лучше!
– Я привлек бы к суду Суллу, обвинил бы его перед народом…
– Замолчи, замолчи, говорят тебе! – прервал Цицерон. – Ты всех нас погубишь. Я и без того навряд ли пользуюсь благоволением бывшего диктатора: ведь я имел неосторожность воспеть подвиги Мария и защищал в суде два дела, в которых Сулла был противником моих клиентов. Или ты хочешь твоими безрассудными словами дать ему предлог отправить и нас к бесчисленным жертвам своей безумной свирепости? Разве Рим избавится от его роковой власти, если и нас убьют? Страх застудил в жилах римского народа кровь его предков, а Сулла к тому же счастлив и всемогущ.
– Лучше было бы, если бы он, вместо прозвища Счастливый, заслужил прозвище Справедливый, – проворчал Катон.
Однако он последовал совету Цицерона и, поворчав, умолк.
Тем временем народ потешался фарсом, представляемым на арене двадцатью полуслепыми андабатами, – фарсом кровавым и жестоким, в котором все двадцать злополучных гладиаторов должны были расстаться с жизнью.
Сулла, которому уже прискучило это зрелище и который был поглощен одной мыслью, засевшей в его мозгу в последние часы, встал и направился к тому месту, где сидела Валерия. Он ласково поклонился ей, не сводя с нее долгого взгляда, и спросил, стараясь сделать свой голос возможно мягче и нежнее:
– Ты свободна, Валерия?
– Мой муж разошелся со мной несколько месяцев назад, хотя без всякой позорной вины с моей стороны, если только…
– Да, я знаю, – перебил Сулла, с которого Валерия не сводила нежного взгляда своих черных глаз.
После минутного молчания диктатор спросил, понизив голос:
– Будешь ты любить меня?
– Всеми силами моей души, – ответила молодая женщина, потупив глаза, с обворожительной улыбкой.
– И я люблю тебя, Валерия, как никогда еще, мне кажется, не любил, – проговорил Сулла дрожащим голосом.
Он с минуту молча на нее глядел, потом взял ее руку, страстно прижал ее к своим губам и прибавил:
– Через месяц ты будешь моей женой.
Сказав это, он удалился из цирка в сопровождении своих друзей.
III. Таверна Венеры Либитины
В одном из самых отдаленных, узких и грязных переулков Эсквилина, близ древней стены Сервия Туллия и у самых Кверкветуланских ворот, находилась таверна, открытая днем и ночью, преимущественно ночью. Она носила название таверны Венеры Либитины, или Венеры Погребальной, покровительницы кладбищ и могил. Такое название объяснялось тем, что за Эсквилинскими воротами по одну сторону лежало кладбище для плебеев, а по другую тянулось до самой Сессорийской базилики широкое поле, на которое выбрасывали трупы рабов и преступников, предназначавшиеся на съедение волкам и хищным птицам. На этом поле, заражавшем своим зловонием всю окрестность, богач Меценат развел спустя полвека свои знаменитые огороды, доставлявшие своему владельцу превосходные овощи и фрукты благодаря обильному удобрению плебейскими костями.
Над входом в таверну находилось изображение Венеры, но более похожее на безобразную мегеру, чем на богиню красоты. Болтавшийся по воле ветра фонарь освещал эту бедную Венеру, которая не выиграла бы, впрочем, и от лучшего освещения. Но и этого скудного освещения было достаточно для привлечения внимания прохожих к иссохшей буковой ветке, торчащей над дверью, и для нарушения мрака, царившего в этом грязном переулке.
Посетитель, войдя в низкую дверь и спустясь по камням, положенным один на другой и заменявшим ступени, проникал в сырую и почерневшую от копоти комнату. Направо от входа помещался камин, в котором пылал огонь и варились в котлах различные кушанья; но лучше было не вникать, из чего их составляла хозяйка таверны, Лутация Монокола. Возле камина четыре терракотовые статуэтки изображали ларов, богов, покровительствующих дому, перед которыми лежали венки и букеты высохших цветов. Перед камином, на потертой позолоченной скамье, обтянутой красной материей, восседала хозяйка таверны в минуты, свободные от обслуживания посетителей. Вокруг стен тянулись скамьи, перед которыми стояли старые столы, а посреди потолка висела оловянная лампа с четырьмя рожками, еле освещавшими большую комнату.
Против входной двери находилась дверь во вторую комнату, немного поменьше и почище первой; стены второй комнаты были расписаны самыми непристойными изображениями. Очевидно, писавший был не из стыдливых. В углу этой комнаты горела лучерна с одним рожком, оставлявшая часть комнаты в полной темноте и бросая слабый полусвет на две кровати.
Около часа ночи после описанного нами дня, 10 ноября 675 года, таверна Венеры Либитины была переполнена посетителями, оглашавшими шумными разговорами не только стены, но и весь переулок.
Лутация Монокола со своей негритянкой-рабыней, черной как смола, разрывались, чтобы удовлетворить всех своих шумных и проголодавшихся клиентов. Лутация, рослая, жирная и краснощекая женщина, могла бы еще назваться красивой, несмотря на свои сорок пять лет и седеющие каштановые волосы, если бы лицо ее не было обезображено большим шрамом. Он начинался на лбу, пересекал правый глаз, веко которого было опущено над вытекшим глазным яблоком, и спускался на нос, лишенный одной ноздри. За это увечье Лутация и получила прозвище Моноколы, то есть одноглазой.
История этого шрама относилась к давним временам. Лутация была женой легионера Руфина, храбро сражавшегося в свое время в Африке против Югурты. Когда после победы над этим царем Кай Марий вернулся триумфатором в Рим, Руфин возвратился вместе с ним. Лутация была в ту пору еще красавицей и не очень строго подчинялась закону о супружеской верности, заключавшемуся в двенадцати таблицах римского кодекса. Однажды муж ее, приревновав к соседнему мяснику, выхватил свой меч и убил его, а затем, чтобы навсегда запечатлеть в памяти своей жены правило упомянутого закона, нанес и ей рану, изуродовавшую ее навеки. Полагая, что он убил ее, и опасаясь ответственности за убийство, – не жены, а мясника, – он счел за лучшее бежать и сложить свою голову под командой боготворимого им полководца, Кая Мария, когда этот славный арпинский крестьянин разбил наголову тевтонские орды при Сестийских Водах и спас Рим от грозившей ему страшной опасности.
Лутация, оправившись от долгой болезни вследствие тяжкой раны, дополнила собранной милостыней кое-какие бывшие у нее сбережения и арендовала таверну, которую благодаря великодушию Метелла Нумидийского она получила потом в дар.
При всем своем безобразии бойкая, веселая и услужливая Лутация еще внушила не одну сильную страсть, и между поклонниками ее не раз доходило дело до драки. Следует, впрочем, прибавить, что таверна Венеры Либитины посещалась только подонками римской черни: могильщиками, гладиаторами и комедиантами самого низкого пошиба, нищими, мнимыми калеками и проститутками.
Но Лутация Монокола не отличалась строгостью нравов. Она знала, что богатые люди, патриции и всадники, не пойдут в ее таверну, и притом опыт убедил ее, что сестерции бедняка и мошенника ничем не отличаются от сестерциев честного гражданина и гордого патриция.
– Скоро ли, черт возьми, нам подадут эти проклятые битки? – крикнул громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.
– Бьюсь об заклад на сто сестерциев, что Лувений принес хозяйке с Эсквилинского поля мертвечину, оставшуюся от воронов, вот из чего она стряпает свои битки! – воскликнул в свою очередь сидевший возле гладиатора нищий, притворявшийся калекой.
Гнусная шутка его вызвала громкий хохот окружающих, но не пришлась по вкусу Лувению. Это был толстый, приземистый, бородатый могильщик, с красным, грубым лицом, усеянным прыщами и не выражавшим ничего, кроме тупого равнодушия.
– Как честный могильщик, прошу тебя, Лутация, состряпай битки для Веления (так звали нищего) из того бычачьего мяса, что он привязывает к своей груди, чтобы разжалобить добросердечных граждан своими мнимыми язвами.
Вызвала хохот и эта шутка.
– Если бы Юпитер не был трусом и не предпочитал дрыхнуть, то он должен был бы испепелить своими громами эту бездонную пропасть грязи, носящую имя Лувения.
– Клянусь черным скипетром Плутона, я так изобью кулаками твою безобразную морду, что ты у меня запросишь пощады! – в бешенстве закричал могильщик, вскочив с места.
То же самое сделал и Велений, сжимая кулаки и крича:
– Попробуй, хвастун! Ну-ка, подойди! Я тебя отправлю к Харону! Не пожалею и монеты, чтобы всадить тебе ее в волчьи зубы для платы за переправу[4].
– Замолчите, старые одры! – заорал Кай Тавривий, колоссальный атлет из цирка, собиравшийся играть в кости. – Замолчите, или, клянусь богами, я схвачу вас обоих и так стукну головами, что размозжу вам черепа.
К счастью, Лутация и негритянка Азур поставили в эту минуту на столы два огромных блюда с дымящимися битками, на которые с жадностью набросились две многочисленные группы присутствующих. Между этими счастливцами тотчас же воцарилось молчание, так как все пожирали битки, находя их превосходными. Тем временем в других группах, среди стука бросаемых костей и площадных ругательств, велись разговоры о главном событии дня – о борьбе гладиаторов в цирке. Люди свободные, которым удалось быть на этом зрелище, рассказывали о нем чудеса тем, которые, находясь в рабском состоянии, не имели права присутствовать в цирке. И все превозносили до небес храбрость и силу Спартака.
Между тем проворная Лутация принесла кровяную колбасу остальным посетителям, и на некоторое время всякие разговоры прекратились. Первым прервал молчание старый гладиатор.
– Я двадцать два года сражался на аренах, – вскричал он, – и вынес свою шкуру хотя заштопанной и перештопанной, что уже одно должно дать вам понятие о моем искусстве и храбрости, но такого искусного фехтовальщика и такого силача, как этот непобедимый Спартак, я еще не видывал.
– Будь он римлянин, – добавил с покровительственным видом атлет Тавривий, – природный римлянин, он был бы вполне героем.
– Жаль, что он варвар! – с пренебрежением заметил Эмилий Варин, красивый двадцатилетний юноша, лицо которого носило уже явные следы разврата и преждевременной старости.
– А все-таки, скажу я вам, он счастливчик, этот Спартак! – вмешался старый африканский легионер с широким шрамом на лбу и хромой от раны в ногу. – Дезертир, а получил свободу! Видано ли это? Надо полагать, что Сулла находился в наилучшем расположении духа, если оказал такую милость.
– Можно себе представить, как обозлился ланист Ациан! – заметил старый гладиатор.
– Хе!.. Он кричит теперь, что его ограбили, зарезали.
– А ведь ему щедро заплатили за его товар.
– Но и товар, надо признаться, хороший!
– Не спорю, но ведь и двести двадцать тысяч сестерциев – деньги хорошие!
– Еще бы, черт возьми!
– Клянусь Геркулесом! – вскричал атлет. – Достанься они мне, я доставил бы себе все наслаждения, какие можно добыть за деньги.
– Ты!.. А мы, думаешь, не сумели бы пристроить их как следует?
– Все умеют тратить деньги, не все только умеют наживать их.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что Сулле достались трудом его богатства?
– Первые-то он добыл от женщины, от Никополии.
– Да, она была уже немолода, когда влюбилась в него, а он был еще молод и хотя не красавец, но все же не такой безобразный, как теперь.
– Умирая, она завещала ему все свои богатства.
– Во времена своей первой молодости он был далеко не богат, – прибавил атлет. – Я знаю гражданина, в доме которого он жил много лет нахлебником, платя за это по три тысячи сестерциев в год.
– А потом, во время войны с Митридатом и после взятия Афин, он захватил себе львиную часть добычи.
– А проскрипции?.. Кто же поверит, что богатства семнадцати консулов, сотни преторов, шестидесяти эдилов и квесторов, трехсот сенаторов, тысячи шестисот всадников и семидесяти тысяч граждан, зарезанных по его повелению, – что все эти богатства поступили полностью в казну, а на его личную долю не перепало ничего?
– Хотелось бы мне иметь хоть частичку того, что досталось на его долю от проскрипций!
– И все же, – заметил Эмилий Варин, получивший в юности образование и расположенный в этот вечер философствовать, – все же этот человек, сделавшийся из бедняка богачом и из ничтожества – владыкой Рима, которому римский народ воздвиг золотую статую с надписью: «Корнелию Сулле, счастливому императору», – страдает болезнью, против которой бессильны все лекарства и все его золото!
Размышление это произвело впечатление на всех присутствующих, и все грустно воскликнули:
– Правда! Правда!
– Поделом ему, этому лютому зверю в человеческом образе! – вскричал хромой легионер, который в качестве ветерана африканских войн поклонялся памяти Кая Мария. – Это ему отплата за кровь шести тысяч самнитов, которые сдались ему под условием сохранения жизни и которых он велел потом всех перебить из луков в цирке. Когда от раздирающих криков этих несчастных все сенаторы, собравшиеся в курии Гостилии, в ужасе вскочили с мест, этот зверь Сулла имел жестокость хладнокровно сказать: «Не обращайте внимания на эти крики, почтенные отцы, это наказывают преступников по моему приказанию. Продолжайте ваши прения».
– А бойня в Принесте, где он велел перебить все население в двенадцать тысяч человек, не разбирая пола и возраста?
– А Сульмона, Сполето, Терни, Флоренция – все эти богатые итальянские города, которые он велел сровнять с землей за то, что жители их держали сторону Мария?
– Эй, вы, молодцы! – крикнула Лутация со своего места, где она укладывала на сковороду заячье мясо, собираясь его жарить. – Никак вы браните диктатора Суллу Счастливого? Предупреждаю вас, чтобы вы держали язык за зубами. Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего из римских граждан!
– Ишь, проклятая кривуля! Тоже суллианка, – заметил старый легионер.
– Слушай, Меций, – крикнул ему могильщик, – прошу отзываться почтительнее о нашей милой Лутации!
– О, клянусь щитом Беллоны, еще не видано, чтобы могильщик учил африканского ветерана.
Дело грозило перейти в новую ссору, если бы в эту минуту с улицы не донесся визг хора женских голосов, имевший претензию называться пением.
– Это Эвения! – заметили некоторые из присутствующих.
– И Луцилия!
– И Диана!
Все глаза обратились к двери, в которую вошли немного погодя, визжа и подплясывая, пять женщин в подоткнутых платьях, с раскрашенными лицами и голыми плечами. Их встретили шумными приветствиями и криками, на которые они со смехом отвечали грязными шутками. Мы не станем описывать сцен, вызванных появлением этих несчастных, заметим только, что Лутация и черная рабыня ее принялись усердно накрывать стол в другой комнате и готовить ужин, который, судя по приготовлениям, обещал быть великолепным.
– Кого ты ждешь сегодня? Кто будет есть твоих жареных кошек под видом зайцев? – спросил Велений.
– Не ждешь ли ты к ужину Марка Красса?
– Или Помпея Великого?
Среди хохота и шуток на пороге появилась колоссальная и мощная фигура мужчины, которого, несмотря на его седые волосы, можно было еще назвать красавцем.
– А! Требоний!
– Привет тебе, Требоний!
– Добро пожаловать, Требоний! – хором воскликнуло много голосов.
Требоний был когда-то ланистом, но закрыл несколько лет назад свою школу гладиаторов и существовал теперь на сбережения от этой выгодной профессии. По привычке и по наклонности и теперь его влекло в среду гладиаторов, и он был постоянным посетителем таверн Эсквилина и Субурры, где во множестве собирались эти несчастные.
В народе ходил слух, что он пользуется своими связями с ними и своей популярностью среди них, употребляя их как орудие во время междоусобиц, в пользу тех из патрициев, которые давали ему деньги на завербование известного числа гладиаторов. Поговаривали, что он всегда располагает целыми полчищами подобных людей, которых он подсылает, когда нужно, занять форум или комиции, если там обсуждается какой-нибудь важный вопрос, чтобы застращать судей, произвести смуту, а если требуют обстоятельства, то и пустить в ход кулаки. Так бывало, например, во время выбора правительственных лиц. Словом, все были уверены, что Требоний извлекает большие выгоды своими связями с гладиаторами.
Как бы то ни было, а он был их другом и покровителем, и в день описанных зрелищ в цирке, встретив Спартака у выхода, обнял его, расцеловал и пригласил в таверну Венеры Либитины. Поэтому он вошел в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов.
На Спартаке была еще та самая пурпурная туника, в которой он сражался в цирке, а на плечи был накинут короткий солдатский плащ, который ссудил ему один центурион, приятель Требония.
Прибывшие были встречены шумными приветствиями, и те из присутствующих, кто был в этот день в цирке, с гордостью указывали небывшим на героя дня, счастливого Спартака.
– Представляю тебе, храбрый Спартак, прекрасную Эвению, красивейшую из женщин, посещающих эту таверну, – сказал старый гладиатор.
– Которая с удовольствием готова поцеловать тебя, – добавила Эвения, стройная, высокая девушка, недурная собой. И, не дожидаясь ответа, она обняла и поцеловала Спартака.
Фракиец улыбнулся, чтобы скрыть отвращение, которое она внушала ему, и сказал, мягко отведя ее руки и отдаляя ее от себя:
– Благодарю тебя, красавица, но… в эту минуту для меня нужнее всего подкрепиться пищей.
– Иди, иди сюда, прекрасный гладиатор, – сказала Лутация, вводя новых гостей во вторую комнату, где был накрыт ужин. – Твоя Лутация, Требоний, приготовила тебе на ужин такого зайца, каких не бывает за столом и у Марка Красса.
– Отведаем, отведаем твоего искусства, плутовка, – ответил Требоний, хлопая ее по спине. – А ты принеси-ка нам пока амфору фалернского. Старое оно у тебя?
– Боги праведные! – вскричала Лутация, оправляя приборы на столе, за который сели посетители. – Старое ли у меня фалернское! Да ему пятнадцать лет!.. Оно разлито при консулах Кае Целии и Луции Энобарбе!
Пока она говорила, негритянка принесла амфору с вином, которую гости внимательно осмотрели, передавая из рук в руки, потом налили вино в большие кубки, наполовину наполненные водой, а затем наполнили маленькие кубки чистым вином.
Оно оказалось хорошим, ужин – также недурным, и комната вскоре наполнилась шумом разговоров и смеха. Один только Спартак, которого все превозносили и угощали, был невесел и ел неохотно. Но это можно было объяснить сильными впечатлениями этого дня или глубоким чувством счастья от полученной свободы. Как бы то ни было, а на лице его лежала тень грусти, которую не могли рассеять ни похвалы, ни дружеские слова, ни веселость окружающих.
– Клянусь Геркулесом, я не понимаю тебя, друг Спартак, – сказал наконец Требоний, который хотел долить его кубок и, к удивлению своему, увидел, что он еще полон. – Что с тобой?.. Ты не пьешь!
– Отчего ты печален? – спросил, в свою очередь, один из гостей.
– Клянусь Юноной, матерью богов, – вскричал другой гладиатор, в котором по акценту можно было узнать самнита, – можно подумать, что ты на похоронах, а не в обществе друзей, и не освобождение свое празднуешь, а оплакиваешь смерть своей матери.
– Моей матери! – повторил Спартак с глубоким вздохом и сделался еще мрачнее.
Тогда бывший ланист Требоний поднялся с места и провозгласил:
– Выпьем за свободу!
– Да здравствует свобода! – закричали бедняки гладиаторы, вскочив с мест и подняв кубки. У всех заблестели глаза жаждой свободы.
– Счастливец ты, Спартак, что получил свободу при жизни, – грустно сказал молодой гладиатор со светлыми, как лен, волосами. – Вот нас так освободит только смерть.
При первом крике «свобода!» лицо Спартака прояснилось: глаза его загорелись, на губах появилась улыбка; он встал и, высоко подняв кубок, прокричал звучным, сильным голосом:
– Да здравствует свобода!
Но при грустных словах молодого гладиатора рука Спартака опустилась; он нехотя поднес кубок к губам и не допил его содержимого. Голова его свесилась на грудь; он сел и замолчал, погрузившись в размышления. В комнате на минуту воцарилась тишина. Глаза всех гладиаторов были устремлены на счастливого товарища с выражением сочувствия и зависти, сожаления и радости.
Молчание было нарушено голосом Спартака, который, как бы забыв, что он не один, устремил глаза в потолок и запел тихим голосом песенку гладиаторов, которая часто пелась в часы отдыха в школе Ациана:
- Он родился свободным,
- Свободным и мощным,
- Но попал в неволю
- К жестоким врагам.
- Чужеземцы сковали могучие руки,
- Заставили драться толпе на потеху
- И кровь проливать —
- Не за лар домашних,
- И жизнь отдать —
- Не за милых сердцу.
– Наша песня… – весело пробормотали некоторые из гладиаторов.
Глаза Спартака радостно заблестели. Но, желая скрыть свою радость от Требония, который не знал, чем объяснить ее, Спартак принял равнодушный вид и небрежно спросил своих товарищей по несчастью:
– Из какой вы школы?
– Из школы ланиста Юлия Рабеция.
Спартак взял со стола свой кубок, выпил остатки вина и, обернувшись к двери, равнодушно проговорил, как бы обращаясь к вошедшей в ту минуту рабыне:
– Света!
Гладиаторы быстро переглянулись, и белокурый юноша рассеянно сказал, словно продолжая начатый разговор:
– И свободы… Ты заслужил ее, храбрый Спартак. Теперь сам Спартак бросил выразительный взгляд на белокурого гладиатора, сидевшего напротив него. Но едва тот произнес эти слова, как со стороны двери раздался могучий голос вошедшего нового гостя:
– Да, заслужил свободу, непобедимый Спартак!
Все обернулись и увидали неподвижно стоящую на пороге мужественную фигуру, закутанную в широкий темный плащ. Это был Луций Сервий Катилина.
Особенное ударение, сделанное им на слове «свобода», заставило Спартака и других гладиаторов, за исключением Требония, вопросительно посмотреть на него.
– Катилина! – вскричал Требоний, который сидел спиной к двери и последний увидел вошедшего.
Он встал и пошел к нему навстречу, почтительно кланяясь и приложив, по римскому обычаю, руку к губам в знак приветствия.
– Приветствую тебя, славный Катилина! Какой доброй богине обязаны мы честью видеть тебя среди нас в этот час и в этом месте?
– Я хотел видеть тебя, Требоний, – ответил Катилина и, обратившись к Спартаку, прибавил: – Да отчасти и тебя.
При имени Катилины, известного всему Риму своей жестокостью, силой и храбростью, гладиаторы с изумлением переглянулись, и некоторые из них даже побледнели. Сам неустрашимый Спартак невольно вздрогнул при этом страшном имени и, сдвинув брови, глядел в глаза патрицию.
– Меня?! – повторил он с удивлением.
– Да, именно тебя, – спокойно ответил Катилина, садясь на предложенную ему скамью и знаком приглашая сесть и других. – Я не знал и даже не воображал, что найду тебя здесь, но был уверен, что найду тебя, Требоний, и намеревался узнать от тебя, где я могу встретить храброго Спартака.
Спартак, все более и более удивленный, не сводил с Катилины пытливого взгляда.
– Повторяю, ты вполне достоин дарованной тебе свободы, – продолжал тот. – Но тебе не дали денег, чтобы обеспечить твое существование, пока ты не найдешь себе какого-нибудь занятия. Так как благодаря твоей храбрости я выиграл сегодня у Кнея Долабеллы десять тысяч сестерциев, то я и хотел видеть тебя, чтобы отдать тебе часть моего выигрыша. Она по праву принадлежит тебе. Ведь если я рисковал моими деньгами, то ты в продолжение двух часов ежесекундно рисковал жизнью.
В комнате послышался ропот одобрения и сочувствия. Этот великодушный патриций не только унижается до беседы с презираемыми гладиаторами, но ценит их подвиги и протягивает им руку помощи.
Сам Спартак, хотя и не совсем успокоенный, все же был тронут участием такого знатного лица, тем более что ему давно не случалось встречать со стороны людей такого внимания к себе.
– Благодарю тебя, славный Катилина, за твое великодушное предложение, – ответил он, – но я не могу и не вправе принять его. Я буду учить борьбе, гимнастике, фехтованию в школе моего бывшего ланиста, и это даст мне возможность существовать своим трудом.
Катилина, воспользовавшись минутой, когда внимание Требония было отвлечено, наклонился к самому уху Спартака и чуть слышно прошептал:
– И я томлюсь под гнетом олигархии, и я – раб этого римского общества, и я – гладиатор среди патрициев и хочу свободы… и… знаю все…
Спартак вздрогнул и откинулся назад, вопросительно глядя на Катилину, а тот повторил:
– Знаю все! Я – ваш и останусь с вами.
Потом, встав с места и протягивая Спартаку маленький кошелек с новыми ауреями, он прибавил:
– Возьми же этот кошелек с двумя тысячами сестерциев. Повторяю тебе, что они – твои, как часть добычи, приобретенной с твоей помощью.
Пока все присутствующие громко восхваляли щедрость Катилины, он взял правую руку Спартака и так крепко сжал ее, что тот вздрогнул.
– Веришь ли ты теперь, что я все знаю? – спросил он вполголоса.
Ошеломленный, Спартак не мог понять, каким образом Катилине стали известны некоторые таинственные знаки и слова, но в том, что они известны ему, не оставалось более сомнения. Спартак ответил на его рукопожатие и, кладя кошелек себе за пазуху, проговорил:
– Я так взволнован в настоящую минуту твоим великодушным поступком, благородный Катилина, что не в силах достойно поблагодарить тебя. Но, если ты согласен, я приду к тебе завтра под вечер, чтобы выразить тебе всю мою признательность.
Спартак подчеркнул последнее слово и досказал взглядом то, чего нельзя было сказать словами. Патриций кивнул в знак согласия и ответил:
– Двери моего дома всегда открыты тебе, Спартак. А теперь, – прибавил он, обращаясь к Требонию и другим гладиаторам, – выпьем по кубку фалернского, если в такой норе, как эта, можно найти доброе вино.
– Если моя жалкая хижина удостоилась видеть в своих стенах такого славного патриция, – любезно сказала хозяйка, стоявшая позади Луция, – то как же не найтись в ней амфоре доброго фалернского? Найдется оно, и такое, которое достойно стола самого Юпитера!
Она поклонилась Катилине и ушла за вином.
– Выслушай меня теперь, Требоний, – сказал тот бывшему ланисту.
– Слушаю обоими ушами.
И пока гладиаторы втихомолку любовались богатырским телосложением патриция, изредка обмениваясь вполголоса замечаниями насчет необычайной силы его рук с выдающимися, узловатыми мышцами, Катилина о чем-то тихо беседовал с Требонием.
– Знаю, знаю, – сказал последний. – Это серебреник Эзофор. Его лавка находится на углу Священной и Новой улиц, близ курии Гостилии.
– Он самый. Так ты сходи к нему, как будто от себя, из желания предостеречь его, и дай ему понять, что ему не пройдет даром, если он не откажется от своего намерения требовать от меня через судебную власть немедленной уплаты долга в пятьсот тысяч сестерциев.
– Понимаю, понимаю.
– Скажи ему, что ты, вращаясь среди гладиаторов, слышал, что несколько молодых патрициев, преданных мне за мои благодеяния, набрали – конечно, без моего ведома – толпу гладиаторов, чтобы сыграть с ним злую шутку[5].
– Понимаю, Катилина, и будь уверен, что исполню все как следует.
Тем временем вернулась Лутация с фалернским вином и разлила его по кубкам. Гости тотчас принялись за него и нашли его достаточно хорошим, хотя и не настолько старым, как было бы желательно.
– Как ты находишь вино, славный Катилина? – спросила хозяйка.
– Недурно.
– Оно разлито в консульство Луция Марция Филиппа и Секстия Юлия Цезаря.
– Значит, ему только двенадцать лет! – вскричал Катилина и погрузился в думы, очевидно навеянные этими именами. Вперив глаза в стол и машинально играя вилкой, он долго оставался безмолвным и неподвижным среди воцарившейся в комнате тишины.
В душе Катилины, видимо, происходила какая-то борьба, и ум волновали страшные мысли. Это можно было угадать по молниям, сверкавшим по временам в его глазах, по трепету его рук, по нервному сокращению всех мышц и по налившейся кровью толстой жиле, которая пересекала его лоб.
От природы необычайно искренний, он не мог, даже когда хотел, скрывать бушевавшие в нем страсти: они, как в зеркале, отражались на его резком, суровом, мускулистом лице.
– О чем ты задумался, Катилина, что так омрачился? – спросил Требоний, услышав вздох, похожий на рычание.
– Я думаю, – ответил патриций, не сводя глаз с одной точки и продолжая нервно играть вилкой, – я думаю о том, что в тот самый год, когда в эту амфору было налито вино, трибун Ливии Друз был предательски убит под порталом собственного дома так же, как за несколько лет до того был убит трибун Луций Сатурнин или как еще ранее были убиты Тиверий и Кай Гракхи, эти благороднейшие из людей, прославивших наше отечество. И все они отдали жизнь за одно и то же дело – за дело обездоленных и угнетенных; и все погибли от той же руки – от тиранической руки презренных властолюбцев.
Он помолчал и после минутного размышления воскликнул:
– Неужто решено декретами богов, что угнетенным никогда не будет покоя, что обездоленные вечно будут голодать и человечество вечно будет делиться на волков и овец, на пожирающих и пожираемых?
– Нет, клянусь всеми богами Олимпа! – вскричал Спартак громовым голосом и сильно ударил кулаком по столу. Лицо его приняло страшное выражение гнева и ненависти. Но, заметив, что Катилина вздрогнул и пристально поглядел на него, он тотчас сдержался и прибавил с наружным спокойствием: – Нет, не может быть, чтобы такая великая несправедливость была установлена волей богов!
После новой паузы Катилина проговорил с глубоким состраданием в голосе:
– Бедный Друз!.. Я знал его: он был молод, добродетелен и одарен сильным и возвышенным умом. Он пал жертвой измены.
– И я также помню это, – вмешался Требоний. – Я помню, как он закричал сенаторам в комиссии при обсуждении земельного закона: «Какие же уступки возможно сделать народу при вашей алчности, если вы не хотите предоставить ему даже воздуха и грязи?»
– И злейшим врагом его был, – добавил Катилина, – тот самый консул Луций Филипп, которому он спас жизнь, отведя его в тюрьму, когда восставший народ хотел его убить!
– А все же Филиппа успели поколотить так, что кровь хлынула у него носом.
– И, как говорят, Друз вскричал при этом: «Это не кровь, а сок куропаток!» – намекая на обжорство, которому предавался Филипп каждый вечер.
В продолжение этого разговора в задней комнате, в большой зале, раздавались буйные и непристойные крики, которые усиливались соразмерно количеству выпиваемого вина. Вдруг доносившиеся из залы голоса почти хором закричали:
– Родопея! Родопея!
При этом имени Спартак вздрогнул всем телом. Оно напомнило ему родную Фракию, родные горы, семью, отчий дом. Сколько разрушенного счастья, сколько сладостных и горьких воспоминаний!
– Добро пожаловать, добро пожаловать, прекрасная Родопея! – хором кричали мужские и женские голоса.
– Наливайте ей вина! Ведь она за этим и пришла, – сказал могильщик, и все окружили девушку.
Родопея действительно была очень красивая девушка, лет двадцати двух, высокая и стройная, с правильными чертами лица, с длинными белокурыми волосами и живыми, веселыми голубыми глазами. На ней была надета голубая туника, обшитая серебряной бахромой; на руках были серебряные браслеты, а на голове голубое покрывало, спускавшееся на лоб. Вся ее наружность показывала, что она – не римлянка, а рабыня худшего сорта, так как нетрудно было угадать, каким ремеслом она занимается, хотя, быть может, и против своей воли.
И однако, судя по ласковому и сравнительно почтительному обращению с нею грубых и развратных посетителей таверны Венеры Либитины, можно было заключить, что эта девушка выше своего ужасного положения и должна чувствовать себя несчастной, несмотря на свою кажущуюся веселость.
Ее милое лицо и мягкие, учтивые манеры, в которых не было и тени наглости, видимо, действовали на этих грубых людей обуздывающим образом. Она прибежала однажды в таверну Лутации вся в слезах, в кровь избитая своим хозяином, сводником, и попросила глоток вина для подкрепления сил. Это было месяца за два до начала нашего рассказа. С тех пор она заходила в таверну через каждые два-три дня, чтобы отдохнуть четверть часа от той адской жизни, какую заставлял ее вести изо дня в день ее хозяин. В сравнении с этой жизнью минуты, проводимые в таверне, казались ей истинным счастьем.
Родопея сидела возле Лутации, прихлебывая предложенное ей вино, и шум, вызванный ее появлением, уже стихал, когда в противоположном конце залы начали раздаваться новые крики.
Могильщик Лувений, его товарищ по имени Арезий и присоединившийся к ним нищий Велений, разгоряченные чрезмерными возлияниями, принялись ругать патрициев, в том числе и Катилину, хотя все знали, что он находится в смежной комнате. Остальные посетители тщетно старались образумить и унять их.
– Нет, нет, – орал могильщик Арезий, не уступавший в богатырском телосложении атлету Каю Тавривию, – нет, клянусь Геркулесом, нельзя дозволять этим гнусным пиявкам, питающимся нашими слезами и кровью, являться в места нашего отдыха, оскорблять нас своим ненавистным присутствием!
– Знать я не хочу этого кровожадного клеврета Суллы – Катилину, пришедшего сюда издеваться над нашей нищетой, которой мы и обязаны-то прежде всего ему и его друзьям, патрициям! – кричал с пеной у рта Лувений, силясь освободиться из рук атлета, который держал его, боясь, что он ворвется в смежную комнату.
– Замолчишь ли ты, проклятый пьяница? Зачем ты оскорбляешь тех, кто тебя не трогает? Или ты не видишь, что с ним десяток гладиаторов, которые изобьют тебя в тесто, старую клячу?
– Что нам гладиаторы! – бесновался, в свою очередь, бесстыжий Эмилий Варин. – Вы, свободные граждане, боитесь этих жалких рабов, предназначенных на то, чтобы резать друг друга нам на потеху! Клянусь красотой Афродиты, я проучу этого подлеца в пышной тоге, у которого под великолепием патриция скрывается самая низкая душонка! Я отобью у него охоту приходить в другой раз любоваться на нищету плебеев!
– Пусть убирается на Палатин! – кричал Велений.
– Хоть в ад, только вон отсюда! – добавлял Арезий.
– Пускай эти подлые оптиматы[6] оставят нас в покое в наших жалких трущобах Целия, Эсквилина и Субурры и идут околевать среди своей грязной роскоши на форум, Кливий, Капитолий и Палатин!
– Вон патрициев! Вон Катилину! – крикнули разом десять голосов.
Услыхав эти крики, Катилина грозно сдвинул брови и вскочил к места. Требоний и один из гладиаторов пытались удержать его, предлагая собственноручно проучить эту сволочь, но он оттолкнул их и отворил дверь. Загородив ее своей величавой фигурой, он остановился на пороге, скрестил на груди руки и, окинув комнату огненным взглядом, вскричал громовым голосом:
– Эй, вы, глупые лягушки, что расквакались?! Как вы смеете осквернять своими рабскими губами почтенное имя Катилины? Что вам нужно от меня, презренные черви?
Этот грозный голос, казалось, смутил на минуту буйную компанию, но вскоре кто-то крикнул:
– Нам нужно, чтобы ты убрался вон отсюда!
– На Палатин! На Палатин! – крикнуло несколько голосов.
– Иди в гемонию! Там тебе место! – взвизгнул своим женственным голосом Эмилий Варин.
– Хорошо! Попробуйте изгнать меня отсюда! Ну, смелее! Подходи, низкая сволочь! – крикнул Катилина, расправляя руки для борьбы.
Плебеи с минуту стояли в нерешительности.
– Клянусь богами ада, ты не убьешь меня сзади, как бедного Гратидиана, будь ты хоть сам Геркулес! – вскричал, наконец, Арезий, бросаясь вперед.
Но он получил такой увесистый удар в грудь, что пошатнулся и упал на руки стоявших позади. Тем временем и могильщик Лувений бросился на Катилину, но и он тотчас повалился на ближний стол под ударами двух сильных кулаков, застучавших по его лысому черепу.
Испуганные женщины с криком и визгом прижались в угол за скамьей Лутации, между тем как в комнате раздавались удары, топот ног, грохот опрокидываемых столов и скамеек, крики, стоны, проклятия, а из двери смежной комнаты слышались голоса Требония, Спартака и других гладиаторов, убеждавших Катилину пропустить их, чтобы унять буянов.
Между тем Катилина поверг на землю страшным ударом в живот мнимого нищего Веления, который бросился было на него с ножом, и после этого пьяная толпа, сгрудившаяся у дверей в заднюю комнату, отступила. Катилина, схватив свой короткий меч, принялся наносить им плашмя удары по спинам и головам, крича страшным голосом, более похожим на рычание зверя:
– Низкая сволочь! Подлые твари! Вы всегда готовы лизать ноги, которые топчут вас в грязь, и оскорблять того, кто нисходит до вас и желает протянуть вам руку помощи.
Едва Катилина отодвинулся от двери, как из нее, один за другим, выбежали Требоний, Спартак и другие гладиаторы. Пьяная толпа, уже отступавшая перед ударами Катилины, бросилась теперь со всех ног к выходу из таверны, и зала в минуту опустела. В ней оставались только Лувений и Велений, все еще лежавшие на земле, оглушенные и стонущие, да атлет Тавривий, не принимавший никакого участия в борьбе и стоявший у очага, сложив на груди руки с видом беспристрастного зрителя.
– Подлые твари! – рычал Катилина, преследуя убегающих до самой двери. Вернувшись в комнату, он обратился к перепуганным женщинам, продолжавшим вопить: – Замолчите ли вы, проклятые плакальщицы?.. А тебе, глупая сорока, Катилина заплатит за всю эту сволочь. На!
Он бросил пять золотых монет на скамью Лутации, оплакивавшей понесенные ею убытки от погрома и от неоплаченного ужина и вина.
В эту минуту Родопея, всматривавшаяся в лица гладиаторов, вдруг широко раскрыла глаза и побледнела.
– Я не ошибаюсь… нет, не ошибаюсь: это Спартак! Это мой милый Спартак! – вскричала она, приближаясь к фракийцу.
– Кто ты? – спросил тот, быстро обернувшись на звуки ее голоса. – Мирдза!.. Сестра! – вскричал он с волнением, всмотревшись в лицо молодой девушки.
И среди воцарившегося безмолвия удивленных зрителей брат с сестрой бросились в объятия друг друга.
Но после первой бури поцелуев и слез Спартак высвободился из объятий сестры и, отстранив ее не много от себя, осмотрел с ног до головы. Лицо его мертвенно побледнело и голос задрожал.
– Но ты… ты… чем ты стала? – вскричал он с отчаянием, презрительно отталкивая от себя сестру.
– Я – рабыня, – ответила несчастная сквозь слезы, – рабыня негодяя… О, выслушай меня, Спартак! Ведь под розгами… под пытками раскаленным железом…
– Несчастная! – вскричал гладиатор, дрожа от волнения, и крепко прижал сестру к своей груди.
Он долго ласкал и целовал ее, а потом, подняв к потолку полные слез глаза и потрясая своим мощным кулаком, громко вскричал:
– И Юпитер допустил это, имея громы в своих руках!.. Нет, он – не бог! Он – обманщик, презренный шарлатан!
Мирдза рыдала, припав на широкую грудь своего брата.
– Да будет проклята, – закричал он диким голосом после минутной паузы, – да будет проклята память первого человека на земле, от семени которого произошли два столь различных рода: свободные люди и рабы!
IV. О том, как Спартак пользовался свободой
Прошло два месяца со времени событий, описанных в предшествовавшей главе. Утром, накануне январских ид (12 января) следующего года по улицам Рима дул сильный ветер и гнал серые облака, заволакивавшие небо, придавая ему мрачный однообразный тон. В воздухе носились хлопья снега, медленно падавшие на землю, покрывая грязью мостовую.
Граждане, собравшиеся по своим делам на форуме, лишь изредка показывались на площади, но зато тысячами толпились под арками форума, курии Гостилии, Грекостазии (дворца посланников), храма Согласия, построенного диктатором Фурием Камиллом в память достигнутого им мирного соглашения между плебеями и патрициями, храма Весты, базилики Эмилия и других зданий, окружавших форум.
Базилика Эмилия была построена одним из предков Марка Эмилия Лепида, который был консулом в этом году, вступив в эту должность в начале января, одновременно с другим консулом, Квинтом Лутацием Катуллом.
В величественном здании базилики толпилось в это утро особенно много народу, и галереи его были полны. В одной из галерей, опершись на мраморные перила, стоял Спартак и рассеянно глядел на сновавшую внизу толпу.
На нем была голубая туника, поверх которой был накинут темно-красный греческий паллий, пристегнутый серебряной пряжкой.
Неподалеку от него стояли трое граждан и с живостью о чем-то рассуждали. Двое из них уже знакомы читателям: это были атлет Кай Тавривий и мим Эмилий Варин. Третий принадлежал к многочисленному классу тех римских граждан, которые жили изо дня в день подачками патрициев, называли себя их клиентами, сопровождали их на форум и в комиции, подавали голоса за тех, за кого им прикажут, рукоплескали, льстили своим патронам и постоянно выклянчивали у них подачки.
Это были времена, когда победы в Азии и Африке привили римлянам страсть к роскоши и к восточной неге, времена, когда огромное и постоянно растущее число рабов, исполнявших все работы и дела, которые в прежние времена исполнялись трудолюбивыми гражданами, что искоренило в римлянах любовь к труду, первое и необходимое условие силы, нравственности и процветания нации. Под наружным блеском и могуществом в Риме уже созревали семена близкого упадка.
Каждый патриций, консул или просто честолюбивый богач вел за собой свиту в пятьсот – шестьсот клиентов, а были и такие, которые имели в своем распоряжении до тысячи подобных людей, и звание клиента стало своего рода профессией, как профессия кузнеца, токаря.
К этой категории людей принадлежал и человек, беседовавший в галерее базилики Эмилия с Тавривием и Варином. Его именовали Апулеем Тудертином, потому что предки его были родом из Тоди, он был клиентом Марка Красса.
Разговор шел в этой группе об общественных делах, но Спартак, хотя и стоявший поблизости, ничего не слышал, погруженный в свои печальные думы. С тех пор как он встретил свою сестру и узнал, в каком ужасном положении она находится, единственной думой его, единственной целью стало освобождение ее из рук негодяя, подвергавшего Мирдзу такому унижению. Катилина, со свойственной ему щедростью, на этот раз, впрочем, не совсем бескорыстно, тотчас предоставил в распоряжение Спартака и остальные восемь тысяч сестерциев, выигранных у Долабеллы, с целью помочь фракийцу выкупить его сестру у ее патрона.
Спартак принял деньги с благодарностью, обещая возвратить их при первой возможности, о чем Катилина и слышать не хотел, и немедленно отправился к патрону Мирдзы, чтобы предложить ему выкуп за нее. Но тот, заметив, как горячо желает бывший гладиатор освобождения этой невольницы, заломил за нее неслыханную цену. Он стал уверять, что заплатил за нее двадцать пять тысяч сестерциев, причем солгал ровно наполовину, что ввиду ее молодости, красоты и скромности она представляет для него капитал в пятьдесят тысяч сестерциев, и клялся Меркурием и Венерой, что дешевле этой суммы он не может отдать ее.
Невозможно описать, что почувствовал Спартак при таком заявлении. Он просил, умолял, но все было напрасно: торговец человеческим телом знал, что закон на его стороне, и оставался неумолимым.
Наконец, Спартак в бешенстве схватил его за горло и задушил бы в несколько секунд, если бы, к счастью негодяя, его не остановила одна мысль. Он вспомнил о сестре, о своем отечестве, о тайном предприятии, главою которого он был и которое разрушилось бы без него.
Эта мысль заставила его выпустить из рук хозяина Мирдзы, который с выкатившимися из орбит глазами, с посиневшим лицом, почти полуживой, долго не мог прийти в себя. Немного погодя Спартак спросил его спокойным тоном, хотя лицо его было еще бледно и он весь дрожал от волнения и бешенства:
– Так ты хочешь… пятьдесят тысяч сестерциев?
– Ничего я не хочу… убирайся… убирайся в ад, или я позову моих рабов!
– Прости меня… я погорячился… Пойми: бедность… братская любовь… Выслушай меня: быть может, мы сойдемся…
– Сойдемся… с таким головорезом, который душит людей с первого же слова! – проговорил хозяин, несколько успокоившись и потирая свою шею. – Нет, убирайся вон! Вон!
Однако мало-помалу фракийцу удалось успокоить его и сговориться с ним. Они порешили, что Спартак немедленно вручит ему две тысячи сестерциев при условии, что он поселит Мирдзу в отдельном помещении, в своем доме, где поселится также и Спартак. Но если последний не внесет через месяц остальной суммы, то владелец ее снова вступит во все свои права. Ауреи блестели соблазнительно, и сделка была самая выгодная для патрона, который выигрывал по меньшей мере тысячу сестерциев, ничем не рискуя. Он согласился.
Спартак, повидавшись с сестрой и поместив ее в маленькой комнатке во флигеле дома ее хозяина, отправился прямо в Субурру, где жил Требоний. Он рассказал ему о своем горе, прося помощи и совета. Требоний старался успокоить его, советовал не падать духом и обещал употребить все усилия, чтобы помочь ему если не освободить свою сестру, то, по крайней мере, предохранить ее от унижений.
Успокоившись немного с этой стороны, Спартак отправился к Катилине и с благодарностью возвратил ему взятые в кредит восемь тысяч сестерциев, в которых он теперь не нуждался. Патриций долго беседовал с ним в своей библиотеке, и, судя по предосторожностям, принятым Катилиной, чтобы никто не мог помешать, надо полагать, что разговор шел между ними о предметах важных и серьезных. С этого дня Спартак довольно часто приходил к патрицию, и все показывало, что между ними есть связь, основанная на взаимном уважении и дружбе.
Между тем с того дня, как Спартак стал свободным, бывший хозяин его, ланист Ациан, не переставал приставать к нему с советами и предложениями. Сначала он доказывал ему необеспеченность его настоящего положения и наконец предложил ему или взять на себя управление его школой, или же, что, по его мнению, было бы еще лучше для фракийца, добровольно продаться ему в гладиаторы. За это он предлагал ему такую цену, какой не получал еще ни один доброволец этого рода.
Само собой разумеется, что Спартак наотрез отверг его предложения и дал ему ясно понять свое желание, чтобы он не надоедал ему своим присутствием; однако тот не переставал преследовать его, словно злой дух. Требоний, который любил Спартака и, быть может, основывал на нем какие-нибудь надежды, принял живое участие в положении Мирдзы. Будучи другом Гортензия и горячим поклонником его красноречия, он предложил через него его сестре Валерии купить Мирдзу себе в служанки, рекомендовал ее как красивую и образованную девушку, умеющую говорить по-гречески и довольно опытную в приготовлении благовонных масл и духов.
Валерия была не прочь купить Мирдзу, но предварительно пожелала видеть ее. Она поговорила с ней; девушка понравилась ей, и сделка быстро состоялась. Валерия заплатила за Мирдзу сорок тысяч сестерциев и увела ее, как и других своих рабынь, в дом Суллы, своего мужа, с 15 декабря.
Хотя такой исход и не вполне удовлетворял Спартака, который предпочел бы взять сестру к себе, однако все же это было лучшее, на что он мог рассчитывать при данных обстоятельствах; он питал надежду, что теперь сестра его навсегда избавлена от позора.
Успокоенный с этой стороны, он весь отдался какому-то таинственному и, видимо, очень важному делу. Он часто навещал Катилину и вел с ним долгие беседы наедине. Каждый день можно было встретить его в одной из гладиаторских школ Рима, а по вечерам – в тавернах Субурры или Эсквилина, – вообще в тех местах, которые посещались гладиаторами и рабами.
Что же он замышлял? К какому делу готовился?
Это объяснится впоследствии, а пока вернемся в галерею базилики, где он стоял, до такой степени погруженный в свои думы, что не слышал ни слова из того, что говорилось близ него, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где Тавривий, Варин и Апулей Тудертин громко беседовали и смеялись.
– И хорошо сделал, хорошо сделал! – кричал Тавривий.
– А-а!.. Этот добрый Сулла воображал, что он может уничтожить памятники славы Мария! Ха! Счастливый диктатор полагал, что для этого достаточно снять его статую и триумфальную арку и часть его побед над кимврами и тевтонами! Жалкий самообман!.. Нет! Он может при своем могуществе и жестокости опустошить целый город, перебить всех его жителей, превратить Италию в груду развалин, но изгладить из памяти людей победу над Югуртой и битву при Сестийских Водах – это не в его силах!
– Бедный глупец! – вскричал своим визгливым голосом Эмилий Варин. – Наперекор всем его стараниям консул Лепид взял да и украсил эту базилику великолепными бронзовыми барельефами, изображающими победы Мария.
– Этот Лепид – заноза в глазу у нашего счастливого диктатора!
– Э, полно вам! Что такое Лепид? – презрительно сказал толстый клиент Красса. – Что он значит перед Суллой? То же, что комар перед слоном.
– Но разве ты не знаешь, что он не только консул, но и богач – богаче твоего Красса?
– Знаю, что он богат, но вряд ли богаче Красса. Да хотя бы и так, что же он может сделать Сулле со всем своим богатством?
– А то, что он привлечет на свою сторону народ.
– Как бы не так! Народ осуждает его непомерную роскошь.
– Не народ осуждает его, а патриции, которым завидно, что они не могут жить так, как он.
– А знаете ли, в этом году случится что-нибудь необычайное.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что в деревне Аримино произошло небывалое чудо: на вилле Валерия петух заговорил человеческим голосом.
– Да?.. Ну, если это правда, так действительно должно случиться что-нибудь необычайное…
– Если правда!.. Да весь Рим говорит об этом. Сам Валерий, вернувшись сюда из Аримино, рассказывал это; и вся его семья, и друзья, и слуги говорят то же самое.
– Чудеса! – пробормотал Апулей. Он был чрезвычайно суеверен и религиозен, поэтому слух этот произвел на него сильное впечатление: он крепко задумался о значении этого чуда, считая его за предостережение свыше.
– Авгуры уже собрались, чтобы разгадать тайный смысл этого удивительного явления, – громко заявил Варин и, подмигнув атлету, прибавил: – Что касается меня, то хотя я и не авгур, значение этого чуда ясно мне как день.
– О! – вскричал Апулей с удивлением.
– Нечему тут и удивляться.
– Ого! – воскликнул на этот раз насмешливо клиент Марка Красса. – Так разъясни же его и нам, если ты понимаешь его смысл лучше самих авгуров.
– И разъясню. Это богиня Веста, разгневанная поведением одной из своих жриц, посылает предостережение.
– Ха! ха! Понимаю! Отлично сказано! Наверное, так оно и есть, – со смехом сказал Кай Тавривий.
– Завидую вам, что вы так хорошо понимаете, а вот я так признаюсь, ничего не понимаю в этом случае.
– Полно морочить-то нас!
– Клянусь богами, не понимаю.
– Ладно! Варин подразумевает преступную связь весталки Лицинии с твоим патроном Крассом.
– Ложь и клевета! – с негодованием вскричал верный клиент.
– Это такая гнусная ложь, о которой и думать-то не следовало бы, а не только говорить.
– И я то же говорю, – иронически заметил Варин. – Но поди разуверь этих добрейших квиритов! Они хором кричат о святотатственной любви твоего патрона к красивой весталке.
– Повторяю вам, что это клевета.
– Слушай, любезный Апулей, с твоей стороны понятно и похвально отрицать это, но нас ты не проведешь, клянусь Меркурием! Любви не спрячешь; она просится наружу. Если бы Красс не любил Лицинию, то не сидел бы возле нее на всех публичных собраниях, не осаждал бы ее своим ухаживанием и своими нежными взглядами. Ведь мы понимаем, что это значит, и сколько ты ни тверди «нет», а мы все-таки будем говорить «есть». Моли-ка лучше Венеру Мурцийскую со всем жаром, какой придают тебе щедроты Красса, чтобы не сегодня завтра в это дело не вмешался цензор.
В эту минуту какой-то человек среднего роста, но геркулесова телосложения, с черными глазами и черной бородой и с энергическими чертами смуглого лица, подошел к Спартаку и слегка ударил его рукой по плечу.
– Ты так погрузился в свои думы, что глядишь и не видишь ничего перед собой, – сказал он ему.
– А! Крикс! – вскричал Спартак, проведя рукой по лбу как бы с тем, чтобы разогнать свои мысли. – Я не заметил тебя.
– А ведь глядел на меня, когда я проходил внизу мимо тебя с нашим ланистом Ацианом.
– Черт бы его побрал!.. Ну, что скажешь?
– Я виделся с Арториксом. Он вернулся из своего странствования.
– Был в Капуе?
– Был.
– Сговорился с кем-нибудь?
– С одним германцем, неким Эномаем, самым энергичным и смелым в школе. Он считается силачом.
– Ну и что же? – нетерпеливо спросил Спартак, глаза которого радостно заблестели.
– У этого Эномая такие же планы и надежды, как и у нас. Он сейчас же ухватился за нашу мысль и дал клятву Арториксу, что будет пропагандировать наше священное и справедливое дело, – прости, что я говорю «наше», когда должен был бы сказать «твое»! – среди наиболее энергичных гладиаторов школы Лентула Батиата.
– Ах! – воскликнул Спартак в неописуемом волнении. – Если бы боги олимпийские оказали поддержку несчастным угнетенным, то, я уверен, через несколько лет рабство исчезло бы с лица земли.
– Только Арторикс передавал мне, – продолжал Крикс, – что этот Эномай хотя и очень храбр, но опрометчив, неосторожен и непредусмотрителен.
– А! Это нехорошо… это плохо!
– И я подумал то же самое.
Оба гладиатора помолчали, и потом Крикс спросил Спартака:
– А Катилина что говорит?
– Я начинаю убеждаться, что он никогда не присоединится к нашему делу, – ответил Спартак.
– Значит, его прославленное величие души – пустая сказка?
– Нет, у него великая душа и великий ум, но его чисто римское воспитание привило ему неискоренимые предрассудки. Я подозреваю, что он хочет только ниспровергнуть с помощью наших мечей существующий порядок, а не изменить варварские законы, которым Рим подчиняет остальной мир.
Спартак помолчал и потом прибавил:
– Сегодня вечером у него соберутся его друзья, и я также буду там, чтобы договориться насчет общего плана действий. Боюсь, однако, что из этого ничего не выйдет.
– Так наша тайна известна ему и его друзьям?..
– Не беспокойся, они не выдадут ее, даже если мы не сговоримся с ними. Римляне так презирают рабов и гладиаторов, что никогда не поверят, чтобы мы были способны угрожать их власти.
– Это правда: они даже не смотрят на нас как на людей. Ах, Спартак, Спартак… – прошептал Крикс, и глаза его загорелись ненавистью, – если ты устоишь в своем предприятии, несмотря на все препятствия, я буду благодарен тебе за это больше, чем за спасение моей жизни в цирке. Дай нам возможность помериться силами в открытом поле, под твоей командой, с этими гордыми притеснителями и доказать им, что мы такие же люди, как и они, а не низшая раса!
– О, я не отступлюсь от своего дела до конца жизни! Я вложу в него всю свою энергию, всю свою душу и доведу его до конца или погибну!
Спартак произнес эти слова твердым и убежденным тоном, пожимая руку Крикса, и тот прижал его руку к своему сердцу, в волнении говоря:
– Спартак, спаситель мой, ты рожден для великих дел! Из людей твоей силы воли выходят герои.
– Или мученики! – грустно пробормотал Спартак, опустив голову.
В это время резкий голос Эмилия Варина прокричал:
– Идем, Кай! Идем, Апулей! Заглянем в храм Раздора, чтобы послушать совещания сената!
– А сенат совещается сегодня в храме Согласия? – спросил Тудертин.
– Да.
– В старом или в новом?
– Глуп ты, брат! Если тебе говорят: идем в храм Раздора, значит, подразумевается храм Лудия Опилия, построенный на крови притесненного народа и в память гнусного убийства Гракхов.
Все трое направились к лестнице, которая вела к порталу базилики, а немного погодя последовали за ними и оба гладиатора.
Под портиком к фракийцу подошел Ациан и спросил:
– Когда же ты решишься, Спартак, вернуться в мою школу?
– Провались ты в Стикс со своей школой! – гневно вскричал гладиатор, обернувшись к своему бывшему патрону. – Когда ты оставишь меня в покое и перестанешь мозолить мне глаза своим видом?
– Но ведь я желаю тебе добра, Спартак, – вкрадчиво проговорил Ациан. – Ведь я забочусь о твоей будущности.
– Слушай, Ациан, и намотай себе на ус мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекунах, а если бы и нуждался, то не к тебе пришел бы за этим. Постарайся не попадаться мне более на глаза, а если опять попадешься, то, клянусь Юпитером, я так хвачу тебя кулаком по твоей лысой голове, что отправлю тебя прямо в ад, чего бы мне это ни стоило!
Ланист рассыпался в извинениях, продолжая уверять в своей дружбе, и Спартак прибавил:
– Убирайся же в свою нору и не попадайся мне более на глаза.
Оставив смущенного ланиста под портиком базилики, оба гладиатора направились через форум к Палатину. Там находился портик Катулла, где Катилина назначил встречу Спартаку.
Дом Катулла, бывшего консулом в одно время с Марием за двадцать четыре года до описываемых событий, принадлежал к числу роскошнейших зданий в Риме. Великолепный портик его, украшенный трофеями, отбитыми у кимвров, в том числе бронзовым быком, перед которым кимвры приносили присягу, служил сборным местом римских женщин, упражнявшихся здесь в гимнастических играх. Это привлекало сюда и римскую молодежь, патрициев и всадников, не упускавших случая полюбоваться на красивых дочерей Рима.
Когда гладиаторы подошли к дому Катулла, вокруг портика стояла уже плотная толпа мужчин, глазевшая на женщин, которых в этот день было особенно много по случаю дождя и снега на улице.
Действительно, тут было чем залюбоваться: сотни рук, словно выточенных из мрамора, белоснежные груди, едва прикрытые легкой тканью, олимпийские плечи, – и все это осыпано золотом, жемчугом, камеями, драгоценными камнями и увито живописными складками пеплумов и палл из тончайших шерстяных тканей.
Здесь блистали красотой: Аврелия Орестилла – любовница Катилины Семпрония, молодая, но величаво-прекрасная, прозванная Великой за свой ум, ей суждено погибнуть в битве при Арецо, сражаясь с мужской храбростью рядом с Катилиной, Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, весталка Лициния, мать юного Катона Ливия и сотни других матрон и девушек, принадлежавших к знатнейшим римским фамилиям.
Под обширным портиком некоторые из этих молодых патрицианок занимались гимнастикой; другие играли в «паллу», любимую игру римлян; большая же часть просто прохаживалась парами или группами, чтобы согреться в этот зимний день.
Спартак и Крикс приблизились к портику Катулла, стараясь держаться, как подобает людям низкого звания, позади патрициев и всадников, и стали искать глазами Катилину. Он разговаривал у одной из колонн с Квинтом Курием, известным пьяницей и развратником, благодаря которому был впоследствии открыт заговор Катилины, и с Луцием Бестием, который был консулом плебейской партии в год этого заговора. Гладиаторы подошли к патрицию в ту минуту, когда он говорил своим друзьям, саркастически улыбаясь:
– Я расскажу когда-нибудь весталке Лицинии, за которой увивается этот толстяк Красс, об его любовной интрижке с Эвтибидэ.
– Да, да, – подхватил Луций Бестий, – скажи ей, что он подарил Эвтибидэ двести тысяч сестерциев.
– Марк Красс подарил женщине двести тысяч сестерциев! – вскричал Катилина. – Да ведь это чудо поудивительнее того, что петух заговорил в Аримино человеческим голосом.
– Это удивительно только ввиду его скупости, а в сущности, что значит для Красса двести тысяч сестерциев?
– То же, что песчинка в песках Тибра, – заметил Квинт Курий.
– Твоя правда, – сказал Луций Бестий, глаза которого загорелись алчностью. – Ведь у него больше семи тысяч талантов.
– А ведь это больше полутора биллионов сестерциев!
– Страшная сумма! Невероятная! А ведь это доподлинно так.
– Вот что делается в нашей благоустроенной республике! – с горечью заметил Катилина. – Человеку ограниченного ума с ничтожной душонкой открыты все пути к власти и славе! Я, например, чувствующий в себе силу и способность быть полководцем, одерживать победы, не могу добиться никакого видного поста, потому что беден и запутан в долгах; а если бы Крассу пришла завтра в голову тщеславная мысль сделаться правителем какой-нибудь провинции или командовать армией в каком-нибудь походе, он сейчас же получил бы все, чего хочет, потому что он в состоянии подкупить не только голодную чернь, но и богатый и жадный сенат.
– И как подумаешь, какими безнравственными средствами добыл он несметное богатство! – добавил Квинт Курий.
– Да, – сказал Бестий, – он скупал за бесценок конфискованное имущество жертв проскрипций Суллы, помещал деньги в рост за огромные проценты, накупил до полутораста архитекторов и каменщиков, находящихся в рабстве, и с их помощью настроил бесчисленное множество домов. Землю под них он приобретал почти даром, благодаря частым пожарам, выжигающим плебейские кварталы.
– Так что теперь, – добавил Катилина, – половина всех домов в Риме принадлежит ему.
– Справедливо ли это? Честно ли? – воскликнул Бестий.
– Зато удобно, – ответил Катилина с горькой усмешкой.
– И долго ли так будет продолжаться? – спросил Квинт Курий.
– Вряд ли долго, – пробормотал Катилина. – А впрочем, кто знает, что написано в адамантовой книге судеб!
– Желать – значит мочь, – усмехнулся Бестий. – Если бы из четырехсот шестидесяти трех тысяч римских граждан четыреста тридцать три тысячи, не имеющих денег на то, чтобы купить клочок земли, где мог бы упокоиться их прах, нашли себе смелого вождя, который объяснил бы им, как наживают богатства остальные тридцать тысяч, тогда, Катилина, мы увидели бы виды… Бедняки показали бы тогда свою силу этим полипам, питающимся потом и кровью голодной черни.
– Не в публичных спорах и криках следовало бы нам изливать свое негодование, молодой человек, – серьезно заметил ему Катилина, – а в зрелом обсуждении нашего обширного плана в стенах наших домов, чтобы в свое время приступить к его осуществлению с твердой рукой и мужественным духом. Молчи, Луций Бестий, и выжидай! Наступит день, когда мы одним сильным толчком разрушим это пышное, но ветхое и подгнившее здание, в подвалах которого мы томимся.
– Посмотрите, посмотрите, как весел наш оратор, Квинт Гортензий! – сказал Курий, как бы желая дать другое направление разговору. – Должно быть, он радуется отъезду Цицерона, так как теперь у него нет соперников на трибунах форума.
– Какая робкая душа у этого Цицерона! – сказал Катилина. – Едва он заметил, что Сулла косится на него за юношеский пыл, с которым он восхваляет Мария, как поспешил удрать в Грецию.
– Вот уже почти два месяца, как он скрылся из Рима.
– Будь я одарен его красноречием, – сказал Катилина, сжав свой могучий кулак, – вы увидели бы меня года через два властителем Рима.
– Если тебе недостает его красноречия, то ему недостает твоей энергии.
– Как бы то ни было, – в раздумье продолжал Катилина, – а если нам не удастся привлечь его на нашу сторону, что довольно трудно с таким человеком, душа которого размягчена платоническими добродетелями и перипатетической философией, если нам не удастся это, то рано или поздно он может сделаться опасным для нас орудием в руках наших врагов.
Трое патрициев замолчали.
В эту минуту живая стена перед портиком немного раздвинулась, и под колоннадой показалась Валерия, жена Суллы. Она шла в сопровождении Гортензия и многих других патрициев к своим богатого разукрашенным золотом и пурпуром носилкам, которые были принесены четырьмя сильными каппадокийскими рабами к самым ступеням портика.
Валерия была вся закутана в широкую и тяжелую паллу из голубой восточной материи, скрывавшую от жадных глаз ее посланников прелести, которыми так щедро одарила ее природа; до этой минуты она выставляла их под портиком напоказ перед всеми, насколько это позволялось приличием.
Лицо ее было бледно, и большие черные глаза смотрели неподвижно, со скучающим выражением, что казалось странным в женщине, всего месяц как вышедшей замуж.
Отвечая на поклоны столпившихся вокруг носилок патрициев грациозным наклонением головы и очаровательными улыбками, она, скрывая под улыбкой зевоту, пожала руку двум своим записным поклонникам, Эльвию Медуллию и Децию Цедикию, которые никому не хотели уступить честь подсадить ее в носилки, и, задернув занавеску дверец, знаком приказала носильщикам идти.
Носилки тронулись, предшествуемые скороходом, расчищавшим путь, и сопровождаемые конвоем из шести других рабов.
Скрывшись от глаз своих поклонников, Валерия с облегчением вздохнула и, откинув с лица покрывало, смотрела со скучающим и меланхолическим видом на мокрую улицу и на серое дождливое небо.
Спартак, стоявший с Криксом позади патрициев, видел, как Валерия садилась в носилки, и тотчас узнал в ней госпожу своей сестры. Он почувствовал легкое волнение и, толкнув локтем товарища, шепнул ему на ухо:
– Это Валерия, жена Суллы.
– Клянусь священным лесом, она прекрасна, как сама Венера!
Между тем носилки приближались к ним, и взгляд Валерии, рассеянно глядевшей в дверцу, упал на Спартака. Молодая женщина вздрогнула, словно от неожиданного толчка, и слегка покраснела. Черные глаза ее приковались к Спартаку, и, когда носилки прошли мимо, она высунула голову в дверцу, продолжая глядеть на него.
– Эге! – вскричал Крикс, от которого не укрылись эти явные признаки благосклонности знатной матроны к его товарищу. – Я вижу, любезный Спартак, что богиня Фортуна, эта капризная дама, схватила тебя за волосы, или, вернее, ты, милейший наш Спартак, схватил за косу эту своенравную богиню!.. Держи же ее крепче, дружище, чтобы не остаться с пустыми руками, когда она вздумает ускользнуть!
Последние слова были внушены ему видом Спартака, который казался потрясенным и заметно побледнел. Но он тотчас овладел собой и ответил, стараясь принять шутливый тон:
– Замолчи, глупая башка! Что ты брешешь о Фортуне? Клянусь палицей Геркулеса, ты слепее всякого андабата[7].
Чтобы прекратить этот разговор, бывший гладиатор подошел к Катилине и почтительно спросил:
– Прикажешь мне прийти к тебе сегодня вечером?
Тот обернулся и ответил:
– Разумеется, только не вечером, – теперь уже вечереет, – а позже.
Спартак поклонился и, отходя, сказал:
– Приду… позже.
Он вернулся к Криксу и стал с жаром говорить ему что-то вполголоса, на что тот одобрительно кивал. Потом оба молча направились через форум к Священной улице.
– Клянусь Плутоном, я теряю нить в лабиринте твоей души, – сказал Бестий, с удивлением смотревший на фамильярный разговор Катилины с гладиатором.
– А что? – спросил тот наивно.
– Римский патриций унижается до дружеской беседы с презренным гладиатором!
– Подумайте, какой скандал! – ответил Катилина, иронически усмехнувшись, а потом, переменив тон, прибавил: – Сегодня, когда стемнеет, я жду вас к себе. Поужинаем, повеселимся и поговорим о серьезном деле.
Тем временем Спартак с Криксом шли по Священной улице, направляясь к Палатину. Вдруг они увидели идущую к ним навстречу в сопровождении рабыни и слуги молодую, богато одетую женщину поразительной красоты. Белоснежная кожа ее, рыжие волосы, большие зеленовато-голубые глаза и удивительная прелесть всего облика заставили Крикса в изумлении остановиться и вскричать:
– Клянусь Эссусом[8], это – чудо красоты!
Спартак, шедший рядом с ним, задумчиво опустив голову, поднял глаза и взглянул на девушку.
Та, не обращая внимания на восторг Крикса, пристально глядела на фракийца, как будто стараясь различить в его лице знакомые черты. Подойдя ближе, она остановилась и сказала ему по-гречески:
– Да хранят тебя боги, Спартак!
– Благодарю, красавица, – ответил он с удивлением. – Да хранит тебя Венера Нидийская.
Девушка подошла еще ближе и прошептала:
– Света и свободы, доблестный Спартак!
Фракиец вздрогнул и, насупив брови, недоверчиво поглядел на незнакомку.
– Не понимаю твоих шуток, красавица!
– Не шучу я, и ты напрасно притворяешься: это крик всех угнетенных, а к ним принадлежу и я, греческая рабыня, куртизанка Эвтибидэ.
Она взяла большую руку Спартака и с восхитительной улыбкой пожала ее в маленьких ручках.
Фракиец снова вздрогнул и с удивлением прошептал:
– Она говорит серьезно! И ей известен наш тайный лозунг! – Он с минуту молча глядел на молодую женщину, которая также смотрела на него с торжествующей улыбкой, и наконец промолвил: – Ну… так да помогут нам боги!
– Я живу на Священной улице, близ храма Януса. Приходи ко мне. Быть может, я смогу оказать тебе немалую помощь в твоем великом деле.
Но, видя, что Спартак стоит в нерешимости и раздумьях, она прибавила мягким, умоляющим голосом:
– Приходи!
– Увидим, – ответил Спартак.
– Salve! – произнесла по-латыни куртизанка и сделала рукой прощальный жест обоим гладиаторам.
– Salve! – ответили оба, причем Крикс, присутствовавший в некотором отдалении при их разговоре и не сводивший глаз с красавицы, прибавил:
– Salve, дивная богиня красоты!
Он продолжал стоять неподвижно, провожая ее глазами, пока Спартак не толкнул его, говоря:
– Долго ли ты намерен стоять здесь?
Галл повернулся и пошел рядом с товарищем, продолжая, однако, оборачиваться время от времени. Пройдя шагов тридцать, он вскричал:
– Ну как не называть тебя баловнем Фортуны?.. О, неблагодарный! Ты должен бы воздвигнуть храм этой капризной богине, взявшей тебя под свое крыло.
– Не знаю, что нужно от меня этой несчастной женщине.
– Я не знаю и знать не хочу, кто она. Быть может, сама Венера. Ведь и Венера, если она существует, не может быть прекраснее этой женщины.
Разговор был прерван одним из скороходов, сопровождавших Валерию, который, подойдя к двум гладиаторам, спросил:
– Который из вас Спартак?
– Я, – ответил фракиец.
– Твоя сестра Мирдза будет ждать тебя сегодня около полуночи в доме Валерии. Ей нужно поговорить с тобой об одном деле, не терпящем отлагательства.
– Хорошо, я буду у нее в назначенный час.
Скороход удалился, и двое друзей продолжали свой путь. Вскоре они скрылись за углом дворца Кливия.
V. Триклиний Катилины и будуар Валерии
Дом Катилины, стоявший на южном склоне Палатинского холма, не принадлежал ни к самым большим, ни к самым роскошным из римских домов того времени, но по богатству внутреннего убранства он не уступал самым пышным жилищам римских патрициев.
Продолговатый, обширный триклиний, в котором сидел Катилина со своими друзьями, был разделен на две половины шестью колоннами из тиволийского мрамора, обвитыми розами, хмелем и лаврами, распространявшими в комнате свежесть и аромат. Вдоль стен стояли мраморные изваяния, не совсем пристойные, но зато поразительные по красоте и художественности исполнения.
На мозаичном полу были изображены танцы нимф и сатиров. В верхней части залы, около круглого стола, стояли три широких обеденных ложа с пуховыми подушками и пурпурными покрывалами. С потолка спускались золотые и серебряные лампады художественной работы, ярко освещавшие залу и в то же время распространявшие благовонные ароматы, навевавшие приятное опьянение и дремоту.
Вдоль стен, между мраморными группами, двенадцать бронзовых статуй эфиопов, в золотых ожерельях и браслетах, поддерживали двенадцать серебряных канделябров с лампами, довершавшими освещение залы.
Развалившись на мягких ложах, возлежали молодые римские патриции, гости Катилины. На всех были платья из белой тончайшей шерстяной ткани, и у всех головы были увиты венками из роз, лавра и хмеля.
Роскошный ужин, предложенный Катилиной своим друзьям, уже приближался к концу. Шутки, смех, остроты, громкие разговоры, наполнявшие залу веселым шумом, свидетельствовали об искусстве повара Катилины и еще более – об услужливости его кравчих.
Всевозможные прислужники, одетые в голубые туники, стояли позади гостей, предупреждая их малейшие желания.
В углу залы помещались музыканты с флейтами и танцовщики обоего пола в более чем коротких костюмах, с венками на головах. Время от времени их музыка и сладострастные танцы довершали шумное веселье банкета.
– Налей мне фалернского! – крикнул охрипшим от хмеля голосом сенатор Курион, протягивая свою серебряную чашу к близстоящему кравчему. – Я выпью в честь щедрого Катилины и пожелаю лопнуть от жадности противному богачу Крассу!
– Никак этот пьяница собирается надоедать нам стихами Пиндара, – тихо сказал Катилине сидевший возле него Луций Бестий.
– Вряд ли у него хватит на это памяти; он давно потопил ее в своей чаше, – ответил тот.
– Красс! Красс!.. Это мой кошмар… Это предмет всех моих мыслей. Я сплю и вижу его, – со вздохом сказал Кай Вер, честолюбивый и алчный патриций, который впоследствии, в качестве проконсула Галлии и претора Сицилии, прославился своими вымогательствами и грабительством.
– Бедный Вер! Несметные богатства Красса мешают тебе спать! – насмешливо заметил, бросив на него пытливый взгляд, его сосед, Авл Габиний, проводя белой рукой по своим надушенным волосам. Это был ближайший друг Катилины, женственно-красивый юноша, занимающий почетное место на пиру. Впоследствии он сделался консулом и способствовал изгнанию Цицерона.
– Настанет ли когда-нибудь день равного распределения богатства? – вздыхал Вер.
– Эти болваны Гракхи и этот глупый Друз взбунтовали весь город из-за раздела полей между плебеями, а о бедных патрициях и не подумали! – сказал Кай Антоний, человек ленивый и запутавшийся в долгах, который был сначала сообщником Катилины, а потом содействовал его гибели. – Кто беднее нас, обреченных глядеть, как доходы с наших имений поглощаются ненасытной алчностью ростовщиков, которые секвеструют их еще до истечения срока уплаты долга под предлогом, что деньги их должны приносить плоды.
– Да кто беднее нас, обреченных скупостью бесчувственных отцов и всесильными законами проводить в нищете лучшую пору жизни, подавляя в себе неудовлетворенные желания? – добавил Луций Бестий, скрежеща зубами и конвульсивно сжимая свою опорожненную чашу.
– Мы, словно по иронии судьбы, родились патрициями, и чернь только в насмешку преклоняется перед нами, – с горечью заметил Лентул Сура.
– Мы – нищие в сенаторских мантиях! Податные в пурпуровых тогах!
– Угнетенные и униженные, которым нет места на пиру римских богачей.
– Смерть ростовщикам!
– К черту Законы двенадцати таблиц!
– Долой отцовскую власть!
– Да испепелит Юпитер-громовержец своими молниями наш сенат!
– Пусть только предупредит меня, чтобы я не приходил в этот день! – пробормотал пьяный Курион.
Это неожиданное разумное замечание пьяницы вызвало взрыв хохота и положило конец проклятиям и брани.
В эту минуту в триклиний вошел один из рабов Катилины и, подойдя к своему господину, что-то шепнул ему.
– А! Наконец-то! – вскричал тот громким и радостным голосом. – Веди его сюда вместе с его тенью![9]
Раб поклонился и хотел удалиться, но Катилина остановил его и прибавил:
– Будьте с ними почтительны. Омойте им ноги и натрите их благовониями. Облачите в пиршественные одежды и украсьте головы венками.
Раб снова поклонился и направился к выходу, но Катилина окликнул его:
– Эпафор, вели подать еще два прибора для новых гостей и переведи отсюда музыкантов и всех рабов в залу для бесед, куда мы перейдем потом на веселую оргию, которая продлится за полночь.
Пока Эпафор исполнял приказание, гости молча прихлебывали из серебряных чаш старое фалернское и с любопытством ждали появления новых гостей. Немного погодя они вошли, одетые в белые туники, в венках из роз на голове. Это были Спартак и Крикс.
– Да хранят боги этот дом и его благородных гостей! – сказал, входя, Спартак.
– Привет всем вам! – добавил Крикс.
– Честь и слава тебе и твоему другу, храбрый Спартак! – ответил Катилина, идя навстречу рудиарию[10]и гладиатору.
Он взял Спартака за руку и повел его к тому ложу, которое сам перед тем занимал, а Крикса усадил на скамью напротив консульского места и сам сел возле него.
– Ты не пожелал, Спартак, разделить сегодня мой ужин с этими благородными и достойными людьми, – сказал Катилина.
– Не пожелал? Я не мог, Катилина, и предупредил тебя об этом, если только твой привратник передал тебе мое поручение.
– Да, он передал мне, что ты не можешь явиться к ужину.
– Ты, вероятно, угадываешь причину, помешавшую мне прийти… Я не мог доверить ее привратнику… Мне понадобилось быть в одной таверне, которую посещают гладиаторы и где я должен был встретиться с людьми, пользующимися большим влиянием среди этих несчастных.
– Так гладиаторы в самом деле вздумали освободиться, рассуждают о своих правах и собираются защищать их с оружием в руках? – не без иронии спросил Луций Бестий.
Лицо Спартака вспыхнуло; он ударил по столу своим сильным кулаком и горячо вскричал:
– Да! Клянусь всеми громами Юпитера, что… – Но, сдержавшись, продолжил смягченным тоном: – Что мы возьмемся за оружие, чтобы добиться свободы угнетенным, если это будет угодно богам и вам, благородные и могущественные патриции.
– Он ревет, как бык, этот гладиатор, – прошептал Курион, который уже дремал, кивая лысым черепом из стороны в сторону.
– Такая наглость приличествовала бы только диктатору Сулле Счастливому, – добавил Кай Антоний.
Катилина, предвидя, до чего могут довести насмешки Бестия, приказал рабу подать новоприбывшим гостям фалернского. Когда тот вышел, хозяин сказал, поднявшись с места:
– Представляю вам, благородные патриции, вам, несправедливо лишенным власти и богатства, на которое вам дают право величие вашей души и ваши всем известные мужественные добродетели, представляю вам, моим верным друзьям, этого храброго рудиария, Спартака, которому по его телесной силе и твердости духа следовало бы родиться не фракийцем, а римским гражданином и патрицием. Он доказал свою храбрость, сражаясь в рядах наших легионов, и был удостоен награды гражданским венком и чином декана…
– Что не помешало ему дезертировать при первом удобном случае, – перебил Луций Бестий.
– Как! – горячо вскричал Катилина. – Вы поставите ему в вину, что он не захотел сражаться против своего отечества и предпочел защищать свою родную землю, свою семью и свои лары?.. Но кто из вас, если бы вы попали в плен к Митридату и были зачислены в его войска, кто из вас при первом же появлении римских орлов не счел бы долгом чести покинуть ненавистное знамя варвара и перейти под знамена своей родины?
Слова эти были встречены одобрительным ропотом, и Катилина, пользуясь произведенным им благоприятным впечатлением, продолжал:
– Все мы и весь Рим видели этого сильного человека на арене цирка и удивлялись его неустрашимости и непобедимому мужеству, достойным не гладиатора, а славного полководца. Этот человек, стоящий выше своего положения и своей несчастной судьбы, порабощенный и угнетенный, как и мы, уже несколько лет, как задумал одно предприятие, трудное и опасное, но великодушное. Он составил заговор среди гладиаторов, обязав их священной клятвой восстать в условленный день против тирании, посылающей их умирать в амфитеатре на потеху толпе, и добиться своего освобождения и возвращения на родину.
Катилина на минуту умолк и потом продолжал:
– Не то же ли самое издавна замышляем и мы? Что нужно гладиаторам? Свобода – так же, как и нам. Против кого мы намерены восстать, как не против тех же олигархов? Не в их ли руках находится республика? Не им ли одним платят дань цари и тетрархи, племена и народы, тогда как все остальные граждане, патриции и плебеи, погибают в нищете, обобранные, униженные и презираемые?
Словно электрический ток пробежал по молодым патрициям, и глаза их засверкали ненавистью и местью.
– В домах наших царит бедность, – продолжал Катилина, – вне дома – долги; настоящее наше печально, будущее представляется еще худшим. Зачем же влачить такую жалкую жизнь? Не пора ли нам проснуться?
– Да, пора проснуться! – проговорил хриплым голосом Курион; он слышал сквозь дремоту слова Катилины, но не уловил его мысли и протирал теперь заспанные глаза.
При всем внимании заговорщиков к речи Катилины никто не мог удержаться от смеха, услыхав глупое восклицание Куриона.
– Минос бы тебя побрал и наградил по заслугам, проклятый болван! – крикнул Катилина, грозя кулаком своему пьяному гостю.
– Молчи и спи, окаянный! – закричал на него, в свою очередь, Бестий и дал Куриону подзатыльник, от которого тот растянулся на ложе.
Катилина помолчал, медленно прихлебывая фалернское, и потом продолжал свою речь:
– Итак, молодые друзья мои, я созвал вас сегодня с тем, чтобы обсудить сообща, не следует ли нам привлечь к нашему делу Спартака с его гладиаторами. Если мы одни восстанем против олигархов и сената, которые держат в своих руках и власть, и государственную казну, и наши грозные легионы, то мы ничего не достигнем. Нам необходимо призвать на помощь всех, кто хочет отстоять свои права, отомстить за перенесенные обиды, – так почему бы нам не привлечь к своему делу и гладиаторов, чтобы руководить и предводительствовать ими и выработать из них достойных противников римских легионов? Если я ошибаюсь, то разубедите меня, и тогда мы отложим наше предприятие до лучших времен.
Ропот, вызванный в зале словами Катилины, и вырвавшиеся у слушателей жесты и возгласы ясно показывали, что предложение хозяина далеко не всеми одобряется. Пока он говорил, Спартак внимательно слушал и наблюдал за выражением лиц молодых патрициев, а когда Катилина кончил, рудиарий сказал спокойным тоном, хотя лицо его заметно побледнело:
– Я пришел сюда, Катилина, по твоему приглашению, чтобы исполнить твое желание, так как я высоко ценю и уважаю тебя, доблестный муж. Но я вовсе не питал надежды, что эти благородные патриции могут быть убеждены твоими словами, в которых и сам ты не убежден, хотя говоришь от чистого сердца. Позвольте же мне теперь, ты и твои благородные друзья, высказаться перед вами чистосердечно и открыть вам свою душу. Вы, свободные потомки знаменитых предков, недовольны тем, что каста олигархов, враждебная плебеям, людям независимым и новаторам, отстраняет вас от власти и богатства – каста, уже второе столетие сеющая в Риме раздоры и мятежи и в настоящее время сделавшаяся сильнее чем когда-либо, свирепствует в этом городе и расправляется с нами, как ей вздумается. Стало быть, вам восстание нужно лишь для того, чтобы ниспровергнуть сенат и существующие законы и заменить их другими, которые равномернее распределили бы между народом права и обязанности и открыли бы вам и вашим друзьям доступ на сенаторские места. Но для вас, как и для нынешних властителей Рима, чужестранные народы продолжали бы оставаться варварами, подчиненными и данниками римской знати; и дома ваши, как и дома нынешних патрициев, были бы полны рабами, и в амфитеатрах продолжались бы кровавые бойни гладиаторов в видах доставления вам приятного отдыха от важных государственных занятий. Словом, для вас весь вопрос сводится только к тому, чтобы вытеснить настоящих властителей Рима и самим занять их места. Для нас же, бедных гладиаторов, вопрос заключается совсем в другом. Мы, приниженные и презираемые, мы, лишенные свободы, оторванные от отчизны, вынужденные убивать друг друга на потеху другим, мы хотим свободы, полной свободы; хотим вернуть себе родину и отчий дом. Поэтому мы должны восстать не только против настоящих властителей, но и против их преемников, будь это Сулла или Катилина, Цетег или Помпей, Лентул или Красс. Но, с другой стороны, можем ли мы, гладиаторы, рассчитывать, что нам удастся одними собственными силами одолеть непобедимое римское могущество? Нет, это невозможно; невозможно, стало быть, и задуманное нами дело. Вот почему, пока я надеялся, что ты, Катилина, и твои друзья искренне желаете стать нашими вождями и завоевать себе славу и власть, предводительствуя легионами гладиаторов, я старался поддерживать надежду в сердцах моих товарищей по несчастью, делясь с ними моей горячей верой в успех нашего дела. Но теперь я убедился в том, что уже и раньше выяснил из долгих разговоров с тобой, Катилина, когда я утвердился в том, что предрассудки, вкорененные в вас воспитанием, никогда не позволят вам, патрициям, стать во главе гладиаторов, – я понял всю невозможность предприятия, мечту о котором я лелеял в тайниках моей души. Поэтому, хотя и с глубокою скорбью, я отказываюсь от него теперь, отказываюсь окончательно, как от безумной и неосуществимой мечты. Как можно было бы назвать иначе восстание гладиаторов, хотя бы их набралось и до десяти тысяч? Какой властью, каким значением мог бы пользоваться среди них я или другой, хотя бы и более сильный, чем я? Два римских легиона раздавили бы нас в четырнадцать дней, как раздавили в Капуе, лет двадцать назад, когорты претора Лукулла тысячу восставших гладиаторов, несмотря на то что ими предводительствовал храбрый молодой вождь знатного рода, римский всадник Минуций, или Веций, как он себя называл.
Трудно изобразить, какое впечатление произвела речь Спартака, этого варвара и низкого раба, каким его считало большинство гостей Катилины. Одни удивлялись его красноречию, другие – возвышенности его ума, третьи – глубине политических идей, и все вообще остались очень довольны его высоким понятием о римском могуществе. Польщенные в своем национальном самолюбии патриции стали изливаться в похвалах храброму рудиарию, и все, начиная с Луция Бестия, изъявили готовность быть его покровителями и друзьями.
Долго еще шли рассуждения о том же предмете; было высказано много различных мнений, но в конце концов решили отложить опасное предприятие до более благоприятного времени и выжидать случая.
Спартак объявил, что Катилина и его друзья всегда могут рассчитывать на него и на тех немногих гладиаторов, – он подчеркнул слово «немногие», – на которых он имеет влияние. После этого он и Крикс отпили вина из круговой чаши, так называемой «чаши дружбы», в которую каждый из гостей бросил лепестки своих роз, и распростились с хозяином и его друзьями. Тщетно все уговаривали Спартака остаться на оргию, которая готовилась в экседре (гостиной): он отказался и ушел вместе с Криксом.
Выйдя из дома Катилины, он направился в сопровождении Крикса к дому Суллы. Немного погодя Крикс прервал молчание, спросив:
– Объяснишь ты мне, надеюсь?..
– Молчи, ради Геркулеса! – перебил вполголоса Спартак. – Потом все узнаешь…
Они молча прошли еще шагов тридцать; тогда рудиарий осторожно огляделся и тихо сказал галлу:
– Там было слишком много людей, и не все они расположены в нашу пользу; да и головы у этой молодежи не настолько солидны, чтобы можно было довериться им. Ты слышал: для них заговор наш кончился, рассеялся, как несбыточная мечта. Отправляйся теперь в школу Ациана и скажи гладиаторам, что наш пароль и условный знак переменились. Вместо «света и свободы» паролем будет «постоянство и победа», а знаком – не тройное пожатие руки, а три легких удара указательным пальцем правой руки в правую руку другого.
Спартак взял руку Крикса и показал ему, как должен подаваться знак.
– Понял?
– Понял, – ответил тот.
– Ступай же, не теряя времени, и скажи каждому машелулу, чтобы он сказал своей пятерке гладиаторов, что заговору нашему грозит опасность быть открытым, а поэтому всякому, кто скажет прежний пароль или подаст прежний знак, надлежит отвечать, что мы потеряли всякую надежду на успех и совершенно отказались от нашего безумного предприятия. Завтра рано утром мы отправимся в школу Юлия Рабеция.
Сказав это, Спартак пожал руку Крикса и, расставшись с ним, направился быстрыми шагами к дому Суллы. На стук его привратник отворил дверь и провел его в маленькую комнатку его сестры на половине Валерии.
Мирдза, успевшая снискать расположение своей хозяйки и уже занявшая при ней важный пост смотрительницы за туалетом, нетерпеливо ждала своего брата. Когда он вошел в ее комнату, она бросилась к нему на шею и покрыла его лицо поцелуями.
После этих первых излияний она весело рассказала Спартаку, что она пригласила его в такой час по приказанию своей госпожи, которая часто беседует с ней о нем, расспрашивает ее об обстоятельствах его жизни с таким участием, которое совсем непонятно со стороны такой знатной дамы по отношению к гладиатору. Зная, что у Спартака нет теперь никакого занятия, она велела позвать его в этот вечер, чтобы предложить ему управление школой гладиаторов, которую Сулла завел незадолго перед тем на своей вилле в Кумах.
Трудно передать, какие чувства изобразились в эту минуту на лице Спартака: оно то краснело, то бледнело, и он энергично встряхивал головой, как бы силясь отогнать обуревавшие его мысли.
– Не полагают ли они, что я снова продамся в рабство, если возьмусь управлять их школой? Или они оставят нам свободу? – спросил он, наконец, сестру.
– Этого она мне не объяснила, – ответила Мирдза. – Но, судя по ее доброму расположению к тебе, она, наверное, оставит тебе свободу.
– Так она – добрая женщина, эта Валерия?
– Она так же добра, как и красива.
– О, в таком случае доброта ее должна быть беспредельной.
– Кажется, и ты к ней очень расположен?
– Я?.. Безразличен! Но мое чувство к ней полно преданности и уважения, как и подобает со стороны человека в моем жалком положении по отношению к такой знатной матроне.
– Ну, так знай же… только ради богов не проговорись при ней об этом, так как она строго запретила мне передавать то, что она мне сказала, – знай, что твои нежные чувства к ней внушены тебе богами, как долг признательности, потому что она-то, Валерия, и заставила в цирке Суллу даровать тебе свободу.
– Как?.. Правду ли ты говоришь?.. – вскричал Спартак, вскочив с места и побледнев как полотно.
– Правду, истинную правду! Только не показывай ей, что ты знаешь об этом.
Спартак склонил голову на грудь и задумался, а Мирдза прибавила:
– Ну, теперь я пойду предупредить Валерию о твоем приходе и, если она позволит, введу тебя к ней.
Спартак, погруженный в свои размышления, не слыхал ее слов и не заметил, как она выпорхнула из комнаты.
Он увидел в первый раз Валерию с месяц назад, когда входил в дом Суллы, чтобы навестить свою сестру. Жену диктатора выносили на носилках, и она, вероятно, не заметила рудиария, стоявшего под портиком ее дома.
Бледное лицо ее с черными огненными глазами произвело на него мгновенное, молниеносное впечатление и вызвало в нем странное, неотразимое влечение к этой женщине; ему вдруг показалось, что конечной целью всех его желаний было бы поцеловать край туники этой красавицы, прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.
Какая-то непонятная сила притяжения влекла их друг к другу, так как и Валерия, несмотря на свое знатное происхождение, создававшее такую бездну между ними, почувствовала, как мы видели, с первой же встречи влечение к бедному гладиатору.
Вначале обездоленный фракиец силился вырвать из своего сердца это новое чувство; рассудок говорил ему, что эта любовь – безумие, которому нет равного, бред сумасшедшего, ибо осуществлению ее мешают непреодолимые препятствия. Тем не менее воспоминание об этой женщине преследовало его неотступно, примешивалось ко всем его заботам и мыслям, мучило его ум и овладело всеми его мыслями.
Не раз он, почти бессознательно, приходил к дому Суллы, прятался за колонну и ждал, когда выйдет Валерия. Таким образом, невидимый ею, он видел ее несколько раз, и с каждым разом она казалась ему прекраснее; с каждым днем росло в его душе чувство восторга, обожания, безграничной преданности к этой женщине – чувство, которого он не мог объяснить даже самому себе.
Валерия только раз заметила его, и бедному рудиарию показалось, будто она взглянула на него благосклонно, ласково, даже любовно. Но он тотчас отогнал эту мысль, приняв ее за галлюцинацию, за бред своих страстных желаний; он понимал, что она сведет его с ума, если он даст себе волю останавливаться на ней. Понятно, какое впечатление должны были произвести на него слова Мирдзы при таком состоянии его души. Он – в доме Суллы, в нескольких шагах от этой женщины, – нет, от этой богини, которой он готов был принести в жертву свою кровь, честь, самую жизнь! Он увидит ее вскоре перед собой, быть может, останется с ней наедине, услышит ее голос, будет смотреть на ее черты, глаза, улыбку… никогда еще невиданную им улыбку, которая должна быть прекрасна, как весеннее небо!.. Всего несколько минут отделяют его от неизъяснимого счастья, о котором он не смел даже мечтать!.. Но как же это случилось!.. Не сон ли это?.. Не бред ли его разгоряченного воображения?.. Или не сходит ли он с ума? Не сошел ли уже, несчастный?..
При этой мысли Спартак вздрогнул и осмотрелся, ища свою сестру. Но ее не было в комнате. Он схватился за голову, думая унять кровь, молотом стучавшую в его виски, и рассеять туман, заволакивающий его рассудок.
– О боги, – прошептал он, – не дайте мне сойти с ума!..
Он снова огляделся вокруг и, узнав место, где он находится, пришел мало-помалу в себя.
Да, это комната его сестры: вот ее маленькая кровать в углу, две табуретки с вызолоченными ножками – у стены, далее – небольшой деревянный комод с бронзовыми украшениями и на нем – терракотовая луцерна, окрашенная в зеленый цвет, в виде ящерицы, изо рта которой выходит пламя, освещающее комнату…
Спартак, все еще находившийся под влиянием мысли, что он сошел с ума, подошел нетвердыми шагами к комоду и поднес палец к огню. Он отвернул его только тогда, когда жгучая боль убедила его, что он не спит и не бредит. Тогда он напряг всю силу воли, чтобы победить в себе волнение и овладеть своими чувствами.
Это настолько удалось ему, что, когда вернувшаяся вскоре Мирдза позвала его к Валерии, он казался спокойным, хотя сердце его страшно стучало и лицо покрылось мертвенной бледностью.
Мирдза заметила это и с испугом спросила:
– Что с тобой, Спартак? Ты болен?
– Нет, вовсе нет… Я никогда не чувствовал себя лучше, – ответил рудиарий и спустился вслед за сестрой с лестницы (в Древнем Риме рабы жили в верхнем этаже). Мирдза ввела его в конклав Валерии.
Конклавом называлась комната, соответствующая нынешнему будуару, в которой римская матрона занималась чтением, принимала близких друзей, вела интимные разговоры. Обыкновенно комната эта находилась возле ее спальни.
Конклав Валерии в ее зимних покоях (в домах римских патрициев для каждого времени года были особые покои) представлял маленькую уютную комнату, задрапированную дорогой восточной материей, скрывавшей железные нагревательные трубы, поддерживавшие в комнате приятную теплоту даже в самую холодную погоду.
Складки голубых драпировок, подобранных в прихотливые фестоны, спускались от потолка до пола, повитые, словно белым облаком, тончайшим газом, подколотым букетами свежих роз, которые распространяли в комнате дивное благоухание.
С потолка спускалась роскошная золотая лампа с тремя рожками в виде розы среди листьев, искусная работа греческого мастера. Лампа слабо освещала комнату голубоватым матовым светом и в то же время распространяла в ней тонкий аромат арабских духов, примешанных к маслу.
В этой кокетливой комнатке в восточном вкусе не было никакой мебели, кроме мягкого ложа, покрытого белой шерстяной материей с голубыми узорами, нескольких табуреток, обитых такой же материей, и маленького серебряного комода с четырьмя ящиками, на которых были рельефно изображены мастерским резцом четыре победы Суллы.
На комоде стоял графин из горного хрусталя с красными рельефными цветами и арабесками – драгоценное произведение арентинских мастеров. Графин был наполнен прохладительным напитком из фруктового сока, часть которого была отлита в стоявшую возле него чашу из мурринского фарфора – брачный подарок Суллы, настоящее сокровище, стоившее не менее тридцати или сорока миллионов сестерциев, – так высоко ценились в ту пору эти редкие чаши.
В этом мирном, уединенном, благоухающем уголке полулежала ни софе красавица Валерия, одетая в белоснежную тунику с голубой бахромой. Ее божественные плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, белоснежная, полуобнаженная грудь были прикрыты темными волнами рассыпавшихся по ним кудрей. Опершись локтем на широкую подушку, она поддерживала свою голову изящной рукой.
Лицо ее было неподвижно, глаза полузакрыты: казалось, она спала или, по крайней мере, была так погружена в свои, по-видимому, приятные мечты, что ничего не замечала вокруг себя. Она не шевельнулась, когда скрипнула отворяемая дверь, и Мирдза ввела Спартака, не шевельнулась и тогда, когда рабыня, удаляясь, притворила дверь за собой.
Спартак, бледный, как паросский мрамор, стоял несколько минут неподвижно и глядел на красивую матрону в немом благоговении. В груди его клокотала буря чувств, каких он еще никогда не испытывал, и Валерия могла слышать его бурное дыхание; но, казалось, она ничего не слышала. Только через несколько минут она вдруг очнулась, словно ей кто-то прокричал, что перед ней стоит Спартак. Она быстро приподнялась, повернула к нему свое залившееся румянцем лицо и, с наслаждением вздохнув, томно проговорила:
– А!.. это ты!
При звуке ее голоса вся кровь бросилась в лицо Спартака; он сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни слова.
– Да хранят тебя боги, храбрый Спартак! – с улыбкой проговорила Валерия, также с трудом подавлявшая свое волнение. – Садись, – прибавила она, указав на табурет.
Спартак, успевший овладеть собой, ответил дрожащим голосом:
– Боги покровительствуют мне более, чем я заслуживаю, божественная Валерия, так как они дали мне величайшее счастье, какое может выпасть на долю смертного, – счастье пользоваться твоим покровительством.
– Ты не только храбр, но и любезен, – заметила Валерия, в глазах которой блеснула радость.
Помолчав, она спросила по-гречески:
– Ты, наверное, был одним из вождей своего народа, прежде чем попал в плен, не так ли?
– Я был князем одного из самых могущественных фракийских племен в Родопских горах, – ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил если и не с аттической, то, по крайней мере, с александрийской изысканностью. – У меня был свой дом, многочисленные стада овец и быков, плодоносные пашни. Я был богат, могуществен, счастлив и – поверь мне, божественная Валерия, – был человеколюбив, справедлив, уважал богов.
Голос его на минуту прервался, а потом он со вздохом прибавил:
– Я не был варваром, не был рожден, чтобы сделаться презренным рабом, жалким гладиатором.
Валерия устремила на него ласковый, полный сострадания взгляд.
– Мне много рассказывала о тебе твоя добрая сестра Мирдза. Твоя необычайная храбрость всем известна, а теперь, разговаривая с тобой, я убеждаюсь, что ты и по уму, и по воспитанию, и по одежде более похож на грека, чем на варвара.
Трудно изобразить, как подействовали на Спартака эти слова. Глаза его наполнились слезами, и он ответил прерывающимся голосом:
– О, да благословят тебя боги за твои добрые слова, великодушная женщина, и да сделают они тебя счастливейшей из людей!
Валерия была, видимо, взволнованна; ее чувства выдавал блеск ее прекрасных глаз и учащенное дыхание. Что касается Спартака, то он был вне себя; ему казалось, что он бредит, что все, происходящее с ним, есть только фантасмагория его разгоряченного воображения, но тем не менее он отдавался ей, погружался всей душой в этот чудный сон, в эту блаженную иллюзию. Он глядел на Валерию с восторженным обожанием; голос ее казался ему сладчайшей мелодией, издаваемой арфой Аполлона. Огненные глаза ее сулили неисчерпаемое блаженство любви, но он не смел верить этому обещанию и приписывал его галлюцинациям разгоряченного воображения. Взгляд его тонул в этих глазах, черпал в них неизреченное блаженство, изливал в них все свои чувства, мысли, всю свою душу.
За последними словами Спартака последовало продолжительное молчание, нарушаемое только горячим дыханием фракийца и матроны. Почти бессознательно между их сердцами установился какой-то ток сочувствия, общности мысли, заставлявший обоих в смущении молчать.
Валерия первая нарушила это опасное молчание, сказав:
– Не возьмешь ли ты на себя – теперь, когда ты свободен, – управление школой из шестидесяти рабов, которых Сулла хочет обучить гладиаторскому искусству на своей вилле в Кумах?
– Я готов сделать все, что ты прикажешь: я – твой раб, твоя вещь, – ответил Спартак чуть слышно, не сводя с матроны своего взгляда, в котором была написана восторженная преданность.
Валерия поднялась с софы, прошлась по комнате, словно чем-то смущенная, и, остановившись перед Спартаком, с минуту молча глядела ему в глаза, а потом мягко спросила:
– Скажи мне откровенно, Спартак, что ты делал несколько дней назад, прячась за колоннами портика моего дома?
Бледное лицо гладиатора залилось краской; он опустил голову, ничего не отвечая и не смея взглянуть в глаза матроны. Он попытался ответить, но слова не шли с языка: его подавлял стыд при одной мысли, что тайна его сердца угадана Валерией, что она смеется в душе над глупой заносчивостью презренного гладиатора, осмелившегося поднять глаза на прекраснейшую и знатнейшую из римских дам. Никогда еще не сознавал он так горько незаслуженной приниженности своего положения и никогда не проклинал так войны и римского могущества, как в эту минуту. Он весь дрожал, скрежетал зубами и плакал тайными слезами от унижения, бешенства и сердечной боли.
Валерия, не зная, чем объяснить его молчание, приблизилась к нему на шаг и спросила еще мягче и милостивее:
– Ну что же, Спартак?.. Отвечай мне.
Рудиарий, не поднимая головы, упал к ее ногам и пробормотал:
– Прости!.. прости меня!.. Ты вправе приказать своим рабам высечь меня плетьми… в праве распять меня на Сессорийском поле… Я все это заслужил.
– Что это значит? – спросила Валерия, взяв его за руку и поднимая.
– Клянусь, я обожал тебя, как обожают Венеру или Юнону.
– А! вот что! – вскричала матрона довольным тоном. – Так ты приходил, чтобы увидеть меня?
– Прости… прости… я приходил, чтобы поклоняться тебе.
– Встань, Спартак! У тебя благородная душа, – вскричала Валерия дрожащим от волнения голосом, крепко сжимая его руку.
– Нет, нет, мое место здесь, у твоих ног, божественная Валерия!
Говоря это, он схватил край ее туники и стал пылко целовать его.
– Встань, встань! Это не место для тебя, – шептала молодая женщина, вся трепеща.
Спартак покрыл ее руки страстными поцелуями и, глядя ей в глаза, в безумном восторге шептал:
– О, божественная… божественная Валерия!..[11]
VI. Угрозы, козни и опасности
– Скажи мне, наконец, – говорила прекрасная греческая куртизанка Эвтибидэ, лежа на мягких пурпуровых подушках в своей экседре, в доме на Священной улице, близ храма Януса, – скажи, знаешь ты что-нибудь или нет? Есть у тебя в руках какая-нибудь нить или нет никакой?
Эти слова были обращены к мужчине лет под пятьдесят, с безбородым, бабьим лицом, изрытым морщинами под плохо смытым слоем белил и румян, одежда которого обличала комедианта. Не ожидая его ответа, Эвтибидэ прибавила:
– Хочешь ты знать мое мнение о тебе, Метробий?.. Оно никогда не было высоким, но до сих пор я не считала тебя глупцом.
– Клянусь маской моего патрона Момуса, – ответил комедиант визгливым голосом, – не будь ты Эвтибидэ, то есть прекраснее самой Дианы и обольстительнее Киприды, Метробий, старый друг Корнелия Суллы, серьезно рассердился бы на тебя. Если бы другая женщина сказала мне такие слова, клянусь победоносным Геркулесом, я развернулся бы и ушел, пожелав ей счастливого пути к Стиксу!
– Но что же ты делал все это время? Какие сведения собрал относительно их планов?
– Погоди, расскажу. Узнал я много и ничего…
– Это что же значит?
– Потерпи, я объясню. Надеюсь, что ты не сомневаешься в том, что я, Метробий, старый комедиант, тридцать лет исполняющий женские роли, умею очаровывать людей, тем более если эти люди – грубые и невежественные рабы или еще более невежественные гладиаторы и если в моих руках имеется такая неотразимая приманка, как золото…
– Потому-то я и возложила на тебя это дело, что полагалась на твою ловкость, но…
– Но пойми же, обольстительная Эвтибидэ, что коль скоро мне предстояло выказать свою ловкость в открытии заговора гладиаторов, то надо, чтобы заговор этот существовал, а так как его не существует, то тебе остается только испытать мою ловкость на чем-нибудь другом.
– Как не существует? Не может быть.
– Несомненно, прелестная моя девица.
– Но ведь не далее как два месяца назад заговор существовал: я имела о нем сведения. Гладиаторы составили тайный союз; у них были свои лозунги, свои символические знаки; они замышляли восстание, нечто вроде возмущения рабов в Сицилии.
– И ты серьезно веришь в возможность восстания гладиаторов?
– А почему же нет? Разве не умеют они сражаться? Разве не умеют умирать?
– На арене цирка…
– А если они умеют сражаться и умирать на потеху толпы, то тем более сумели бы сделать это ради возвращения себе свободы.
– Э! Во всяком случае, если и правда, что между ними составлялся заговор, то могу тебя положительно уверить, что он расстроился.
– Ах, – вздохнула красивая гречанка, – я знаю почему, по крайней мере, боюсь, что я угадываю, – прибавила она в раздумье.
– Тем лучше! А я так ничего не знаю и не имею ни малейшей охоты знать.
– Гладиаторы соединились бы и восстали, если бы римские патриции, враги законов и сената, взялись предводительствовать ими.
– Но если бы между римскими патрициями, как бы презренны они ни были, не нашлось таких негодяев, которые согласились бы стать во главе гладиаторов?..
– Однако была минута… Впрочем, довольно об этом! Теперь нужно заняться другим. Скажи, Метробий…
– Сперва ты удовлетвори мое любопытство, – перебил комедиант, – скажи, как удалось тебе узнать об этом заговоре гладиаторов?
– От одного грека… моего соотечественника, также гладиатора…
– Ты, Эвтибидэ, пользуешься на земле большей властью, чем Юпитер – на небе. Ты стоишь одной ногой на Олимпе олигархов, а другой – в грязи плебса…
– Тем лучше. Если хочешь достичь…
– Достичь чего?
– Власти! – громко крикнула Эвтибидэ, вскочив с места. Глаза ее загорелись зловещим огнем, и лицо приняло выражение такой ненависти, смелости и неукротимой воли, каких невозможно было предположить в этой гибкой, грациозной девушке. – Да, власти, богатства, могущества и… – прибавила она, понизив голос, но еще внушительнее, – и мести.
Как ни привык Метробий к сценическим эффектам, однако и он был поражен и глядел на Эвтибидэ разинув рот. Заметив его изумление, она громко расхохоталась.
– Не правда ли, я могла бы сыграть роль Медеи, если и не так хорошо, как Галерия Эмболария, то все же недурно? Ты словно окаменел, бедный мой Метробий! Старый ты, опытный комедиант, а все-таки остаешься бабой и ребенком!
Эвтибидэ продолжала хохотать, видя, что Метробий все более и более дивится, глядя на нее.
– Так для чего же мне нужна власть, как ты думаешь, старый колпак? – спросила его куртизанка, хохоча, и, щелкнув его по носу, продолжала: – Для того, чтобы разбогатеть, как любовница Суллы Никополия или как старая куртизанка Флора, влюбленная в Кнея Помпея и серьезно заболевшая от того, что он бросил ее. Вот чего со мной, божусь Венерой, никогда еще не случалось. Да, старая маска: чтобы разбогатеть, страшно разбогатеть и упиться всеми сладостями жизни, так как после нее, по учению божественного Эпикура, нет ничего. Понял ты теперь, для чего я пользуюсь всеми средствами обольщения, какими наделила меня природа, и с какой целью стою одной ногой на Олимпе, а другой – в грязи?
– Но грязь пачкает.
– Можно отмыться. Разве мало в Риме терм, фофан ты этакий! Разве нет ванны в моем доме? Но… боги! Кто вздумал читать мне мораль!.. Человек, проживший всю жизнь в самых гнусных пороках, в самом грязном разврате!
– Ну, полно, полно! Не рисуй моего портрета слишком живыми красками, не то он выйдет так похож, что все разбегутся при виде такого урода. Ведь я пошутил. Какое мне дело до морали?
Говоря это, Метробий приблизился к куртизанке и, взяв ее руку, принялся целовать ее.
– Когда же ты наградишь меня в благодарность за мою преданность? – спросил он.
– Наградить?.. В благодарность?.. За что же я должна быть тебе благодарной, старый сатир? – сказала Эвтибидэ, отдернув руку и оттолкнув его. – Разве ты открыл заговор гладиаторов?
– Но как же мог бы я открыть, прелестная Эвтибидэ, то, чего не существует? – жалобно возразил старик, смиренно следуя за гречанкой, ходившей по комнате. – Как? Скажи, любовь моя.
– Ну хорошо, – сказала девушка, обернувшись и глядя на него с обворожительной улыбкой, – если ты хочешь заслужить доказательство моей благодарности…
– Приказывай, очаровательная дева!
– Продолжай следить за гладиаторами, так как мне не верится, чтобы они совсем отказались от своего предприятия.
– Буду следить: отправлюсь в Кумы, в Капую…
– Главное – выслеживай Спартака, если хочешь что-нибудь открыть.
Лицо Эвтибидэ покрылось яркой краской, когда она произносила это имя.
– О, что касается Спартака, то я и без того уже слежу за ним целый месяц, и не по твоему делу, а по своему собственному… вернее, по делу Суллы.
– Как?.. Что ты хочешь сказать? – с живостью спросила куртизанка, приближаясь к Метробию.
Тот осмотрелся, как бы боясь, что кто-нибудь услышит его, и, приложив палец к губам, тихо проговорил:
– Это моя тайна… мое подозрение… А так как я, быть может, ошибаюсь и дело касается Суллы, то я не стану говорить о нем ни с кем в мире, пока не буду убежден, что я не ошибся.
Пока он говорил, на лице Эвтибидэ изобразилась тревога, которая должна была показаться комедианту непонятной. Потому ли, что тайна Метробия интересовала ее или просто по женскому любопытству и желанию испытать силу своих чар над сластолюбивым стариком, но только она твердо решила во что бы то ни стало выведать его тайну.
– Не покушается ли Спартак на жизнь Суллы? – спросила Эвтибидэ.
– Нет. С чего это тебе пришло в голову?
– Так в чем же дело?
– Не могу сказать. Впоследствии я открою тебе…
– Нет, ты должен открыть сейчас! Ведь ты скажешь мне, милый Метробий, – прибавила она, взяв его руку и нежно поглаживая его другой рукой по лицу. – Разве ты не доверяешь мне? Разве не знаешь по опыту, как серьезна и непохожа я на других женщин? Не ты ли говорил, что я могла бы считаться восьмым греческим мудрецом?.. Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим патроном, что ни одна душа в мире не узнает того, что ты мне откроешь. Скажи же, скажи своей Эвтибидэ, добрый Метробий! Моей благодарности не будет пределов.
Пустив в ход ласки, нежные взгляды и обольстительные улыбки, куртизанка очень скоро достигла своей цели.
– Ну, я вижу, что от тебя не отделаешься, пока не исполнишь твоей воли, – сказал наконец Метробий. – Знай же, что я подозреваю, и не без причины, что Спартак влюблен в Валерию, и она отвечает на его страсть.
– О, фурии ада! – вскричала Эвтибидэ, потрясая кулаками и мертвенно побледнев. – Возможно ли это?
– Я имею много причин подозревать это, хотя положительных доказательств еще не имею. Помни, однако: никому ни слова.
– А… вот что!.. – в раздумье промолвила Эвтибидэ, как бы рассуждая сама с собой. – Да… иначе и быть не могло… Так другая!.. другая!.. – вскричала она в диком исступлении. – Так есть женщина, победившая тебя в красоте, безумная! Есть!..
Она закрыла лицо руками и зарыдала. Нетрудно угадать, что почувствовал Метробий при виде этого взрыва отчаяния, причина которого была слишком ясна.
Эвтибидэ, обожаемая Эвтибидэ, по которой вздыхало столько богатых и знатных патрициев, Эвтибидэ, никогда никого не любившая, в свою очередь воспылала безумной страстью к непобедимому гладиатору! Куртизанка, пренебрегавшая любовью стольких знатных поклонников, отвергнута презренным гладиатором!
К чести Метробия следует сказать, что он выказал в этом случае глубокое сострадание к несчастной женщине и старался утешить ее ласками и убеждением.
– Но может быть, это неправда… Ведь я мог ошибиться… может быть, это просто моя фантазия…
– Нет, ты не ошибаешься… это не фантазия… это правда, правда! Я знаю, чувствую это! – возразила девушка, утирая слезы краем своей пурпурной паллы.
Немного погодя она прибавила мрачным, но твердым голосом:
– Хорошо, что ты сказал мне… хорошо, что я знаю.
– Только, умоляю тебя, не выдай меня!
– Не бойся, Метробий, я не выдам; и если еще ты поможешь мне в моих планах, то увидишь, как умеет быть благодарна Эвтибидэ.
Она помолчала и потом мрачно прибавила:
– Поезжай немедленно в Кумы… сегодня же, и следи за каждым их шагом, за каждым словом, каждым взглядом. Доставь мне какое-нибудь доказательство, и я отомщу за честь Суллы и за свою женскую гордость.
Вся дрожа от волнения, она вышла из комнаты, сказав ошеломленному Метробию:
– Подожди здесь, я сейчас вернусь.
Она действительно вернулась через минуту и подала комедианту тяжелый кожаный кошелек, говоря:
– Возьми этот кошелек: в нем тысяча аурей. Подкупай рабов, рабынь, но добудь доказательства, слышишь?.. А если тебе понадобятся еще деньги…
– У меня довольно их.
– Тем лучше, трать, не скупясь, – я за все вознагражу. Но поезжай сейчас же и нигде не останавливайся дорогой. Возвращайся как можно скорее… и с доказательствами.
Она выпроводила бедняка из комнаты, провела его по коридору мимо алтаря, посвященного домашним ларам, мимо цистерны для хранения дождевой воды и, доведя до наружной двери, сказала рабу, служившему привратником:
– Ты видишь, Гермоген, этого человека, – помни: в какой бы час он ни пришел, тотчас же впусти его и проводи в мои покои.
Простившись с Метробием, она быстрыми шагами вернулась в свой будуар и заперлась в нем. Она стала ходить по комнате, то ускоряя, то замедляя шаг; все бушевавшие в ней чувства и желания отражались на ее пылающем лице, освещенном зловещим блеском глаз, в выражении которых не было теперь ничего человеческого. Потом она бросилась на софу и снова залилась слезами, ломая и кусая свои белые руки.
– О, Эвмениды, – шептала она, – помогите мне отомстить, и я сооружу вам пышный алтарь! Мести жажду я, мести!
Чтобы объяснить эти пароксизмы бешенства, мы передадим кратко, что произошло месяца за два до этого разговора, когда Валерия, воспылавшая страстью к Спартаку, отдалась ему.
Гладиатор, соединявший с мужественной, редкой красотой необыкновенную привлекательность черт лица, – когда оно не искажалось гневом, – освещенного прекрасными голубыми глазами, полными чувства и доброты, зажег в сердце жены Суллы такую же сильную страсть, какую она внушила ему самому. И по мере того, как она узнавала его ближе, она открывала в нем все новые и новые достоинства и душевные качества, которые совершенно подчинили ее этому человеку. Она не только безумно любила его, но и уважала и поклонялась ему, как за несколько месяцев перед тем считала возможным уважать, если не любить, Луция Корнелия Суллу.
Насколько велико было счастье Спартака в это время, – легче понять, чем описать. В опьянении любви, в чаду блаженства он, как и все счастливцы, сделался эгоистом и даже забыл о своих товарищах по несчастью, о предосторожностях, которые следовало принимать, о священном деле свободы, которое он поклялся себе во что бы то ни стало довести до конца.
В эти дни, когда Спартак считал себя счастливейшим из смертных, он неоднократно получал приглашения к Эвтибидэ под предлогом совещаний о заговоре гладиаторов и, наконец, решился ответить на эти приглашения.
Эвтибидэ, которой не было еще двадцати четырех лет, была привезена в Рим четырнадцатилетней девочкой в числе других пленниц после взятия Суллой Афин в 668 году и продана в рабство развратному патрицию Публию Стацию Апропиану. По натуре завистливая, гордая и мстительная, Эвтибидэ утратила в доме этого развратного старика и под его руководством всякую тень нравственного чувства и, получив свободу, добровольно окунулась в грязный разврат, доставивший ей влияние, могущество и богатство. Между тем природа наделила ее не только редкой красотой, но и тонким умом, которым она пользовалась для интриг, хитростей и козней.
Изведав все наслаждения и пресытившись всеми ощущениями, она не находила более ничего заманчивого в своей развратной жизни и почти утратила самую способность чего-нибудь желать. В таком состоянии духа она увидела в первый раз Спартака, и редкая красота его в соединении с богатырской силой возбудила в ней чувственную прихоть. Она ни минуты не сомневалась, что победа над гладиатором будет для нее самым легким делом.
Однако, когда ей удалось хитростью заманить его к себе, все средства обольщения, пущенные ею в ход, оказались бессильными. И когда она убедилась в этом, когда единственный человек, к которому она почувствовала нечто вроде влечения, отверг все то, чего так жадно домогались другие, мимолетная прихоть куртизанки перешла постепенно в ее сердце, почти бессознательно для нее самой, в страстную, безумную любовь, страшную в такой порочной натуре.
А Спартак, тем временем сделавшись ланистом в заведенной Суллой школе гладиаторов, уехал в Кумы, где диктатор поселился со своей семьей и двором на принадлежавшей ему прелестной вилле в окрестностях города.
Самолюбию куртизанки была нанесена глубокая рана; она не могла допустить, чтобы не было какой-нибудь таинственной причины, помогшей рудиарию устоять против ее обольщений, и угадывала инстинктом, что только другая любовь, образ другой женщины не допустили его броситься в ее объятия; поэтому она употребляла все усилия, чтобы изгнать из своего сердца его образ и самое воспоминание о нем.
Но все было тщетно: уж таково сердце человеческое, что оно желает именно того, что ему не дается, и чем больше препятствий к удовлетворению этого желания, тем сильнее оно разгорается. Эвтибидэ, которой до этого времени улыбалась Фортуна, вдруг почувствовала себя самой несчастной из людей, обреченной влачить свою жизнь среди опостылевшей роскоши и удовольствий, потерявших для нее всякую цену.
И читатель видел, с каким злорадством ухватилась она за тайну, выведанную у Метробия, как за случай разом отомстить за себя и человеку, которого она ненавидела и любила в одно и то же время, и своей счастливой ненавистной сопернице.
Пока Эвтибидэ предавалась в своем будуаре бушевавшим в ней страстям, а Метробий мчался на лихом коне по дороге в Кумы, в таверне Венеры Либитины происходили события, грозившие Спартаку и делу угнетенных, которое он взялся защищать, не меньшей опасностью, чем козни куртизанки.
В сумерки семнадцатого дня апрельских календ (16 марта) 676 года римской эры у Лутации Моноколы собралось человек двадцать гладиаторов. У гостей, сидевших за столом, на котором стояли битки и жареная свинина, не было недостатка ни в аппетите, ни во внимании к доброму тускуланскому вину, ни в веселости.
Во главе стола сидел галл Крикс, успевший снискать себе благородством и мужеством своего характера не только большой авторитет среди товарищей, но также уважение и дружбу Спартака. Стол, за которым сидели гладиаторы, был накрыт во второй комнате таверны, где они могли свободнее беседовать и предаваться веселью, тем более что и в первой комнате было в этот час мало посетителей, да и те заходили лишь для того, чтобы выпить на скорую руку чашу тускуланского и бежать по своим делам.
Усевшись за стол с товарищами, Крикс заметил, что в углу комнаты стоит маленький столик с остатками ужина, а перед ним – табурет, на котором, очевидно, только что сидел ужинавший.
– Слушай, Лутация-Кибела, мать богов, – промолвил Крикс, оборачиваясь к хозяйке, хлопотавшей около стола и услуживавшей гостям, – скажи-ка мне…
– Не богов я мать, а прожорливых и презренных гладиаторов, – шутливо поправила Лутация.
– А разве ваши боги не были в свое время гладиаторами, и даже хорошими гладиаторами?
– О, Юпитер, прости, что я должна слушать такие богохульства! – вскричала хозяйка с негодованием.
– Клянусь именем Эссуса, я не лгу и не богохульствую! Оставляя в стороне Марса и его дела, довольно назвать Вакха и Геркулеса. Если эти два бога не были в свое время храбрыми гладиаторами, подвиги которых достойны цирка и амфитеатра, то да разразит Юпитер в этот же момент своими громами моего доброго ланиста Ациана!
Выходка Крикса вызвала общий хохот, и несколько голосов прокричали:
– Услышь тебя, небо!
Когда шум унялся, Крикс повторил, указывая в угол:
– Так скажи мне, Лутация, кто сидел за этим столиком?
Хозяйка оглянулась и с удивлением вскричала:
– Куда же он делся?.. Ушел?.. И не заплатил!.. Ах, Юнона, защити меня! – прибавила она жалобно.
Лутация бросилась к столику.
– Кто же этот «он»? – спросил Крикс.
– А! – с облегчением вскричала хозяйка. – Я возвела на него напраслину! Он – хороший человек! Вот он оставил на столе восемь сестерциев, – больше, чем следует за его ужин. Надо бы ему вернуть сдачи четыре с половиной асса.
– Да чтоб у тебя язык отсох! Ответишь ли ты мне?
– О, бедняга, – продолжала Лутация, собирая посуду на столике, – он забыл свои таблички со счетами и свой стилет!
– Чтоб Прозерпина съела с уксусом твой язык, старая мегера! Назовешь ли ты, наконец, этого человека? – вскричал Крикс, выведенный из себя болтовней трактирщицы.
– Назову, назову, грубиян! Я вижу, что ты любопытен, как баба, – сердито ответила Лутация. – Здесь ужинал один сабинский хлеботорговец, приезжавший в Рим по своим делам. Он уже несколько дней приходит сюда в эти часы.
– Покажи-ка мне все это, – сказал Крикс, вырывая из ее рук маленькую деревянную дощечку, покрытую воском, и костяной стилет, оставленные на столе посетителем. Крикс стал читать, что на ней было написано.
Это действительно были различные меры зернового хлеба с показанием цен и имен производителей, которые, по-видимому, получили от купца квитанции и задатки, так как против имен стояли цифры.
– Но все же я не понимаю, куда он скрылся, – продолжала Монокола. – Я готова побожиться, что он был еще здесь, когда вы входили… А, вот что: должно быть, он звал меня в то время, когда я стряпала для вас битки и свинину, а так как он спешил, то и ушел, не дождавшись меня, и оставил на столе деньги, как подобает честному человеку.
Лутация взяла обратно от Крикса табличку и стилет и ушла, говоря:
– Отдам ему завтра… Он, наверное, придет.
Гладиаторы продолжали есть, почти ничего не говоря, и только через некоторое время один из них спросил:
– Что же?.. Солнце все еще не показывается[12].
– Его заволакивают облака[13], – ответил Крикс.
– Странно, однако! – заметил один.
– Непостижимо! – пробормотал другой.
– А что муравьи?[14] – спросил третий, обращаясь к Криксу.
– Множатся и делают свое дело в ожидании лета.
– Скоро, скоро придет лето, и солнце зальет все своими яркими лучами; оно пригреет трудолюбивых муравьев и испепелит вредных трутней.
– А сколько звезд видно[15], Крикс?
– Вчера было всего две тысячи двести шестьдесят.
– А туман все еще не рассеялся?
– И не рассеется, пока весь свод небесный не будет усеян мириадами звезд.
– Берись за весла![16] – проговорил один из собеседников, увидев входящую рабыню Азур.
Когда она ушла, один из гладиаторов, родом галл, сказал на ломаном латинском языке:
– Ведь мы здесь одни, так можно и не ломать себе головы над этим символическим языком. Я примкнул к союзу недавно и еще не усвоил себе этой тарабарщины, – так спрашиваю вас простым человеческим языком: растет число наших сторонников? И когда же мы начнем наконец действовать серьезно, покажем нашим гордым и безумным властелинам, что и мы умеем быть храбрыми и даже похрабрее их?
– Не следует слишком спешить и горячиться, Брезовир, – заметил Крикс, улыбаясь. – Число защитников святого дела растет с часа на час, даже с минуты на минуту, и сегодня же вечером в священной роще богини Фуррины[17], за Сублицийским мостом, происходит собрание, на котором принесут присягу на верность союзу еще одиннадцать гладиаторов испытанной преданности.
– В роще богини Фуррины, – сказал пылкий Брезовир, – должно быть, еще трепещет под сенью дубов неотомщенный дух Кая Гракха, благородной кровью которого была орошена гнусными патрициями эта священная и неприкосновенная земля. Это самое подходящее место для сходки угнетенных, сговорившихся отвоевать себе свободу.
– Что касается меня, – вмешался один самнитский гладиатор, – то я жду не дождусь часа восстания, но не потому, чтобы крепко верил в успех его, а потому, что горю нетерпением поквитаться с римлянами и отомстить за самнитов и мариев, перебитых этими разбойниками во время междоусобной войны.
– Ну, а я не пристал бы к Союзу угнетенных, если бы не верил в успех нашего дела.
– А я пристал потому, что мне все равно суждено быть убитым, и я предпочитаю умереть на поле сражения, чем в цирке.
В эту минуту один из гладиаторов уронил свой меч, снятый им вместе с перевязью и лежавший на его коленях. Этот гладиатор сидел на табурете напротив двух обеденных лож, на которых помещались некоторые из собеседников. Наклонившись, чтобы поднять меч, он вдруг вскричал:
– Под ложем кто-то есть!
Он заметил там ногу, обмотанную белым холстом, как носили иные из народа, а над белой обувью был виден край зеленой тоги.
При этом восклицании все вскочили на ноги в невообразимом волнении, и Крикс тотчас вскричал:
– Берись за весла! Брезовир и Торквато, отгоняйте насекомых[18], а мы будем жарить рыбу[19].
Двое из гладиаторов бросились к двери и стали возле нее, продолжая разговаривать с беззаботным видом, между тем как другие разом подняли ложе и открыли спрятавшегося под ним человека лет тридцати. Схваченный четырьмя сильными руками, он тотчас стал молить о пощаде.
– Не кричи! – приказал ему Крикс тихим, грозным голосом. – Если ты скажешь хоть слово, тут тебе и смерть!
Десять мечей, сверкнувших в сильных руках, показали шпиону, что при малейшей попытке закричать он будет изрублен в куски.
– А, так это ты – сабинский хлеботорговец, оставивший на столе горсть сестерциев? – спросил Крикс, глаза которого налились кровью и гневно сверкали.
– Поверьте мне, храбрые мужи, я не… – начал чуть слышно молодой человек, походивший в эту минуту скорее на труп, чем на живое существо.
– Молчи, мерзавец! – перебил его один из гладиаторов, нанося ему сильный удар в живот.
– Повремени, Эвмакл! – укоризненно промолвил Крикс. – Сначала надо расспросить, кто его подослал к нам. Не хлебом торгуешь ты, – обратился он к купцу, – а шпионством и предательством.
– Простите, ради всех богов! – молил несчастный дрожащим голосом.
– Кто ты?.. Кто подослал тебя?
– Я все скажу, только пощадите меня… Сжальтесь! Оставьте мне жизнь!
– Это мы решим потом. Сперва говори.
– Я – Сильвий Кордений Вер, грек, бывший раб Кая Вера, теперь вольноотпущенник…
– А!.. Так это он подослал тебя сюда?
– Он!
– А что мы сделали твоему Каю Веру? Ради чего он шпионит за нами? Значит, он хочет донести на нас сенату, если подсылает шпионов на наши тайные совещания?
– Не знаю… ничего не знаю, – отвечал вольноотпущенник, дрожа всем телом.
– Не прикидывайся дураком! Если Вер счел возможным поручить тебе такое важное и опасное дело – значит, он считал тебя достаточно ловким и смышленым, чтобы выполнить его. Ты не спасешь себя, притворяясь не ведающим.
Сильвий Кордений понял, что смерть стоит у него за плечами, так как с этими людьми нельзя шутить, и, как утопающий хватается за соломинку, решил испытать последнее средство спасения. Он рассказал все, что знал.
Кай Вер, узнавший на пире у Катилины, что гладиаторы замышляли восстание против существующих законов и установленных властей, усомнился, чтобы эти храбрые люди, презирающие смерть, могли так легко отказаться от своего плана, так как им нечего было терять, и они могли только выиграть. Он не поверил Спартаку, притворившемуся обескураженным и объявившему, что он отказывается от всякой мысли о восстании. Веру удалось убедиться потом, что заговор действительно продолжается и распространяется, хотя в глубокой тайне, и что в один прекрасный день гладиаторы без помощи римлян и без содействия патрициев поднимут знамя восстания на свой собственный страх.
Вер долго обдумывал, как ему поступить в этом случае, а так как он был алчен до денег и считал хорошими все средства, которые приносят их, то и решился выслеживать гладиаторов, чтобы убедиться в их замыслах, забрать в свои руки все нити их заговора и выдать их правительству. Он рассчитывал получить в награду или большую сумму денег, или же пост правителя какой-нибудь провинции, где у него будет возможность обогащаться на законном основании, выжимая соки из населения, как делало большинство квесторов, преторов и проконсулов. Жалобы угнетенного народа если и доходили до римского сената, то не могли тронуть его, так как и сами сенаторы были взяточниками. Обязанность выслеживать гладиаторов, чтобы открыть все их тайны, Вер возложил на своего верного и преданного отпущенника, Сильвия Кордения, и тот уже с месяц ходил по всем тавернам, кабакам и лупинариям беднейших римских кварталов, которые чаще всего посещались гладиаторами. Подслушивая, подсматривая и наблюдая, он успел подметить кое-какие признаки, возбудившие его подозрение, и в конце концов пришел к заключению, что в отсутствие Спартака самым влиятельным и уважаемым лицом среди гладиаторов был Крикс, который, без сомнения, держал в своих руках все нити заговора, если таковой существовал. С тех пор Сильвий Кордений принялся следить специально за Криксом, а так как тот постоянно посещал таверну Венеры Либитины, то Сильвий уже с неделю бывал там каждый день и даже по два раза в день. Узнав, что в этот вечер там должны собраться наиболее влиятельные из гладиаторов, в том числе и Крикс, Сильвий решился спрятаться под ложем в ту минуту, когда все внимание Лутации будет поглощено приходом гладиаторов; он рассчитывал, что внезапное исчезновение его из комнаты ни в ком не возбудит подозрений.
Когда он кончил свои признания, которые начал бессвязно дрожащим и прерывающимся голосом, а под конец стал излагать даже изящным, колоритным языком, Крикс, внимательно наблюдавший за ним, немного помолчал и потом хладнокровно заметил:
– Однако ты плут, каких мало!
– Ты оценил меня выше, чем я заслуживаю, благородный Крикс, и…
– Нет, нет, ты стоишь более, чем показываешь. Несмотря на твою овечью наружность и заячью душонку, ты обладаешь тончайшим умом и образцовой хитростью.
– Но что же я вам сделал дурного? Ведь я только исполнял приказания моего господина. Мне кажется, что в награду за мое чистосердечие вы могли бы оставить мне жизнь и отпустить меня, так как я готов поклясться вам всеми богами Олимпа и ада, что ни Вер, ни кто-либо другой не услышат от меня ни слова о том, что я узнал здесь и что между нами произошло.
– Не спеши, добрый Сильвий, об этом мы еще поговорим, – иронически ответил Крикс.
Он вызвал человек восемь гладиаторов и сказал им:
– Нам надо ненадолго уйти. – Потом, обратившись к остальным, он прибавил: – Стерегите этого человека… но не делайте ему никакого зла.
Он прошел во главе сопровождавших его соратников через смежную комнату и вышел из таверны.
– Что нам делать с этим негодяем? – спросил Крикс товарищей, выйдя с ними на улицу.
– Что тут спрашивать? – ответил Брезовир. – Конечно, надо убить его, как бешеную собаку.
– Отпустить его – значило бы то же, что донести на самих себя, – заметил другой.
– А упрятать его куда-нибудь и держать в заточении было бы небезопасно, – добавил третий.
– И где нам его держать?
– Стало быть – смерть? – спросил Крикс, обводя всех глазами.
– Теперь ночь…
– Улица пустынна…
– Отведем его на вершину горы, на другой конец этой улицы.
– Mors sua, vita nostra, – изрек Брезовир, безбожно коверкая латинское произношение.
– Да, это необходимо, – сказал Крикс, делая шаг обратно к таверне.
– Кто же его убьет? – спросил он, останавливаясь.
В первую минуту никто не отвечал, потом один заметил:
– Убить безоружного и беззащитного…
– Если бы, по крайней мере, у него был меч, – отозвался другой.
– Если бы он мог и хотел защищаться, то я взялся бы за это дело, – сказал Брезовир.
– Но зарезать безоружного… – добавил самнит Торквато[20].
– Вы, храбрые и благородные люди, достойные свободы! – с волнением заметил Крикс. – Согласитесь, однако, что для нашего общего спасения кто-нибудь из вас должен победить свое отвращение и исполнить над этим человеком приговор, который изрекает моими устами суд Союза угнетенных.
Все промолчали и только склонили головы в знак покорности.
– Притом же, – прибавил Крикс, – разве он выступил против нас с равным оружием и в открытом бою? Нет, он собирался предать нас, и если бы мы не открыли его засады, то завтра нас всех повлекли бы в Мамертинскую тюрьму, а дня через два распяли бы на кресте на Сессорийском поле, как последних каторжников.
– Правда, правда! – прозвучали голоса.
– Итак, именем суда Союза угнетенных повелеваю Брезовиру и Торквато умертвить этого человека.
Двое названных гладиаторов наклонили головы, и все во главе с Криксом вернулись в таверну.
Когда они вошли во вторую комнату, Сильвий Кордений, которому минуты казались веками, пока он ждал решения своей участи, устремил на них глаза, полные страха и тоски. И по внезапной бледности, покрывшей его лицо, видно было, что несчастный не прочел на этих лицах ничего доброго для себя.
– Ну что же, прощаете вы меня? – спросил он жалобным голосом. – Оставите вы мне жизнь?.. Умоляю вас на коленях, ради ваших отцов и матерей, ради всех, кто вам дорог, пощадите меня… умоляю!
– Спроси сначала, есть ли у нас отцы и матери! – глухо ответил Брезовир, лицо которого сделалось мрачным и грозным.
– Разве нам оставлено что-нибудь дорогое в жизни? – прибавил другой гладиатор, глаза которого засверкали злобой и местью.
– Вставай, негодяй! – крикнул Торквато.
– Тише! – приказал Крикс и, обращаясь к Сильвию, прибавил: – Иди с нами. В конце переулка мы составим совет и решим твою судьбу.
Он знаком приказал товарищам вести под руки осужденного, которому подал искру надежды для того, чтобы он не поднял крик и не привлек внимания соседей. Все вышли, предшествуемые Криксом, позади которого гладиаторы влекли под руки вольноотпущенника. Он был ни жив ни мертв и предоставлял делать с собой что хотят.
Один из гладиаторов остался в таверне, чтобы расплатиться с Лутацией, которая даже не заметила в выходившей толпе своего хлеботорговца. Остальные, выйдя из таверны, повернули направо и пошли узкой, извилистой тропой, которая тянулась вдоль городской стены и выходила в поле.
Выйдя на поле, толпа остановилась, и тут Сильвий Кордений снова упал на колени, со слезами умоляя о пощаде.
– Хочешь ли ты, трус, сразиться равным оружием с одним из нас? – спросил Брезовир ползающего на коленях вольноотпущенника.
– Пощады! Пощады! Ради моих детей!
– У нас нет детей! – крикнул один из гладиаторов.
– И нам не суждено иметь их, – прорычал другой.
– Да неужели ты умеешь только прятаться и шпионить? – с негодованием спросил Брезовир. – Неужели ты не способен честно сражаться?
– О, не убивайте меня! Оставьте мне жизнь!
– Ступай же в ад, презренный! – крикнул Брезовир, вонзая свой короткий меч в грудь вольноотпущенника.
– И возьми с собой всех низких и бесчестных рабов! – добавил самнит Торквато, нанося упавшему еще два удара.
После этого гладиаторы несколько минут молча стояли вокруг умирающего и в мрачном раздумье глядели на его предсмертные конвульсии. Сильвий Кордений скоро испустил дух.
Спустя неделю после описанных событий, под вечер, по Аппиевой дороге въезжал в Рим через Капенские ворота всадник, весь закутанный в свой плащ, чтобы защититься, насколько возможно, от дождя, лившего потоками и превратившего дороги в канавы. Аппиева дорога была очень людной, так как от нее вели дороги в Сетию, Капую, Кумы и другие города, поэтому сторожа у Капенских ворот видели во все часы дня и ночи много прохожих и проезжих всякого класса и верхом, и в экипажах, и в паланкинах, несомых двумя мулами, из которых один шел впереди, а другой позади. Тем не менее сторожа не могли не обратить внимания на жалкий вид помянутого всадника и его коня. Тот и другой обливались потом, измученные долгим путем и обрызганные грязью с ног до головы.
Проехав в ворота, всадник пришпорил лошадь, и вскоре стук копыт по мостовой затих вдали. Немного погодя он въехал на Священную улицу и остановил коня у дома куртизанки Эвтибидэ; спешившись, он взялся за бронзовый молоток, висевший у ворот, и громко постучал. В ответ раздался со двора лай сторожевой собаки, необходимой принадлежности каждого римского дома в те времена.
В ожидании, когда отворят, всадник стряхнул воду со своего плаща и вскоре услышал стук шагов привратника, подходившего к воротам и унимавшего собаку.
– Да хранят тебя боги, добрый Гермоген! Я – Метробий, приехал из Кум.
– Добро пожаловать.
– Вымок я, как рыба: Юпитер-Водолей соизволил показать мне, как неистощимы его водные запасы… Позови же кого-нибудь из слуг Эвтибидэ и вели отвести это бедное животное в конюшню соседней остерии Януса, чтобы ему дали там отдохнуть и поесть.
Привратник щелкнул пальцами одной руки по ладони другой – способ, каким призывали рабов, – и, взяв лошадь под уздцы, ответил Метробию:
– Войди, Метробий, тебе уже известна дорога. В коридоре найдешь служанку Аспазию, которая доложит госпоже о твоем прибытии. О лошади я позабочусь: ее накормят.
Метробий поднялся по ступеням лестницы, остерегаясь поскользнуться, так как это считалось дурным предзнаменованием, и вошел в прихожую, где при свете бронзовой лампы, свисавшей с потолка, прочел на мозаичном полу слово Salve. To же слово при входе гостя было повторено попугаем, сидевшим в клетке, которая висела у стены по обычаю того времени. Метробий быстро прошел через атрий и вошел в галерею, где повстречал Аспазию. Он велел ей предупредить Эвтибидэ о своем прибытии.
Сначала рабыня колебалась, но уступила настояниям комедианта из боязни, что ее будут бранить и бить, если она не доложит госпоже о госте. Впрочем, то же самое грозило ей и в противном случае, так как Эвтибидэ, сидевшая в своем конклаве, запретила ей беспокоить себя.
Куртизанка полулежала на мягкой и роскошной софе в своем зимнем будуаре, натопленном, надушенном и уставленном драгоценной мебелью, и слушала страстные уверения в любви молодого человека, сидевшего на полу у ее ног. Теребя дерзкой рукой его густые, черные как смоль кудри, она слушала его пламенные, поэтические речи, полные нежности и страсти.
Этот молодой человек был Тит Лукреций Кар, обессмертивший впоследствии свое имя поэмой «О сущности вещей». Он был среднего роста, изящного телосложения, с черными, необыкновенно живыми глазами и бледным лицом, с правильными, привлекательными чертами. Белая туника его из тончайшей шерстяной ткани с пурпурной каймой свидетельствовала о принадлежности его к классу всадников.
Этот юноша, взращенный на учении Эпикура и вынашивающий в уме идею своей бессмертной поэмы, оставался верен на практике этому учению, избегая глубоких и серьезных привязанностей, не желая «питать гложущих забот и неизбежных горестей (любви), которые, подобно растравляемой язве, внедряются в человека и становятся неизлечимыми». Он предпочитал легкую, скоропреходящую любовь, которая «вышибала бы клин клином, порхала бы, как бабочка, с цветка на цветок, собирая с них сладкую жатву…». Это не помешало ему, однако, в сорок четыре года лишить себя жизни, и не иначе как вследствие безнадежной любви.
Как бы то ни было, молодой Лукреций Кар, обладая привлекательной наружностью, сильным умом и замечательным красноречием, к тому же достаточно богатый и не скупившийся на деньги для удовольствия, пользовался большим расположением Эвтибидэ, у которой он часто бывал. Она принимала его приветливее, чем других, даже более богатых и щедрых.
– Так ты любишь меня, – говорила куртизанка, продолжая играть его кудрями. – Не надоела еще я тебе?
– Нет, я люблю тебя все сильнее и сильнее, потому что любовь – единственная вещь на свете, которой человек тем больше жаждет, чем больше он ее имеет.
В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.
– Кто там? – спросила Эвтибидэ.
Голос Аспазии робко ответил:
– Метробий приехал из Кум.
– А, приехал! – радостно вскричала гречанка, вскакивая с софы. Лицо ее залилось румянцем. – Введи его в экседру. Я сейчас выйду.
Она обратилась к Лукрецию, который также вскочил и глядел на нее с удивлением и заметной досадой, и торопливо, но все же ласково проговорила:
– Дождись меня… Слышишь, какая буря на дворе?.. Я сейчас вернусь, и если известия, которые привез мне этот человек, таковы, каких я жду уже целую неделю, и мне удастся сегодня же вечером утолить мою жажду мести, я буду очень весела, и ты разделишь мое веселье.
С этими словами она вышла из конклава в сильном возбуждении, оставив Лукреция, в котором удивление смешивалось с любопытством и досадой.
Он покачал головой и стал в раздумье ходить по комнате.
Гроза на дворе усиливалась: беспрестанно сверкавшая молния освещала будуар зловещим синеватым светом; страшные раскаты грома потрясали дом до самого фундамента; дождь с градом барабанил в окна с невероятной силой, и ветер бешеными порывами врывался во все щели.
– Юпитер точно тешится, давая нам образчик своей разрушительной силы, – с презрительной улыбкой пробормотал молодой человек.
Сделав несколько шагов по комнате, он сел на софу и задумался, отдавшись впечатлениям, которые производила на него эта борьба стихий; потом он вдруг вскочил, взял одну из навощенных табличек, лежавших на маленьком столике, и серебряный стилет и начал быстро писать. Лицо его разгорелось и приняло вдохновенный вид.
Тем временем Эвтибидэ вошла в экседру, где дожидался Метробий, снявший с себя мокрый плащ. Куртизанка, увидев, в каком жалком виде он находится, крикнула выходившей рабыне:
– Растопите камин, приготовьте сухое платье, чтобы наш Метробий мог переодеться, и накройте в триклинии сытный ужин!
Она подошла к комедианту, взяла его руки и, пожимая их, спросила:
– Ну, что скажешь?.. Добрые вести привез ты мне, милый Метробий?
– Из Кум – добрые, а с дороги – дурные.
– Вижу, бедный Метробий. Садись к огню и расскажи мне скорее, добыл ли ты доказательства?
Она придвинула для него скамью к камину.
– Тебе известно, пленительная Эвтибидэ, что золото открыло Юпитеру бронзовые двери башни Данаи.
– Оставь эти сравнения. Неужели даже такая ванна, какую ты принял в пути, не отняла у тебя охоты разглагольствовать?
– Я подкупил рабыню и сам видел сквозь маленькую дырочку, проделанную в двери, как Спартак входил под утро в комнату Валерии.
– О, боги ада, помогите мне! – вскричала Эвтибидэ с дикой радостью.
С налившимся кровью лицом, с расширенными, сверкающими зрачками, вздрагивающими ноздрями и судорожно перекосившимся ртом она походила на тигрицу, алчущую крови.
– И каждый день, – спросила она хриплым прерывающимся голосом, – каждый день… они бесчестят почтенное имя Суллы?
– Полагаю, что в пылу своей страсти они не обращают внимания и на несчастные дни[21].
– О, теперь для них наступит самый страшный день! Я посвящаю их ненавистные головы богам ада! – торжественно вскричала Эвтибидэ.
Она обернулась, чтобы уйти, но остановилась и прибавила, обращаясь к Метробию:
– Пойди, перемени платье и подкрепись в триклинии. Подожди меня там.
«Не попасть бы мне в какую-нибудь скверную историю, – подумал комедиант, уходя в комнату для гостей, чтобы переодеться. – От этой сумасшедшей можно всего ожидать. Боюсь, не сделал ли я крупной ошибки?»
Переменив платье, он вошел в триклиний, где его ждал ужин. За вкусной едой и фалернским вином старался забыть о своем тяжелом путешествии и заглушить страх перед будущим.
Но не успел он и вполовину утолить свой голод, как вошла Эвтибидэ. Бледная, но по наружности спокойная, она держала в руках сверток папируса, обернутый в пергамент и перевязанный тесьмой, концы которой были скреплены восковой печатью с ее именем и с изображением Венеры, выходящей из морской пены.
Метробий смутился и спросил:
– Что это, красавица моя?.. Я желал бы знать… К кому это письмо?
– И ты еще спрашиваешь! Конечно, к Луцию Корнелию Сулле.
– Ах, ради маски Момуса! Не надо так спешить. Поразмыслим хорошенько, дитя мое!
– Тебе-то какое дело до всего этого?
– Но… да хранит меня Юпитер Олимпийский, а если Сулле не понравится, что вмешиваются в его дела? Если вместо своей жены он набросится на доносчиков? Или, что еще вероятнее, он сорвет свою злобу на всех?
– А мне что за дело?
– Но… позволь, красавица моя… Не спеши! Если тебе нет дела до гнева Суллы, то мне есть дело, и даже очень большое.
– А тебе-то что?
– А то, любезная людям и богам Эвтибидэ, что я очень люблю себя, – горячо возразил актер.
– Да ведь я тебя не называю, и, что бы ни случилось, ты тут ни при чем.
– Прекрасно, что ты не называешь, но видишь ли, в чем дело: я тридцать лет близок к Сулле.
– О, знаю… ближе, чем следовало бы желать для твоей доброй репутации…
– Не в том дело… Я знаю этого зверя, то есть этого человека… я знаю, что при всей дружбе, которая связывает нас столько лет, он вполне способен велеть свернуть мне шею, как свертывают шею цыпленку… а потом устроить мне пышные похороны с боем полсотни гладиаторов вокруг моего костра. Только, к моему несчастью, я уже не буду в состоянии наслаждаться этим зрелищем.
– Не беспокойся, – возразила Эвтибидэ, – с тобой не приключится ничего дурного.
– Дай-то, небо, которое я всегда чтил!
– Почти же теперь Вакха и выпей пятидесятилетнего фалернского. Я налью тебе.
В триклиний вошел в это время раб в дорожном платье.
– Помни же мои наставления, Демофил, и нигде не останавливайся до прибытия в Кумы.
Раб взял из ее рук сверток, положил его за пазуху и, поклонившись своей госпоже, закутался в плащ и вышел.
Эвтибидэ, успокоив Метробия, у которого фалернское развязало язык, так что он готов был продолжать беседу, сказала, что потолкует с ним завтра, и вернулась в конклав, где Лукреций, с табличкой в руке, перечитывал написанное.
– Прости, что меня задержали долее, чем я предполагала… Но я вижу, что ты не терял времени. Ты прочтешь мне эти стихи, – ведь твоя фантазия может создать только чудные стихи.
– Меня вдохновили ты и гроза, бушующая на дворе, поэтому я должен прочесть их тебе; идя же домой, я продекламирую их буре.
Он встал и с неподражаемой грацией продекламировал написанное им. Эвтибидэ, как уже сказано, была гречанка и очень образованная, поэтому она не могла не оценить силы, изящества и гармонии его стихов, тем более что латинский язык был еще беден поэтическими произведениями, и, за исключением Плавта, Луцилия и Теренция, у римлян еще не было великих поэтов. Молодая женщина выразила Лукрецию свой искренний восторг, после чего он встал, чтобы проститься, и сказал, улыбаясь:
– В награду за мое искусство я беру у тебя эту табличку, которую потом возвращу тебе.
– Хорошо, но с тем, что ты принесешь ее сам, лишь только перепишешь стихи на папирус.
Лукреций обещал вернуться и ушел, полный поэтических образов, которые с такой живостью возникали в его душе под впечатлением бушующей стихии.
Эвтибидэ, казавшаяся совершенно спокойной, ушла в сопровождении Аспазии в свою спальню, намереваясь тотчас лечь спать, чтобы насладиться предвкушением радости, которую сулила ей месть. Однако, к удивлению своему, она не чувствовала такой радости, какую ожидала испытать, пока достижение цели казалось ей трудным. Улегшись, она отослала Аспазию, велев ей оставить гореть ночную лампаду, смягчив свет.
Лежа в постели, Эвтибидэ продолжала размышлять о своем поступке и о последствиях, к которым должно было привести ее письмо: быть может, Сулла сумеет скрыть свой гнев до ночи, чтобы застигнуть любовников в объятиях друг друга и убить обоих.
Валерию она не жалела: эта надменная и гордая матрона всегда смотрела на нее, жалкую и презренную куртизанку, свысока, хотя сама была вдвое презреннее и виновнее ее. Мысль о смерти и позоре этой лицемерной гордячки наполняла сердце Эвтибидэ радостью и облегчала болезненное чувство ревности, которое она испытывала и продолжала испытывать из-за нее. Другое дело – Спартак. Эвтибидэ силилась оправдать его в своих глазах, и, по зрелом размышлении, ей показалось, что несчастный фракиец гораздо менее виновен, чем Валерия. Ведь он не более как бедный рудиарий; жена Суллы, хотя и не красавица, должна казаться ему богиней. Наверное, эта жалкая женщина завлекла его, опутала своими сетями, так что бедняк не сумел и не мог противиться ей… Иначе и быть не может. Посмел ли гладиатор поднять глаза на жену Суллы? Заслужив любовь такой знатной матроны, он, естественно, не мог и думать ни о какой другой женщине. Поэтому смерть Спартака казалась теперь Эвтибидэ незаслуженной, несправедливой.
Эти неотвязные мысли отгоняли от нее сон, и она ворочалась с боку на бок, вздыхая и содрогаясь под влиянием самых противоположных чувств. Минутами она впадала в оцепенение, как бы в забытье, предшествующее сну, но потом вдруг вздрагивала, словно от толчка, и снова начинала ворочаться. Наконец, она действительно заснула, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только тревожным дыханием спящей.
Но вдруг она вскочила, испуганная, и закричала рыдающим голосом:
– Нет, нет, Спартак, не я тебя убиваю… Это она… Не умирай!
Под влиянием мыслей и образов, наполнивших ее ум, ей, очевидно, привиделся во время ее краткого сна умирающий Спартак, молящий о пощаде.
Эвтибидэ встала и, накинув на себя широкий белый плащ, позвала Аспазию и велела ей тотчас разбудить Метробия.
Мы не беремся описывать, чего стоило убедить комедианта тотчас скакать вслед за Демофилом и не допустить, чтобы письмо, посланное ею три часа назад, дошло до Суллы.
Потребовалось все искусство и все влияние Эвтибидэ, чтобы Метробий, сонный, после не в меру выпитого вина и уставший от дороги, согласился отказаться от теплой перины и часа через два собрался в путь.
Гроза прекратилась; чистое небо сияло мириадами звезд, и только холодный ночной ветер мог беспокоить путника.
– Демофил опередил тебя на пять часов, – наставляла девушка, – поэтому ты должен не скакать, а лететь на своем коне.
– Полечу, как на Пегасе.
– Ведь и для тебя самого это будет лучше.
Спустя несколько минут частый стук копыт бешено мчавшейся лошади будил квиритов, которые, прислушавшись, снова кутались в свои одеяла и благодарили судьбу за то, что они могут нежиться в теплой постели, в то время как другие, несчастные, должны скакать в эту холодную ночь по полям, испытывая на себе всю суровость свистящего на дворе ветра.
VII. Смерть обгоняет Демофила и Метробия
Путешественнику, выезжавшему из Рима по Аппиевой дороге и доехавшему до Капуи, и свернувшему в Кумы, а не в Беневент, открывалась изумительная, чарующая картина. Все пространство от Литерно до Помпеи представляло восхитительный холмистый пейзаж с оливковыми и померанцевыми рощами, плодородными пашнями и лугами, поросшими сочной травой, где паслись многочисленные стада, оглашавшие воздух своим серебристым блеянием или меланхолическим мычанием.
Среди этой цветущей, улыбающейся природы лежали неподалеку один от другого города Литерно, Мисен, Кумы, Байи, Неаполь, Геркуланум и Помпея со своими величественными храмами, пышными виллами, термами, садами, а между ними ютились бесчисленные деревушки, виллы, сады и лежали озера Ахерузио, Аверно, Ликоли, Патрия и многие другие. Побережье казалось одним громадным городом, перед которым расстилалась голубая гладь моря, покоившаяся в объятиях залива. А далее, в тумане, – гирлянды островков: Исхия, Прохита и Капрея с такими же пышными дворцами, термами, рощами. И весь этот чудный край, который и боги и люди как будто сговорились украсить как можно лучше, был залит ослепительными лучами солнца, жар которых умерялся мягким, ласкающим ветерком. Недаром легенда гласит, что в этих местах ждал со своей лодкой Харон, перевозивший души умерших в Елисейские поля.
Кумы – богатый, роскошный людный город, расположенный на склоне горы и спускавшийся к морю. Он служил любимым местопребыванием римских патрициев, в особенности в купальный сезон; но те, у кого были там собственные виллы, охотно проводили в них и часть осени и весны.
Богатые люди находили в Кумах такие же удобства и роскошь, как и в Риме: портики, базилики, форумы, величественный амфитеатр (остатки которого еще сохранились), а в Акрополе, на вершине горы, стоял один из великолепнейших храмов в целой Италии, посвященный Аполлону.
Город Кумы был основан в глубокой древности. За пятьдесят лет до основания Рима он был настолько люден и богат, что часть его населения основала и колонизировала город Занкл в Сицилии (нынешнюю Мессану). Позже его граждане основали другую колонию – Палеополис, быть может, нынешний Неаполь. Во время Второй Пунической войны город Кумы, бывший независимым союзником, а не данником Рима, сохранил верность ему, в противоположность почти всем другим городам нижней Италии, приставшим к карфагенянам. Ввиду этого Ганнибал подступил к Кумам с большими силами, но консул Семпроний Гракх подоспел на выручку Кумам и оттеснил Ганнибала, нанеся ему большие потери людьми.
С тех пор этот город стал пользоваться благосклонностью римских патрициев, хотя в эпоху, о которой идет речь, уже началось движение в сторону Байи, которое привело постепенно к падению Кум.
Роскошная и величественная вилла Корнелия Суллы стояла неподалеку от этого города, на склоне живописного холма, с которого открывался вид на залив и побережье.
Все, что могло прийти в голову тщеславному и прихотливому человеку, каков был Сулла, – было собрано на его роскошной вилле, сады которой спускались до самого моря, где был устроен бассейн для редких видов рыб. Вилла была роскошнее римских дворцов. В ней имелась баня, вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных ванн и со всяческими удобствами, на которые не пожалели денег. Имелись при вилле и оранжереи, и птичники, и обнесенные оградами парки, в которых водились лани, серны, лисицы и всевозможная дичь.
В этом-то прелестном месте, где теплый благодатный воздух делал пребывание не только приятным, но и в высшей степени здоровым, проживал уже два месяца удалившийся в уединение всемогущий и грозный экс-диктатор.
Он велел своим бесчисленным рабам проложить дорогу от Аппиевой дороги прямо к его вилле. Там он проводил дни в размышлениях или писал свои «Комментарии», которые намеревался посвятить великому полководцу и богачу Луцию Лицинию Лукуллу, который в это время уже одержал славные победы, а три года спустя был избран консулом и разбил Митридата в Армении и Месопотамии. Но Лукулл прославился у римлян и даже у самого отдаленного потомства не столько своими победами и добродетелями, сколько своей утонченной роскошью и несметным богатством.
Ночи же свои Сулла проводил в шумных и циничных оргиях, и часто солнце заставало его еще на ложе в триклинии, пьяного и сонного, среди шутов и комедиантов, обычных сотоварищей его оргий, еще более пьяных, чем он сам.
Время от времени он предпринимал прогулки в Кумы, а иногда, но реже, в Байи или Путеолы, и граждане всех сословий в этих городах оказывали ему всевозможные почести, вызываемые не столько величием его деяний, сколько страхом, который внушало его имя.
За три дня до событий, описанных в конце предшествовавшей главы, Сулла вернулся из Путеол, куда он ездил, чтобы уладить распрю между знатью и плебеями этого города. Десять дней провел он там, разбирая споры, после чего в качестве третейского судьи дал примирительный пир спорящим сторонам.
Вернувшись к ночи на виллу, он приказал накрыть ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, самом обширном и великолепном из четырех триклиниев его мраморного дворца. Там, при ярком свете лампад, горевших по углам, среди благоухания цветов, расставленных пирамидами около стен, и сладострастных танцев полунагих танцовщиц под звуки флейт, лир и гитар, банкет вскоре перешел в самую разнузданную оргию.
В огромной зале вокруг трех столов стояли девять трапезных ложей, на которых расположились двадцать пять пирующих, не считая хозяина. Одно место осталось пустым: это было место отсутствующего Метробия, любимца Суллы.
Экс-диктатор, в белом прозрачном одеянии, с венком из роз на голове, занимал место за средним столом, рядом с любимым своим другом, актером Квинтом Росцием, который был царем пира. Судя по веселости, шуткам и частым возлияниям Суллы, можно было заключить, что он веселится безмерно и никакая забота не сосет его сердца. Но, всмотревшись в него внимательно, легко было заметить, что в эти четыре месяца он сильно постарел, похудел и вид его стал еще ужаснее: нарывы, которыми было усыпано его изможденное лицо, увеличились, волосы из серых стали совсем белыми; бессонница, на которую обрекла его страшная болезнь, придала ему изнуренный, страдальческий вид.
Но, несмотря на все, в его острых серо-голубых глазах по-прежнему, и даже больше прежнего, горел огонь жизни, силы, несокрушимой энергии. Стараясь скрывать от посторонних свои жестокие страдания, он столь искусно притворялся, что по временам, в особенности во время оргий, казалось, сам забывал о них.
– Расскажи мне, Понциан, что сказал Граний, – обратился Сулла к одному патрицию из Кум, лежавшему на ложе за другим столом.
– Я не слыхал его слов, – ответил тот, побледнев и, видимо, затрудняясь отвечать.
– У меня тонкий слух, Понциан, – заметил экс-диктатор спокойным тоном, но грозно насупив брови, – и я хорошо расслышал, что ты сам сказал Элию Луперку.
– Но поверь, – в ужасе ответил Понциан, – поверь мне… счастливый всемогущий диктатор…
– Ты сказал: «Когда Грания, нынешнего эдила Кум, заставляли уплатить по приговору Суллы штраф в общественную казну, он отказался, говоря…» Тут ты взглянул на меня и, заметив, что я слышу твои слова, прервал свою речь. Я желаю, чтобы ты повторил мне слово в слово то, что сказал Граний.
– Но позволь мне, о Сулла, величайший из римских полководцев!..
– Не нуждаюсь я в твоих похвалах! – закричал Сулла диким, угрожающим голосом и, приподнявшись, с гневно-сверкающим взором, сильно ударил кулаком по столу. – Я своими деяниями и победами сам вписал себе похвалы в консульские летописи и не нуждаюсь, чтобы ты повторял их мне, презренный льстец! Я хочу узнать, что сказал Граний, и если ты не скажешь мне этого, то я, Корнелий Сулла, клянусь лирой Аполлона, моего божественного покровителя, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы отправиться откармливать своим трупом моих рыб!
Взывая к Аполлону, которого Сулла избрал своим специальным покровителем, он взял в руку золотую статуэтку этого бога, которую присвоил себе в Дельфах и постоянно носил на шее на золотой цепочке художественной работы.
При этой клятве все присутствующие, хорошо знавшие Суллу, побледнели и замолчали; музыка и танцы прекратились, шумное веселье сменилось на минуту могильной тишиной. Несчастный Понциан, заикаясь от ужаса, пробормотал:
– Граний сказал: «Теперь не заплачу! Сулла скоро умрет, и я буду оправдан».
– А… – промолвил амфитрион, багровое лицо которого побледнело от гнева. – А!.. Значит, Граний нетерпеливо ждет моей смерти. Браво! Расчетливый же он человек! Предусмотрительный! – кричал экс-диктатор, дрожа от бешенства, но силясь скрыть гнев, сверкавший в его глазах.
Он на минуту остановился, потом крикнул, стуча пальцами в ладонь, так что пальцы захрустели:
– Кризогон! Увидим, – прибавил он, – оправдаются ли расчеты Грания!
Когда явившийся на зов Кризогон, вольноотпущенник и доверенный Суллы, приблизился к нему, тот, уже успев успокоиться, шепнул ему какое-то приказание, на которое Кризогон ответил утвердительным жестом и удалился в ту же дверь, в которую вошел.
– Завтра утром! – крикнул ему вслед Сулла. Потом, обратившись к гостям с веселым лицом, он поднял свою чашу с фалернским и воскликнул: – Ну, что же вы все насупились и молчите, трусливые бараны? Клянусь богами Олимпа, кажется, вы думаете, что присутствуете на моей тризне!
– Да сохранят тебя боги от такой мысли!
– Да пошлет тебе счастье Юпитер и да хранит тебя Аполлон!
– Долгие лета всемогущему Сулле! – хором закричали многие из гостей, подняв чаши с пенистым вином.
– Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого! – вскричал Квинт Росций своим звучным, гармоническим голосом, высоко подняв свою чашу.
Все поддержали его, и смягченный Сулла, обняв и поблагодарив своего любимца, закричал музыкантам и мимам:
– Эй, вы, бездельники, что вы там делаете?.. Выгодны только пить мое фалернское и объедать меня! Проклятые трусы! Чтоб вам на месте заснуть вечным сном!
Не успел еще Сулла прервать свою грубую брань, – он обыкновенно выражался грубо или цинично, – как музыка возобновилась, мимы и танцовщицы запели под аккомпанемент и стали исполнять комический танец с непристойными телодвижениями.
Трудно описать, какое впечатление производила на зрителей эта головокружительная пляска с обниманиями, изгибаниями, сближением и разбеганием полунагих фигур. Крики и аплодисменты не умолкали.
Когда танец окончился, на средний стол, за которым сидели Сулла с Росцием, был подан орел в оперении, столь искусно сделанный, что он казался живым. Орел держал в клюве лавровый венок, перевязанный пурпурной лентой, на которой было написано золотыми буквами: «Sullae Felici Epafrodito», то есть: «Сулле Счастливому, любимцу Венеры». Прозвище Epafrodito было особенно приятно экс-диктатору.
Росций среди рукоплесканий гостей взял венок из клюва и передал его Аттилии Ювентине, красивой, молодой вольноотпущеннице Суллы, которая сидела с ним рядом и которая, вместе с несколькими женщинами из Кум, сидевшими между мужчинами на обеденных ложах, составляла одну из главных приманок этого банкета.
Аттилия возложила лавровый венок на голову Суллы поверх венка из роз и проговорила мелодичным голосом:
– Прими, любимец богов, непобедимый полководец, эти лавры, которые подносит тебе удивленный мир!
Сулла под рукоплескания собеседников стал целовать девушку, а Квинт Росций, поднявшись с места, продекламировал своим удивительным голосом, достойным такого великого актера, стихи в честь Суллы. Когда он закончил, триклиний снова загремел от рукоплесканий.
Между тем Сулла, взяв нож, разрезал шею и живот орла, из которого тотчас выпало множество яиц; он роздал их пирующим. В каждом яйце оказалось по жареному бекасу, приправленному желтым соусом. Пока гости с аппетитом ели дичь, громко восхваляя щедрость Суллы и искусство его повара, двенадцать красивых греческих рабынь, одетых в достаточно короткие голубые туники, прислуживали у стола, подливая в чаши гостей превосходное фалернское.
Немного погодя было подано новое блюдо: колоссальный пирог из теста с медом в форме круглого храма, окруженного колоннадой и сделанного с необычайным искусством. Когда пирог был разрезан, из него вылетело столько воробьев, сколько находилось в комнате гостей: на шее каждого воробья был привязан ленточкой подарок, и на ленточке было написано имя того, кому он предназначался.
Этот новый сюрприз, приготовленный искусным поваром Суллы, вызвал еще более громкие аплодисменты и крики. Шум долго не умолкал, так как гости ловили птиц, испуганных криком и летавших по комнате, тщетно ища выхода.
Сулла, высвободившись из объятий Ювентины, положил конец этой суете.
– Эй, слушайте! – закричал он. – Я нахожусь сегодня в веселом настроении и хочу потешить вас зрелищем, каким редко угощают гостей на пирах… Слушайте же, друзья мои милые! Хотите вы видеть бой гладиаторов?
– Хотим! Хотим! – раздалось полсотни голосов. Предложение такого зрелища было с восторгом встречено не одними гостями, но также и музыкантами, и танцовщицами. В увлечении они также закричали «Хотим!», забыв, что предложение относится не к ним.
– Да, да, гладиаторов! гладиаторов!.. Да здравствует Сулла!.. Щедрейший Сулла!
Одному из рабов был тотчас отдан приказ бежать в помещение гладиаторов, стоявшее на одном из внутренних дворов виллы, и передать Спартаку приказ немедленно привести в залу триклиния пять пар борцов. Между тем многочисленные рабы расчищали в зале место для боя, отводя музыкантов и танцовщиц ближе к столам.
Немного погодя Кризогон ввел в залу десятерых гладиаторов, из которых половина была во фракийских костюмах, а другая – в самнитских.
– А Спартак? – спросил Сулла.
– Он еще не возвращался, – ответил Кризогон, – должно быть, засиделся у своей сестры.
В эту самую минуту в триклиний вошел Спартак, раскрасневшийся после бега. Он прикладывал руку к губам, кланяясь Сулле и гостям.
– Нам известно, Спартак, – сказал Сулла, – как искусно ты сражаешься. Теперь мы хотим посмотреть, умеешь ли ты передать свое искусство твоим ученикам.
– Но они всего два месяца упражняются в фехтовании, и ты найдешь их успехи очень слабыми.
– Посмотрим, посмотрим, – возразил Сулла и, обратившись к гостям, прибавил: – Я не прибегаю к нововведению, предлагая вам на пиру бой гладиаторов, а только возобновляю обычай, который существовал два века назад у ваших храбрых предков, сыны Кум, первых обитателей этих провинций.
Тем временем Спартак, бледный и встревоженный, расставлял гладиаторов, видимо сам не понимая, что он делает. Это утонченное варварство, эта безумная жажда крови, выказываемые так откровенно, с таким бесчеловечным спокойствием, возмущали рудиария до глубины души. Он дрожал от негодования, думая, что не требования толпы, не зверские инстинкты бессмысленной черни, а прихоть одного человека, злого и пьяного, и жестокое поворство нескольких десятков паразитов обрекают десять несчастных юношей, рожденных свободными людьми в свободной стране, здоровых и храбрых, драться без всякой ненависти друг к другу и погибать бесславно и безвременно.
Помимо прочего, у Спартака была и личная причина для негодования: в числе приведенных гладиаторов находился двадцатичетырехлетний галл Арторикс, красавец, с античным телосложением, благородными чертами лица и густыми белокурыми волосами. Спартак очень любил его; это был самый преданный ему из гладиаторов школы Ациана, и как только Спартак принял руководство школой Суллы, он тотчас взял его к себе, объясняя, что ему нужен помощник в управлении школой. С волнением расставляя борцов друг против друга, Спартак улучил минуту, чтобы шепотом спросить молодого галла:
– Зачем ты пришел?
– Мы уже давно играли в кости на право идти последнему на смерть, – ответил также тихо Арторикс, – и я был одним из проигравших. Таким образом, сам рок судил мне попасть в число первых десяти гладиаторов, которые будут призваны сражаться.
Рудиарий ничего не ответил, но, завершив приготовления к бою, обратился к Сулле, говоря:
– Позволь мне, великодушный Сулла, послать в школу за другим гладиатором вместо этого, – он указал на Арторикса, – потому что…
– А почему же этот не может остаться? – спросил экс-диктатор.
– Потому что он гораздо искуснее других, и фракийская сторона, с которой он должен сражаться, имела бы огромный перевес над другой…
– Зачем заставлять нас ждать? Мы нетерпеливо хотим видеть бой. Пускай сражается этот искусник; тем хуже для самнитов!
И среди напряженного внимания и жадного любопытства, читавшегося в глазах всех присутствующих, Сулла подал знак начинать.
Как и следовало ожидать, бой продолжался недолго: минут через двадцать двое самнитов и один фракиец были убиты; двое других несчастных лежали израненные и молили Суллу о пощаде, которую он и даровал им. Последний же самнит, оставшийся один против четырех фракийцев, продолжал отчаянно защищаться. Но скоро и он, покрытый ранами, упал, заливая кровью мозаичный пол. Арторикс, который был дружен с ним, со слезами на глазах пронзил его своим мечом, чтобы избавить от мучительной агонии.
Триклиний огласился бурными рукоплесканиями. Но Сулла прервал их, закричав Спартаку своим хриплым от пьянства голосом:
– Эй, Спартак, покажи-ка нам свою силу! Возьми меч и щит у павших и сразись один против четверых.
Приказание Суллы вызвало новый оглушительный взрыв рукоплесканий, тогда как на несчастного рудиария оно подействовало, как удар палицей по голове. Думая, не ослышался ли он, не сошел ли с ума, он стоял как оглушенный, бледный и неподвижный, и глядел на Суллу, не в силах вымолвить ни слова. По телу его пробегала лихорадочная дрожь и на коже выступал холодный пот.
Арторикс, заметив его страшное потрясение, шепнул ему:
– Мужайся!
Это слово привело рудиария в себя. Он огляделся вокруг и, сделав над собой страшное усилие, сказал Сулле:
– Но… позволь напомнить тебе, славный и счастливый диктатор… ведь я уже не гладиатор: я – рудиарий, стало быть, свободный человек, и занимаю только должность ланиста в твоей школе гладиаторов.
– Ха-ха-ха! – разразился Сулла пьяным, сардоническим хохотом. – Вот каков наш храбрый Спартак! Струсил! Боится смерти! Презренное отродье – все эти гладиаторы!.. Но, клянусь палицей победоносного Геркулеса, ты будешь сражаться! – Он стукнул по столу кулаком и принял свойственный ему повелительный вид. – Кто тебе даровал свободу, трусливый варвар? Разве не Сулла? Так Сулла же приказывает тебе драться, и ты будешь драться! Будешь! Клянусь всеми богами Олимпа!
Страшные мысли и чувства кипели вулканом в голове и душе Спартака, пока он слушал эти слова, и отражались в горевших глазах и на лице, которое то вспыхивало, то покрывалось мертвенной бледностью, между тем как все мышцы его судорожно вздрагивали. Раза два или три он готов был схватить меч одного из убитых и с яростью тигра броситься на Суллу, чтобы изрубить его в куски, прежде чем присутствующие успеют вскочить с места. Но всякий раз он каким-то чудом сдерживался.
Наконец, измученный этой нестерпимой душевной борьбой, он стряхнул с себя оцепенение и со вздохом, более похожим на рычание дикого зверя, почти безотчетно, схватил щит одного из убитых и надел его на руку. Взяв другой рукой меч, он обратился к Сулле и закричал громовым, дрожащим от гнева голосом:
– Не трус я и не варвар, и буду драться, чтобы доставить тебе удовольствие, Луций Сулла, но клянусь тебе всеми твоими богами, если, по несчастью, я раню Арторикса…
Пронзительный крик женского голоса остановил безумно-смелое слово, которое готово было сорваться с уст рудиария, и отвлек внимание всех присутствующих в ту сторону, откуда он раздался.
В глубине триклиния, позади обеденных ложей и за спиной Суллы, находилась дверь, скрытая зеленой драпировкой, как и другие двери, которые вели из триклиния в различные покои дома. На пороге этой двери неподвижно стояла Валерия, бледная как полотно.
Спартак находился у нее, когда прибежал раб звать его к Сулле. Этот зов в такую пору удивил и встревожил рудиария, но еще более испугал он Валерию, подумавшую, что Спартаку грозит большая опасность. Поэтому, повинуясь единственно своему чувству к фракийцу и не заботясь ни о правилах приличия, ни об осторожности, она тотчас призвала своих рабынь, велела одеть себя в белоснежную тунику, украшенную розами, и направилась по длинному коридору, который вел из ее комнаты в триклиний, где проходила оргия.
Идя туда, Валерия намеревалась явиться веселой, расположенной забавляться, но на бледном и расстроенном лице ее слишком ясно читались волновавшие ее заботы и страх.
К тому же в дверях, за драпировкой, ей пришлось, с ужасом и негодованием, присутствовать при варварской бойне гладиаторов и при всей последующей сцене между Спартаком и Суллой. При каждом слове, при каждом жесте обоих она трепетала, замирала и чувствовала, что силы покидают ее, но медлила входить, надеясь, что какой-нибудь неожиданный оборот приведет к мирной развязке.
Когда же она увидела, что Сулла принуждает Спартака драться с Арториксом, дружба с которым была ей хорошо известна, когда заметила, какой яростью засверкали глаза рудиария и с каким отчаянием он принял вызов, но в особенности когда услышала его безумные слова, обращенные к Сулле, она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак погибнет неминуемо.
С громким криком, вырвавшимся из глубины ее души, она раздвинула драпировку и появилась на пороге, обратив на себя внимание всех гостей Суллы.
– Валерия… – вскричал он, уставившись на нее тупым взглядом и тщетно пытаясь приподняться с ложа, к которому приковали его винные пары и избыток яств. – Валерия!.. ты!.. здесь!.. В такой час!..
Все поднялись с мест или делали попытки подняться, так как уже не все были в состоянии держаться на ногах, и более или менее почтительно кланялись матроне.
Вольноотпущенница Ювентина сначала покраснела, как пурпур, а потом побледнела. Не вставая с места, она, незаметно соскользнув с ложа, скрылась под скатертью стола.
– Приветствую всех вас! – проговорила Валерия спустя минуту, в продолжение которой она успела окинуть быстрым взглядом огромную залу и вполне овладеть собой. – Да хранят боги непобедимого Суллу и его друзей!
Тем временем она успела обменяться взглядом со Спартаком, который, бросив все, не сводил с нее глаз. Появление ее казалось ему в эту минуту чем-то сверхъестественным, как если бы она сошла с небес.
От Валерии не укрылось положение, которое занимала возле ее мужа Ювентина, и ее внезапное исчезновение, но матрона скрыла свое негодование и приблизилась к ложу Суллы. Тому удалось наконец подняться на ноги, но он сильно покачивался, и ясно было, что ему недолго удастся продержаться в этом положении. Казалось, он все еще не мог надивиться появлению своей жены в такой час и в таком месте и время от времени подозрительно посматривал на нее сонными, полузакрытыми глазами. Валерия заметила эти взгляды и сказала ему, улыбаясь:
– Ты столько раз приглашал меня прийти в триклиний, что сегодня, не будучи в состоянии заснуть и слыша долетающие до меня клики пирующих, я решилась надеть пиршественное платье и прийти распить с вами чашу дружбы. Надо было к тому же увести тебя в твои покои, так как твое здоровье не позволяет тебе оставаться здесь за полночь. Но, идя сюда, я слышала звон мечей и вижу теперь трупы. Что это значит? – спросила она с негодованием, возвысив голос. – Или вам мало бесчисленных жертв, погибающих в цирках и амфитеатрах? Вы восстанавливаете старый варварский обычай, чтобы пировать и пьянствовать перед лицом смерти и подражать пьяными губами конвульсиям агонии и отчаяния, искажающим уста умирающих?
Все молчали, опустив головы, и сам Сулла, сначала что-то бормотавший, испускал теперь только односложные звуки, а потом и вовсе замолчал, как бы сознавая свою вину. Лишь гладиаторы, а в особенности Спартак с Арториксом, глядели на матрону глазами, полными любви и благодарности.
– Эй! – вскричала она, обращаясь к рабам. – Уберите немедленно трупы и похороните этих несчастных, а пол вымойте и окропите благовонными маслами; Муринскую чашу Суллы наполните фалернским и обнесите гостей чашей дружбы.
Пока рабы исполняли приказания Валерии, гладиаторы удалились.
Чаша дружбы обошла гостей среди гробового молчания, и лишь очень немногие из них осыпали в нее лепестки из своих розовых венков. Затем все, молча и пошатываясь, начали расходиться из триклиния – кто по комнатам для гостей, имевшимся в этом обширном доме, а кто домой, в ближние Кумы.
Сулла снова завалился на обеденное ложе и молчал, как будто погруженный в думы, но, в сущности, отупевший от пьянства. Валерия стала трясти его, говоря:
– Ну, что же? Уже за полночь. Соберешься ли ты пойти в свою спальню?
При этих словах Сулла приподнял отяжелевшие веки, медленно повернул лицо к жене и, еле ворочая языком, пробормотал:
– И ты… разогнала… моих гостей… Смеешь мешать… моим… забавам… Клянусь Юпитером!.. Это посягательство на всемогущество Суллы Счастливого… Эпафродита… диктатора… Клянусь всеми богами!.. я… владыка Рима… целого мира… и надо мной командовать!.. Не хочу!.. не хочу!..
Стеклянные зрачки его расширились, он попытался напрячь волю с целью собрать силы, заставить повиноваться свой язык, скованный опьянением, но голова снова тяжело свесилась на грудь.
Валерия глядела на него со смешанным чувством жалости и презрения. Но вдруг Сулла повернулся, приподнял голову и проговорил:
– Метробий!.. Где ты, мой милый Метробий?.. Приди ко мне на помощь… я хочу развестись, прогнать эту… пускай уносит и ребенка, которым она беременна… я не хочу признавать его своим…
В черных глазах Валерии сверкнуло негодование, и она с угрожающим видом сделала шаг к мужу, но тотчас с отвращением остановилась и крикнула:
– Эй! Кризогон! Позови рабов и вели им перенести твоего пьяного и грязного господина в его спальню.
И пока Кризогон, с помощью двух рабов, скорее тащил, нежели вел бормочущего ругательства Суллу в его комнату, Валерия с минуту простояла неподвижно, глядя на покров стола, под которым все еще сидела спрятавшаяся Ювентина, потом презрительно махнула рукой и вернулась в свои покои.
Сулла, растянувшись на своей постели, проспал непробудным сном весь остаток ночи и добрую часть следующего утра, тогда как Валерии не спалось.
Экс-диктатор проснулся около полудня, разбуженный чесоткой. В последнее время болезнь обострилась и раздражала его невыносимо, доводила почти до бешенства. Вскочив с постели, он накинул на себя широкую тогу и в сопровождении ходивших за ним рабов пошел в баню, опираясь на плечо своего любимца Кризогона. Путь туда вел из его спальни через обширный атриум, украшенный колоннадой дорического ордена. Пройдя предбанник, Сулла вошел в роскошную уборную с мраморными стенами и мозаичным полом, из которой три двери вели в холодную, теплую и горячую бани.
Сулла сел на мраморную скамью, покрытую подушками и пурпурными тканями, разделся с помощью рабов и вошел в горячую баню. В полу этой комнаты, также мраморной, были проделаны отверстия, в которые проходил через трубы нагретый воздух из печи, помещавшейся под баней. Направо от входа был устроен полукруглый альков с мраморным седалищем посредине, против которого стоял бассейн с теплой водой.
Войдя в альков и усевшись в него, Сулла взял в руки два небольших железных конуса и стал поднимать их. Таких конусов различной величины стояло в алькове несколько рядов для гимнастических упражнений с целью вызвать испарину.
Переходя постепенно к более тяжелым, Сулла вскоре пришел в то разгоряченное состояние, которое предшествует испарине, и тогда, выйдя из алькова, влез в бассейн с теплой водой. Он сел в нем на мраморные ступени и весь до головы ушел в теплую воду, что, по-видимому, принесло ему большое облегчение. Так, по крайней мере, можно было заключить по выражению довольства, появившегося на его лице.
– Ах, как хорошо!.. Давно уже я не чувствовал себя так хорошо, Диодор, – обратился он к одному из рабов, исполнявшему обязанности банщика, – возьми скорее скребницу и поскреби мое тело. Меня жжет, как огнем, я измучился.
Диодор взял скребницу, – инструмент вроде бронзового ножа, которым после бани растиралось тело, прежде чем намазывать его благовонными маслами, – и принялся скрести ею покрытое болячками тело Суллы. Тем временем тот спросил Кризогона:
– Переплел ли ты в пурпурный пергамент двадцать второй том моих «Комментариев», который я кончил третьего дня и дал тебе для этой цели?
– Переплел, добрый господин мой, и не только этот том, но и еще десять копий с него, которые я велел переписать рабам-копиистам.
– А!.. Молодец Кризогон! Так ты уже распорядился, чтобы сделали десять копий? – спросил Сулла, видимо довольный.
– Да, и не только с последнего тома, но и со всех предшествовавших томов. Часть экземпляров я внес в библиотеку этой виллы, часть хранится в твоем римском доме, другая – у меня, да по экземпляру каждого тома я собственноручно поднес, согласно твоему приказанию, Лукуллу и Гортензию. Я нарочно распределил экземпляры по разным местам, чтобы произведение твое вернее сохранилось в случае пожара или какого-нибудь другого несчастья, пока ты не решишься опубликовать твои «Комментарии» или пока твоя смерть – да предохранят тебя всесильные боги от нее как можно долее! – не позволит сделать это Лукуллу, согласно твоему завещанию.
– Кстати, о моем завещании: я позаботился обо всех вас, немногих, кто был верен мне во всех превратностях моей жизни.
– О, зачем ты это говоришь? – вскричал с притворной скромностью Кризогон. – Ты дал мне более, чем я заслужил: ты даровал мне свободу, твое благоволение, богатство…
– Довольно об этом, Кризогон. Постой, мне слышится шум в раздевальне.
Вольноотпущенник поспешно вышел из бани.
Вероятно, вследствие оргии предшествовавшей ночи лицо Суллы было мертвенно-бледно и казалось постаревшим; он стонал от жестоких спазмов, не утихавших даже в ванне, и жаловался на нестерпимую боль в груди. Поэтому Диодор, исполнив все нужное около него, пошел позвать Сирмиона Родиана, вольноотпущенника и врача Суллы, всегда находившегося при нем.
Тем временем Сулла почувствовал дремоту и, закинув голову за спинку бассейна, казалось, заснул. Оставшиеся в бане прислужники отошли в угол и молча боязливо глядели на того, кто заставлял их трепетать одним движением своих бровей.
Немного погодя вернулся Кризогон, и Сулла, вздрогнув, повернул к нему лицо.
– Что с тобой? – заботливо спросил вольноотпущенник, подбегая к бассейну.
– Ничего… просто дремота… Я видел сон.
– Какой же?
– Я видел мою возлюбленную жену Цецилию Метеллу, умершую в прошлом году. Она звала меня к себе…
– Сны лгут, Сулла, не стоит обращать на них внимания.
– Лгут?.. А отчего же ты сам, Кризогон, часто говоришь о твоих снах? Нет, я всегда верил снам, всегда исполнял то, что боги внушали мне во сне, и благодаря этому всегда имел успех во всех моих предприятиях.
– Ты обязан этим своему уму и доблестям, а не снам.
– Помимо ума и доблестей, Кризогон, мне всегда служила Фортуна, и часто я полагался только на нее. Поверь, самыми славными из моих дел были те, которые я предпринимал очертя голову, не размышляя.
Воспоминание о своих деяниях, среди которых было много позорных, но было немало и славных и великих, казалось, влило успокоение в душу Суллы, и лицо его немного прояснилось. Кризогон воспользовался этой минутой и доложил, что, согласно распоряжению, отданному Суллой во время пира, из Кум приведен Эдил Граний, который ждет его приказаний.
При этом имени лицо экс-диктатора мгновенно исказилось злобой. Глаза его засверкали зловещим огнем, и он закричал хриплым, яростным голосом:
– Ввести его сюда! Сейчас… пред мое лицо… этого дерзновенного! Он один в целом мире осмелился издеваться над моими приказаниями, желать моей смерти!
Сулла судорожно схватился своими исхудалыми руками за края бассейна, опираясь на них.
– Не лучше ли подождать, когда ты выйдешь из бани?
– Нет, нет… сейчас же… сюда! Я так хочу!
Кризогон вышел и сейчас же вернулся, вводя Грания.
Это был сильный мужчина лет сорока, с вульгарным лицом, на котором были написаны хитрость и жестокость. Но при входе в баню он сильно побледнел, с трудом скрывая охвативший его ужас.
– Да сохранят боги на долгие лета великодушного Суллу Счастливого! – проговорил Граний дрожащим голосом, кланяясь и поднося руку к губам.
– Не то ты говорил третьего дня, подлый плут, когда насмехался над моим справедливым приговором, обязывавшим тебя уплатить пеню в общественную казну! Ты кричал, что не уплатишь пени, что не сегодня-завтра я умру и ты освободишься от нее.
– Никогда, никогда не говорил я этого! Не верь вздорным клеветам! – пробормотал Граний, все более поддаваясь страху.
– Подлый трус, теперь ты трепещешь! Надо было трепетать тогда, когда ты оскорблял самого могущественного и счастливого из людей… Презренный!
С этими словами Сулла, пылая гневом, с выкатившимися и налитыми кровью глазами, ударил по лицу несчастного, который упал на колени, плача и моля о пощаде.
– Пощади меня! Пощади… Прости! Сжалься! – восклицал бедняк.
– Сжалиться? – кричал Сулла, выходя из себя от бешенства. – Сжалиться над тобой, оскорбляющим меня в то время, когда я страдаю мучительной болезнью?.. Нет, презренный! Ты должен умереть… здесь же… сейчас… перед моими глазами! Я жажду упиться зрелищем твоих предсмертных конвульсий, твоей страшной агонии!
И он, мечась в исступлении и колотя обеими руками по своему больному телу, закричал рабам хриплым, неистовым голосом:
– Эй, вы, лентяи! Что вы там стоите? Хватайте этого негодяя! Колотите его насмерть… душите! Убейте его… здесь… передо мной!
Заметив, что рабы колеблются, он собрал последние силы и закричал страшным голосом:
– Задушите его, или, клянусь змеями фурий, я велю всех вас распять на кресте!
Рабы бросились на злополучного эдила и принялись бить и топтать его, между тем как Сулла, мечась, как бесноватый, продолжал кричать:
– Так, так! Хорошенько его! Терзайте, душите мерзавца! Именем ада, душите на смерть!
Граний, движимый инстинктом самосохранения, свойственным всякому живому существу, отбивался всеми силами от четверых навалившихся на него рабов и осыпал их ударами своих мощных кулаков, силясь вырваться из душивших его рук. Рабы, сначала пассивно набросившиеся на свою жертву и боровшиеся с ней слабо, постепенно рассвирепели и, подстрекаемые неистовыми криками Суллы, вскоре так скрутили Грания, что лишили его возможности двигаться. Тогда один из них схватил его за горло обеими руками и, надавив изо всей силы коленом на грудь, через несколько мгновений задушил его.
Сулла с глазами, почти выскочившими из орбит, с пеной у рта, упивался со зверским наслаждением зрелищем этой бойни и продолжал хрипеть:
– Так! Так!.. Дави его!.. Души!..
Но в тот момент, когда Граний испустил дух, сам его убийца, обессиленный криком и беснованием, закинул голову на спинку бассейна и еле слышно прохрипел:
– Помогите!.. Умираю… Помогите!..
Кризогон и другие рабы бросились к нему, приподняли его и прислонили к стенке бассейна.
Лицо бывшего диктатора приняло трупный цвет; веки полуопустились над потускневшими зрачками; губы судорожно искривились, обнажив скрежещущие зубы, и все тело вздрагивало.
Пока Кризогон и рабы суетились вокруг него, стараясь привести его в чувство, он вдруг привскочил и сильно закашлялся; изо рта его потоком хлынула кровь, и через минуту, глухо застонав и не открывая глаз, он испустил дух.
Таким образом кончилась на шестидесятом году жизнь этого великого, хотя и преступного человека, гениальность и великие качества которого были заглушены жестокостью и необузданными страстями. Он совершил блестящие подвиги, но навлек на свое отечество большие бедствия и составил себе в истории репутацию великого полководца, но дурного гражданина. Рассматривая его деяния, трудно решить, что в них перевешивало: храбрость ли и энергия или хитрость и лживость. Сторонник Мария, Кней Папирий Карбон, долго и успешно воевавший против Суллы, справедливо говорил: «Воюя с Суллой, не знаешь, с кем имеешь дело – со львом или с лисицей, так как оба зверя живут в его душе, и лисица доставляет даже больше хлопот его врагам, чем лев».
Сулла умер, насладившись всем, что может желать человек, и за это его прозвали Счастливым, если счастье состоит в достижении человеком всего, чего он желал.
Едва умер Сулла, как в комнату вошел Диодор в сопровождении врача Сирмиона и объявил в дверях:
– Прибыл гонец из Рима и привез важное письмо к…
Голос его оборвался, когда он взглянул, войдя, на присутствующих, которые стояли в оцепенении, пораженные смертью своего господина.
Сирмион бросился к трупу и велел вынуть его из бассейна и положить на устроенную из подушек постель на полу. Он осмотрел его, пощупал пульс, послушал сердце и проговорил, опустив голову:
– Кончено… умер!
Раб Эвтибидэ, привезший ее письмо и вошедший в баню вслед за Диодором, стоял в углу, глядя в изумлении и страхе на происходившее вокруг. Потом, поняв, что наиболее авторитетное лицо среди присутствующих – Кризогон, он подошел к нему и сказал, подавая письмо:
– Моя госпожа, куртизанка Эвтибидэ, строго наказала мне отдать это письмо в собственные руки Суллы, но так как боги судили мне, в наказание за мои грехи, найти уже мертвым величайшего из людей и так как я заключаю по твоим слезам, что ты – один из ближайших к нему домочадцев, то вверяю письмо тебе.
Кризогон, вне себя от горя, взял пергамент и не глядя сунул его за пазуху, продолжая рыдать над телом своего благодетеля и господина, которое тем временем обсушили и натерли благовонными маслами.
Известие о смерти Суллы быстро облетело весь дом, и все его рабы сбежались в баню, которая огласилась воплями и причитаниями. В это время туда вбежал Метробий, только что прискакавший из Рима. Бледный, запыхавшийся, в грязной, истрепанной одежде, он залился слезами, крича:
– Нет! нет! Это невозможно!.. Это неправда!..
Когда он увидел труп Суллы, уже холодный и окоченевший, он зарыдал еще неутешнее и, бросившись на пол возле бездыханного тела, покрыл его лицо поцелуями.
– Умер!.. без меня!.. – восклицал он. – И я не услышал в последний раз твоего голоса, несравненный, обожаемый друг!.. не получил от тебя последнего поцелуя, мой дорогой Сулла!..
VIII. Последствия смерти Суллы
Известие о смерти экс-диктатора облетело Италию с быстротой молнии, и легче вообразить, чем описать, какое потрясение оно произвело повсюду, а в особенности в Риме. В первую минуту все онемели от изумления; потом начались толки, расспросы, комментарии. Все хотели знать, как, когда именно, при каких обстоятельствах постигла Суллу внезапная смерть. Олигархическая партия, патриции, люди богатые оплакивали смерть великого человека как общественное несчастье, как невосполнимую потерю и громко требовали, чтобы герой был погребен с императорскими почестями и чтобы в память его были воздвигнуты статуи и храмы, как в память спасителя республики и полубога.
Им вторили вопли десяти тысяч рабов, освобожденных в Риме Суллой. Эти десять тысяч образовали после торжества партии Суллы особую трибу, названную в честь Суллы корнелиями, которым он роздал часть имущества жертв проскрипции. Эти люди, всем обязанные Сулле, оплакивали его смерть не только из признательности к нему, но также из боязни, что после его смерти у них отнимут то, что они получили от его щедрот.
Кроме того, в Италии, в марианских городах (то есть тех, которые держали сторону Мария) было расположено, после того как жители этих городов были вырезаны, сто двадцать тысяч легионеров, сделавших с Суллой его походы против Митридата и против Мария во время междоусобной войны и получивших в награду имущество побежденных. Ветераны эти боготворили Суллу как великого полководца и своего благодетеля и готовы были стеной стоять за все порядки, введенные покойным диктатором.
Но сожалениям этой сильной партии противостояло ликование ста тысяч жертв жестокости Суллы, имена которых были занесены в списки проскрипции, и всех многочисленных и могущественных остатков партии Мария, которые вслух проклинали убийцу своих родных и друзей, разорителя стольких семейств, и жаждали мести и волновались в ожидании наступления нового порядка. К ним присоединились плебеи, у которых Сулла отнял многие права и привилегии и которые стремились возвратить себе утраченное. Ввиду всего этого немудрено, что известие о смерти Суллы вызвало в Риме такое смятение и брожение умов, каких давно уже не бывало в этом городе.
На форуме, в базиликах, под портиками храмов, на улицах, в лавках, на рыночных площадях – всюду собирались толпы народа всякого сословия, чтобы обменяться новостями, и все громко кричали, оплакивая общественное несчастье, или еще громче – благодаря богов, избавивших наконец республику от поработившего ее тирана. И всюду слышались споры, взаимные попреки, в которых неудержимо прорывались страсти: ненависть, жажда мести, страх, ожидание и надежда.
Возбуждение умов становилось тем опаснее, что консулы принадлежали к различным партиям и вели между собой тайную борьбу. При таких условиях, когда страсти разгорелись, когда борцы уже стояли наготове и каждая сторона имела своего намеченного вождя, не уступавшего в храбрости и влиянии вождю противной стороны, междоусобная война представлялась неизбежной и близкой.
Добрые и авторитетные граждане, сенаторы и консулары пытались успокоить умы обещаниями реформ, новых законов, возвращения плебеям их старинных привилегий, но усилия их приносили мало плодов ввиду необычайного возбуждения народных страстей.
Многие из сенаторов и граждан, а также и вольноотпущенники трибы корнелиев отпустили бороды в знак траура и облеклись в темные тоги; многие женщины, также в трауре, с распущенными волосами, бегали из храма в храм, моля богов о защите, словно смерть Суллы подвергла Рим величайшей опасности. Все это вызывало насмешки его врагов, которые разгуливали по форуму и по городским улицам, свободно болтая и смеясь.
На людных местах, где вывешивались на мраморных досках или на альбумах новоизданные законы и указы, была вывешена в продолжение трех суток после смерти Суллы дощечка с такой эпиграммой: «Счастливый диктатор Сулла считал себя властелином мира; но боги покарали гордеца, и тот, кто мечтал видеть Рим у своих ног, был отдан на съедение вшам». В иных местах было начертано: «Долой исключительные законы!», то есть те законы, именем которых Сулла прикрывал свой беззаветный деспотизм; или «Мы требуем неприкосновенности трибунов», которую Сулла самовольно отменил; или «Слава Каю Марию!». Все это ясно показывало, в каком возбужденном состоянии находились умы.
Консул Марк Эмилий Лепид, который даже при жизни Суллы не скрывал своей ненависти к нему, выражал теперь свои чувства еще более явно в уверенности, что партизаны Мария и народ – на его стороне. Другой же консул Лутаций Катулл хотя и принадлежал к олигархической партии, но, как человек выдающегося ума и честного характера, давал понять, никому не бросая вызовов, что он будет подчиняться сенату и законам.
Катилина не преминул воспользоваться волнением умов и старался раздуть его еще сильнее. Хотя он и поддерживал добрые отношения с Суллой, но все его надежды, страсти и долги побуждали желать переворота, так как ему нечего было терять, и он мог только выиграть. Поэтому как сам он, так и его молодые друзья сильно агитировали среди недовольных, стараясь раздуть еще более и без того достаточно сильную ненависть к олигархии.
Одни только Кней Помпей и Марк Красс, пользуясь своей огромной популярностью, употребляли все усилия для примирения врагов и призывали граждан к уважению законов ради предохранения отечества и республики от страшных опасностей, которые могла навлечь на них новая междоусобная война.
Среди всей этой сумятицы сенат сошелся в курии Гостилии, чтобы обсудить вопрос, какие почести следует воздать праху победителя Митридата.
Курия Гостилия, построенная царем Туллием Гостилием за пятьсот шестьдесят лет до событий, о которых идет речь, стояла у подошвы Палатинского холма и служила обычным местом собраний сената. Здание это считалось священным наравне с храмом, хотя и не было им в собственном смысле. Оно состояло из большой квадратной залы, окруженной колоннадой, поддерживавшей галерею, куда впускалась публика. Внизу, на трех мраморных ступенях, расположенных полукругом и покрытых подушками и мехами, находились места сенаторов. Перед ними, у мраморного стола, стояли два пышных курульных стула для консулов, а в центре верхней ступени находилось особое место для председателей сената. Напротив консульского стола, в глубине амфитеатра, стояли скамьи для плебейских трибунов, которые только в последние сто лет получили право заседать в самой курии; в прежние же времена они сидели снаружи под портиком, у двери в курию, где и знакомились с декретами сената.
В тот день, когда предстояло обсуждение сенатом вопроса о почестях, которые надлежало воздать праху Суллы, галерея курии была полна народа, равно как и портик, и прилегающие комиции, где собралось до пяти тысяч корнелиев с отпущенными бородами и в траурных одеждах. Они оглашали воздух восхвалениями Суллы, тогда как семь или восемь тысяч других граждан, большей частью капоцензов, ругали и проклинали его. Галерея курии была переполнена, равно как и сенаторские места, на которых замечалось необычайное движение.
Председательствовал в этом заседании Публий Сервилий Вотий Изаврийский, муж совета, который славился своими доброделями и умом. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутацию Катуллу. Тот в коротких словах очертил славные подвиги Суллы: взятие в плен Югурты в Африке, победу над Архелаем в Херонее, поражение Митридата, прогнанного в Азию, покорение Афин и прекращение опасной междоусобной войны, и заключил предложением оказать его праху почести, достойные его и римского народа, которого он был вождем и полководцем. Он предложил, чтобы бренные останки экс-диктатора были торжественно перевезены из Кум в Рим и погребены на Марсовом поле.
Короткая речь Катулла вызвала шумное одобрение на всех сенаторских местах и бурный ропот в галерее.
Когда шум унялся, поднялся с места Лепид и сказал:
– Глубоко сожалею, отцы сенаторы, что я не могу согласиться на этот раз с мнением моего славного коллеги Катулла, добродетели и благородство души которого я первый признаю и ценю; но я нахожу, что под внушением своего великодушного сердца, а также и своей заботы об интересах и чести нашего отечества он внес предложение не только неуместное, но вредное и не справедливое. По доброте души он привел все доводы, говорящие в пользу покойного Луция Корнелия Суллы и могущие склонить это высокое собрание к оказанию его праху императорских почестей. Но, исчисляя его доблести, мой коллега умолчал о несчастьях, которые навлек покойный на свое отечество, о смутах и междоусобицах, раздиравших в его правление Рим, и, говорю без обиняков, о преступлениях, которыми он запятнал свое имя, – преступлениях, из которых довольно было бы одного, чтобы затмить память об этих доблестях.
На этот раз громкий ропот поднялся с сенаторских мест, галереи же огласились шумными рукоплесканиями. Но Вотий Изаврийский подал знак трубачам, и они трубными звуками заглушили голос народа.
– Говорю прямо, – продолжал Лепид, – недобрую память оставил по себе Риму Сулла. Имя его напоминает нам не только о его преступлениях и пороках, но и о том, как попирались законы, влачилось в грязи звание консулов, возводилась в единый закон воля деспота; напоминает о гнусных проскрипциях, погубивших тысячи невинных жертв, о разорении, грабежах, насилиях всякого рода, совершавшихся по его приказанию, ко вреду и позору нашего отечества. И такому человеку, имя которого напоминает каждому из граждан о каком-нибудь личном его несчастье, вы хотите устроить царские похороны?! Как? Луция Суллу, задушившего республику, похоронить на Марсовом поле, где высится могильный холм Публия Валерия Публиколы, одного из ее основателей?! Как? На этом поле, где, в силу особых декретов сената, хоронились останки только славнейших и добродетельнейших из граждан, мы предадим земле прах того, кто умертвил или услал в изгнание благороднейших из людей нашего времени?! Мы воздадим пороку ту честь, которой отцы наши награждали только добродетель?! И ради чего мы совершим такой низкий поступок, противный нашему достоинству и нашей совести? Не из страха ли перед теми двадцатью семью легионами, которые сражались за Суллу и всегда готовы были по первому его приказу опустошать самые цветущие области Италии, где он все более свирепствовал? Или из страха перед десятью тысячами презренных рабов, которым он, по собственной прихоти и вопреки всем нашим законам и обычаям, даровал свободу и почетное звание римского гражданина? Положим, что при жизни его ни народ, ни сенат не осмеливались требовать соблюдения законов, – так унизились души под роковым влиянием страха, который он внушал. Но, ради всех богов, что же теперь-то вынуждает вас, отцы сенаторы, признавать нечестивца за праведника, прославлять величие души самого коварного из людей и отдавать почести, подобающие только самым великим и добродетельным из граждан, худшему из сынов Рима? О, не доводите меня до отчаяния в судьбах нашего отечества; дайте мне верить, что в вашем высоком собрании еще сохраняются совесть, достоинство и мужество и что в нем преобладает не низкая трусость, а глубокое сознание своего высокого достоинства! Отвергните, как бесчестное и недостойное, внесенное предложение предать земле на Марсовом поле останки Луция Суллы!
Речь Лепида вызвала громкие рукоплескания не только среди плебеев, но и со стороны многих сенаторов, убежденных его смелыми словами. На все собрание речь эта произвела сильное впечатление, какого не ожидали и не желали сторонники Суллы.
Когда вызванный ею шум утих, тогда поднялся с места Кней Помпей, один из самых молодых и наиболее популярных государственных людей Рима. Речь его, не блиставшая изяществом слога, – он не был одарен красноречием, – но прочувствованная, исходившая от сердца, заключала в себе надгробную похвалу Сулле. Он прославлял его блестящие подвиги и великие предприятия и старался оправдать его дурные поступки и пороки, объясняя их не столько его натурой, сколько окружающими условиями, суровой необходимостью, исключительными обстоятельствами, с которыми ему приходилось иногда бороться, вошедшим в обычай нарушением законов и испорченными нравами римского народа и патрициев.
Искренняя, неприкрашенная речь Помпея произвела громадное впечатление на всех, а в особенности на сенаторов. После него говорили еще некоторые другие ораторы, и, наконец, было приступлено к закрытой баллотировке. В результате получилось: триста двадцать семь голосов за предложение Катулла и девяносто три против него.
Таким образом, победа осталась за сторонниками Суллы, и собрание разошлось среди величайшего волнения, которое от курии Гостилии распространилось на комиции и вызвало бурные манифестации различного характера. Сторонники Суллы рукоплескали Катуллу, Вотию, Помпею, Крассу, тогда как противники его чествовали Лепида, Катилину, Лентула Сура, которые, как всем известно, энергично противились принятию предложения Катулла.
В ту минуту, когда Помпей с Лепидом вышли из курии, продолжая горячо спорить, в возбужденной и шумной толпе чуть не началась свалка, которая могла бы привести к роковым последствиям для республики и вызвать междоусобную войну, исхода которой невозможно было предвидеть. В то время как тысячи голосов шумно прославляли Лепида, другие тысячи, большей частью из трибы корнелиев, рукоплескали Помпею. Взаимные угрозы и брань неизбежно привели бы к кровопролитию, если бы Лепид и Помпей не взялись за руки, проходя сквозь толпу, и не стали громко убеждать своих сторонников успокоиться и мирно разойтись по домам.
Хотя это и предупредило общую свалку, однако не помешало кровопролитным дракам во многих местах: в тавернах и кабаках, в школах, на форуме, в базиликах, под портиками, где обыкновенно теснится народ. Множество людей было убито или изранено в эту ночь, и немало было также попыток поджечь дома сторонников Суллы.
Пока в Риме происходили описанные события, в Кумах совершались другие дела, не менее важные для хода нашего рассказа.
В самый день смерти Суллы, вскоре после того, как весть об этом неожиданном событии взбудоражила всех обитателей виллы, туда прибыл из Капуи какой-то человек, по наружности и одежде похожий на гладиатора. Он спросил Спартака, по-видимому имея к нему какое-то важное дело.
Человек этот, с виду лет сорока, был колоссального роста и богатырского сложения; необычайная сила и ловкость его угадывались с первого взгляда. Лицо его, с грубыми, некрасивыми чертами и очень смуглой кожей с землистым оттенком, было все усыпано прыщами, словно изрытое оспой. Черные маленькие глаза, полные огня и смелости, шапка густых каштановых волос и всклокоченная борода придавали ему еще более грубый и дикий вид.
Однако, несмотря на свою непривлекательную наружность, этот гладиатор с первого же взгляда внушал невольное сочувствие, так как его лицо, фигура, взгляд, каждый жест дышали прямотой, честностью, благородной, хотя и варварской гордостью.
Здание, где помещались гладиаторы, отстояло довольно далеко от виллы, и, пока один из рабов бегал звать Спартака, приезжий прохаживался по аллее между дворцом Суллы и домом гладиаторов, осматривая окружающие богатства и роскошь.
Но не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним показался и Спартак, спешивший с распростертыми объятиями навстречу к своему гостю. Со своей стороны, и тот бежал к нему, протягивая руки, и, встретившись, они заключили друг друга в объятия и несколько раз поцеловались. Потом Спартак спросил:
– Что нового, Эномай?
– Новости мои стары, – ответил гладиатор приятным глубоким голосом. – Все мы лежим на боку, ничего не делая, ничего не предпринимая. Пора бы, дорогой мой Спартак, браться за мечи и поднимать знамя восстания!
– Молчи, Эномай! Клянусь богами Германии, ты хочешь погубить наше дело.
– Напротив того, я хочу, чтобы оно увенчалось полнейшим успехом.
– Так не кричи же, необузданный человек! Ведь мы должны быть осторожны, чтобы достигнуть нашей цели.
– Достигнем ли?.. И когда же?.. Вот что мне нужно знать. Я желал бы, чтобы это произошло при моей жизни.
– Надо, чтобы дело созрело.
– Кизил зреет со временем, лежа в соломе; но такой фрукт, как наше восстание, – знаешь ли, как оно созревает?.. С помощью мужества, смелости, риска… Идем без сомнений! Если только дело начнется, ты увидишь, как все пойдет само собой.
– Но послушай… имей же терпение!.. Сколько человек удалось тебе привлечь в эти три месяца к нашему союзу в школе Лентула Батиата?
– Сто тридцать.
– Сто тридцать из десяти тысяч!.. И ты находишь такой плод наших более чем годовых усилий достаточно зрелым или, по крайней мере, окрепшим, чтобы от него можно было ждать какой-нибудь пользы?
– Когда начнется восстание, ты увидишь, сколько к нему пристанет гладиаторов.
– Но как же они пристанут, не зная ни кто мы, ни какие наши цели, ни какими средствами мы располагаем?.. Ведь чем более доверия успеем мы внушить нашим товарищам в этом предприятии, тем более шансов на успех будет у нас.
