В стране водяных бесплатное чтение
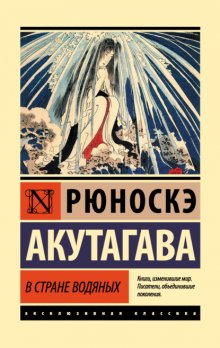
© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2021
© Перевод. Л. Ермакова, 2021
© Перевод. В. Маркова, наследники, 2021
© Перевод. В. Санович, наследники, 2021
© Перевод. А. Стругацкий, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Маска Хёттоко
У перил моста Адзумабаси теснятся люди. Время от времени к ним подходит полицейский и уговаривает всех разойтись, но толпа тут же смыкается снова. Все ждут, когда под мостом пройдут лодки, направляющиеся на праздник любования цветами вишни.
По одной и по две лодки плывут с низовьев вверх по реке, которую уже начал приподнимать прилив. На многих натянут парусиновый тент, а по бокам его свешиваются занавески – белые в красную полоску. На носу водружены флаги и развевающиеся вымпелы в старинном вкусе. Похоже, что все, сидящие в лодках, слегка навеселе. В просветах между занавесками можно различить игроков в кэн[1] – обмотав голову полотенцем на манер женщин из весёлого квартала Ёсивара или торговок рисом, они выкрикивают: «Один, два!» Видно, как кто-то силится петь, качая в такт головой. Тем, кто смотрит на них с моста, всё это чистая потеха. Когда мимо проплывают лодки с музыкантами – и с традиционными инструментами, и с европейскими – зеваки на мосту разражаются громкими возгласами. Кто-то даже кричит: «Вот дурачьё!»
С моста река похожа на оловянную пластинку, белым всполохом отражающую солнце, время от времени проходящие катера поднимают поперечную волну, добавляя к поверхности позолоту. Кажется, что бодрый стук барабанов, звуки флейты и сямисэна вонзаются в эту разглаженную водную поверхность, как укусы вшей. От кирпичных стен фабрики, где варят пиво «Саппоро», и далеко за насыпь тянется что-то припорошённое копотью, белёсое, тяжеловесное – это и есть вишни, которые сейчас в цвету. У пристани Кототои виднеется множество японских и европейских лодок. Шлюпочный сарай университета заслоняет их от солнца, и отсюда видно только, как движется какая-то колышущаяся тёмная масса.
Вот из-под моста вынырнула ещё одна лодка. Как и все прежние, это большая ладья старинной японской постройки, и она тоже направляется на праздник любования цветущей вишней. Укрепив на лодке красно-белые занавески с полосатым вымпелом таких же цветов, гребцы, повязав на голову одинаковые полотенца с нарисованными на них алыми цветками вишни, поочерёдно то делают взмах единственным веслом, то отталкиваются шестом. И всё же лодка идёт не очень быстро. В тени занавесок виднеется человек десять. Пока лодка ещё не вошла под мост, они наигрывали на двух сямисэнах не то мелодию «И среди слив весна», не то ещё что-то, а когда песня кончилась, оркестр заиграл какую-то разухабистую музыку, да ещё с ударами гонга. На мосту снова раздался дружный смех. Послышался плач ребёнка, прижатого в давке. И пронзительный женский голос: «Ох, да вы посмотрите только! Пляшет!» Какой-то невысокий человек, напялив на себя шутовскую маску Хёттоко[2], выделывал в лодке под музыку нелепый танец.
Он снял верхнюю накидку из ткани титибу и выставил на обозрение яркую нижнюю сорочку – средняя часть её была сшита из парчи юдзэн, а рукава к ней были приделаны из блёклого сжатого ситца. Что он изрядно выпил, было ясно уже потому, что ворот его с чёрным обшлагом оказался вовсю распахнут, тёмно-синий пояс развязался и болтался сзади. Плясал он тоже, разумеется, неизвестно как. То есть можно было догадаться, что он хочет изобразить священный танец, какой исполняют на прихрамовых праздниках, но вместо этого у него выходили совсем уж нелепые и неуклюжие телодвижения. Видно было, что человек так напился, что уже не может управлять своим телом, а иногда казалось, что он попросту не может удержать равновесия и изо всех сил машет руками и ногами, чтобы ненароком не свалиться в воду.
Это было ещё смешней, и на мосту оживлённо загалдели. Смех перемежался критическими замечаниями:
– Ты только погляди на эту фигуру!
– Да, веселится вовсю! И откуда это чучело?!
– Потеха! Ой, смотрите, споткнулся на ровном месте!
– Танцы-то лучше затевать на трезвую голову!
И всё в таком духе.
Тем временем, – выпитое, что ли, подействовало сильнее, – движения танцора становились всё более странными. Голова его с завязанным у подбородка полотенцем с вишенным узором задёргалась, как стрелка испорченного метронома, он несколько раз подряд чуть не выпал за борт лодки. Лодочник явно забеспокоился и дважды окликнул его сзади, но тот, казалось, и не слышал.
И тут боковая волна от шедшего наискосок катера сильно качнула дно лодки. Маленькая фигурка Хёттоко, будто удар пришёлся прямо по ней, подалась на три шага вперёд, описала последний большой круг и, на секунду замерев, как остановившийся волчок, упала навзничь на дно лодки, задрав ноги в вязаных носках.
Зеваки на мосту грянули смехом. В лодке от этого происшествия, кажется, даже сломалась ручка сямисэна. Через занавески видно было, как вся эта только что шумно веселившаяся хмельная компания пришла в смятение, одни вскочили с сидений, другие, наоборот, сели. Гремевший вовсю оркестр внезапно умолк, словно захлебнулся. Слышны были только громкие голоса. Там, как видно, произошло что-то неожиданное. Через некоторое время из-под тента выглянул человек с красным лицом и, растерянно жестикулируя, что-то скороговоркой сказал гребцу. Тогда лодка почему-то сменила направление и двинулась не в ту сторону, где цвели вишни, а к противоположному берегу, в сторону гостиницы в горах.
О внезапной смерти человека в маске зеваки на мосту узнали спустя десять минут. Более подробные сведения были помещены в газете на следующий день в отделе «Разное». Там было сказано, что имя этого Хёттоко Ямамура Хэйкити и что умер он от кровоизлияния в мозг.
Ямамура Хэйкити – владелец полученной в наследство от отца лавки художественных принадлежностей в Вакамацу-мати, в районе Нихомбаси. Умер он в возрасте сорока пяти лет, оставив тощую веснушчатую жену и служившего в армии сына. Они были не слишком богаты, но всё же держали при лавке двоих-троих приказчиков и, в общем, жили, по-видимому, не хуже других. Рассказывают, что во время японо-китайской войны они занялись скупкой малахитового пигмента где-то в окрестностях Акиты и не прогадали, а раньше у лавки только и было хорошего, что репутация старой фирмы, постоянных же клиентов – раз-два и обчёлся.
Хэйкити – круглолицый, лысоватый, с мелкими морщинами вокруг глаз, чем-то комичный и со всеми подобострастно любезный. Больше всего он любит выпить и во хмелю ведёт себя вполне сносно. Одно только плохо – как выпьет, так и принимается за свои странные танцы. Как сам он рассказывал, началось всё с того, что он учился танцевать у хозяйки заведения Тоёды на улице Хаматё, бравшей уроки танцев для прихрамовых танцовщиц-жриц мико; в те времена и в Симбаси, и в Ёситё эти танцы были в большом ходу. Но, конечно, гордиться своим искусством ему не приходится. Грубо говоря – танцы его какие-то сумасшедшие, выражаясь помягче – ну, малость получше, чем у Кисэна[3]. Однако он и сам, видно, это сознаёт и в трезвом виде даже не упоминает о своих священных танцах. «Ямамура-сан! Изобрази-ка нам что-нибудь!» – просят его, бывало, но он только отшучивается. Но стоит ему приложиться к божественному напитку, как он тотчас повязывает голову полотенцем, подражает звукам флейты и барабана, становится в позу и начинает подёргивать плечами, обуреваемый неудержимым желанием танцевать в маске Хёттоко свои шутовские танцы. А стоит ему начать, как он впадает в раж и уже не может остановиться. Есть при этом сямисэн и пение или нет – это его нисколько не волнует.
Уже два раза под пагубным действием выпитого он падал и терял сознание, как при апоплексии. В первый раз это случилось в бане, когда он обливался горячей водой и вдруг рухнул на цементную раковину. Тогда он только ушиб поясницу и уже через десять минут пришёл в себя. Во второй раз он упал дома, в амбаре. Позвали врача, и на этот раз, чтобы привести его в чувство, потребовалось уже полчаса. Врач тогда настрого запретил ему пить. Некоторое время он воздерживался самым похвальным образом, но продлилось это недолго. Объявив «ну я только один стаканчик», он постепенно увеличивал дозу, и не прошло и полумесяца, как незаметно возвратился к старому. Однако он по этому поводу особенно не огорчался и время от времени заявлял: «А совсем не пить, так для здоровья, наоборот, только хуже будет».
Но пьёт Хэйкити не только из физической потребности, как он сам всем объясняет. Он не может отказаться от выпивки и по психологическим причинам. Ведь только когда он под хмельком, он делается отважным и не смущается ничьим присутствием. Хочется ему танцевать – танцует, хочется спать – спит. И никто ему не указ. А для Хэйкити это важнее всего. А почему, собственно? Этого он и сам не понимает.
Он знает только, что когда выпьет, то становится другим человеком. Натанцуется, бывало, до упаду, а как протрезвеет и скажут ему: «Ну ты и хорош был вчера», – он сразу смущается и привычно врёт: «Да я как выпью, так уж ничего не соображаю. Утром встал – и совсем не помню, что вчера делал. Как во сне». На самом деле он отлично помнит, как сначала танцевал, а потом заснул. И трудно себе представить, что тот вчерашний Хэйкити, чётко запечатлевшийся у него в памяти, и Хэйкити сегодняшний – один и тот же человек. Какой из них настоящий, – он и сам толком не понимает. Пьян он бывает иногда, в остальное время – трезв. Выходит, трезвый Хэйкити – и есть настоящий, но, как это ни странно, сам Хэйкити не может поручиться ни за то, ни за другое. Ведь то, чего он потом стыдится, почти всегда совершается в пьяном виде. Танцы – это бы ещё ладно. Но он играет в цветочные карты[4]. Покупает женщин. Словом, делает такое, о чём тут и не напишешь. Кому же захочется утверждать, что в подобных делах и выражается его истинное «я»? У бога Януса два лица, и никому не ведомо, какое из них настоящее. Так и с Хэйкити.
Я уже сказал, что Хэйкити трезвый и Хэйкити пьяный – два совершенно разных человека. По части вранья Хэйкити трезвый мало кому уступит. Иногда он и сам это понимает. Однако это не значит, что он плетёт свои выдумки ради выгоды или расчёта. Лжёт он почти бессознательно. Солгав, сам тут же примечает это, но, пока говорит, подумать о последствиях не в состоянии.
Хэйкити и сам не мог бы объяснить, зачем привирает. Но стоит ему с кем-нибудь заговорить, как с языка сама собой срывается ложь, о которой он до того и не помышлял. Однако это не особенно его тяготит. И не кажется чем-то дурным. Поэтому что ни день Хэйкити городит свои россказни безо всякого стеснения.
Хэйкити как-то рассказывал, что одиннадцати лет поступил в услужение в писчебумажный магазин в Минами-Дэмматё. Хозяин его был ревностный адепт буддийской школы Тэндай и даже к ужину не прикасался, не произнеся перед тем соответствующей сутры. И вот через два месяца после появления Хэйкити в магазине, повинуясь какому-то неожиданному порыву, хозяйка сбежала в чём была с молодым приказчиком. То ли потому, что хозяин, помешанный на Лотосовой сутре, увидел, что не помогла ему сутра сохранить лад в семье, но рассказывали, что он решил перейти в другую буддийскую школу – Дзёдо, бросил в реку изображение бодхисаттвы Тайсяку, положил под котёл изображение пресветлой богини с семью ликами и сжёг его дотла, – говорят, много тогда шуму было.
По словам Хэйкити, он прожил там до двадцати лет и, бывало, плутовал со счетами и тогда отправлялся куда-нибудь поразвлечься. У него даже сохранились неприятные воспоминания – об одной женщине, с которой он был близок и которая как-то предложила ему совершить вместе самоубийство по сговору. Тогда ему удалось под разными предлогами выйти из положения и улизнуть, а через три дня он узнал, что она всё-таки совершила самоубийство – вместе с работником из мастерской металлических украшений. Человек, с которым она прежде была близка, ушёл к другой, и назло ему она хотела умереть с первым встречным.
Когда Хэйкити исполнилось двадцать, умер его отец, и тогда, взяв в лавке расчёт, он поехал домой. Прошло примерно полмесяца, и как-то приказчик, служивший ещё при жизни отца, попросил молодого хозяина написать письмо. Это был человек лет пятидесяти, надёжный и серьёзный, он в то время повредил себе пальцы правой руки и не мог писать. Приказчик этот попросил сообщить в письме следующее: «Всё идёт как надо, скоро приеду», – так Хэйкити и написал. Письмо было адресовано женщине, и Хэйкити поддразнил его: «Смотрите-ка! А вы, оказывается, человек умелый!» – на что тот ответил: «Это, изволите ли видеть, письмо моей старшей сестре». И вот через три дня этот человек ушёл из дому, сказав, что идёт к клиентам за заказами, и больше не вернулся. При проверке счетов обнаружилась огромная недостача. Письмо, по всей вероятности, было адресовано любовнице. Где ещё сыщешь такого остолопа, как Хэйкити, который сам же ещё взялся и написать это послание!..
Всё это были выдумки. Но без этих выдумок в жизни Хэйкити (той, что известна людям), наверно, ничего и не останется.
Наверняка Хэйкити был уже в подпитии, когда позаимствовал у весёлой компании маску Хёттоко и сел в лодку, отправлявшуюся на праздник цветущей вишни.
Я уже рассказывал, что он упал на дно лодки и умер прямо во время своего танца. Вся компания, конечно, перепугалась донельзя. Но больше всех шокирован был мастер игры на сямисэне в стиле киёмото-буси, которому Хэйкити свалился буквально на голову. Потом тело его перекатилось на красное одеяло, расстеленное на шкафуте лодки, где были разложены рулетики с рисом, обвёрнутые сушёными водорослями, и варёные яйца.
– Что за шутки? А если б ты поранился?! – сердито сказал староста квартала, всё ещё думая, что Хэйкити продолжает дурачиться. Но тот не пошевелился.
Сидевший рядом со старостой владелец парикмахерской, заподозрив неладное, потряс Хэйкити за плечо и окликнул его: «Хозяин, эй, хозяин!» – но Хэйкити опять ничего не ответил. Парикмахер взял его за руку и почувствовал холод. Вдвоём они подняли Хэйкити. Все, кто был в лодке, встревожившись, вытянули шеи. «Хозяин, эй, хозяин, эй!» – встревоженно кричал парикмахер.
И тут едва различимый звук – не то вздох, не то голос – послышался старшине из-под маски. «Маску… снимите… маску…» Старшина с лодочником дрожащими руками стянули с головы Хэйкити полотенце и маску.
Но то, что они увидели под маской, уже не походило на обычное лицо Хэйкити. Мелкий его нос заострился, губы потеряли цвет, по бледному лбу градом катился пот. Никто бы теперь не узнал в нём весельчака, комика, балагура Хэйкити. Не переменилась только скривившая вытянутые губы, притворно глуповатая, безмолвно смотрящая с красного одеяла вверх на Хэйкити маска Хёттоко.
Ад одиночества
Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда. Насколько рассказ достоверен, не знаю. Но, судя по тому, каким человеком был прадед, я вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место.
Прадед был страстным поклонником искусства и литературы и имел обширные знакомства среди актёров и писателей последнего десятилетия правления Токугавы[5]. Среди них были такие люди, как Каватакэ Мокуами, Рюка Тэйтанэкадзу, Дзэндзай Анэйки, Тоэй, Дандзюро-девятый, Удзи Сибун, Мияко Сэнтю, Кэнкон Борюсай и многие другие. Мокуами, например, с прадеда писал Кинокунию Бундзаэмона[6] в своей пьесе «Эдодзакура киёмидзу сэйгэн». Он умер лет пятьдесят назад, но потому, что ещё при жизни ему дали прозвище Имакибун («Сегодняшний Кинокуния Бундзаэмон»), возможно, и сейчас есть люди, которые знают о нём хотя бы понаслышке. Фамилия прадеда была Сайки, имя – Тодзиро, литературный псевдоним, которым он подписывал свои трёхстишия, – Кои, родовое имя – Ямасирогасино Цуто.
И вот этот самый Цуто однажды в публичном доме Таманоя в Ёсиваре познакомился с одним монахом. Монах был настоятелем дзенского храма неподалёку от Хонго, и звали его Дзэнтё. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошёлся с самой известной там куртизанкой по имени Нисикидзё. Происходило это в то время, когда монахам было запрещено не только жениться, но и предаваться плотским наслаждениям, поэтому он одевался так, чтобы нельзя было в нём признать монаха. Он носил дорогое шёлковое кимоно, жёлтое в бежевую полоску, с нашитыми на нём чёрными гербами, и все называли его доктором. С ним-то совершенно случайно и познакомился прадед матери.
Действительно, это произошло случайно: однажды поздно вечером в июле по лунному календарю, когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках Ёсивары вывешивают фонари, Цуто шёл по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг увидел облокотившегося о перила мужчину, любующегося луной. Бритоголового, низкорослого, худого мужчину. При лунном свете Цуто показалось, что стоящий к нему спиной мужчина – Тикунай, завсегдатай этого дома, шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, Цуто слегка потрепал его за ухо. «Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернётся», – подумал Цуто.
Но, увидев лицо обернувшегося к нему человека, сам испугался. За исключением бритой головы, он ничуть не был похож на Тикуная. Большой лоб, густые, почти сросшиеся брови. Лицо очень худое, и, видимо, поэтому глаза кажутся огромными. Даже в полутьме резко выделяется на левой щеке большая родинка. И наконец, тяжёлый подбородок. Таким было лицо, которое увидел оторопевший Цуто.
– Что вам нужно? – спросил бритоголовый сердито. Казалось, он чуть-чуть навеселе.
Цуто был не один, я забыл об этом сказать, а с двумя приятелями – таких в то время называли гейшами. Они, конечно, не остались безучастными, видя оплошность Цуто. Один из них задержался, чтобы извиниться за Цуто перед незнакомцем. А Цуто со вторым приятелем поспешно вернулся в кабинет, где они принялись развлекаться. Как видите, страстный поклонник искусств – и тот может опростоволоситься. Бритоголовый же, узнав от приятеля Цуто, отчего произошла столь досадная ошибка, сразу пришёл в хорошее расположение духа и весело рассмеялся. Нужно ли говорить, что бритоголовый был Дзэнтё?
После всего случившегося Цуто приказал отнести бритоголовому поднос со сластями и ещё раз попросить прощения. Тот, в свою очередь, сочувствуя Цуто, пришёл поблагодарить его. Так завязалась их дружба. Хоть я и говорю, что завязалась дружба, но виделись они лишь на втором этаже этого заведения и нигде больше не встречались. Цуто не брал в рот спиртного, а Дзэнтё, наоборот, любил выпить. И одевался, не в пример Цуто, очень изысканно. И женщин любил гораздо больше, чем Цуто. Цуто говорил в шутку, что неизвестно, кто из них на самом деле монах. Полный, обрюзгший, внешне непривлекательный Цуто месяцами не стригся, на шее у него висел амулет в виде крохотного колокольчика на серебряной цепочке, кимоно он носил скромное, подпоясанное куском шёлковой материи.
Однажды Цуто встретился с Дзэнтё, когда тот, набросив на плечи парчовую накидку, играл на сямисэне. Дзэнтё никогда не отличался хорошим цветом лица, но в тот день был особенно бледен. Глаза красные, воспалённые. Дряблая кожа в уголках рта время от времени конвульсивно сжималась. Цуто сразу же подумал, что друг его чем-то сильно встревожен. Он дал понять Дзэнтё, что охотно его выслушает, если тот сочтёт его достойным собеседником, но Дзэнтё, видимо, никак не мог решиться на откровенность. Напротив, он ещё больше замкнулся, а временами вообще терял нить разговора. Цуто подумал было, что Дзэнтё гложет тоска, такая обычная для посетителей публичного дома. Тот, кто от тоски предаётся разгулу, не может разгулом прогнать тоску. Цуто и Дзэнтё долго беседовали, и беседа их становилась всё откровеннее. Вдруг Дзэнтё, будто вспомнив о чём-то, сказал:
– Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но, в общем, ад можно разделить на три круга: дальний ад, ближний ад и ад одиночества. Помните слова: «Под тем миром, где обитает всё живое, на пятьсот ри[7] простирается ад»? Значит, ещё издревле люди верили, что ад – преисподняя. И только один из кругов этого ада – ад одиночества – неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Несколько лет назад я попал в такой ад. Ничто не привлекает меня надолго. Вот почему я постоянно жажду перемен. Но всё равно от ада мне не спастись. Если же не менять того, что меня окружает, будет ещё горше. Так я и живу, пытаясь в бесконечных переменах забыть горечь следующих чередой дней. Если же и это окажется мне не под силу, останется одно – умереть. Раньше, хотя я и жил этой горестной жизнью, смерть мне была ненавистна. Теперь же…
Последних слов Цуто не расслышал. Дзэнтё произнёс их тихим голосом, настраивая сямисэн… С тех пор Дзэнтё больше не бывал в том заведении. И никто не знал, что стало с этим погрязшим в пороке дзенским монахом. В тот день Дзэнтё, уходя, забыл комментированное издание сутры «Кого». И когда Цуто в старости разорился и уехал в провинциальный городок Самукаву, среди книг, лежавших на столе в его кабинете, была и сутра. На обратной стороне обложки Цуто написал трёхстишие собственного сочинения: «Сорок лет уж смотрю на росу на фиалках, устилающих поле». Книга не сохранилась. И теперь не осталось никого, кто бы помнил трёхстишие прадеда матери.
Рассказанная история относится к четвёртому году Ансэй[8]. Мать запомнила её, видимо привлечённая словом «ад».
Просиживая целые дни в своём кабинете, я живу в мире совершенно ином, не в том, в котором жили прадед матери и дзенский монах. Что же до моих интересов, то меня ни капли не привлекают книги и гравюры эпохи Токугавы. Вместе с тем моё внутреннее состояние таково, что слова «ад одиночества» вызывают во мне сочувствие к людям той эпохи. Я не собираюсь этого отрицать. Почему это так? Потому что в некотором смысле я сам жертва ада одиночества.
Бататовая каша
Было это в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом[9]… И служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивары некий гои[10].
Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нём упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты Хэйанской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи… Одним словом, служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивары некий гои, и он-то и является героем нашей повести.
Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста. Нос красный, внешние углы глаз опущены. Усы, разумеется, реденькие. Щёки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы… Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего гои был на редкость затрапезный.
Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцунэ. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени ежедневно и неутомимо отправляет одни и те же обязанности, всегда в одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. И вот результат: кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. (В описываемое время гои перевалило за сорок.) Всем казалось, будто сквозняки на перекрёстках Судзаку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и, начиная от самого господина Мотоцунэ и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался.
О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчинённые – а их, со званием и без званий, было около двух десятков – относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчинённые, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоятельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком на счёт его умственной недостаточности. В подобных случаях они неизменно оглядывали его сверху донизу, от верхушки измятой шапки эбоси до продранных соломенных дзори, затем оглядывали снизу доверху, а затем, презрительно фыркнув, поворачивались спиной. Впрочем, гои никогда не сердился. Он был настолько лишён самолюбия и был так робок, что просто не ощущал несправедливость как несправедливость.
Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили застарелые остроты, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах всё в тот же адрес. Прямо при гои они без устали обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Частенько предметом обсуждения становилась его сожительница, толстогубая дама, с которой он разошёлся несколько лет назад, а также пьяница-бонза, по слухам, бывший с ней в связи. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Перечислить их все просто не представляется возможным, но если мы упомянем здесь, как они выпивали из его фляги сакэ и затем мочились туда, читатель легко представит себе остальное.
Тем не менее гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Что бы ему ни говорили, у него не менялось даже выражение лица. Он только молча поглаживал свои знаменитые усы и продолжал заниматься своим делом. Лишь когда издевательства переходили все пределы, например, когда к узлу волос на макушке ему прицепляли клочки бумаги или привязывали к ножнам его меча соломенные дзори, тогда он странно морщил лицо – то ли от плача, то ли от смеха – и говорил:
– Что уж вы, право, нельзя же так…
Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. (Это была жалость не к одному только красноносому гои, она относилась к кому-то, кого они совсем не знали, – ко многим людям, которые скрывались за его лицом и голосом и упрекали их за бессердечие.) Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе ещё только-только начали пробиваться мягкие усики. Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так…» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже Человека, страдающего под гнётом общества. И всякий раз, когда он думал о гои, ему представлялось, будто всё в мире вдруг выставило напоказ свою изначальную подлость. И в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение…
Но так обстояло дело с одним-единственным человеком. За этим исключением гои окружало всеобщее презрение, и он жил поистине собачьей жизнью. Начать с того, что он не имел никакой приличной одежды. У него был один-единственный серо-голубой суйкан и одна-единственная пара штанов сасинуки того же цвета, однако вылиняло всё это до такой степени, что определить первоначальный цвет было уже невозможно. Суйкан ещё держался, у него только слегка обвисли плечи и странную расцветку приняли шнуры и вышивка, только и всего, но вот что касается штанов, то на коленях они были в беспримерно плачевном состоянии. Гои не носил нижних хакама, сквозь дыры проглядывали худые ноги, и вид его вызывал брезгливость не только у злых обитателей казармы: словно смотришь на тощего быка, влачащего телегу с тощим дворянином. Меч он имел тоже до крайности подержанный: рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плёлся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь ещё более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое.
Однажды, проходя по улице Сандзё в сторону парка Синсэн, гои заметил у обочины толпу ребятишек. Волчок запускают, что ли, подумал он и подошёл посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собачонку, накинули ей петлю на шею и истязают её. Робкому гои не было чуждо сострадание, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на своём лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал:
– Отпустили бы вы её, собаке ведь тоже больно…
Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, высокомерно оттопырив губу, сказал:
– Обойдёмся без твоих советов. Проваливай, красноносый.
Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблён и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в своё дело и тем себя унизил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошёл дальше по направлению к парку Синсэн. Мальчишки, вставши плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высовывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишённого самолюбия гои!
Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рождённого для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашицу. В своё время это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как гои, оно могло попасть разве что раз в год, на каком-нибудь ежегодном приёме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчётливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеётся над подобными причудами, – просто ничего не понимает в человеческой природе.
Как это ни странно, мечта гои «нажраться бататовой каши» осуществилась с неожиданной лёгкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть «Бататовая каша».
Как-то второго января в резиденции Мотоцунэ состоялся ежегодный приём. (Ежегодный приём – это большое пиршество, которое устраивает регент – первый советник императора в тот же день, когда даётся благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров.) Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена ещё не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве, однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепёшки, пончики в масле, мидии на пару, сушёное птичье мясо, мальгу из Удзи, карпов из Оми, струганого окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз её было особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошённые миски, он стёр ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь:
– Хотел бы я знать, придётся ли мне когда-нибудь поесть её вволю? – И со вздохом добавил: – Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят…
Едва он произнёс эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринуждённый грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Тосихито Фудзивара, новый телохранитель Мотоцунэ, сын Токунаги, министра по делам подданных, мощный, широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз варёные каштаны и запивал их чёрным сакэ. Был он уже изрядно пьян.
– А жаль, право, – продолжал он насмешливо и презрительно, увидев, что гои поднял голову. – Впрочем, если хочешь, Тосихито накормит тебя до отвала.
Затравленный пёс не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой – то ли плача, то ли смеха – гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску.
– Ну что, хочешь?
Гои молчал.
– Ну так что же?
Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности, но Тосихито произнёс скучающим тоном:
– Если не хочешь, так и скажи.
И, услыхав это, гои взволнованно ответил:
– Да нет же… Покорнейше вас благодарю.
Все слушавшие этот разговор разразились смехом. Кто-то передразнил ответ: «Да нет же, покорнейше вас благодарю». Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатам хохота, словно волны, над чашами и корзинками с оранжевой, жёлтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито.
– Ну, раз так, приглашаю тебя к себе, – проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой. – Ладно, так тому и быть…
– Покорнейше благодарю, – повторил гои, заикаясь и краснея.
И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал ещё громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый – наливаться сакэ, второй – хохотать.
К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чём тут дело. Скорее всего, остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку сакэ и закусок осталось маловато, общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался сесть на коня, влезши второпях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Только гои, по-видимому, не слыхал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами: бататовая каша. Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена чёрным сакэ, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и всё его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на чёрную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался…
Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Аватагути вдоль реки Камогавы неторопливо ехали два всадника. Один, при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой каригину и в того же цвета хакама. Другой, самурай лет сорока, с мокрым красным носом, был в двух ватниках поверх обтрёпанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл донельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы-трёхлетки, один буланый, другой гнедой, добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы вразнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли ещё двое – очевидно, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и гои.
Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебли пожухлой полыни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив, и на дороге отчётливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над тёмной зеленью холмов Хигасиямы округло вздымались горы Хиэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, не прикасаясь к плёткам, и перламутровая инкрустация их сёдел блестела на солнце.
– Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся? – произнёс гои, дёргая повод неумелой рукой.
– Скоро приедем, – ответил Тосихито. – Это ближе, чем ты полагаешь.
– Значит, это Аватагути?
– Очень даже может быть…
Заманивая сегодня утром гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасиямы, потому что там-де есть горячий источник. Красноносый гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей да вдобавок ещё помыться горячей водой – чего ещё оставалось желать? Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути.
– Значит, это не в Аватагути?
– Потерпи ещё немного, – отозвался Тосихито, усмехаясь.
Он продолжал ехать как ни в чём не бывало и только отвернулся, чтобы не видеть лицо гои. Хижины по сторонам дороги попадались всё реже, на просторных зимних полях виднелись только вороны, добывающие себе корм, и тусклой голубизной отливал вдали снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное, острые верхушки желтинника вонзались в него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко.
– Значит, это где-нибудь неподалёку от Ямасины?
– Ямасина – вон она. Нет, это ещё немного подальше.
Действительно, вот и Ямасину они проехали. Да что Ямасина. Незаметно оставили позади Сэкияму, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму Миидэра. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через совершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что в те времена повсюду рыскали шайки разбойников… Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился:
– Нам далеко ещё?
Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа собираются морщины, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается.
– Говоря по правде, я вознамерился отвезти тебя к себе в Цуругу, – произнёс наконец Тосихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми.
Гои растерялся.
– Вы изволили сказать – в Цуругу? Ту, что в провинции Этидзэн? Ту самую?
Он уже слышал сегодня, что Тосихито, став зятем цуругского Арихито Фудзивары, большею частью живёт в Цуруге. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзэн, лежащей за многими горами и реками, вот так – вдвоём, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да ещё в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками… Гои умоляюще поглядел на Тосихито.
– Да как же это так? – проговорил он. – Я думал, что надо ехать до Хигасиямы, а оказалось, что едем до Ямасины. Доехали до Ямасины, а оказалось, что надо в Миидэру… И вот теперь вы говорите, что надо в Цуругу, в провинцию Этидзэн… Как же так… если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили с собой, как холопа какого-нибудь… В Цуругу, это же нелепо…
Гои едва не плакал. Если бы надежда «нажраться бататовой каши» не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и повернул обратно в Киото. Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал:
– Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысяча человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге.
Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину, взял у него лук, блестевший чёрным лаком, и положил перед собой поперёк седла, тронул коня и поехал вперёд. Лишённому самолюбия гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полузабытую сутру «Каннон-кё», красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади.
Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями жёлтого мисканта. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной тёмно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания нестаявшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников… Вдруг Тосихито, повернувшись к гои, живо сказал:
– А вот и подходящий посыльный нашёлся! Сейчас я передам с ним поручение в Цуругу.
Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая тёплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент, когда он её заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать – это Тосихито, взмахнув плёткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всём, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням, затем наконец Тосихито остановился. Лисица была уже поймана. Он держал её за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал её до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гои, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему.
– Ну, лиса, слушай меня хорошенько! – нарочито напыщенным тоном произнёс Тосихито, подняв лису перед своими глазами. – Нынче же ночью явишься ты в поместье цуругского Тосихито и скажешь там так: «Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи[11] выслать ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригнать двух коней под сёдлами». Запомнила?
С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул её далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед: «Пошла! Пошла!» Зверёк, мелькая шкуркой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, всё было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки.
– Отменный посланец, – проговорил гои.
Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисицу обводит вокруг пальца. О том, в чём состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчётливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки, и его собственная воля тоже теперь заключена в них и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито… Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь, даже отмечая в поведении красноносого гои шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека.
Отброшенная лисица кубарем сбежала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло пересохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие её, всё ещё возвышались на своих конях на гребне далёкого склона. Они казались маленькими, не больше чем в палец величиной. Особенно отчётливо были видны гнедой и буланый: облитые вечерним солнцем, они были нарисованы в морозном воздухе.
Лисица оглянулась снова и вихрем понеслась сквозь заросли сухой травы.
Как и предполагалось, на следующий день в час Змеи путники подъехали к Такасиме. Это была тихая деревушка у вод озера Бива, несколько соломенных крыш, разбросанных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволочённым тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела, похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая лёгкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к гои и сказал:
– Взгляни туда. Нас встречают мои люди.
Гои взглянул – действительно, между соснами с берега к ним спешили двадцать – тридцать человек верховых и пеших, с развевающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под сёдлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито.
– Я вижу, лиса выполнила ваше поручение.
– У этого животного натура оборотня, выполнить такое поручение для неё раз плюнуть.
Так, разговаривая, Тосихито и гои подъехали к ожидающей челяди.
– Стремянные! – произнёс Тосихито.
Почтительно склонившиеся люди торопливо вскочили и взяли коней под уздцы. Все вдруг сразу возликовали.
Тосихито и гои сошли на землю. Едва они уселись на меховую подстилку, как перед лицом Тосихито встал седой слуга в коричневом суйкане и сказал:
– Странное дело приключилось вчера вечером.
– Что такое? – лениво осведомился Тосихито, передавая гои поднесённые слугами ящички вариго с закусками и бамбуковые фляги.
– Позвольте доложить. Вчера вечером в час Пса[12] госпожа неожиданно потеряла сознание. В беспамятстве она сказала: «Я – лиса из Сакамото. Приблизьтесь и хорошенько слушайте, я передаю вам то, что сказал сегодня господин». Когда все собрались, госпожа соизволила сказать такие слова: «Господин вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи вышлите ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригоните двух коней под сёдлами».
– Это поистине странное дело, – согласился гои, чтобы доставить удовольствие господину и слуге, а сам переводил зоркий взгляд с одного на другого.
– Это ещё не всё, что соизволила сказать госпожа. После этого она устрашающе затряслась, закричала: «Не опоздайте, иначе господин изгонит меня из родового дома!» – а затем безутешно заплакала.
– Что же было дальше?
– Дальше она погрузилась в сон. Когда мы выезжали, она ещё не изволила пробудиться.
– Каково? – с торжеством произнёс Тосихито, обернувшись к гои, когда слуга замолчал. – Даже звери служат Тосихито!
– Остаётся только подивиться, – отозвался гои, склонивши голову и почёсывая свой красный нос. Затем, изобразив на своём лице крайнее изумление, он застыл с раскрытым ртом. В усах его застряли капли сакэ.
Прошёл день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонёк светильника. В душе его одно за другим проплывали впечатления вечера накануне – Мацуяма, Огава, Карэно, которые они проезжали на пути сюда, болтая и смеясь, запахи трав, древесной листвы, камней, дыма костров, на которых жгли прошлогоднюю ботву; и чувство огромного облегчения, когда они подъехали наконец к усадьбе и сквозь вечерний туман он увидел красное пламя углей в длинных ящиках. Сейчас, в постели, обо всём этом думалось как о чём-то далёком и давнем. Гои с наслаждением вытянул ноги под жёлтым тёплым плащом и мысленным взором задумчиво обозрел своё нынешнее положение.
Под нарядным плащом на нём были два подбитых ватой кимоно из блестящего шёлка, одолженные Тосихито. В одной этой одежде так тепло, что можно даже, пожалуй, вспотеть. А тут ещё поддаёт жару сакэ, в изобилии выпитое за ужином. Там, прямо за ставней у изголовья, раскинулся широкий двор, весь блестящий от инея, но в таком вот блаженном состоянии это не страшно. Огромная разница по сравнению с теми временами, скажем, когда он был в Киото учеником самурая. И всё же в душе нашего гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Во-первых, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он чувствовал себя так, словно ему вовсе не хочется, чтобы рассвет – и час наслаждения бататовой кашей – наступил поскорее. И в столкновении этих противоречивых чувств возбуждение, овладевшее им из-за резкой перемены обстановки, улеглось, застыло, под стать сегодняшней погоде. Всё это, вместе взятое, мешало ему и отнимало надежду на то, что даже вожделенное тепло даст ему возможность заснуть.
И тут во дворе раздался громовой голос. Судя по всему, голос принадлежал тому самому седому слуге, который встречал их давеча на середине пути. Этот сухой голос, потому ли, что он звучал на морозе, был страшен, и гои казалось, будто каждое слово отдаётся у него в костях порывами ледяного ветра.
– Слушать меня, холопы! Во исполнение воли господина пусть каждый принесёт сюда завтра утром к часу Зайца[13] по мешку горных бататов в три сун[14] толщиной и в пять сяку[15] длиной! Не забудьте! К часу Зайца!
Он повторил это несколько раз, а затем замолк, и снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонёк, похожий на ленточку красного шёлка. Гои зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши… Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, прислушиваясь к голосу во дворе. С ещё большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение зловеще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай «нажраться бататовой каши», но терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие, а когда не можешь, это препятствие исчезает, и теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого наконец дождался, прошла как-нибудь благополучно… Эти мысли, подобно волчку, неотвязно кружились в голове у гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мёртвым сном.
Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал, и час Зайца прошёл уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закруглённые бревна. Приглядевшись, он понял, что всё это – невероятно громадные горные бататы толщиной в три сун и длиной в пять сяку.
Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по пять-шесть больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши – одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и всё мельтешили так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, ещё не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Всё, что видели глаза, всё, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на поле боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И ещё он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Цуругу, в далёкую провинцию Этидзэн, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего гои к этому времени уже уменьшился наполовину.
Через час гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один-единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краёв наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперёд, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата, как из котлов поплыли, изгибаясь, в ясное утреннее небо столбы горячего пара, напитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел всё это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и ещё не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым… Он неловко вытер со лба пот.
– Тебе не приходилось поесть всласть бататовой каши, – произнёс Арихито. – Приступай же без стеснения.
Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось ещё несколько серебряных котелков. И все они до краёв были наполнены бататовой кашей. Гои зажмурился, его красный нос покраснел ещё сильнее, и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:
– Отец же сказал тебе. Валяй, не стесняйся.
Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось, он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, превозмогая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест ещё хоть немного, то всё попрёт из глотки обратно, а если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли.
– Покорно благодарю, – пробормотал он в смятении. – Я уже наелся досыта… Не могу больше, покорно благодарю.
У него был жалкий вид, на его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота.
– Ты ел ещё мало, – произнёс Арихито и добавил, обращаясь к слугам: – Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?
Слуги по приказу Арихито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но гои, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться.
– Нет-нет, уже довольно, – бормотал он. – Очень извиняюсь, но мне уже достаточно…
Вероятно, Арихито продолжал бы настоятельно потчевать гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: «Ого, глядите-ка!» И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глянцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах Тосихито.
– Лиса тоже пожаловала отведать бататовой каши, – сказал Тосихито. – Эй, кто там, дайте пожрать этой твари!
Приказ был немедленно выполнен. Лиса спрыгнула с крыши и тут же во дворе приняла участие в угощении.
Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, гои с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносым. Это был он, одинокий человечек в выцветшем суйкане и драных хакама, кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И всё же это был он, счастливый гои, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши… От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмёт в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нём пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруге солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок.
Hoc
О носе монаха Дзэнти в Икэноо знал всякий. Этот нос был пяти-шести сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причём толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу.
Монаху было за пятьдесят, и всю жизнь, с давних времён пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана найдодзёгубу, он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле будды Амиды. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждает ему его собственный нос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдёт о носах.
Тяготился же своим носом монах по двум причинам.
Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиной в два сяку. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелёгким как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посредине трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошёл в своё время до самой столицы… И всё же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвлённого самолюбия.
Жители Икэноо говорили, будто монаху Дзэнти с его носом повезло, что он монах, а не мирянин, ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и постригся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами.
Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось, и он упорно всматривался в своё отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к пюпитру читать сутру «Каннон-кё».
Монаха всегда очень заботили носы других людей. Храм Икэноо был из тех храмов, где часто устраиваются церемонии посвящения, читаются проповеди и так далее. Вся внутренность храма была плотно застроена кельями, в храмовых банях каждый день грели воду. Посетителей – монахов и мирян – было необычайно много. Монах без устали рассматривал лица этих людей. Он надеялся найти хоть одного человека с таким же носом, как у него, тогда ему стало бы легче. Поэтому глаза его не замечали ни синих курток, ни белых кимоно, а коричневые шляпы мирян и серые одежды священнослужителей настолько ему примелькались, что их для него всё равно что не было. Монах не видел людей, он видел только носы… Но носы в лучшем случае были крючковатые, таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днём монах падал духом всё более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснея, совершенно как ребёнок, пойманный на шалости, каковое обстоятельство полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния.
Наконец, чтобы хоть как-нибудь утешиться, монах выискивал персонажи с такими же носами, как у него, в буддийских и светских книгах. Однако ни в одной из священных книг не говорилось, что у Мандгалаяна или у Шарипутры были длинные носы. Нагарджуна и Асвагхоша тоже, конечно, оказались святыми с самыми обычными носами. Как-то в беседе о Китае монах услыхал, будто у шуханьского князя Лю Сюань-дэ были длинные уши, и он подумал, насколько менее одиноким почувствовал бы он себя, если бы речь шла о носе.
Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти всё, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы. Он пробовал втирать в нос мышиную мочу. Но что бы он ни предпринимал, нос его по-прежнему свисал на губы пятивершковой колбасой.
Но вот однажды осенью один из учеников монаха, ездивший по его поручению в столицу, узнал там у приятеля-врача способ укорачивать длинные носы. Врач этот в своё время побывал в Китае и по возвращении сделался священнослужителем при главной статуе будды в храме Тёраку.
Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен, и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомянутый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытать этот способ. И ученик отлично понял хитрость монаха. И сколь ни претила ученику эта хитрость, на него гораздо сильнее подействовали, возбуждая его сострадание, те чувства, которые вынудили монаха к ней прибегнуть. Как и ожидал монах, ученик принялся изо всех сил уговаривать его испытать этот способ. Как и ожидал ученик, монах в конце концов уступил его горячим уговорам.
Что касается способа, то он был чрезвычайно прост: нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами.
Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принёс большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно, пар от кипятка причинил бы ожоги лицу. Поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал:
– Теперь он проварился достаточно.
Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идёт о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи.
Монах извлёк нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого ещё поднимался пар, обеими ногами и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил:
– Вам не больно? Врач предупредил, чтобы топтать сильно. Больно вам?
Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно. Но на носу у него стояли ноги ученика, и голова не сдвинулась с места. Тогда он поднял глаза и, уставясь на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом:
– Нет, не больно.
И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения.
Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просяные зёрна. Совершенно как бывает, когда жарят ощипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил про себя:
– Велено было извлечь эти штуки щипцами для волос.
Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то чтобы он не понимал добрых чувств ученика. Нет, он это понимал, но ему неприятно было, что с носом его обращаются, как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делает операцию недостойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сало из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев длиной примерно в четыре бу[16]
