Как работает мозг бесплатное чтение
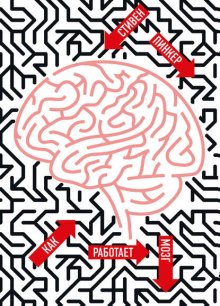
Steven Pinker
HOW THE MIND WORKS
Предисловие
Любая книга с таким названием – «Как работает мозг» – непременно должна начинаться с пояснения, а я начну сразу с двух. Во-первых, мы ничего не знаем о том, как работает мозг, – мы не знаем и сотой доли того, что нам известно о работе тела, и уж подавно наших знаний недостаточно для того, чтобы создать утопию или излечить от несчастья. Зачем же тогда я выбрал такое амбициозное название? Лингвист Ноам Хомский как-то сказал, что наше незнание можно разделить на проблемы и тайны. Если мы сталкиваемся с проблемой, то можем не знать ее решения, но у нас есть интуитивные догадки, постепенно накапливающиеся знания и хотя бы примерное представление о том, что мы ищем. Но когда мы сталкиваемся с тайной, нам остается только смотреть на нее в изумлении и недоумении, даже не представляя, каким может быть ее объяснение. Я написал эту книгу потому, что десятки тайн нашего мышления – от ментальных образов до романтической любви— в последнее время были переведены в разряд проблем (хотя нужно сказать, что некоторые тайны остались тайнами!). Вполне вероятно, что все идеи до одной в этой книге окажутся неверными, но и это будет прогрессом, потому что наши старые идеи были слишком банальными для того, чтобы оказаться неверными. Во-вторых, то немногое, что мы все-таки знаем о работе нашего мозга, открыл не я. Лишь немногие из идей в этой книге принадлежат мне. Из целого ряда дисциплин я выбрал теории, которые, как мне показалось, дают возможность понять наши мысли и чувства с новой стороны; теории, которые соответствуют фактам, позволяют прогнозировать новые факты и при этом отличаются последовательностью в содержании и стиле изложения. Моей целью было вплести эти теории в единую канву, используя две более масштабных теории (тоже не мои): вычислительную теорию сознания и теорию естественного отбора репликаторов.
В первой главе представлена картина в целом: я пишу о том, что мышление – это система органов вычисления, созданных естественным отбором для решения проблем, с которыми сталкивались наши предки, занимавшиеся собирательством и охотой. Каждой из этих двух важнейших идей – вычислению и эволюции – далее посвящается по отдельной главе. Я подробно рассматриваю ключевые способности мышления в главах, посвященных восприятию, логическому рассуждению, эмоциям и социальным отношениям (таким, как семья, любовь, соперничество, дружба, приятельство, знакомство, союзничество, вражда). В заключительной главе речь идет о таких высоких материях, как искусство, музыка, литература, юмор, религия и философия. Отдельной главы, посвященной языку, нет: я подробно рассматриваю эту тему в своей предыдущей книге «Язык как инстинкт».
Данная книга предназначена для всех, кому интересно, как работает мышление. Я написал ее не только для профессоров и студентов; однако и так называемая популяризация науки тоже не была моей единственной целью. Я надеюсь, что общая картина мышления и роли, которую оно играет в жизни человека, будет полезна как ученым, так и широкому кругу читателей. При взгляде с этой точки зрения разница между специалистом и непосвященным не имеет особого значения, потому что в наше время мы, специалисты, в большинстве наших собственных областей – не говоря уже про соседние – оказываемся не сильнее простых смертных. Я не делаю исчерпывающий обзор всей литературы и не привожу мнения всех сторон по тому или иному вопросу, потому что в противном случае книгу было бы очень сложно читать – да что там, ее и сдвинуть с места было бы сложно. Свои выводы я делаю на основе оценки сходности данных, полученных в разных научных областях и разными методами; я привожу множество ссылок, чтобы читатели могли обратиться к первоисточникам.
Я обязан в интеллектуальном плане многим моим учителям, студентам и коллегам, но больше всего – Джону Туби и Леде Космидес. Это они осуществили синтез эволюции и психологии, благодаря которому стала возможной эта книга, и это им принадлежат многие из теорий, которые я здесь представляю (и многие из самых лучших шуток). Благодаря их приглашению провести год в качестве сотрудника Центра эволюционной психологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, я получил идеальную возможность думать и писать, а также их бесценную дружбу и советы.
Я глубоко признателен Майклу Газзанига, Маркусу Хаузеру, Дэвиду Кеммереру, Гэри Маркусу, Джону Туби и Марго Уилсон за то, что они прочитали всю мою рукопись, за их неоценимые рекомендации и поддержку. Другие коллеги также сделали множество полезных замечаний по главам, относящимся к их сферам компетенции: Эдвард Ад ел ьсон, Бартон Андерсон, Саймон Барон-Коэн, Нед Блок, Пол Блум, Дэвид Брейнерд, Дэвид Басс, Джон Констебл, Леда Космидес, Хелена Кронин, Дэн Деннетт, Дэвид Эпштейн, Алан Фридланд, Герд Гигеренцер, Джудит Харрис, Ричард Хелд, Рей Джекендофф, Алекс Качельник, Стивен Косслин, Джек Лумис, Чарльз Оман, Бернард Шерман, Пол Смоленски, Элизабет Сделке, Фрэнк Саллоуэй, Дональд Саймонс и Майкл Тарр. Многие другие отвечали на вопросы и внесли ценные предложения – в том числе Роберт Бойд, Дональд Браун, Наполеон Шаньон, Мартин Дейли, Ричард Докинз, Роберт Хэдли, Джеймс Хилленбранд, Дон Хоффман, Келли Олгвин Яакола, Тимоти Кетелаар, Роберт Курзбан, Дэн Монтелло, Алекс Пентланд, Рослин Пинкер, Роберт Провайн, Уитман Ричардс, Дэниел Шактер, Девендра Сингх, Паван Синха, Кристофер Тайлер, Джереми Вольф и Роберт Райт.
Эта книга – плод моего пребывания во вдохновляющей атмосфере двух учреждений: Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Особую благодарность я выражаю Эмилио Бицци (отделение мозга и когнитологии Массачусетского технологического института) за предоставленную мне возможность взять творческий отпуск, а также Лою Лайтл и Аарону Эттенбергу (отделение психологии), Патрисии Кленси и Марианн Митун (отделение лингвистики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре) за то, что они пригласили меня поработать в качестве внештатного научного сотрудника их отделений.
Патрисия Клаффи из библиотеки отделения мозга и когнитивистики МТИ знает все – или, по крайней мере, знает, где это найти, что в принципе одно и то же. Я благодарен ей за неутомимое упорство, с которым она находит даже самый малоизвестный документ – причем быстро и не утрачивая благодушия. Элеанор Бонсент – мой секретарь – профессионально и с оптимизмом помогала мне в решении бесчисленного количества вопросов. Выражаю благодарность также Марианн Тейбер, Сабрине Детмар и Дженнифер Риддел из центра изобразительного искусства МТИ.
Мои редакторы, Дрейк Макфили (издательство «Нортон»), Ховард Бойер (сейчас работает в издательстве Калифорнийского университета), Стефан Мак-Грат («Пингвин») и Рави Мирчандани (сейчас работает в издательстве «Орион»), на протяжении всей моей работы помогали мне профессиональными рекомендациями и заботой. Я также признателен моим агентам, Джону Брокману и Катинке Мэтсон, за все, что они сделали для меня, и за их интерес к научной прозе. Особая благодарность – Кате Райс, которая работала вместе со мной уже над четырьмя книгами (в течение четырнадцати лет). Благодаря ее аналитическому уму и профессиональному подходу мои книги стали лучше, а я узнал много нового о стиле и ясности изложения. Выражаю сердечную благодарность за поддержку и полезные предложения всей моей семье: Гарри, Рослин, Роберту и Сьюзан Пинкер, Мартину, Еве, Карлу и Эрику Будман, Саройе Суббиа и Стэну Адамсу. А еще спасибо Уиндзору, Уилфреду и Фионе.
Моя самая горячая благодарность – моей жене, Илавенил Суббиа, за эскизы рисунков, бесценные замечания к рукописи, бесчисленные советы, поддержку, доброту и участие в этом предприятии. Эту книгу я посвящаю ей, с любовью и благодарностью.
Мое исследование мышления и языка проводилось при поддержке Национального института здравоохранения (грант HD18381), Национального научного фонда (гранты 82-09540, 85-18774 и 91-09766) и Центра когнитивных нейроисследований имени МакДоннела-Пью (Массачусетский технологический институт).
1. Стандартное оборудование
Почему в литературе так много роботов, а в реальной жизни – ни одного? Я бы, например, заплатил кучу денег за робота, который бы убирал за меня посуду или выполнял несложные поручения. Но в этом столетии у меня вряд ли будет такая возможность, а может быть – ив следующем тоже. Конечно, есть роботы, которые выполняют на конвейере такие операции, как сварка или покраска, и роботы, которые разъезжают по коридорам лабораторий; но я имею в виду не их, а такие машины, которые умеют ходить, говорить, видеть и думать – причем зачастую даже лучше, чем создавшие их люди. В 1920 году Карел Чапек впервые использовал слово «робот» в своей пьесе «Р. У. Р.», после чего авторы начали один за другим выдумывать собственных роботов: появились Спиди, Кьюти и Дейв из «Я, робот» Айзека Азимова, Робби из «Запретной планеты», размахивающая руками жестянка из «Затерянных в космосе», далеки из «Доктора Кто», робот-домработница Рози из «Джетсонов», Номад из «Звездного пути», Хайми из «Напряги извилины», безучастные дворецкие и переругивающиеся продавцы одежды из фильма «Спящий», R2-D2 и С-ЗРО из «Звездных войн», Терминатор из одноименного фильма, лейтенант-коммандер Дейта из фильма «Звездный путь: Следующее поколение» и остроумные кинокритики из «Таинственного театра 3000 года».
Эта книга посвящена не роботам. Она посвящена человеческому разуму. Я постараюсь объяснить, что такое разум, как он устроен, как благодаря ему мы можем видеть, думать, чувствовать, взаимодействовать и заниматься такими высокими материями, как искусство, религия и философия. Попутно я постараюсь осветить вопросы, связанные со свойственными исключительно человеку явлениями. Почему воспоминания стираются из памяти? Как макияж меняет лицо? Откуда берутся этнические стереотипы и когда они оказываются необоснованными? Почему люди выходят из себя? Что делает детей непослушными? Почему слабоумные влюбляются? Что заставляет нас смеяться? Почему люди верят в духов и привидений?
И все же начну я именно с различия между вымышленными и реальными роботами, поскольку оно показывает, каким должен быть наш первый шаг в познании себя: нам нужно по достоинству оценить невероятно сложную систему, позволяющую нам ежедневно осуществлять настоящие чудеса мышления, которые мы привыкли воспринимать как должное. Причина, по которой в мире нет человекоподобных роботов, – не в том, что сама по себе идея создания механического разума безрассудна, а в том, что технические задачи, которые мы, люди, ежеминутно решаем, когда смотрим, ходим, планируем свои действия, куда сложнее высадки на Луну и расшифровки генома. Природа, создав человека, в очередной раз сделала гениальное изобретение, которое инженерам повторить пока не по силам. Когда мы вслед за Гамлетом восклицаем: «Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии!»[1], то объектом нашего восхищения является не Шекспир, не Моцарт, не Эйнштейн и не Карим Абдул-Джаббар, а четырехлетний ребенок, который по просьбе взрослого кладет игрушку на полку.
В хорошо продуманной системе все элементы устроены по принципу «черного ящика»: они выполняют свои функции как по волшебству. То же самое можно сказать и о нашем мышлении. Мышление, благодаря которому мы познаем мир, лишено возможности обратить взор внутрь себя или увидеть внутренние механизмы, приводящие в движение другие наши способности. В результате мы оказываемся жертвами иллюзии: нам кажется, что наша собственная психика является порождением некоей Божественной силы, мистической сущности или высшего начала. В еврейской мифологии есть легенда о Големе – статуе из глины, которая ожила, когда ей в рот вложили записку с именем Бога. Этот архетип прослеживается в сюжетах многих историй. Статую Галатеи оживила Венера в ответ на молитвы Пигмалиона; Пиноккио обрел жизнь благодаря волшебству Синей Феи. Современные версии архетипа Голема мы находим не только в сказках, но и в научных теориях. Считается, что все явления в психологии человека – размер его мозга, культура, язык, социализация, обучение, познание, самоорганизация, динамика нейронной сети – могут быть сведены к одной первопричине.
Я хочу убедить вас в том, что наш разум не был создан неким Божественным духом или чудесным первоисточником. Наш мозг, как космический корабль «Аполлон», сконструирован для того, чтобы решать самые разные технические задачи, поэтому он напичкан самыми высокотехнологичными системами, каждая из которых нацелена на преодоление отдельного типа проблем. Я начну с краткого описания этих проблем, которые одновременно являются предметом изучения психологии и техническими требованиями к роботу. Я убежден, что полученные исследователями мышления и искусственного интеллекта сведения о том, какие технические головоломки приходится постоянно решать нашему мозгу в повседневной жизни, являются одним из величайших научных открытий. Это откровение сравнимо по своей значимости с осознанием того, что Вселенная состоит из миллиардов галактик, или того, что в капле воды из пруда кишмя кишат микроорганизмы.
Как сделать робота
Что нужно, чтобы сделать робота? Давайте обойдемся без сверхчеловеческих способностей вроде умения вычислять орбиты планет и начнем с элементарных для человека навыков: умения видеть, ходить, хватать, думать о предметах и людях, планировать свои действия.
В фильмах нам часто показывают происходящее глазами робота, используя привычные для кино эффекты: например, вид через линзу «рыбий глаз» или через перекрестие прицела. Для нас, зрителей, у которых есть глаза и мозг, этого вполне достаточно. Но вот самому роботу такой способ восприятия реальности едва ли пригодится. У него внутри нет кинозала, полного маленьких человечков, которые бы смотрели на мир и рассказывали роботу, что они видят. Если бы мы могли видеть мир глазами робота, он бы выглядел вовсе не как кадр из фильма, украшенный крестиком прицела, а как что-то вроде этого1:
Каждое число здесь соответствует яркости одного из миллиона крохотных участков, вместе составляющих поле зрения. Числа поменьше соответствуют более темным участкам, а числа побольше – светлым участкам. Эти числа, сгруппированные в виде массива, на самом деле представляют собой сигналы, полученные с цифровой камеры, с помощью которой для пробы сделали снимок руки человека. Однако точно таким же образом можно было бы представить частоту разрядов в нервных волокнах, соединяющих глаз человека с мозгом в тот момент, когда человек смотрит на руку2. Для того чтобы мозг робота – и мозг человека тоже – сумел распознать предметы и не позволил своему владельцу с ними столкнуться, ему нужно обработать эти числа и отгадать, какой предмет в реальном мире мог отразить свет таким образом, чтобы получилась подобная последовательность чисел. Эта задача просто невообразимо сложна.
В первую очередь зрительная система должна определить, где заканчивается граница предмета и начинается фон. Но ведь мир – не детская раскраска, где закрашенные фигуры очерчены черным контуром. Мир в том виде, в котором он отражается в наших глазах, представляет собой мозаику из крохотных участков разной степени освещенности. Можно предположить, что зрительные структуры мозга ищут области, где мозаика из больших чисел (более светлый участок) граничит с мозаикой из меньших чисел (более темный участок). Такую границу можно различить и в нашей сетке из чисел: она проходит по диагонали из правого верхнего угла к центру нижней части. К сожалению, в большинстве случаев обнаружить границу предмета с пустым пространством будет непросто. Участки, где большие числа граничат с малыми, могут появляться как следствие очень разных вариантов взаимного расположения объектов. Рисунок, приведенный ниже, предложили психологи Паван Синха и Эдвард Адельсон3. Кажется, что на нем изображено кольцо из светло-серых и темно-серых квадратиков.
На самом деле перед нами прямоугольная прорезь в черной маске, через которую мы видим лишь часть изображения.
На следующем рисунке маска удалена, и мы можем видеть, что все пары серых квадратиков являются частями разных объектов.
Большие числа рядом с малыми могут появляться и в том случае, когда один предмет располагается перед другим. Примерами могут служить темная бумага, лежащая поверх светлой, поверхность, окрашенная в два разных оттенка серого цвета, два предмета, стоящие рядом вплотную друг к другу, серый целлофан, наложенный на белую страницу, угол, соединяющий две стены, а также любая тень. Мозг должен как-то решить эту проблему курицы и яйца: выделить трехмерные объекты из множества затененных участков на сетчатке и определить, что представляет из себя каждый участок (тень или краску, складку или наложение объектов, прозрачную или матовую поверхность), исходя из того, частью какого объекта является этот участок.
Однако на этом сложности не заканчиваются. Разделив визуально воспринимаемый мир на объекты, мы должны определить, из чего они сделаны, например, из снега или из угля. На первый взгляд эта задача представляется простой. Если большие числа соответствуют светлым участкам, а малые числа – темным, то большие числа будут означать снег, а малые – уголь, правильно? Нет. Количество света, попадающего на сетчатку глаза, зависит не только от того, насколько светлый или темный перед нами предмет, но и от того, насколько яркий или тусклый свет его освещает. Используемый фотографами прибор – экспонометр – покажет, что кусок угля на улице отражает больше света, чем комок снега в помещении. Именно поэтому люди нередко оказываются недовольны качеством своих снимков, и именно поэтому фотография – очень непростое ремесло. Фотоаппарат никогда не лжет; если предоставить ему возможность действовать без помощи человека, то все снимки, сделанные на улице, будут выглядеть как молоко, а сделанные в помещении – как грязь. Фотографы (а иногда и микропроцессоры, встроенные в фотоаппарат) добиваются от фотопленки реалистичного изображения, прибегая к таким приемам как регулировка скорости срабатывания затвора и диафрагмы объектива, светочувствительность пленки, вспышка и манипуляции в лаборатории.
Наша система зрительного восприятия справляется с этой задачей гораздо лучше. Она каким-то образом позволяет нам видеть, что блестящий на солнце уголь на самом деле черный, а кажущийся темным в помещении снег – белый. Это очень удобно, поскольку наше представление о цвете и свете совпадает с тем, каким мир является в действительности, а не с тем, каким он предстает перед глазами. Снег – объект мягкий, влажный и способный таять как в помещении, так и снаружи, и мы видим, что он остается белым независимо от того, в помещении он или снаружи. Уголь всегда твердый, маркий, способный гореть, и мы всегда видим его черным. Получившейся гармонией между тем, как выглядит окружающий мир, и тем, каким он является на самом деле, мы обязаны магии своего мозга: ведь сетчатка глаза не может сама по себе воспринимать черный и белый цвета. А если у вас все еще есть сомнения, вот пример из повседневной жизни. Когда телевизор выключен, экран имеет бледный зеленовато-серый оттенок. Когда телевизор включают, некоторые люминофорные точки начинают светиться, образуя светлые участки изображения, а некоторые другие точки не светятся, образуя темные участки; они остаются серыми. Те части изображения, которые мы видим как черные, на самом деле – все тот же бледно-серый оттенок кинескопа выключенного телевизора. Черный цвет – это фикция, результат работы мозга по той же схеме, благодаря которой мы видим, что уголь – это уголь. Именно эту схему работы использовали создатели телевидения, когда разрабатывали телеэкран.
Следующая проблема зрительного восприятия – это глубина. Наши глаза разбивают трехмерный мир на два двухмерных изображения на сетчатке глаз, а третье измерение должен воссоздать мозг. Однако в изображении на сетчатке нет никаких подсказок относительно того, насколько далеко от смотрящего расположен объект. Почтовая марка на вашей ладони оставит на сетчатке такое же квадратное изображение, как стул, стоящий у противоположной стены, или здание, расположенное за много километров от вас (первый рисунок на с. 17). Разделочная доска, если на нее смотреть фронтально, может давать такую же трапециевидную проекцию, как и фигуры неправильной формы, расположенные под углом (второй рисунок на с. 17).
Ближе вы можете познакомиться с этим явлением из области геометрии и с нейронным механизмом, который с ним работает, если посмотрите в течение нескольких секунд на электрическую лампочку или на фотоаппарат в момент вспышки: в результате на вашей сетчатке останется световое пятно. Теперь переведите взгляд на страницу книги; у вас перед глазами по-прежнему будет остаточное изображение лампочки шириной 3–5 см. Если вы посмотрите на стену, то остаточное изображение будет около метра в длину. А если посмотрите на небо, то это изображение будет размером с облако4
