Открытый Заговор бесплатное чтение
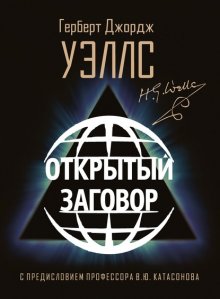
Герберт Джордж Уэллс
Открытый Заговор. С предисловием профессора В. Ю. Катасонова
The Open Conspiracy
© Wells H.G., 1928
© Издательский дом «Кислород», 2021
© Перевод – Анастасия Крутько, 2021
© Предисловие – Валентин Катасонов, 2021
© Дизайн обложки – Георгий Макаров-Якубовский, 2021
Валентин Катасонов. Предисловие
Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагается ранее не издававшаяся на русском языке работа «Открытый Заговор», принадлежащая перу известного во всем мире писателя, мыслителя и публициста Герберта Уэллса (1866–1946). Западные политологи, социологи, философы и футурологи довольно часто вспоминали и ссылались на это неоднократно издававшееся за рубежом произведение Уэллса. Российские знатоки творчества английского писателя, конечно же, слышали о работе, которая называется The Open Conspiracy. Вместе с тем, в нашей стране представление о ней в лучшем случае можно было получить из нескольких строчек энциклопедий и справочников. В открытом доступе в интернете на английском языке она появилась несколько лет назад. И вот, спустя более девяти десятков лет с момента написания Уэллсом первого варианта работы, мы наконец имеем русскоязычную версию «Открытого Заговора».
Впервые работа увидела свет в 1928 году под названием «Открытый Заговор: чертежи мировой революции» (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution). После этого произведение дорабатывалось и последовательно выходило в новых редакциях и с новыми названиями. В 1931 году работа «Открытый Заговор» вышла с подзаголовком «Вторая версия веры современного человека в более ясном и простом изложении» (A Second Version of This Faith of a Modern Man Made More Explicit and Plain). В 1931 году книга была издана под названием «Что нам делать с нашей жизнью?» (What Are We to Do with Our Lives?). Окончательная версия книги вышла в 1933 году с лаконичным названием «Открытый Заговор» (The Open Conspiracy).
Работа была замечена, прежде всего, британскими интеллектуалами, с которыми Герберту Уэллсу приходилось постоянно общаться. Позитивно и даже восторженно книгу воспринял английский философ-атеист Бертран Рассел (Bertrand Russell). На книгу ссылались такие британские политики, как Ллойд Джордж (Lloyd George), Гарольд Макмиллан (Harold Macmillan), Гарольд Николсон (Harold Nicolson). Примечателен следующий факт: в начале 30-х годов английским писателем и философом Джеральдом Хардом (Gerald Heard) было создано Общество Герберта Уэллса (The H. G. Wells Society) для пропаганды идей великого английского писателя. Под влиянием рассматриваемого нами произведения Общество в 1935 году было переименовано и получило название Общества Открытого Заговора (The Open Conspiracy Society). Правда, позднее ему было возвращено прежнее название.
Были, конечно, и критики работы. Например, известный английский драматург и писатель Бернард Шоу (Bernard Shaw), а также английский писатель и верующий философ Гилберт Честертон (Gilbert Chesterton). Первый, будучи ярым фабианцем[1], был недоволен крайне резким отношением Герберта Уэллса к Карлу Марксу и его учению. А второй, будучи христианским писателем, критиковал религиозные идеи автора «Открытого Заговора», которые были антихристианскими и по сути атеистическими. Особенно его возмущала безумная идея Г. Уэллса создать (придумать) новую религию, которая должна была стать единой для всего человечества.
Большинство наших соотечественников знают Герберта Уэллса, прежде всего, как писателя-фантаста по его романам «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Остров доктора Моро», «Первые люди на Луне» и др., написанных им в молодые годы. Автор этих романов был человеком близким к науке. Он получил образование в области биологии (незадолго до смерти был даже удостоен звания доктора биологии). Первые свои шаги в жизни Герберт делал под руководством Томаса Гексли (или Хаксли) – английского зоолога, популяризатора науки и защитника эволюционной теории Чарлза Дарвина (за что даже заслужил кличку «Бульдог Дарвина»). Гексли некоторое время был президентом Лондонского королевского общества (что-то наподобие академии наук), и через него будущий великий писатель познакомился со многими знаменитыми английскими учеными. В дальнейшем Уэллс постоянно соприкасался с известными учеными из разных сфер: биологии (Джулиан Хаксли, внук упомянутого выше Томаса Гексли), истории (Арнольд Тойнби), математики и философии (Бертран Рассел), экономики (Джон Мейнард Кейнс). Джордж Филипп Уэллс, сын Герберта Уэллса, уже в молодости стал известным зоологом и был соавтором некоторых работ своего отца.
Отношение Герберта Уэллса к научно-техническому прогрессу в тот период его творчества, когда там преобладала фантастика (до 1920-х годов), было двойственным, смешанным. Такой прогресс, по мнению молодого писателя, мог и помогать в решении социально-экономических проблем и проблем отдельного человека, а мог и усугублять их. Но, пережив Первую мировую войну, Уэллс стал задумываться о несовершенстве общества и современного ему человека. И невольно стал приходить к выводу, что без радикальной перестройки общества и изменения природы человека научно-технический прогресс может нести лишь разрушения и смерть. Напомню, что известность Герберту Уэллсу принес его роман «Машина времени», опубликованный в 1895 году. Роман страшный, но ведь он относится к жанру фантастики. Мол, плод свободного воображения писателя. Герой романа оказался в далеком 8028 веке, где столкнулся с обществом звероподобных людей, разделенных на две части: элоев и морлоков. Как мне кажется, сам писатель поначалу не очень верил в то, что изобразил в своем романе. Но Первая мировая война проявила звериную сущность человека и человечества, и Герберту Уэллсу стало казаться, что мир очень скоро может оказаться населенным этими самыми элоями и морлоками. И что нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить такого одичания.
Постепенно Уэллс стал отходить от жанра фантастики, начал писать на темы социального и политического устройства мира, религии, психологии человека и тому подобные «гуманитарные» темы. Т. е. искать причины прогрессирующей деградации человечества и вырабатывать план противостояния этому энтропийному процессу.
Герберта Уэллса нередко причисляют к фабианцам. Он еще в начале века (в 1903 году) стал членом Фабианского общества. А уже спустя три года он выступил на заседании общества с ярким, страстным докладом «Ошибки фабианца», где предложил перестроить работу и идеологию организации. Он хотел превратить общество из аморфного, интеллигентского кружка в боевую политическую партию. А что касается идеологии, то он предлагал бороться с «предрассудками марксизма», которые довлели над фабианцами. В частности, предлагал отказаться от привычного классового подхода к анализу общества. Так называемые классовые антагонизмы, которые занимают центральное место в марксизме, – явление минувших веков. А если где-то еще пролетариат подвергается эксплуатации, то ее можно быстро ликвидировать с помощью науки и техники. Вот образчик рассуждений Герберта Уэллса на эту тему из «Открытого Заговора»:
«Огромная масса моральной силы была потрачена впустую за последние сто лет из-за антагонизма „труда“ и „капитала“, как если бы это было главной проблемой в человеческих делах. На самом деле этот антагонизм никогда не был главной проблемой и продолжает неуклонно терять свое былое значение. Древние цивилизации действительно широко опирались на рабский и невольнический труд. Человеческие мышцы были основным источником энергии, наряду с энергией солнца, ветра и воды. Но изобретения и открытия настолько изменили условия производства, передачи и использования энергии, что мышечная сила становится экономически второстепенной и несущественной. Нам больше не нужны дровосеки, водоносы, носильщики и землекопы. Мы больше не хотим иметь этой расплодившейся массы дюжих потных тел, без которых прежние цивилизации не смогли бы выжить».
Уэллс считал, что даже те, кого по привычке называли «капиталистами», должны быть заинтересованы в переустройстве современного общества на социалистических началах. Многим представителям капиталистической элиты встать на позиции обновленного фабианства мешают «предрассудки», с коими настоящие фабианцы и должны бороться. Развернуть политический и идеологический вектор общества Герберту Уэллсу не удалось. В 1908 году он покинул Фабианское общество, но те горячие идеи, которые он озвучивал на его заседаниях, позднее воплотились в «Открытом Заговоре». Биографы Герберта Уэллса, описывая его пребывание в Фабианском обществе, характеризовали писателя как «бунтаря» и «радикала». А кое-кто даже называл его «революционером». Этот революционный дух, радикализм просматриваются во многих произведениях Уэллса второй половины его жизни. В том числе и в «Открытом Заговоре».
«Открытый Заговор» Герберта Уэллса – произведение не художественное и не научное. По своему замыслу и стилю оно напоминает программный документ, манифест, обращенный, в первую очередь, к британской элите; во вторую очередь – ко всему английскому народу; в третью очередь – ко всему человечеству. Видимо поэтому в его названии присутствует слово «открытый». Писатель понимает, что «заговор», или план переустройства мира, сработает только тогда, когда манифест дойдет до каждого. И, по крайней мере, каждый второй, ознакомившийся с манифестом, позитивно на него отзовется и будет так или иначе участвовать в реализации плана.
Исследователи творчества Герберта Уэллса полагают, что «Открытый Заговор» родился из романа писателя «Мир Вильяма Клиссольда» (The World of William Clissold), увидевшего свет в 1926 году. Это самый большой из всех романов, написанных Уэллсом. Он представляет собой автобиографию человека, объединяющего в своем лице ученого и капиталиста. Клиссольд недоволен современным миром и мечтает перестроить его на разумных основаниях, руководствуясь выводами науки и здравого смысла. Подтверждение своим теориям он видит в накоплении знаний о мире и человеке, в распространении новых взглядов и новых отношений между людьми. Когда-нибудь, думает Клиссольд, неизбежно произойдет «созидательная революция». Передовые люди из разных классов общества, объединившись, возьмут в свои руки управление хозяйством, отстранив людей отсталых и вредных, мешающих ходу прогресса. Для того чтобы сделать это, лучшие люди должны сначала осознать единство своих целей. Стремясь помочь этому, Клиссольд и пишет свой труд. В романе уже просматривается концепция Уэллса по переустройству мира. Ориентиры для движения к более совершенному миру может дать не религия, как это считалось в Европе на протяжении многих веков, а наука. А кто будет выступать в качестве двигателя? Карл Маркс, его последователи и даже некоторые фабианцы ошибочно полагают, что это будут пролетарии. Нет, с точки зрения Герберта Уэллса, это умирающий, исчезающий класс. По крайней мере, пролетариат не креативен, играет пассивную роль в общественной жизни. Если не пролетарии, так, может быть, крестьяне? – Ну, так их уже в начале ХХ века в Англии почти не осталось.
Ставку, по мнению Уэллса, следует делать на ученых и предпринимателей. Герой романа «Мир Уильяма Клиссольда» являет собой пример идеального строителя будущего, сочетающего в себе ученого и предпринимателя. Построить единое Мировое государство может только человек науки и капитала! И не только человек из Англии. Такие люди есть во многих странах мира. Но, конечно, среди англосаксонской элиты, по мнению Герберта Уэллса, их больше всего. Нет, он не расист. Он просто объективно оценивает, что двигателем в светлое будущее станут, прежде всего, интеллектуалы и капиталисты англосаксонского мира (Англия, ее главные доминионы, Соединенные Штаты Америки).
Красной нитью через всю работу проходит мысль Уэллса о том, что многие социально-экономические проблемы порождаются такой причиной, как неконтролируемый рост населения на планете. Писатель выступает как рьяный мальтузианец[2], призывающий к сдерживанию демографического роста и даже сокращению численности населения планеты. Неконтролируемая рождаемость, по его мнению, есть признак варварства. И бороться с этим «варварством» Уэллс призывает, прежде всего, путем «просвещения» народа. Впрочем, Уэллс разделял взгляды многих сторонников евгеники, которых было много среди британских интеллектуалов, и считал вполне нормальным проведение насильственной стерилизации мужчин и женщин. Вот, например, в восьмом разделе работы («Общие характеристики научного мирового содружества») Уэллс неоднократно говорит о необходимости контролировать демографический рост:
«Умный контроль над ростом населения – это возможность, которая ставит человека вне конкурентных процессов, до сих пор управлявших изменением видов, и человек не может быть освобожден от этих процессов никаким другим путем. Существует явная надежда на то, что с течением времени директивное размножение войдет в сферу компетенции человека…»
«…организованное мировое сообщество, осуществляющее и обеспечивающее собственный прогресс, желает и требует планируемого коллективного контроля над численностью населения в качестве основного условия».
«В женской природе нет сильного инстинктивного стремления к многочисленному потомству как таковому. Репродуктивные импульсы действуют косвенно. Природа обеспечивает зов к деторождению через страсти и инстинкты, которые, при наличии достаточных знаний, интеллекта и свободы со стороны женщин, могут быть вполне удовлетворены и погашены, если это необходимо, без рождения многочисленных детей. В мире ясного доступного знания и честной и откровенной практики в этих вопросах даже самые незначительные изменения в социальных и экономических механизмах обеспечат достаточную мотивацию, или демотивацию, которая будет влиять на общую рождаемость, или на специфическую рождаемость, регуляцию которой общество может счесть желательным. До тех пор, пока большинство человеческих существ зачинается случайно, в похоти и неведении, человек продолжает оставаться, как и любое другое животное, под игом борьбы за существование. Социальные и политические процессы полностью меняют свой характер, когда мы осознаем возможность и осуществимость этой фундаментальной революции в биологии человека…»
«…при эффективном сдерживании роста населения перед человечеством открываются совершенно новые возможности».
Подобные мальтузианские (точнее неомальтузианские) «мантры» Герберта Уэллса звучат почти во всех девятнадцати разделах книги.
В «Открытом Заговоре» Уэллс использует термин «новый мировой порядок» (НМП). Сегодня это словосочетание очень популярно среди политиков, журналистов, публицистов. У меня есть предположение, что термин родился именно в 1928 году и его авторство принадлежит Герберту Уэллсу. Примечательно, что в 1940 году у Уэллса вышла книга, которая так и называлась: «Новый мировой порядок» (The New World Order), в ней продолжилось обсуждение вопросов, поднятых в «Открытом Заговоре».
В книге «Открытый Заговор» Уэллс откровенно призывает к созданию НМП. Это мировой порядок, который отличается от того, какой существовал на момент написания книги и которым писатель был явно недоволен. А существовал тогда мир капитализма с экономическими кризисами и постоянной социальной напряженностью, в любой момент грозящей перерасти в социалистическую революцию. Это мир капитализма, который в ХХ веке, как писал В. Ленин, достиг своей высшей, монополистической стадии. А это неизбежно порождает империалистические войны за передел мира. Первая мировая война была чисто империалистической. На момент написания книги уже чувствовалось, что может произойти и вторая империалистическая война (Версальский договор, подписанный в 1919 году на Парижской мирной конференции, уже программировал подготовку такой войны).
Главная идея Уэллса: на планете должно существовать Единое, Всемирное государство в форме республики. Национальные государства должны добровольно отказываться от своих суверенитетов, передавая их Мировому правительству. Создание Всемирного государства с Мировым правительством будет залогом того, что на планете не будет больше войн, не будет изматывающей конкуренции, исчезнет национальная и конфессиональная неприязнь. Более того, все порядки в мире будут унифицированы, что резко повысит эффективность управления людьми. На совершенно иной уровень поднимется эффективность экономической деятельности: «Очевидно, что главнейшие направления комплекса экономической деятельности человечества в таком мире должны сосредоточиться в информационно-консультативном бюро, которое будет учитывать все ресурсы планеты, оценивать текущие потребности, распределять производственную деятельность и контролировать распределение. Топографические и геологические исследования современных цивилизованных сообществ, карты их государств, периодические выпуски их сельскохозяйственной и промышленной статистики – это первые грубые и несогласованные начала такой мировой экономической разведки…»
«Открытый Заговор» не враждебен правительствам, парламентам и монархам, согласным считать себя временными институтами, которые будут еще функционировать в переходный период:
«Открытый Заговор не обязательно антагонистичен любому существующему правительству. Открытый Заговор – это не анархическое, но творческое и организующее движение. Он стремится не разрушать существующие средства контроля и формы человеческих ассоциаций, но лишь вытеснять их или объединять их под единым мировым управлением. Если с конституциями, парламентами и королями можно иметь дело, как с временными институтами, „попечителями“ до достижения совершеннолетия мирового содружества, то, при условии, что они ведут дела именно в таком духе, Открытый Заговор не нападает на них».
Надо полагать, что в отношении тех правительств и монархов, которые не готовы на добровольную сдачу своих полномочий, придется применять силу. Итак, английским писателем выдвинута идея добиваться всеобщего и вечного мира через войны. Уэллс почему-то уверен, что эти войны будут последними в истории человечества. Думаю, что и до Уэллса в истории человечества были сотни (а, может быть, тысячи) политиков, философов, императоров и полководцев, которые рассуждали примерно так же: мол, предлагаемая (или начатая) ими война будет последней на Земле. Мол, она призвана положить конец войнам и стать началом «мира во всем мире».
Но как соединять разные народы с очень разными культурами в рамках Единого государства? – Важную роль в стирании национально-культурных различий отдельных народов призвана будет сыграть единая Мировая религия. Необходимость таковой Уэллс разъясняет читателю подробно в пятом разделе работы «Религия нового мира» и шестом разделе «Цель – современная религия». Вот образчик «богословских» рассуждений писателя из пятого раздела:
«Пришло время очистить религию от всего наносного для решения стоящих перед нею задач – задач более важных, чем когда-либо прежде. Истории и символы, которые служили нашим отцам, обременяют и разделяют нас. Различия в таинствах и ритуалах порождают разногласия и впустую растрачивают ограниченный запас наших эмоций. Объяснение того, как и почему возник мир, является ненужным усилием в религии. Существенным фактом в религии является само стремление к ней, а не объяснение ею окружающего нас мира».
Герберт Уэллс, претендующий на роль интеллектуала и делающий ставку на ученых в будущем «дивном новом мире», желает лишить верующих христиан права на осмысление своей жизни и мира, в котором они живут! Кстати, к христианству Уэллс не демонстрировал никаких симпатий и очень одобрял политику агрессивного атеизма, проводившуюся в советской России. Его в этом поддерживали и некоторые другие британские интеллектуалы, например писатель Бернард Шоу и философ Бертран Рассел. Кстати, последний, наверное, переплюнул Герберта Уэллса в своем атеизме, написав в 1927 году вызывающее эссе «Почему я не христианин».
Я выше уже отметил, что Уэллс был знаком с британским интеллектуалом Арнольдом Тойнби (1889–1975), написавшим многотомный труд под названием «Постижение истории». В нем он изложил свои представления о существовавших и существующих в мире цивилизациях. Уэллс соглашается с тем, что многообразие цивилизаций существует, но, по его мнению, от него надо постепенно избавляться, выстраивать единую цивилизацию. Даже не путем конвергенции (сближения), а уничтожения «отсталых» цивилизаций. В таковые он записывает и Россию («русскую цивилизацию»). По мнению Уэллса, «Индия, Китай, Россия, Африка представляют собой смесь социальных систем, в большей или меньшей степени отставших, перенапряженных, расшатанных, оккупированных, эксплуатируемых и порабощенных финансовой зависимостью, механизацией и политической агрессией атлантической, балтийской и средиземноморской цивилизаций. Во многих отношениях они как будто ассимилируются с этой (капиталистической. – В. К.) цивилизацией, эволюционируют в современные типы и классы и отказываются от большей части своих отличительных традиций».
Наиболее «перспективной» цивилизацией Уэллс, естественно, считает англосаксонский мир («атлантическая цивилизация»). Его-то интересы он и представляет, и озвучивает. Ни для кого не секрет, что Уэллс был членом разных тайных обществ. По данным автора книги «Комитет 300» Джона Колемана, Уэллс был членом указанного комитета, который считается высшей инстанцией мировой закулисы[3].
Что касается других народов и государств, то они, по мнению Уэллса, могут оказывать сопротивление реализации планов Открытого Заговора. Этому вопросу в работе посвящен двенадцатый раздел («Сопротивление менее индустриально развитых народов продвижению Открытого Заговора»). Вместе с тем, Герберт Уэллс уверен, что рано или поздно «атлантической цивилизации» удастся перетянуть на сторону Открытого Заговора элиту таких «неперспективных» народов. Для этого им надо дать надежду войти в состав мировой элиты:
«Умам более тонким и энергичным среди этих темных народов, все еще в той или иной степени отставших от материальных достижений, которые обеспечили нынешнее господство Западной Европе и Америке, Открытый Заговор может сулить небывалые перспективы. Одним махом они могут перепрыгнуть с тонущего корабля их устаревшего порядка, через голову своих нынешних завоевателей, прямиком в объятия братства мировых правителей. Они могут посвятить себя задаче сохранения и адаптации всего лучшего и отличительного из их богатого культурного наследия для общих целей человеческой расы. Но менее живым умам этого отставшего мира новый проект Открытого Заговора покажется не лучше, чем новая форма западной оккупации, и они будут бороться за освобождение, как если бы этот проект был частью дальнейшего порабощения европейской традицией».
Примечательно, что Герберт Уэллс очень рассчитывает на Советскую Россию в реализации «Открытого Заговора»: «…советское правительство продержалось уже более двенадцати лет, и кажется, что оно скорее будет эволюционировать, чем сохраняться в прежних формах. Вполне возможно, что оно будет развиваться в сторону концепций Открытого Заговора, и тогда Россия сможет снова стать свидетелем конфликта между сторонниками новых идей и „староверами“. До сих пор Российская Коммунистическая партия вела обширную пропаганду своих идей во всем остальном мире, и особенно на своих западных границах. Многие из этих идей сейчас банальны и устарели. Возможно, не за горами то время, когда волна пропаганды потечет в обратном направлении. Коммунистическая партия льстит своему тщеславию, воображая, что ведет пропаганду мировой революции. Может быть, ее судьба – это развитие по тем направлениям, которые позволят ее наиболее разумному элементу легко ассимилироваться с Открытым Заговором для достижения мировой революции. По мере распространения и роста Открытого Заговора ему понадобится полигон для обкатки экономических идей, заложенных в его концепциях, и, возможно, именно в России, в Сибири это удастся осуществить с гораздо меньшими препятствиями, чем где-либо еще в мире».
Уэллс самим названием своей книги позиционирует себя как революционер. Ему, вероятно, очень импонирует то, что большевики – также революционеры, причем не «местечковые», а «международные». Лев Троцкий сразу же после октября 1917 года выдвинул лозунг превращения «русской» революции в «мировую». Правда, на момент написания Уэллсом книги «Открытый Заговор» Сталин уже разобрался с Троцким. Более того, даже выдвинул теоретическое положение о возможности построения социализма в отдельно взятой стране (для того, чтобы идеологически обосновать начинающуюся в стране индустриализацию). Но, видимо, до Уэллса эти новации в жизни СССР еще не дошли или же он их воспринимал как «тактические маневры».
В рассматриваемой работе и в других произведениях Уэллс осторожно затрагивает вопрос о социально-экономической модели желаемого им общества. Если не вдаваться в подробности, то это модель, в которой доминируют монополии и банки, при этом экономика находится под контролем со стороны государства. Уэллс был знаком с известным английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, идеологом вмешательства государства в экономическую жизнь. Видимо, Уэллс смотрел на будущий мир как на кейнсианский капитализм. Также чувствуется влияние на Уэллса австрийско-немецкого экономиста Рудольфа Гильфердинга, известного своим фундаментальным трудом «Финансовый капитал» (1910). После Первой мировой войны Гильфердинг, будучи приверженцем марксизма, стал двигаться в сторону социал-реформизма и создал теорию «организованного капитализма». Это, по мнению Гильфердинга, наиболее идеальная форма общества, она основана на доминировании в экономике банковского капитала, который вносит порядок в экономику и социальную жизнь (исключаются кризисы, организуется планирование). Это и не стихийный капитализм, и не социализм. Такая модель весьма импонировала Уэллсу, который был одним из наиболее видных фабианцев своего времени.
Несмотря на некоторую размытость взглядов Уэллса на социально-экономическое устройство общества при НМП, кое в чем его позиция была очень определенной. Он, в частности, считал, что социальная структура будущего общества должна быть предельно простой. Вверху – элита, внизу – все остальные, коих можно называть «плебсом», «пролетариями», «трудящимися массами» и т. п. Никаких «прослоек» и «средних классов» в модели Уэллса не предусмотрено. А что касается элиты, то она должна состоять из интеллектуалов и капиталистов. Подобно тому как, например, у большевиков основой социалистического строя был провозглашен союз рабочего класса и крестьянства, так у Герберта Уэллса основой общества НМП должен стать союз интеллектуалов и крупного капитала.
Вот рассуждения Уэллса по поводу того, что сторонников НМП следует искать, прежде всего, среди промышленных и банковских капиталистов: «И, наконец, у нас остаются основные функциональные классы землевладельцев, промышленных организаторов, банкиров и так далее, контролирующие нынешнюю систему такой, какая она есть. И нам вполне очевидно, что руководящие силы нового порядка должны появиться преимущественно из рядов этих классов, обладающих накопленным опытом, наработанными методами и традициями. Открытый Заговор не может иметь ничего общего с ересью, утверждающей, что путь человеческого прогресса пролегает через обширную классовую войну».
Среди предпринимателей Уэллс выделяет банкиров, которые, наверное, лучше других капиталистов понимают, как управлять миром. Уэллс рассчитывает на «оригинальных и умных людей в банковском деле, или связанных с ним, или интересующихся им. Они должны понимать, что банковское дело играет очень важную и интересную роль в мировых процессах, проявлять любознательность к своей собственной сложной функции и склонность к научному исследованию происхождения, условий и его будущих возможностей. Такие типы естественно движутся навстречу Открытому Заговору. Их запросы неизбежно выводят их за пределы привычного поля банковского дела, к изучению природы, направления и судьбы всего экономического процесса…»
Что касается тогдашней России, то, несмотря на ее «цивилизационную отсталость», у нее, по мнению Уэллса, были большие шансы быстрее других вписаться в НМП по той причине, что у нее была «интеллигенция». «Открытый Заговор» очень и очень рассчитывал на эту интеллектуальную элиту: «Только эти несколько десятков тысяч человек доступны для идей построения нового мира, и в деле привлечения русской системы к активному участию в мировом заговоре можно рассчитывать только на это небольшое меньшинство и на его влияние через соответствующее образование на мириады стоящих ниже индивидов».
Вместе с тем, по отношению к общей численности населения такие «продвинутые» люди в России составляют ничтожно малую долю, и они могут просто «раствориться» в «океане российского варварства»:
«По мере того как мы движемся на восток от европейской части России, доля здравомыслящих интеллектуалов, к которым мы можем обратиться за пониманием и участием, уменьшается до мизера. Уберите эту мизерную долю, и вы останетесь один на один с варварством, неспособным к социальной и политической организации выше уровня военного командира или атамана разбойников. Россия сама по себе (без большевицкого режима. – В. К.) по-прежнему отнюдь не застрахована от дегенеративного процесса в этом направлении».
Тем не менее Г. Уэллс в своей работе несколько раз выражал надежду на то, что Советская Россия поддержит «Открытый Заговор». Однако СССР пошел своим путем и даже спутал карты тем британским заговорщикам, позицию которых английский писатель озвучивал в своей работе. Окончательно это стало понятно Уэллсу в 1934 году, когда он посетил Советский Союз и встретился с И. В. Сталиным.
Вместе с тем идея Открытого Заговора на протяжении более 90 лет сохраняла свою актуальность. Правда, заговор перестал быть явным. Мировая закулиса, которая выстраивала и продолжает выстраивать новый мировой порядок, понимает, что эффективность ее усилий напрямую зависит от того, насколько заговор будет скрытым.
Герберт Уэллс проповедовал идею «Открытого Заговора». Но если задуматься: «открытый заговор» – нонсенс. Все равно что «сухая вода» или «красивый урод». Еще раз напомню: в названии книги Уэллса стоит слово conspiracy, что означает «секретность». «Открытый Заговор» означает «секреты, известные всем». Может быть, английский писатель шутил? Многое из того, что Герберт Уэллс озвучил публично в своей работе, действительно реализовывалось и реализуется. Но при строжайшем соблюдении секретности. Действительно, можно говорить о заговоре мировой закулисы против человечества. Полной секретности ей обеспечить, конечно же, не удалось и не удается. Об этом я, в частности, пишу в своей новой книге «Антиутопии: заговор против человечества без грифа „секретно“»[4].
Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на ошибочное представление о том, что Герберт Уэллс хорошо известен российскому читателю. Да, действительно, этого английского писателя очень активно издавали в нашей стране еще до революции. В начале прошлого века на книжном рынке России появилось даже несколько собраний сочинений Герберта Уэллса. Назову их: четырехтомник произведений Уэллса издательства П. Ф. Пантелеева (СПб., 1901); собрание сочинений в 12 томах издательства И. Д. Сытина (М., 1909); собрание сочинений в 13 томах издательства «Шиповник» (СПб., 1909–1917; вышло только 9 томов); четырехтомник издательства Сойкина (Петроград, 1918). Лучшим считается издание И. Д. Сытина, которое представляло собой приложение к журналу «Вокруг света» (переводы А. Анненской, Т. Богданович, В. Тана, К. Чуковского и др.).
Не обделен был вниманием Герберт Уэллс и в советское время, особенно после Великой Отечественной войны. Помимо миллионных изданий его фантастики в виде отдельных книг в первой половине 1960-х годов было издано собрание его сочинений в 15 томах под общей редакцией Ю. Кагарлицкого с прекрасными иллюстрациями Ильи Глазунова.
В постсоветское время Герберт Уэллс продолжал издаваться и «в розницу» (отдельными книгами), и «оптом» (в виде собраний сочинений). Так, в первом десятилетии нынешнего века было выпущено собрание сочинений в 12 томах в издательстве «Терра». И это, не считая специальных (подарочных, под заказ) изданий собраний сочинений в семи, восьми и десяти томах.
Примечательно, что львиная доля всех тиражей приходилась на фантастику, прежде всего на такие романы, как «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Остров доктора Моро» и еще несколько произведений данного жанра. А вот другие жанры (реалистические, бытовые романы и повести; философские произведения; произведения для детей и научно-популярные; автобиографические; киносценарии; публицистика) представлены намного хуже. Некоторые работы издавались на русском языке лишь единожды, причем по большей части еще до войны. Например, уже упоминавшийся роман «Мир Уильяма Клиссольда», который может быть отнесен к жанру реалистических (бытовых) произведений, а отчасти, наверное, и к философскому жанру. Он был издан лишь один раз – в 1928 году в Государственном издательстве тиражом всего 7000 экземпляров (перевод С. Займовского, В. Барбашевой, Н. Вельмина). Еще один пример – киноповесть (киносценарий) «Облик грядущего» (Things to Come). На основании этого произведения Герберта Уэллса в Англии в 1936 году был снят полнометражный одноименный художественный фильм (режиссер Уильям Кэмерон Мензиес), который собирал миллионные аудитории во многих странах англоязычного мира. В 1937 году у нас это произведение было опубликовано в издательстве «Журнально-газетное объединение» в переводе С. Г. Займовского. По моим данным, с тех пор «Облик грядущего» в нашей стране не переиздавался.
Но, оказывается, имеется немалое количество работ Г. Уэллса, которые вообще не были переведены на русский язык и нашему читателю совершенно неизвестны. Представленная вам работа «Открытый Заговор» – лишь один пример. Полной инвентаризации я не проводил. Но приведу несколько других примеров. Я уже отметил, что к «Открытому Заговору» тесно примыкает его работа 1940 года «Новый мировой порядок» (The New World Order). Она тоже не переведена на русский язык.
Биографы Г. Уэллса отмечают, что самым важным своим произведением писатель считал работу «Труд, богатство и счастье рода человеческого» (The Work, Wealth, and Happiness of Mankind). Этот фундаментальный труд объемом 924 страницы увидел свет в январе 1931 года в лондонском издательстве Doubleday, Doran & Co. Это последняя книга из трилогии, которая представляла собой составленную автором своеобразную энциклопедию науки, истории и социологии. Первая книга этой трилогии – «Очерки истории» (The Outline of History; 1919–1920); вторая – «Наука жизни» (The Science of Life; 1929)[5]. Первая книга трилогии была издана уже в наше время ограниченным тиражом в издательстве «Эксмо» (под названием «Очерки истории цивилизации»). Вторая не издавалась вообще.
Писатель очень ценил всю трилогию, но особенно упомянутую выше работу «Труд, богатство и счастье рода человеческого». Исследователи творчества Уэллса обычно относят ее к жанру философской литературы. Но это достаточно условно. В данном труде, между прочим, просматриваются претензии на новое слово в экономической науке. Герберт Уэллс продолжает в «Труде…» критику традиционной экономической мысли, которую он начал еще в «Открытом Заговоре» и «Мире Уильяма Клиссольда». Он здесь заявил в полный голос, что экономические теории только тогда смогут быть действительно «научными», когда экономисты будут опираться на биологию и психологию. Работу над книгой «Труд…» Уэллс заканчивал в то время, когда в мире уже бушевал экономический кризис. Писатель не преминул заметить, что этот кризис стал следствием неправильной экономической политики государств, а ее порочность проистекала из тех никчемных теорий, которыми экономисты забивали головы чиновникам. Уже в следующем, 1932 году книга Г. Уэллса «Труд…» была издана на немецком языке в Германии. Она позднее переводилась и на другие языки. Со времени публикации третьей книги – «Труд, богатство и счастье человеческое» – прошло уже девять десятков лет, а у нас не были переведены и изданы даже фрагменты этого самого ценимого Уэллсом труда.
Последнее значимое произведение писателя – «Разум на краю своей натянутой узды» (Mind at the End of Its Tether) – брошюра, увидевшая свет в 1945 году, незадолго до смерти Г. Уэллса. В ней он предсказал вымирание человечества. Увы, и эта работа не доступна до сих пор аудитории, читающей на русском языке.
Из неопубликованных на русском языке произведений Г. Уэллса хотел бы еще отметить сборник его эссе и статей под названием «Мировой мозг» (World Brain, 1938). На Западе идеи, «озвученные» в этой книге, оказались очень популярными и приобрели в последние три десятилетия практическую значимость. Герберт Уэллс был одержим идеей просвещения человечества в мировом масштабе, изменения его сознания в короткое время. Мировой мозг, как полагал писатель, поможет создать тот самый новый мировой порядок, контуры которого были описаны в «Открытом Заговоре». В восьмом разделе «Открытого Заговора» Уэллс пишет, что «мир создаст в качестве центрального органа мозг современного сообщества – великую энциклопедическую организацию, которая будет постоянно обновляться и давать примерные оценки и указания для всей материальной деятельности человечества».
Несколько подробнее остановлюсь на «Мировом мозге» именно потому, что он в определенном смысле стал продолжением «Открытого Заговора». Достаточно подробно идея «Мирового мозга» была публично озвучена писателем в его лекции в Королевском институте международных отношений 20 ноября 1936 года (она была включена в упомянутый сборник). Вот ее начало: «Моей конкретной целью всегда было обобщение, синтез. Я не люблю отдельные события и отдельные детали. Я ненавижу заявления, предрассудки, убеждения, которые кидаются на тебя из ниоткуда. Мне нравится мой мир как согласованный и последовательный, насколько это возможно. Это, во всяком случае, мой темперамент – как научного человека. Именно поэтому я потратил несколько сотен часов моего времени, создавая очертания коротких историй мира: общие итоги человеческих открытий, попытки подвести итоги экономической, финансовой и социальной жизни в одном конспекте и даже, еще более отчаянно, изо всех сил я пытался оценить возможные последствия тех или иных эксплуатационных причин на будущее человечества. Все эти попытки были моими глубокими и заметными недостатками и слабостями; даже мои друзья склонны упоминать о них с извиняющейся улыбкой. Я был самонадеян и нелеп, не спорю, но я оглядываюсь на свои записи совершенно беззастенчиво. Кто-то должен был сломать лед. Кто-то должен был опробовать такие сводки на благо общего разума. Мой ответ на критику всегда был… „Ну, черт с тобой, делай это лучше всех“».
Далее в этой лекции и в других материалах сборника Уэллс конкретизирует свою мысль, говорит о необходимости аккумуляции стремительно растущего в мире объема знаний и информации, тщательной фильтрации и обработки информационных массивов, предельно возможного «отжима» знаний и информации и предоставления «твердого интеллектуального остатка» всему человечеству. Ключевым термином в рассуждениях Герберта Уэллса становится «Мировая (или Всемирная) энциклопедия». Постоянно расширяемая, верифицируемая наукой и практическим опытом, обновляемая и доступная для любого человека. Доступная как в физическом смысле, так и с точки зрения простоты изложения (и понимания) самых сложных процессов и явлений. Мировая энциклопедия будущего, по мнению писателя, не должна иметь ничего общего с архаичными энциклопедиями французских просветителей-энциклопедистов XVIII века и тяжеловесными и застывшими талмудами XIX века типа Britannica. Все такие энциклопедии – старые коллекции прошлых знаний, постоянно отстающие от ритма ускоряющейся жизни и научно-технического прогресса. «Наши современные энциклопедии еще едут в карете с лошадью, это их этап развития, а на самом деле они должны лететь на самолете», – утверждал Уэллс.
В составлении Мировой энциклопедии, по мнению Уэллса, должны участвовать интеллектуалы всего мира. Для консолидации и координации их деятельности он предлагал создать Международный комитет по интеллектуальному сотрудничеству как структурное подразделение Лиги Наций.
Размышляя о том, как сделать Мировую энциклопедию доступной для всего человечества, Уэллс предлагал, чтобы она издавалась на английском языке, который к 1938 году был уже самым распространенным на планете. А те страны, которые еще не перешли на массовое использование английского языка, должны наладить обучение ему в школах. С технической точки зрения, доступность можно было увеличить за счет микрофильмирования текстов и повсеместного применения проекторов.
Впрочем, Герберт Уэллс выражал уверенность, что научно-технический прогресс сумеет обеспечить человечество еще более простыми и быстрыми средствами доставки информации каждому человеку. И тут он действительно как в воду глядел. Английский ученый, писатель и футуролог Артур Кларк, обращаясь к идее Мирового мозга Г. Уэллса, в начале 1960-х годов высказал предположение, что доступ к такому мозгу можно будет получить через разбросанные по всему миру компьютеры, связанные с Мировым компьютером. Эта идея прозвучала в книге А. Кларка «Черты будущего» (Profiles of the Future, 1962), вышедшей на русском языке в 1966 году в переводе Я. Берлина и В. Колтового. Сегодня мир опутан паутиной интернета, который доставляет громадные массивы информации каждому человеку через персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие устройства.
Современную систему Мировой паутины (World Wide Web) считают практическим воплощением проекта Герберта Уэллса по созданию Мирового мозга. Практически реализована и идея Мировой энциклопедии Герберта Уэллса – в виде Википедии, или «Свободной энциклопедии». В составлении статей для нее может участвовать любой человек на планете, но при соблюдении определенных правил и процедур. На начало ноября 2020 года в Википедии было размещено 1 672 тыс. статей на русском языке, 2 495 тыс. – на немецком, 2 262 тыс. – на французском, 1 645 тыс. – на итальянском, 1 637 тыс. – на испанском и т. д. Вне конкуренции оказался английский язык – 6 183 тыс. статей. Но Википедия – не такая уж «свободная» и «объективная» энциклопедия, как ее пытаются представить те, кто стоит за созданием этого мощного глобального информационного ресурса. У нее есть не очень хорошо видимые широкой публике администраторы, которые активно влияют на контент энциклопедии. Страсти вокруг Википедии накаляются, доверие к ней постепенно падает (впрочем, это тема отдельного большого разговора).
Пример с Мировым мозгом показывает, что Герберт Уэллс то ли предвидел контуры будущего, то ли озвучивал далеко идущие планы британской элиты по переустройству мира. Безусловно, нам об этих пророчествах (или планах) надо было знать еще вчера или позавчера. Но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда». А для этого иметь на русском языке все книги английского писателя (не только многократно переиздаваемую фантастику). Рассчитываю, что перевод и публикация «Открытого Заговора» – лишь один, скромный шаг, за которым последуют дальнейшие шаги по переводу других интересных и актуальных произведений Герберта Уэллса на русский язык.
В заключение выражаю искреннюю благодарность (свою и моих коллег) Анастасии Крутько, которая сделала перевод книги Герберта Уэллса и безвозмездно передала его в редакцию издательства «Кислород».
В. Ю. Катасонов
Председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор, доктор экономических наук.
От издателя
Книга «Открытый Заговор: чертежи мировой революции» впервые была издана в 1928 году, когда Г. Дж. Уэллсу исполнилось 62 года. В 1930 году она была доработана и вышла с дополнительным подзаголовком «Вторая версия веры современного человека в более ясном и простом изложении». В 1931 году появилось очередное издание книги в новой редакции под названием «Что нам делать с нашей жизнью?». Окончательная версия книги вышла в 1933 году под своим первоначальным названием. Многие идеи «Открытого Заговора» нашли свое раннее отражение в романе Уэллса «Мир Уильяма Клиссольда» (1926).
Представляемая версия книги по тексту издания 1928 года выпущена в издательстве Gollancz, Лондон, в 1933 году.
Уэллс изначально назвал свою книгу «Открытый Заговор: чертежи Мировой Революции». Он рассматривал ее как свою окончательную декларацию того, каким должен быть мировой порядок. Возможно, он недооценивал или игнорировал тот факт, что интересы одной группы людей часто заставляют ее действовать против другой группы людей. Кроме того, упор на религиозный аспект выглядит немного странно для рационалиста.
После Первой мировой войны, видя у большинства людей нехватку знания о множестве предметов, он обратился к истории, начав в 1918 году писать книгу «Очерки истории». Впервые книга была опубликована отдельными частями с великолепными обложками, затем, в 1920 году, вышло двухтомное издание с роскошными по тому времени иллюстрациями-вклейками. Фактически над книгой работал коллектив авторов: разделы книги рассылались сотрудничавшим авторам, а Уэллс потом собирал воедино многочисленные правки в окончательной редакции. Популярное однотомное издание вышло в 1930 году. По стандартам того времени это был бестселлер. Десятилетия спустя Алан Джон Персиваль Тейлор[6] хвалил это издание как непревзойденное на тот момент введение в историю. Тойнби[7] также положительно отзывался о нем. В 20-е годы книга вызвала полемику со стороны Хилэра Беллока[8], который верил в такие понятия, как грехопадение человека. Нападки на книгу также прозвучали со стороны одного преподавателя греческого языка. Надежды же Уэллса на то, что школьную историю можно преподавать с вненационального угла зрения, естественно, так и не осуществились.
Уэллс сотрудничал в написании огромного количества работ по биологии: «Наука жизни» было написана им в соавторстве со своим сыном и Джулианом Хаксли[9]; темой книги была преимущественно эволюция («Происхождение видов» Дарвина было опубликовано всего за несколько лет до его рождения). Хаксли, потомок Томаса Генри Хаксли[10], считал Уэллса кем-то вроде выскочки из кокни[11].
Уэллс написал книгу и по экономике, скорее описательного, чем аналитического характера, она содержала многие оригинальные идеи, но ее затмила книга Кейнса[12] «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшая четыре года спустя.
Некоторые книги Уэллса были экранизированы; сценарий к «Человеку-невидимке» был написан Престоном Стерджесом[13], который, тем не менее, считал книги Уэллса трудными для воплощения на экране и довел Уэллса до ярости, сделав его человека-невидимку в фильме сумасшедшим. Другой инцидент в 1938 году был связан с радиоспектаклем Орсона Уэллса[14] «Война миров», в котором агрессивные марсиане высаживались в американизированной версии уэллсовского городка Сэрри, что вызвало на восточном побережье массовую панику у менее образованных американцев, слушавших радиопостановку.
Чарльз Перси Сноу[15] писал об Уэллсе, что тот мог «бросить всего одну фразу, в которой была выкристаллизована вся суть предмета», и что «это был такой уровень, что рядом просто некого было поставить». Среди этих фраз – «Война, которая положит конец войне», придуманная Уэллсом, когда он работал в Министерстве пропаганды под началом лорда Нордклиффа во время Первой мировой войны, которую он поддерживал. «Новый мировой порядок» – термин, который, вероятно именно Уэллс применил впервые или же популяризировал в книге с одноименным названием, вышедшей в 1940 году. Одним из его менее удачных определений был «компетентный потребитель».
Уэллс говорил о себе, что он работал неустанно.
Он был социалистом эмпирического, довольно расплывчатого рационалистического толка, не любил Маркса и без энтузиазма относился к управленческому социализму Уэббсов[16].
Его книга «Открытый Заговор» была издана в 1928 году с подзаголовком «Чертежи мировой революции». Бертран Рассел[17] сказал об этой книге: «…Я не знаю ничего, с чем бы я был более согласен», хотя, если учесть, что эта фраза содержалась в просительном письме, Рассел, возможно, просто проявил вежливость. Книга была доработана и переиздана под названием «Что нам делать с нашей жизнью?» в 1931 году.
В этой краткой книге Уэллс пытается ответить на вопрос: «Что на самом деле должны делать социалисты?» – вопрос, на который, как он сам не раз признавался, у него не было четкого ответа. Его тезис в противовес Марксу: почему бы непролетариям не объединиться, чтобы изменить мир?
I. Современный кризис в делах человечества
Мир претерпевает грандиозные изменения. Никогда ранее условия жизни не менялись так значимо и так стремительно, как они изменились для человечества за последние пятьдесят лет. Мы несемся в потоке сменяющих друг друга событий и не имеем возможности измерить все возрастающую их скорость. Мы только сейчас начинаем осознавать штормовую силу и мощь тех перемен, которые обрушились на нас.
Эти перемены не пришли в наш мир извне. В нашу планету не ударил метеорит из космического пространства; не было мощных проявлений вулканической активности или странных пандемий; солнце не раскалилось до чрезмерных температур и не сжалось внезапно, погрузив нас в арктическую зиму. Перемены пришли посредством самих людей. То тут, то там, вместе и порознь, люди стали совершать открытия, создавать и внедрять изобретения, изменившие все условия социальной жизни. Но подозревали ли они сами о конечных последствиях того, что они совершили?
Мы только сейчас начинаем понимать природу этих изменений, находить для них слова и фразы, подбирать им определения. Сначала эти изменения шли незамеченными, и лишь затем мы их осознали. Теперь мы начинаем видеть, как эти изменения связаны друг с другом, и можем оценить масштаб их последствий. Мы уже настолько прояснили себе суть этих перемен, что скоро сможем продемонстрировать их и объяснить их детям в наших школах. Пока мы этого не делаем. Мы не даем нашим детям шанс осознать как открытие то, что они живут в мире всеобщих перемен.
Каковы же основные направления изменений условий жизни человечества?
Удобнее всего будет рассматривать эти изменения в том порядке, в котором мы стали их ясно видеть и осознавать, нежели в порядке их возникновения или в их логической последовательности. Все они являются более или менее взаимозависимыми; пересекаются и взаимодействуют друг с другом.
Только в начале ХХ века люди стали осознавать реальное значение того аспекта изменяющихся условий жизни, который был обозначен фразой «исчезновение расстояния». В течение всего предыдущего столетия происходило постоянное увеличение скорости и безопасности путешествий и перевозок, простоты и быстроты передачи сообщений, но, как представляется, это ускорение не было делом первостепенной важности. Начали проявляться различные последствия развития железных дорог, пароходного и телеграфного сообщения; города разрастались и сливались с окружающими их деревнями, прежде труднодоступные земли превратились в зоны быстрого заселения и культивации, индустриальные центры стали жить за счет импортируемого продовольствия, новости из дальних краев утратили временной лаг и стали приходить почти без задержки, но никто и не думал восхвалять эти вещи как что-то большее, чем просто «улучшение» существующих условий. Их не сочли за начало глубокой революции в жизни человечества. Они не привлекли к себе внимание молодых людей; не делалось никакой попытки адаптации социальных и политических институтов к этому ползучему увеличению масштабов.
Вплоть до самого конца XIX века не появилось осознания реального положения дел. Затем несколько наблюдательных людей начали довольно осторожно, в манере комментария, привлекать внимание к происходящему. Они, по-видимому, не преследовали идею того, что с этим нужно что-то делать; просто они ярко и умно комментировали происходившее вокруг. А затем пришли к пониманию того, что «исчезновение расстояния» было только одним из аспектов последствий, идущих гораздо дальше.
Люди быстрее стали передвигаться по миру, мгновенно обмениваться сообщениями, что было обусловлено прогрессирующим завоеванием сил природы и материи. Улучшение транспорта стало только одним из зловещих последствий этого завоевания; первым из наводящих на подозрения и заставляющих задуматься, но, возможно, не первым по важности. Их осенило, что за последние сто лет был достигнут выдающийся прогресс в получении и использовании механической энергии и повышении эффективности механизмов, повлекший за собой огромное расширение субстанций, доступных человеку для его нужд: от вулканической резины до современной стали, от нефти и маргарина до вольфрама и алюминия. Вначале умы человечества были склонны расценивать эти вещи как счастливые «находки», удачные случайные открытия. Не было осознания того, что этот поток открытий систематичен и непрерывен. Популярные авторы рассказывали об этих вещах, но говорили о них сначала как о «чудесах» – таких как египетские пирамиды, Колосс Родосский или Великая Китайская стена. Мало кто понимал, насколько эти вещи превосходили любые «чудеса». Семь чудес света не лишали людей свободы жить, трудиться, жениться и умирать так, как они привыкли с незапамятных времен. Если бы даже семь чудес света совсем исчезли или умножились трехкратно, это не изменило бы образа жизни сколь-нибудь значительного числа человеческих существ. Но эти новые силы и субстанции модифицировали и трансформировали – ненавязчиво, неуклонно и безжалостно – саму ткань повседневной жизни человечества.
Они увеличили объемы производства и улучшили его методы. Они вызвали к жизни большой бизнес, вытеснивший мелкого производителя и мелкого посредника с рынка. Они смели с лица земли старые фабрики и возвели новые. Они изменили облик полей. Они привнесли в обычную жизнь одно за другим, день за днем – электрический свет и отопление, яркое ночное освещение городов, улучшенную вентиляцию, новые виды одежды, чистоту и свежесть. Они превратили мир, в котором никогда не было достатка, в мир потенциального изобилия, в мир чрезмерного изобилия. После того как интеллектуалы осознали «исчезновение расстояния», до них дошло, что и нехватка поставщиков уже в прошлом, и утомительный труд уже не необходим для производства всего материального, что может потребоваться человеку. Но только в последние лет десять этот факт наконец проник в умы более или менее широкого круга людей. Большинству из них еще предстоит продвинуться на шаг вперед и увидеть, насколько полной и завершенной является революция в характере повседневной жизни, в которую встроены эти явления.
Но есть и другие перемены, помимо этого грандиозного ускорения темпа и усиления мощи материальной жизни. Биологические науки претерпели соответствующее преобразование. Медицинское искусство достигло нового уровня эффективности, так что во всех модернизирующихся мировых сообществах средняя продолжительность жизни увеличилась и, несмотря на значительное снижение рождаемости, стал наблюдаться устойчивый, тревожный прирост мирового населения. Доля взрослого населения сегодня выше, чем когда-либо прежде. Все меньше и меньше человеческих существ умирают в молодом возрасте. Это изменило социальную атмосферу в обществе. Трагедия жизней, оборванных в самом начале и закончившихся преждевременно, выходит за рамки повседневного опыта. Здоровье становится нормой жизни. Постоянные зубные боли, головные боли, ревматизм, невралгии, кашель, простуда, расстройства желудка, которые мучили наших дедушек и бабушек на протяжении большей части их и так короткой жизни, становятся делом прошлого. Все мы теперь можем жить, как обнаруживается, без какого-либо бремени страха, в здравии и изобилии до тех пор, пока в нас жива тяга к жизни.
Но мы этого не делаем. Вся эта ставшая доступной свобода передвижения, это могущество и изобилие остаются для большинства из нас не более чем возможностью. Существует ощущение глубокой нестабильности в отношении этих достижений нашей расы. Даже те, кто наслаждаются ими, наслаждаются, не чувствуя себя в безопасности, а для огромной части человечества нет ни легкости, ни изобилия, ни свободы. Тяжелый труд, отсутствие достатка и нескончаемые заботы о деньгах – все еще обычные спутники жизни. Над всем человечеством нависает угроза такой войны, которой человек никогда прежде не знал и которая будет снабжена и подкреплена всей мощью и открытиями современной науки.
Когда мы задаемся вопросом, почему овладение силами природы оборачивается бедствием и опасностью в наших руках, мы получаем совершенно неудовлетворительный ответ. Любимая банальность политика, ищущего себе оправдание за тщетность своих занятий, заключается в том, что «моральный прогресс не поспевает за материальным прогрессом». Кажется, такое объяснение полностью его удовлетворяет, но не может удовлетворить ни одного думающего человека. Он произносит слово «мораль». Он оставляет это слово без объяснения. По всей видимости, он хочет переложить ответственность на наших религиозных учителей. В лучшем случае он наводит туман, не зная, что ответить. И все же мы рассматриваем этот ответ милостиво и сочувственно: в нем, похоже, есть зародыш истины.
Что означает «мораль»? Mores означает «нравы и обычаи». Мораль – это то, как мы ведем себя в жизни. Это то, как мы проявляем себя в социальной жизни. Это то, как мы поступаем по отношению к своим собратьям. И сейчас, кажется, имеется гораздо большее противоречие, чем было, скажем, пару сотен лет назад, между превалирующими идеями о том, как подобает проводить жизнь, и возможностями и опасностями настоящего времени. Мы начинаем все более ясно видеть, что определенные сложившиеся традиции, которые веками составляли основу человеческих отношений, уже не просто не столь удобны, как раньше, но уже определенно вредны и опасны. И все же мы не знаем, как стряхнуть с себя эти традиции, эти привычки социального поведения, управляющие нами. Но также мы не способны продекларировать, а тем более ввести в обиход новые концепции социального поведения и социальных обязательств, которые должны их заменить.
Например, общее управление человеческими делами в мире до сих пор распределялось среди определенного числа суверенных государств – в настоящее время их около семидесяти – и до недавнего времени это была вполне сносная конструкция, в которую можно было вписать общий для всех образ жизни. По нашим нынешним стандартам уровень жизни, возможно, не был высоким, но социальная стабильность и уверенность в будущем были выше. Молодых учили быть лояльными, законопослушными, патриотичными, а сложившаяся система наказаний за преступления и правонарушения в виде репрессий и штрафов поддерживала целостность социального организма. Каждого учили истории, прославляющей его собственное государство, и патриотизм был главным среди добродетелей. Теперь же, когда стремительно произошло это «исчезновение расстояния», все мы стали соседями по улице. Государства, когда-то бывшие отдельными, социальные и экономические системы, прежде бывшие далекими друг от друга, теперь с раздражением толкают и теснят друг друга. Торговля в новых условиях постоянно нарушает национальные границы и совершает воинственные набеги на экономическую жизнь других стран. Это обостряет патриотизм, на котором все мы воспитаны и которым все мы, за редким исключением, пресыщены. Между тем война, которая когда-то была сравнительно вялой потасовкой на переднем фланге, превратилась в войну в трех измерениях; она затрагивает невоюющего почти так же, как воюющего, она приобрела вооружения колоссальной жестокости и разрушительности. В настоящее время не существует выхода из этой парадоксальной ситуации. Наше воспитание и наши традиции постоянно подталкивают нас к антагонизму и конфликтам, которые приведут к обнищанию, голоду и уничтожению как наших антагонистов, так и нас самих. Мы все научены не доверять иностранцам и ненавидеть их, салютовать своему флагу, послушно застывать, деревенея, при исполнении национального гимна и быть готовыми следовать за нашими маленькими собратьями в шпорах и перьях, изображающими из себя глав наших государств, в пекло самого ужасного тотального разрушения. Наши политические и экономические идеи устроения жизни устарели, и мы сталкиваемся с большими трудностями в их адаптации и реконструировании, с тем чтобы они начали соответствовать колоссальным требованиям нового времени. Вот что на самом деле имеют в виду наши граммофонные политики, выражающиеся в своем обычном туманном стиле, когда они вновь и вновь ставят эту заезженную пластинку о том, что «моральный прогресс не поспевает за научно-техническим прогрессом».
В социальном и политическом плане мы хотим пересмотра системы представлений о нормах поведения, обновленного взгляда на социальную и политическую жизнь. Мы попусту тратим нашу жизнь, мы дрейфуем, нас обманывают, надувают и вводят в заблуждение те, кто эксплуатирует старые традиции в своих корыстных целях. Нелепо то, что все продолжают навязывать нам войны, облагают нас новыми налогами для их финансирования, угрожают телесными увечьями и ограничением прав и свобод ради никому не нужного выживания старой модели разъединенного мира донаучной эры. И дело не только в том, что наш политический образ жизни сегодня ничем не лучше унаследованного образа жизни с его дефектами и пороками развития, но и в том, что наша повседневная жизнь, еда и питье, одежда и жилье, и все наши занятия также стеснены, расстроены и находятся в упадке из-за того, что мы не знаем, как стряхнуть с себя старый уклад жизни и приспособить нашу жизнь к новым возможностям. Напряжение принимает форму возрастающей безработицы и дисбаланса покупательной способности. Мы уже не знаем, тратить ли нам или экономить. Толпы людей оказываются необоснованно выброшенными с рынка труда. Несправедливо, иррационально. Колоссальные преобразования бизнеса осуществляются для увеличения производства и накопления прибыли, а между тем число потребителей с покупательной способностью все уменьшается и совсем исчезает. Машина экономики скрипит и подает все признаки остановки, и эта остановка будет означать всеобщую нужду и голод. Экономика не должна встать. Должно произойти преобразование, перенастройка. Но что за перенастройка?
Хотя никто из нас еще не знает, каким именно образом эта великая перенастройка должна будет осуществиться, во всем мире сейчас ощущается, что нам предстоит то ли перенастройка, то ли глобальная катастрофа. Все больше людей чувствуют, что этот переход от старого к новому не пройдет гладко и без потерь. В пределах жизни одного поколения человечество перешло от того состояния дел, которое нам сейчас кажется медленным, скучным, плохо обеспеченным и ограниченным, но, по крайней мере, колоритным и безмятежным, к новой фазе волнений, провокаций, угроз, безотлагательности, реальных или потенциальных бедствий. Наши жизни переплетены, мы являемся частями друг друга. Мы не можем уйти от этого. Мы – объекты в социальной массе. Что нам делать с нашей жизнью?
II. Идея Открытого Заговора
Я пишу на социальные и политические темы. По сути, я вполне обычный, заурядный человек. У меня довольно посредственный, среднестатистический мозг, и поэтому то, как мой мозг реагирует на эти проблемы, является хорошим индикатором того, как большинство мозгов будет реагировать на них. Но, поскольку мое дело – писать и думать об этих вопросах, и я могу уделять им больше времени и внимания, чем большинство людей, постольку мне удается значительно опережать других, и мои статьи и книги выходят немного раньше, чем те идеи, которые я там отражаю, они становятся понятны десяткам тысяч, затем сотням тысяч и, наконец, миллионам людей. И случилось так, что несколько лет назад (около 1927 года) у меня возникло страстное желание разобраться с этим запутанным клубком идей, которые, казалось, содержали в себе ответ на вопрос, как нам приспособить нашу жизнь к громадным новым возможностям и опасностям, стоящим перед человечеством, и придать этим идеям некую форму.
Мне казалось, что во всем мире разумные люди пробудились и поняли, как это унизительно и абсурдно. Что их подвергают опасностям, ограничению прав и свобод, обнищанию, пользуясь их некритической приверженностью традиционным правительствам, традиционным представлениям об экономической жизни и традиционным формам поведения, и что эти пробудившиеся разумные люди должны сначала заявить протест, а затем оказать творческое сопротивление той инерции, которая нас душит и нам угрожает. Эти люди, которых я себе представлял, сначала сказали бы: «Мы дрейфуем, мы не делаем ничего стоящего в жизни. Наши жизни скучны и глупы и недостаточно хороши».
Затем они спросили бы: «Что нам делать с нашей жизнью?»
И затем они сказали бы: «Давайте соберемся вместе с другими людьми нашего духа и превратим весь мир в великую мировую цивилизацию, которая позволит нам реализовать возможности этого нового времени и избежать его опасностей».
Мне казалось, что, по мере того как один за другим мы пробуждались, мы должны были бы говорить именно это. Это вырастало бы в протест сначала интеллектуальный, затем практический. Он представлял бы собой своего рода непреднамеренный и неорганизованный заговор против раздробленных и неадекватных правительств и широко распространившейся жадности, присвоения, неумелости и растрат, которые мы сейчас видим. Но, в отличие от обычных заговоров, этот растущий протест и заговор против устоявшихся порядков по самой своей природе рос бы и ширился открыто, при свете белого дня, и был бы готов принять содействие и помощь со всех сторон. Фактически он стал бы Открытым Заговором, необходимым, естественно эволюционировавшим заговором, который починил бы наш поломавшийся мир.
Я делал разные попытки развить эту идею. Еще в 1928 году я опубликовал небольшую книжку под названием «Открытый Заговор», в которую я вложил то, что думал в то время. Это была неудачная книжка, что было ясно уже тогда, когда я ее публиковал: недостаточно простая в изложении, недостаточно убедительная и, кроме того, непонятно на какую аудиторию рассчитанная. В то время я не знал, как написать лучше. Тем не менее, мне казалось, что моя книжка говорит о чем-то живом и актуальном, и поэтому все-таки опубликовал ее – но все устроил так, чтобы я мог отозвать публикацию через год или около того. Что и сделал. И настоящее издание является существенно переработанной версией, намного яснее и более точно выражающей мои идеи. Со времени первой публикации мы все удивительно продвинулись вперед. События подстегивали общественную мысль и, в свою очередь, сами подстегивались ею. Идея реорганизации мировых дел в больших масштабах, которая считалась «утопической» и т. п. в 1926 и 1927 годах и все еще «смелой» в 1928 году, теперь распространилась по всему миру и дошла уже почти до каждого. Эта идея загорелась повсюду, а интерес к ней во многом был простимулирован Российским пятилетним Планом. Повсюду сотни тысяч людей теперь думают в том направлении, которое впервые было обозначено в моем «Открытом Заговоре» не потому, что они когда-либо слышали об этой книге или об этой фразе, а потому что именно в этом направлении объективно развивалась общественная мысль.
Первая версия «Открытого Заговора» выразила общую идею реконструированного мира, но она была очень расплывчатой в отношении того, каким образом конкретная жизнь того или иного индивида может быть вписана в эту общую идею. Она дала общий ответ на вопрос: «Что нам делать с нашей жизнью?» Она говорила: «Помогите создать новый мир в тумане заблуждений старого». Но когда был задан вопрос: «Что мне делать со своей жизнью?», ответ был менее удовлетворительным.
Последовавшие за этим годы размышлений и накопления опыта позволяют приблизить эту общую идею реконструктивного усилия, попытки построить новый мир на фундаменте нынешнего мира с его опасностями и дисгармониями к самой индивидуальности, личности Открытого Заговорщика. Мы можем теперь осветить этот вопрос гораздо лучше, мы уже знаем, с какого бока за него взяться.
III. Мы должны оздоровить наш разум и привести его в порядок
Для большинства из нас, начинающих осознавать необходимость жить по-новому, становится довольно очевидно, что государство, которое определяет строй нашей жизни, необходимо переформатировать так, чтобы оно отвечало новым требованиям к нему. Но для этого мы должны в первую очередь привести в порядок наш собственный разум. Почему мы только сейчас очнулись и увидели всю глубину кризиса в человеческих делах? Ведь прогрессирующие изменения шли с постоянным ускорением в течение пары веков! Должно быть, мы все были очень ненаблюдательны, а наши знания в том виде, в котором они к нам пришли, были неупорядочены в наших головах, и наша реакция на этот кризис была неясной и сбивчивой, иначе мы наверняка давно осознали бы, какие громадные проблемы бросают нам вызов. Но если это так, если на то, чтобы разбудить нас, потребовались десятилетия, то вполне вероятно, что мы и сейчас еще не совсем проснулись. Даже сейчас мы, наверное, не осознали весь масштаб той работы, которая нам предстоит. Возможно, нам еще многое надлежит себе уяснить и, безусловно, нам еще многому надо поучиться. Поэтому одна из наших основных и постоянных обязанностей – продолжать мыслить и хорошенько следить за тем, каким способом мы мыслим и каким способом мы получаем и используем полученные знания.
По сути, Открытый Заговор должен стать интеллектуальным перерождением.
Человеческая мысль все еще очень путается от несовершенства слов и символов, которые она использует, и последствия этого спутанного мышления гораздо более серьезны и обширны, чем это обычно осознают. Мы все воспринимаем мир сквозь завесу слов, и только то, что напрямую нас касается, является для нас очевидным фактом. Посредством символов и особенно посредством слов и языка человек поднялся над уровнем обезьяны и обрел господство над вселенной. Но каждый шаг в его интеллектуальном восхождении был связан с путаницей символов и слов, которые он использовал; они были одновременно и полезными, и очень опасными, и вводящими в заблуждение. Многие наши занятия, социальные, политические, интеллектуальные, сегодня находятся в запутанном и опасном состоянии из-за нашего вольного, некритического, неряшливого использования слов.
На протяжении всего позднего Средневековья среди схоластов возникали жаркие споры об использовании слов и символов. Человеческий ум обладает странной склонностью думать, что символы, слова и логические умозаключения более точны, чем непосредственный опыт, и эта горячая полемика была вызвана осознанием данной склонности и попыткой человеческого разума бороться с ней. По одну сторону находились реалисты, которых так называли, потому что они полагали, что имена более реальны, чем факты, а по другую сторону – номиналисты, которые с самого начала были проникнуты подозрением в отношении имен и слов в целом; они полагали, что в словесных процессах может скрываться какая-то западня, и постепенно пришли к идее экспериментальной проверки, ставшей фундаментальной чертой экспериментальной науки – науки, давшей нашему человеческому миру все эти громадные силы и возможности, которые сегодня так нас соблазняют и сулят нам угрозу. Дебаты тех схоластов имели важнейшее значение для человечества. Современный мир не мог родиться прежде, чем человеческий разум порвал с узколобым вербалистическим мышлением, которому следовали реалисты.
Однако на протяжении всего моего обучения мне ни разу не прояснили этот вопрос. Лондонский университет выдал мне диплом с отличием первого класса и наградил меня правом носить элегантную мантию с капюшоном, что, видимо, подразумевало, что я – глубоко образованный молодой человек; Лондонский колледж наставников дал мне и миру самые твердые гарантии того, что я стал в состоянии обучать и тренировать умы моих собратьев, и все же мне еще предстояло обнаружить, что реалист не был тем романистом, который слишком сильно приправил свои книги ароматом сексуальности, но и номиналист не был тем, кто совсем ее недодал. Но, когда в процессе моей работы по биологии я узнал о феномене индивидуальности, а в процессе подготовки на роль идеального наставника – о логике и психологии, мне закралось в голову, что что-то очень важное и существенное было упущено в моем обучении и что я не был настолько хорошо экипирован знаниями, как об этом говорили мои дипломы, так что в последующие несколько лет я выделил время, чтобы довольно тщательно разобраться в этом вопросе. Я не делал чудесных открытий. Все, что я узнавал, уже было мне известно. Тем не менее мне приходилось снова и снова прояснять для себя некоторые вещи, как будто прежде я никогда этого не делал, настолько недоступно было представление о полноценном процессе мышления обычному человеку, который хотел привести свой ум в надлежащее рабочее состояние. И не то чтобы я пропустил какие-то глубокие и тонкие философские изыскания – нет; но фундаментальное мышление, лежащее в основе моего политического и социального поведения, было неверным. Я находился в человеческом сообществе и вместе с этим сообществом грезил о фантомах и фантазиях, как будто они были реальными живыми феноменами, находился в мечтах о нереальном, был слеп, беспорядочен, загипнотизирован, низок и никчемен, шел, спотыкаясь, в этом чрезвычайно прекрасном, но и чрезвычайно опасном мире.
Я решил переобучить себя и, пройдя курс писательского мастерства, отразил это в различных пробных брошюрах, эссе и книгах. Нет необходимости ссылаться здесь на эти книги. Суть вопроса изложена в трех сборниках, к которым я вскоре вернусь. Это «Очерки истории» (гл. XXI, § 6 и гл. XXXIII, § 6), «Наука жизни» (Книга VIII, «Мысль и поведение») и «Труд, богатство и счастье человеческого рода» (гл. II, § § 1–4). В последней работе достаточно ясно показано, как человеку пришлось бороться за господство над своим разумом, как лишь после многих проб и ошибок он обнаружил способ правильного и эффективного использования своего интеллектуального инструмента, и как он должен был научиться не попадать в расставленные там и сям ловушки и западни, прежде чем смог достичь своего нынешнего господства в этом вопросе. Ясное и эффективное мышление не дается от природы. Поиск истины – это искусство. Мы тысячу раз, самым естественным образом, попадаем в ловушки ложных обобщений и умозаключений. Тем не менее сегодня в мире вряд ли где-то существует обучение процессу мышления. Мы должны научиться этому искусству, если мы вообще хотим его практиковать. У наших школьных учителей не было надлежащей подготовки, и они «обучают» других на тех же примерах и заповедях, на которых сами были обучены, вот поэтому-то наша пресса и общественные дискуссии больше похожи на импровизированное восстание искалеченных, глухих и слепых умов, чем на разумный обмен идеями. Что за чушь иной несет! Что за поспешные и опрометчивые предположения! Что за идиотские умозаключения!
Но переобучение себя, оздоровление своего разума, постоянная его тренировка и упражнение в правильном мышлении – это только первая из задач перед пробуждением Открытого Заговорщика. Он должен не только уметь ясно мыслить, но и снабжать свой ум надлежащими общими идеями, которые должны сформировать прочную основу для его повседневных суждений и решений.
Великая Война впервые открыла мне, насколько я был невежествен и насколько обрывочны и беспорядочны были мои понятия о самых важных вещах в жизни. Эта катастрофическая растрата жизни, материального богатства и благополучия, развернувшаяся практически во всем мире, явно была результатом процессов, составляющих львиную часть истории, и все же я обнаружил, что не знаю – и, похоже, никто другой не знает – историю в том разрезе, чтобы понять, из-за чего началась Великая Война или что из нее последует. Версальский мир[18], как все мы, кажется, сегодня согласны, был глупым, но как Версаль мог быть чем-то еще, кроме того, чем он стал, ввиду несовершенного, однобокого знания истории и, вследствие этого, подозрений, эмоций и предрассудков тех, кто там собрался? Они знали ничуть не лучше остальных, что такое война, так как же они могли знать, каким должен быть мир? Я понял, что все мы были в одной лодке и, в первую очередь, чтобы разобраться самому, я поставил перед собой задачу составить краткий конспект мировой истории и подобрать ключ к более удобовразумительному объяснению политического положения человечества. Мой конспект «Очерки истории» был бесстыдной компиляцией основных фактов мировой истории, написанной без какого-либо искусства или изящества, в большой спешке и воодушевлении, но его тиражи, которые сейчас перевалили за третий миллион, показали, как много у меня общего с огромной рассеянной массой простых людей, желающих узнать правду, испытывающих отвращение к псевдопатриотическим, сутяжническим, пустословным сплетням, которые их школьные учителя и учительницы преподносили им как историю, и которые подвели их к катастрофе войны.
«Очерки истории» – это не полная история жизни человечества. Ее главная тема – рост взаимосвязей, отношений и конфликтов между человеческими сообществами и их правителями, история о том, как и почему мириады маленьких племенных систем, возникшие десять тысяч лет назад, постоянно находились в войне между собой и, наконец, объединились в шестьдесят или семьдесят с лишним государств, которые мы сегодня имеем, и теперь бьются и пытаются вырваться из тисков сил, которые в настоящее время должны совершить их окончательное объединение. И даже когда я закончил «Очерки», я понял, что за их рамками остались более широкие, фундаментальные, и более узкие, прикладные, области знаний, которые мне еще предстоит освоить для достижения моих собственных практических целей и целей моих единомышленников, желающих с пользой прожить свою жизнь – для того, чтобы мое существование на земле не оказалось тщетным.
Я понял, что недостаточно знаю о жизни моего собственного тела и его отношениях с миром жизни и материи вне его, для того, чтобы принимать правильные решения по ряду неотложных вопросов – от расовых конфликтов, контроля над рождаемостью и моей личной жизнью, до общественного контроля за здоровьем и сохранением природных ресурсов. А также я обнаружил, насколько я был не осведомлен о повседневной жизни шахтера, который предоставил уголь для приготовления моего обеда, и банкира, который взял мои деньги в обмен на чековую книжку, и лавочника, у которого я покупал вещи, и полицейского, который поддерживал улицы для меня в порядке. И, тем не менее, я голосовал за законы, влияющие на мои отношения с этими людьми, оплачивал их труд прямо или косвенно, высказывал свои непросвещенные мнения о них и своим поведением в целом так или иначе поддерживал их жизнь и влиял на нее.
Итак, под руководством двух очень компетентных биологов я принялся за работу, целью которой являлось как можно более простое и ясное изложение того, что было известно об источниках и природе жизни, а также об отношениях видов к отдельным особям и к другим видам и о процессах сознания и мышления. Так появилась моя публикация «Наука жизни». И, в то время как я еще работал над этой книгой, я поставил перед собой новую задачу – сделать обзор всех родов человеческой деятельности в их взаимодействии друг с другом: труда и потребностей людей, культивации земель, промышленного производства, торговли, администрации, государственного управления и всего остального. Самой трудной частью этой задачи было получение рационального представления о современном мире, что требовало помощи и совета самых разных людей. Я должен был задать себе вопрос и найти на него какой-то общий ответ: «Что делают живущие сегодня на земле один миллиард девятьсот с лишним миллионов человек, как и зачем они это делают?» Это был по сути очерк экономической, социальной и политической науки, но из-за того, что после «Очерков истории» слово «очерк» весьма обесценилось, пройдя ряд переизданий, я назвал его «Труд, богатство и счастье человеческого рода».
Я нахожу, что теперь, издав эти три взаимосвязанные компиляции, я наконец-то, хотя и в довольно грубой форме, собрал вместе полную систему идей, на которую может опираться Открытый Заговорщик. Прежде чем кто-либо мог надеяться получить что-то вроде практического руководства для ответа на вопрос «Что нам делать с нашей жизнью?», нужно было узнать, какова была наша жизнь («Наука жизни»); что привело нашу жизнь к ее нынешнему состоянию («Очерки истории»); и наконец, эта третья моя книга расскажет о том, что мы должны будем делать день за днем в нашей повседневной жизни вместо того, что мы до сих пор делали. К тому времени как закончил работу над этими книгами, я почувствовал, что у меня получилось нечто основательное и всеобъемлющее, как говорится – «идеология», опираясь на которую можно было подумать о построении нового мира без фундаментальных «сюрпризов», и, кроме того, я увидел, что мне удалось «отскрести» свой разум и избавить его от многих иллюзий и вредных привычек, так что он сделался способным трактовать явления жизни с той уверенностью, которой он никогда раньше не знал.
В моих компиляциях нет ничего необыкновенного. Их мог бы сделать любой устоявшийся писатель со средним интеллектом, обладающий такой же волей и такими же ресурсами, если бы он посвятил около девяти или десяти лет этой задаче и получил надлежащую помощь. Это вполне может быть сделано, и это, без сомнения, делается вновь и вновь другими людьми, для самих себя и, возможно, для других, в более красивой и адекватной форме. Но приобретение такого уровня видения и знания, достижение этого уровня систематизации и осмысления было необходимым условием, которое должно было быть выполнено, прежде чем кто-либо мог попытаться ответить на вопрос: «Что нам делать с нашей жизнью?», и прежде чем кто-либо мог стать успешным Открытым Заговорщиком.
Я опять повторяю, что нет ничего незаменимого в этих трех конкретных книгах. Я говорю о них и обращаюсь к ним потому, что сам их составил, и они являются для меня удобным подспорьем для объяснения моих мыслей. Но большую часть того, что они содержат, можно извлечь из любой хорошей энциклопедии. Множество людей сами для себя составили подобные конспекты истории, прочитали массу книг, ухватили основные принципы биологии, проштудировали современную литературу по бизнесу и ни в малейшей степени не нуждаются в моих компиляциях. Что касается истории и биологии, есть параллельные книги, которые так же хороши и полезны.
Тем не менее, даже для высокообразованных людей эти мои конспекты могут быть полезны для приведения уже имеющихся у них знаний различной степени глубины в некую общую схему. Они помогают корреляции знаний и заполнению пробелов. В совокупности они закладывают фундамент, и, в некотором роде, этот фундамент необходимо заложить перед тем, как разум современного гражданина будет готов браться за решение встающих перед ним проблем. В противном случае он – недееспособный гражданин, он не знает, где он и где мир, и если он богат или влиятелен, то он может быть очень опасным гражданином. В настоящее время появятся компиляции лучше, они удовлетворят эту потребность, или, возможно, появится какая-то общемировая интеллектуальная концепция современного образования, в которой будет объединена суть всех трех разделов знаний, сконцентрированных и сделанных более понятными и привлекательными – «Жизневедение», которое должно быть дано для изучения каждому.
Но, конечно, никто не может начать жить правильно и удовлетворительно, если он не знает, что он такое, где он находится и в каком отношении он стоит к самому себе и к другим людям.
IV. Революция в образовании
Таким образом, необходимость свести счеты между людьми, пробудившимися к новому миру, который рассветает над нами, и школами, колледжами и всей машиной официального образования уже давно назрела. Образованные люди как класс не получают ничего подобного «Жизневедению», которое необходимо, чтобы направлять наше поведение в современном мире.
Венцом абсурда в сегодняшнем мире является то, что эти образовательные учреждения маршируют торжественным парадом, подготавливая новое поколение к жизни, а затем избранное меньшинство из их жертв, обнаружив, что эта «подготовка» оставила их почти полностью неподготовленными, вынуждены своими собственными усилиями прорываться из этого мира с горсткой своих изголодавшихся и деформированных умов к какому-то реальному образованию. Но мир не может управляться одним таким меньшинством вырвавшихся и перевоспитавшихся умов, когда вся остальная масса – против них. Наши нужды требуют интеллекта и служения каждого, кто может быть обучен их отдавать. Поэтому новый мир требует новых школ, чтобы дать всем крепкую и основательную интеллектуальную подготовку и снабдить всех ясными представлениями об истории, о жизни, о политических и экономических отношениях, вместо того чтобы захламлять голову газетными штампами, что преобладает сейчас. Учителя и школы старого мира должны быть или реформированы, или заменены новыми. Энергичный процесс реформирования образования возникает как естественное и необходимое выражение воли пробуждающегося Открытого Заговорщика.
Революция в образовании – это самое насущное и фундаментальное требование для адаптации жизни к новым условиям.
Эти конспекты знаний, составляющие современное «Жизневедение», на которые мы делали акцент в предыдущем разделе, эти дополнения к обучению, которые в настоящее время составляются и читаются за пределами формального образовательного мира и наперекор его явной враждебности, возникают из-за отсталости этого мира, но, раз этот мир медленно, но верно поддается давлению нового духа, они проникнут в него, заменят его учебники и затем исчезнут как отдельный класс книг. Образование в эти новые опасные времена, в которые мы сейчас живем, должно быть правильным с самого начала, и в нем не должно быть ничего, что нужно было бы впоследствии восполнять или переучивать. Прежде чем мы сможем говорить о политике, финансах, бизнесе или морали, мы должны убедиться в том, что у нас сформирован правильный склад ума как фундамент правильного понимания свершившихся фактов. Мы ничего не сможем поделать с нашей жизнью, пока не позаботимся об этом.
V. Религия нового мира
«Да, – возразит читатель, – но разве наша религия не говорит нам, что мы должны делать с нашей жизнью?»
В данной дискуссии мы не можем обойти религию в ее сущностной основе. С нашей нынешней точки зрения, религия является той центральной, неотъемлемой частью образования, которая определяет поведение. Религия, безусловно, должна сказать нам, что нам делать с нашей жизнью. Но в круговороте современной жизни слишком многое из того, что мы называем религией, остается неуместным или глупым. Религия, похоже, не «подключается» к решению главнейших проблем жизни. Она потеряла связь с жизнью.
Давайте попробуем соотнести идею Открытого Заговора, имеющего целью приближение и построение нового мира, с религиозными традициями. Открытый Заговорщик, оздоровив свой разум, усвоив современную идеологию и придав ясность своим представлениям о вселенной, обязан верить, что только отдавая свою жизнь великим процессам социального реконструирования и подчиняя свое поведение их требованиям он может преуспеть в жизни. Но это сразу запускает в нем самую тонкую и бесконечную борьбу – борьбу с непрестанным вращением наших интересов вокруг самих себя. Он должен жить широкой жизнью и устраниться от тесной, узкой жизни. Мы все стремимся обрести достоинство и счастье в великодушии и избавиться от терзающей нас страсти самоугождения. В прошлом эта борьба обычно принимала форму религиозной борьбы. Религия является антагонистом самости.
В своей полноте, в жизни, центром которой была религия, она всегда требовала полного подчинения себе. В этом и заключалась творческая сила религий. Они требовали преданности и обосновывали это требование. Они освобождали волю из плена эгоистических забот, зачастую целиком и полностью. Нет такой вещи, как «индивидуальное религиозное соло» – религии, замкнутой на самой себе. Определенные формы протестантизма и некоторые мистические течения близки к тому, чтобы сделать религию уединенным дуэтом между человеком и его божеством, но эти случаи можно рассматривать, как извращение религиозного импульса. Точно так же, как нормальный сексуальный инстинкт понуждает индивида отречься от своего эгоизма и послужить делу продолжения человеческого рода, нормальный религиозный инстинкт выводит человека из комфортной зоны его эгоизма на службу обществу. Это не сделка, не «социальный контракт» между человеком и обществом; это подчинение как индивида, так и общества чему-то высшему: божеству, божественному порядку, стандарту, праведности, чему-то более важному, чем они оба. То, что во фразеологии некоторых религий называется «наказанием за грех» и «бегством из Града Разрушения[19]», является знакомым примером вынесения оценки и эгоистичному индивиду, и нынешней социальной жизни относительно чего-то гораздо более высокого.
Это третий элемент в религиозных отношениях: надежда, обещание, цель, которая отвращает новообращенного не только от него самого, но и от «мира», каков он есть, и обращает его к высшему. Сначала приходит отречение от себя, затем – служение, и затем – потребность в созидании, творении.
Для более утонченного ума этот аспект религии, кажется, всегда был его главной привлекательностью. Нужно помнить, что настоящая причина искания религиозности, рассеянная по всему человечеству, – это желание отречения от себя. Религия никогда не охотилась за своими избранниками; они сами шли ей навстречу. Желание отдавать себя более высоким целям, чем это позволяют рамки повседневной жизни, и отдавать себя свободно, явно доминирует среди этого меньшинства, но также прослеживается и среди подавляющего большинства обычных людей.
До сих пор религия никогда не преподносилась просто как преданность общему делу. Преданность всегда была в ней, но в ее основе лежали и прочие соображения. Лидеры каждого великого религиозного движения считали необходимым, чтобы оно объяснило себя в формате истории и космогонии. Было необходимо объяснить: «почему?» и «с какой целью?». Поэтому каждая религия должна была принять материальные концепции и, как правило, принять многие из моральных и социальных ценностей, существовавших на момент ее формирования. Она не могла выйти за рамки современных ей философских понятий, ей не на что было опереться, кроме хранилища научных знаний своего времени. И уже в этом были посеяны семена неизбежного упадка и исчезновения сменяющих одна другую религий.
Но, поскольку идея постоянного развития, уходящего все дальше и дальше от существующей реальности и никогда не возвращающегося к ней, является новой, и никто до самого недавнего времени не осознавал того факта, что сегодняшнее знание завтра будет почитаться за невежество, постольку каждая новая религия в мире до сих пор чистосердечно провозглашалась как высшая и окончательная истина.
Эта всеокончательность утверждения истины имеет большое практическое значение. Предположение о возможности дальнейшего пересмотра является тревожным предположением; это подрывает убежденность и разрушает ряды верующих, потому что между людьми существуют огромные вариации в их способности распознавать проявление одного и того же духа в изменяющихся формах. Эти вариации вызывают сегодня бесконечные трудности. В то время как некоторые умы могут распознать одного и того же Бога под различными именами и символами без какого-либо серьезного напряжения, другие не могут отличить друг от друга даже самых противоположных богов, если эти боги носят одинаковую маску и титул. Многим умам кажется сегодня совершенно естественным и разумным переформулировать религию с точки зрения биологической и психологической необходимости. Другие думают, что любое изменение в выражении веры представляет собой не что иное, как атеистическое искажение самого дьявольского свойства. Для этих последних Бог – антропоморфный настолько, что Он имеет волю и цель, проявляет предпочтения и отвечает взаимностью, то есть по существу является личностью – должен сохраняться до конца времен. Для других Бог – это Великая Первопричина, такая же безличностная и неодушевленная, как структура атома.
Взятые религиями исторические и философские обязательства, а также уступки общим человеческим слабостям в отношении таких некогда незначительных, но теперь жизненно важных моральных проблем, как владение собственностью, интеллектуальная деятельность, публичная открытость, а не какая-либо неадекватность в их адаптации к психологическим потребностям – вот что привело к широкой дискредитации Церквей как религиозных организаций. Они даже не пытаются искать правды в спорных вопросах и не дают никаких предписаний в отношении многих областей человеческого поведения, которые нуждаются в разъяснении. Кто-то скажет: «Я мог бы быть совершенно счастлив, ведя жизнь благочестивого католика, если бы я только мог поверить». Но большая часть религиозных учений, на которых основывается такая жизнь, слишком старомодна и слишком неуместна, чтобы вместить ту глубину веры, которая необходима для воцерковления думающих людей.
Современные писатели и мыслители проявили большую изобретательность в адаптации почтенных религиозных учений к новым идеям… Каюсь, грешен! Не написал ли я о творческой воле человечества в своей книге «Бог – невидимый царь» и не представил ли ее в образе юного и смелого личного «бога», обитающего в сердце человека?
Слово «Бог» для большинства настолько связано с понятием религии, что если от него и отказываются, то с величайшим нежеланием. Слово остается, хотя сама идея непрерывно ослабевает. Уважение к Нему требует, чтобы Он не имел никаких ограничений. Поэтому Он все больше отдаляется от действительности, и Его определение все более и более становится набором отрицаний, пока, наконец, в Своей роли Абсолюта, Он не сводится к совершенному отрицанию всех возможных определений. Постольку, поскольку существует добро, скажут некоторые, существует и Бог. Бог – это возможность добра, это хорошая сторона вещей. Они утверждают, что если отказаться от использования слова «Бог», то во многих случаях религия потеряет возможность выражать себя.
Конечно, есть нечто гораздо выше существования как индивида, так и мира; на этом мы уже настаивали, как на характеристике всех религий, это убеждение является сущностью веры и ключом к мужеству. Но следует ли, после самых напряженных упражнений в персонификации, рассматривать это высшее, как лучшего человека или всеобъемлющего человека – это другой вопрос. Личность является последним пережитком антропоморфизма. Современное стремление к точности и достоверности – против таких уступок традиционным учениям.
С другой стороны, во многих чистых и тонких религиозных умах есть потребность, восходящая почти до необходимости, в объекте поклонения, настолько индивидуализированном, что он должен обладать осознанным восприятием обращающегося к нему субъекта, даже если обратная связь не предполагается. Один склад ума может воспринимать реальность такой, как она есть, в то время как другой должен воображать и драматизировать реальность прежде, чем сможет постичь ее и на нее отреагировать. Человеческая душа – сложная вещь, которая не выдержит разъяснения, если оно выйдет за пределы некоей степени грубости и шероховатости. Человеческая душа научилась любви, преданности, послушанию и смирению по отношению к другим личностям, и она с трудом делает последний шаг к подчинению трансцендентному, лишенному последних остатков личностного.
В вопросах, которые не являются сугубо материальными, язык должен использовать метафоры, и хотя каждая метафора несет в себе специфический риск двоякого понимания, мы не можем обойтись без них. Поэтому необходима большая интеллектуальная терпимость – культивируемая склонность – при прямом и обратном переводе одной метафизической или эмоциональной идиомы в другую, если мы хотим избежать плачевной растраты моральной силы в нашем мире. Только что я сказал «грешен», потому что я написал «Бога – невидимого царя», но, в конце концов, я думаю, что это был не столько грех – использовать фразу «Бог – невидимый царь», сколько ошибка в выражении. Если нет никакой сочувствующей нам высшей личности вне нас, то, по крайней мере, мы внутри себя должны иметь позицию по отношению к этой сочувствующей нам высшей личности.
Мы должны осознать три глубоких различия между новыми направлениями мысли нынешнего времени и предшествующих эпох, если хотим правильно понимать современное развитие религиозного импульса в его отношении к религиозной жизни прошлого. Был достигнут значительный прогресс в анализе психических процессов и в той смелости, с которой люди стали исследовать истоки человеческой мысли и чувства. Вслед за достижениями биологической науки, которые заставили нас признать присутствие рыб и амфибий в структуре тела человека, произошли параллельные события, в которых мы видим, как примитивный страх, похоть и самолюбие видоизменяются, модифицируются и, под воздействием социального прогресса, превращаются в замысловатые человеческие мотивы. Наше понимание греха и наше отношение ко греху глубоко изменились под воздействием этого анализа. Наши прежние грехи теперь рассматриваются как неведение, неадекватность или вредные привычки, а моральный конфликт оказывается лишенным трех четвертей его эгоцентрического мелодраматического содержания. Нами больше не движет стремление быть менее греховными, нами движет стремление упорядочить наши рефлексы и вести жизнь менее фрагментарную и более разумную.
Во-вторых, развитие биологической мысли повлияло на концепцию индивидуальности и ослабило ее, так что мы уже не с такой готовностью, как наши отцы, принимаем позицию индивидуалиста, противопоставляющего себя всему миру. Мы начинаем понимать, что мы – эгоисты из-за неправильного восприятия мира. Природа обманывает саму себя и, служа целям развития вида, наполняет его желаниями, которые восстают войной против его же личных интересов. По мере того как наши глаза открываются на эти вещи, мы начинаем видеть себя как существа, большие или меньшие, чем наше ограниченное «я». Душа человека больше ему не принадлежит. Он обнаруживает, что его душа – это часть великого существа, которое жило до того, как он родился, и переживет его. Идея бессмертия ограниченного индивида со всеми случайными особенностями и идиосинкразиями его временной природы растворяется в этом новом взгляде на бессмертие.
Последний из трех основных контрастов между новыми и старыми идеями, который высветил непригодность устаревших форм официальной религии, – это переориентация современных представлений о времени. Мощная склонность человеческого разума объяснять все как неизбежное следствие происшедшего в прошлом события, которое, так сказать, предопределяет лежащее перед ним в беспомощности будущее, была подвергнута массе тонкой критики. Концепция прогресса как ширящейся цели, концепция, которая все крепче овладевает человеческим воображением, обращает религиозную жизнь в сторону будущего. Мы больше не думаем о подчинении необратимым указам об абсолютном владычестве, но об участии в увлекательном приключении от имени той силы, которая обретает власть и утверждает себя. История нашего мира, которая была раскрыта нам наукой, противоречит всем историям, на которых основывались религии. Мы начинаем осознавать, что в прошлом не было акта Творения, но в вечности творение существует; не было Грехопадения, объясняющего конфликт добра и зла, но было бурное восхождение. Жизнь, как мы ее знаем, – это только начало.
Если религия хочет стать объединяющей и направляющей силой в нынешней неразберихе человеческих дел, она неизбежно должна адаптироваться к этому ориентированному в будущее, индивидуалистическому, аналитическому типу мышления; она должна лишить себя своей Священной Истории, своих обширных попечений, посмертного продолжения личных целей. Стремление к служению, к подчинению, к постоянному результату, к спасению от мучительной мелочности и смертности индивидуальной жизни является неумирающим элементом в каждой религиозной системе.
Пришло время очистить религию от всего наносного для решения стоящих перед нею задач – задач более важных, чем когда-либо прежде. Истории и символы, служившие нашим отцам, обременяют и разделяют нас. Различия в таинствах и ритуалах порождают разногласия и впустую растрачивают ограниченный запас наших эмоций. Объяснение того, как и почему возник мир, является ненужным усилием в религии. Существенным фактом в религии является само стремление к ней, а не объяснение ею окружающего нас мира. Если вы не хотите религии, никакие доказательства, никакие убеждения относительно вашего места во вселенной не могут дать вам это. Первое предложение в современном вероучении должно быть не «я верю», а «я отдаю себя».
Чему? И как? К этим вопросам мы сейчас обратимся.
VI. Цель – современная религия
Религиозное служение – это непрерывное действие, выражающееся в серии поступков. Оно не может быть ничем иным. Вы не можете посвятить себя служению, а затем отойти и жить так, как вы жили раньше. Религия, не приводящая к существенным изменениям окружающей жизни, – это плохая пародия на религию. Но в традиционных более древних религиях нашей расы это изменение поведения выражалось в самоуничижении только перед Богом, или богами, или в самоумерщвлении исключительно с целью нравственного совершенствования себя. Например, христианское подвижничество на этих ранних этапах, до того, как жизнь отшельника сменилась организованной монашеской жизнью, ни в коей мере не направляло себя на общественное служение и занималось только духовным служением другим человеческим существам. Но как только христианство стало значимой социально-организующей силой, оно приняло на себя целый ряд функций, таких как врачевание, утешение, помощь и образование.
Современная тенденция продолжает развиваться исключительно в направлении минимизации того, что можно назвать внутренней духовной работой над собой и борьбой со страстями, и в направлении расширения и развития внешнего служения. Идея внутреннего совершенства ослабевает с уменьшением значения, придаваемого индивидуальности. Мы перестаем думать об уничижении, возвышении или совершенствовании себя и стремимся растворить себя во внешней жизни. Мы все меньше думаем о «покорении» себя и все больше о том, чтобы убежать от себя. Если мы пытаемся усовершенствовать себя в каком-либо отношении, то только как солдат, который заостряет и полирует необходимое ему оружие.
Наше убыстрившееся восприятие постоянных перемен, наше более широкое и полное видение исторического контекста жизни освобождает наши умы от многих иллюзий, привитых воображению наших предшественников. Многое из того, что они считали неизменяемым и предопределенным, мы видим как переходное и контролируемое. Они видели жизнь видов застывшей и подчиненной необратимым законам. Мы же видим, как жизнь, хотя и без гарантии окончательного успеха, все более преуспевает в борьбе за свободу и власть против ограничений и смерти. Мы видим, как жизнь, наконец, приближается к нашему трагическому, но обнадеживающему человеческому измерению. Мы понимаем, что сегодня человечество стоит лицом к лицу с огромными проблемами, но в то же время перед ним открываются беспрецедентные возможности. Они задают рамки нашего существования. Практический аспект, материальная форма, воплощение модернизированного религиозного импульса должны выражаться исключительно в направленности всей жизни на решение этих проблем и реализацию этих возможностей. Перед человечеством сегодня стоит альтернатива: либо великолепие духа и великолепие достижений, либо катастрофа.
Современная религиозная жизнь, как и все формы религиозной жизни, должна иметь свои тонкие и глубокие внутренние движения, свои медитации, свои периоды сомнения, свои фазы упадка, поиска и подъема, свои тихие и молитвенные настроения, но эти внутренние аспекты не входят в сферу настоящего исследования, которое целиком озабочено внешней формой, направлением и организацией современного религиозного усилия, вопросом о том, на что и как мы должны употребить имеющийся в нашем распоряжении религиозный импульс.
Теперь, в новой и более обширной вселенной, которую мы начинаем осознавать, ее огромные возможности задают совершенно новые рамки и новый контекст для нравственной жизни. В закостеневшем и ограниченном мировоззрении прошлого практические добрые дела в основном принимали форму паллиативных мер против зол, которые считались неискоренимыми; религиозная община ухаживала за больными, кормила голодных, давала кров бездомным, умоляла сильных о пощаде. Она не мечтала о том, чтобы предотвратить болезнь, голод или тиранию. Потусторонний мир был ее всегдашним прибежищем от непобедимого зла и беспорядка в существующем мироустройстве.
Но теперь уже можно представить себе такой порядок в человеческих делах, из которого зло в значительной степени или полностью устранено. Все больше и больше людей начинают понимать, что такой миропорядок становится материализуемым. И, осознав эту материальную возможность, мы больше не можем довольствоваться областью «добрых дел» и правильных действий, ограниченных паллиативной и утешительной деятельностью. Подобные вещи – это просто «первая помощь». Религиозный ум становится смелее, чем когда-либо прежде. Он легко проходит сквозь завесу, которая когда-то представлялась преградой. Он осознает свои увеличившиеся обязательства. То, как наша деятельность способствует достижению этого лучшего порядка в человеческих делах, становится новым критерием поведения. Потусторонний мир стал ненужным.
Осознание возможности этого лучшего миропорядка сразу подводит нас к неким определенным линиям поведения. Мы должны положить конец войне, и, чтобы положить конец войне, мы должны быть космополитичны в нашей политике. Ни один здравомыслящий человек не может полагать, что все разрушительные нелепости войны могут быть устранены из человеческих дел до тех пор, пока какой-либо общий механизм политического контроля не станет доминирующим на земле, и до тех пор, пока издержки роста населения, расширения масштабов экономики и конфликтующих стандартов и традиций жизни не будут преодолены.
Чтобы избежать войн, которые положительно являются злом, и достичь новых уровней процветания и могущества, которые сейчас уже становятся осязаемыми, требуется эффективный мировой контроль не только за вооруженными силами, но и за производством и перемещением предметов широкого потребления, а также за миграцией и ростом населения. Абсурдно мечтать о мире и общемировом прогрессе без такого уровня контроля. Эти вещи гарантируют, что при постоянно растущем высвобождении и расширении человеческих возможностей способность и энергия большего количества людей может быть перенаправлена на полезную деятельность научного исследования и творчества. С политической точки зрения очевидно, что наши жизни должны быть посвящены продвижению этого объединения.
Такой рывок вперед в жизни человечества, первый шаг в мощном непрерывном движении, движении вперед, которому нет предела, теперь не просто реально возможен. Он срочно необходим. Возможность явлена человечеству. Это альтернатива социальному распаду. Но нет уверенности, нет материальных предпосылок тому, что этот рывок когда-либо будет совершен. Рывок не будет совершен человечеством случайно. Он может быть совершен только через такую организацию воли и энергии, которую этот мир никогда прежде не видел.
Это те новые императивы, которые открываются наиболее наблюдательным умам нашего поколения. В наше время они становятся общей интеллектуальной установкой по мере того, как утверждаются современные интерпретации истории жизни и материальных и интеллектуальных возможностей человека. Дурные политические, социальные и экономические порядки и устроения могут показаться непреодолимо огромными, но они не являются ни неизменяемыми, ни неконтролируемыми. Однако они могут контролироваться только усилием более мощным и решительным, чем инстинкты и инерции, которые их поддерживают. Внешняя задача современной религии, освобожденной от иллюзий, – контроль и задание направления политической, социальной и экономической жизни. Если религия этого не делает, то она – не более чем наркотик для облегчения душевного дискомфорта, «опиум для народов».
Может ли религия синтезировать необходимые усилия, чтобы вытащить человечество из наших нынешних нестроений, опасностей, низости, разочарования и тщетности существования и привести его в состояние относительной безопасности, накопления знаний, систематического и непрерывного роста сил и счастливой полноценной жизни?
Наш ответ заключается в том, что религиозный дух, в свете современных знаний, может это сделать, и наша задача сейчас – выяснить, каковы необходимые начальные этапы в синтезе этих усилий. Начиная с этого момента мы пишем для тех, кто верит, что это возможно, и кто уже осознает смысл мировой истории и значение современных научных достижений.
VII. Что человечество должно делать
Прежде чем искать подходы к решению неизбежной задачи реконструирования, хорошо было бы наметить основные линии и попытаться измерить масштабы этой задачи. Каковы эти новые формы, предлагаемые всему человечеству к обязательному принятию? Должны ли они эволюционировать из старых форм или быть навязаны взамен их? И какого рода пассивное и активное сопротивление должно быть для этого преодолено?
Не может быть никакой паузы в процессе реконструирования жизни. Жизненные процессы должны продолжаться в обычном порядке, день за днем. Старый мир не должен обанкротиться раньше, чем из него вырастет новый мир как платежеспособное предприятие.
Наиболее всеобъемлющая концепция нового мира – это мир, единый в политическом, социальном и экономическом отношении. В рамки этой концепции вписываются все прочие продвигаемые нами амбициозные идеи. К этой цели мы обращаем свои взоры и стремимся направлять нашу жизнь. Многие в настоящее время воспринимают ее как возможность, но, кажется, не осмеливаются ее желать из-за огромных трудностей, которые встают на пути, а также потому, что они пока не видят никаких указаний на то, как эти трудности преодолеть или обойти. Они не находят способа, как выкинуть это лоскутное одеяло из правительств, под которым задыхается разделенное человечество. Подавляющему большинству людей еще предстоит понять историю человечества как единого целого; они одержимы духом постоянства и окончательности устоявшегося порядка вещей; они воспринимают текущую реальность как конечную. Как говорится, они покупают то, что им продают.
Но мы здесь пишем для людей мыслящих современно, для них невозможно думать о мире как о безопасном и удовлетворительном, пока не будет единого мирового содружества, предотвращающего войны и контролирующего те моральные, биологические, экономические силы и издержки, которые могли бы в противном случае привести к войнам. А контролироваться они будут на основе того, что потенциал науки и реализация человеком своих сил и возможностей постоянно возрастают.
Давайте проясним, какое правительство мы пытаемся предложить взамен старого лоскутного одеяла. Это будет новое направление с новой психологией. Метод управления таким мировым содружеством вряд ли будет имитировать методы существующих суверенных государств. Это будет что-то совершенно новое и не похожее на то, что было прежде.
Этот момент еще не до конца осознан. Слишком часто предполагается, что мировое содружество будет как бы единственным наследником и преемником всех существующих государств и что это будет своего рода мегатерий той же формы и анатомии, что и его предшественники.
Но, поразмыслив немного, мы поймем, что это ошибка. Существующие государства – это в первую очередь воинствующие государства, а мировое государство не может быть воинствующим. Президенту или королю не будет никакой необходимости никуда вести построенные полки человеческих существ, потому что там, где нет войны, нет нужды ни в каком построении, а в мире полиглотов невозможно себе вообразить такой инструмент управления, как глобальный парламент или какой-либо совещательный орган, ведущий встречи и переговоры. Голосование перестанет быть средством управления. Мировое управление, подобно научному процессу, будет проводиться с помощью заявлений, критики и публикаций, которые будут доходчиво транслироваться.
Организация современных государств явно все еще является милитаристской в своей основе, а это именно то, чем не может быть всемирная организация. Флаги, униформы, национальные гимны, патриотизм, кропотливо культивируемый в Церкви и школе, хвастовство, крик и шум наших конкурирующих суверенитетов принадлежат той фазе развития, которую заменит Открытый Заговор. Мы должны избавиться от этого нагромождения. Разумное желание всех нас состоит в том, чтобы коллективные дела мира управлялись надлежащим образом подготовленной и оснащенной группой наиболее заинтересованных, умных и преданных людей, с условием, что их деятельность должна подвергаться свободной, открытой, бдительной критике. Людей, ограниченных в праве совершать резкие действия, но имеющих достаточно власти, чтобы изменять или заменять без спешки или задержки все то, что тормозит общее направление движения или не соответствует его требованиям.
Многие читатели, наверное, скажут, что это очень расплывчатая, неопределенная и сложная концепция мирового правительства. На самом деле эта концепция проще, чем существующая. Мало того, что нынешние фрагментарные и конкурирующие между собой правительства мира представляют собой мешанину, они еще и не так просты, как кажутся. Они кажутся простыми, потому что у них есть формальные руководители и определенные структуры, совещательные органы, избирательные собрания и так далее, для принятия решений. Но формальные главы, короли, президенты и т. д. на самом деле не обладают реальной властью. Они только говорящие головы. Они ничего не решают. Они просто изображают жесты могущественного и величественного молчаливого согласия, когда им кладут на стол решения, которые они должны озвучить. Они – марионетки, которые только затемняют картину. Совещательные органы и избирательные собрания также ничего реально не решают. Они только документируют накопленную программу внешних сил, и часто делают это очень несовершенно, что вызывает раздражение. Эти внешние, действительно направляющие, силы, без сомнения, очень сложны в своей работе; в конечном итоге они зависят от религиозных и образовательных форм и от волн настроений в обществе, но делать вид, что существующий процесс коллективной человеческой деятельности прост, и водружать символы и манекены в образах правителей и диктаторов ни в коей мере не приводит к упрощению этого процесса. Признать неустранимую сложность коллективных действий – это оправданное интеллектуальное упрощение; оставаться же довольным претензиями существующих правительственных учреждений и иметь дело со всеми проблемами, связанными с их процедурами и взаимодействием, – это усложнение вопроса.
Нынешнее рудиментарное развитие коллективной психологии обязывает нас быть расплывчатыми в отношении того, каким образом коллективный разум может наилучшим образом выразить свою волю в сфере административных действий. Мы можем знать, что нечто является возможным, но все еще не можем этого сделать, точно так же, как если бы мы знали, что авиация была возможна в 1900 году. Несомненно, будут нужны некие методы принятия решений и некий административный аппарат. Но эта организация может оказаться более легкой и менее изощренной, чем можно было бы предположить, учитывая существующие методы. Она, возможно, никогда не станет единой взаимосвязанной административной системой. У нас скорее появятся системы мирового контроля, чем единое мировое государство. Например, возможно, что законодательная власть, исполнительная власть и административный аппарат, необходимые для поддержания порядка в мире, будут очень отдаленно связаны с системой реального контроля, которая будет поддерживать эффективную коммуникацию внутри себя самой. Правоприменение и законодательство, какими мы их знаем сейчас, могут быть признаны нашими потомками чрезвычайно громоздкими и ненужными. Вообще разумность какого-либо дела становится понятной, когда необходимость принуждения к его исполнению уменьшается, а необходимость судебного разбирательства исчезает.
Открытый Заговор – всемирное движение за замещение, расширение или слияние существующих политических, экономических и социальных институтов – непременно должен по мере своего роста подходить все ближе и ближе к вопросам практического контроля. Вероятно, в его росте будут участвовать многие активные государственные деятели, а также многие промышленные и финансовые лидеры и директора. Он может ассимилировать огромные массы образованных рабочих. По мере расширения его деятельности он выработает целую систему специальных методов сотрудничества. По мере роста и в самом процессе роста он освоит дело общего административного управления и разовьет свои критические функции. Ясная, беспристрастная и имманентная критика первостепенна необходимостью, живым духом мировой цивилизации. Открытый Заговор, по сути, является такой критикой, а ее привнесение в повседневную реальность – задача Открытого Заговора. По своей природе он будет стремиться не столько задать направление мировому движению, сколько самому стать направлением мирового движения, и образовательные и воинственные проявления его начальной фазы будут шаг за шагом, по мере накопления опыта и сил и возложения на себя ответственности, вызывать к жизни формы административного управления, исследования и взаимодействия.
Различия в характере и функциях между системой мирового контроля будущего и правительствами государств нынешней эпохи, на которые мы только что указали, вселяют надежду на то, что Открытый Заговор во многих случаях может быть осуществлен не столько путем прямого конфликта с целью свержения этих правительств, сколько путем их ослабления через сдерживание и парализацию их разрушительной военной и конкурирующей деятельности. По мере развития нового мирового контроля главным делом Открытого Заговора становится беспристрастное поддержание его во всем мире, спасение его с помощью непрерывной критической, образовательной и пропагандистской деятельности от увязания в традиционном соперничестве и вражде государств и наций. Вполне возможно, что такие процессы мирового контроля смогут развиваться независимо, но, с другой стороны, весьма вероятно, что они будут по-прежнему «застревать», как и сегодня, и им нужно будет обеспечить свободу развития с помощью борьбы. Мы повторяем: новые формы организации человеческих дел не будут иметь такой же характер, как старомодные правительства. По своему характеру они будут биологическими, финансовыми, в целом экономическими, тогда как старые правительства не являли собой ничего подобного. Их направляющей силой будет: 1) эффективная критика научного уровня; и 2) растущая воля людей к правильному ведению дел. Направляющей силой старых правительств были не подвергаемые критике фантазии и своенравие отдельного человека, класса, племени или большинства.
Модернизация религиозного импульса прямо подталкивает нас к исполнению нашего долга – совершению усилия по установлению мирового государства, и тщательное рассмотрение необходимой организации этих усилий приведет читателя к выводу, что движение, направленное на создание всемирного управления, каким бы ограниченным оно ни было вначале по численности и силе, должно либо рассмотреть перспективу своего превращения в орган всемирного управления и, путем переваривания и ассимилирования замещенных факторов, – в современное мировое сообщество, либо должно с самого начала признать бесполезность и любительский характер своих предприятий.
VIII. Общие характеристики научного мирового содружества
Продолжая рассмотрение стоящей перед современными умами практической задачи в рамках этого подробного очерка о мировом содружестве, укажем вектор наших основных устремлений. Не любое объединение человеческой деятельности будет служить целям, к которым мы стремимся. Мы нацелены на особый вид объединения; мировой Цезарь с прогрессивной точки зрения вряд ли лучше, чем мировой хаос. Единство, к которому мы стремимся, должно означать всемирное освобождение мысли, эксперимента и творческих усилий.
Если главным достижением Открытого Заговора станет захват правительств и овладение мировой властью, то в лучшем случае это будет только видимостью успеха. В худшем случае это может оказаться прямой противоположностью успеха. Освобождение от угрозы войны и от издержек, вызванных международными экономическими конфликтами, является плохим освобождением, если оно требует в качестве своей цены утрату всех других свобод.
Именно потому, что мы стремимся направить движение человечества в одну сторону не просто ради единства, но ради освобождения и обретения счастья и могущества, нам необходимо добиться любой ценой – ценой задержки, потери части полезного эффекта, стратегического или тактического ущерба – того, чтобы свет свободной, обильной критики освещал это направление и все движения и организации, ведущие к установлению этого объединяющего направления.
Человек – это несовершенное животное, никогда не заслуживавшее доверия в своем невежестве. Ни морально, ни интеллектуально он не застрахован от ошибок. Большинство из нас, у кого пора юности осталась позади, знают, как мало мы можем доверять себе, и радуются тому, что наши действия проверяются и подстраховываются с помощью такого полезного надзора. Именно по этой причине движение за построение лучшего мира должно отказаться от преимуществ секретных методов и тактических хитростей. Оно должно оставить это своим противникам. Мы должны прямо заявить о своей цели с самого начала и не рисковать недопониманием нашей процедуры.
Открытый Заговор против традиционных, ныне параличных и опасных, институтов мира должен быть именно открытым, в противном случае он не сможет претендовать на роль праведника. Если он уйдет в подполье, то будет потерян. Каждый шаг к мировому единству должен делаться при свете дня, с сочувственным пониманием как можно большего числа людей, иначе обнаружится, что завоеванное единство едва ли стоило победы. Пришлось бы с нуля начинать решение основной задачи в рамках достигнутого таким способом мнимого единства.
Эта искренняя попытка овладеть всем миром, этот наш Открытый Заговор должен быть предпринят во имя науки и творческой деятельности и ради нее. Его цели состоят в том, чтобы высвободить науку и творческую деятельность, и каждый этап борьбы следует подвергать наблюдению и критике, чтобы эти цели не стали жертвой остроты конфликта.
Обеспечение гарантий для творческого прогресса и творческой деятельности подразумевает грамотное регулирование экономической жизни в интересах общества. Еда, кров и отдых должны быть у всех. Основополагающие потребности животной жизни должны быть обеспечены прежде, чем человеческая жизнь получит простор для импровизации. Человек жив не хлебом единым – он ест, чтобы учиться и заниматься творчеством, но если он не ест, он не может позволить себе. Его жизнь – это в первую очередь экономика, как и дом – это в первую очередь фундамент, и экономическая справедливость и эффективность должны лежать в основе всех других видов деятельности. Но судить о человеческом обществе и организовывать политическую и социальную деятельность исключительно по экономическим соображениям – значит забывать цели жизни, как забывать смысл военной кампании из-за излишней озабоченности подвозом продовольствия.
Это правда, что человек, как и животный мир в целом, из которого он вырос, является продуктом борьбы за выживание, но, в отличие от животных, человек может прибегнуть к методам ухода от этой конкурентной борьбы за добычу средств к существованию, которая была участью всех других животных видов. Он может сдерживать рост своего потомства, и он, кажется, все еще способен увеличивать количество произведенного продукта на душу населения почти в неограниченных масштабах. Поэтому он может полностью избежать борьбы за существование и остаться при этом с избытком не потраченной энергии, чего никогда не было у других видов животных. Умный контроль над ростом населения – это возможность, которая ставит человека вне конкурентных процессов, до сих пор управлявших изменением видов, и человек не может быть освобожден от этих процессов никаким другим путем.
Существует явная надежда на то, что с течением времени директивное размножение войдет в сферу компетенции человека, но это выходит за рамки нынешнего диапазона его практических достижений, и нам не нужно это здесь обсуждать. Нам достаточно того, что организованное мировое сообщество, осуществляющее и обеспечивающее собственный прогресс, желает и требует планируемого коллективного контроля над численностью населения в качестве основного условия.
В женской природе нет сильного инстинктивного стремления к многочисленному потомству как таковому. Репродуктивные импульсы действуют косвенно. Природа обеспечивает зов к деторождению через страсти и инстинкты, которые, при наличии достаточных знаний, интеллекта и свободы со стороны женщин, могут быть вполне удовлетворены и погашены, если это необходимо, без рождения многочисленных детей. В мире ясного доступного знания и честной и откровенной практики в этих вопросах даже самые незначительные изменения в социальных и экономических механизмах обеспечат достаточную мотивацию или демотивацию, которая будет влиять на общую рождаемость или на специфическую рождаемость, регуляцию которой общество может счесть желательным. До тех пор, пока большинство человеческих существ зачинается случайно, в похоти и неведении, человек продолжает оставаться, как и любое другое животное, под игом борьбы за существование. Социальные и политические процессы полностью меняют свой характер, когда мы осознаем возможность и осуществимость этой фундаментальной революции в биологии человека.
В таком избавленном от лишней нагрузки мире производство предметов первой необходимости представляет собой серию задач, в целом менее проблематичных, чем нынешние вопросы, вызванные потворством своим прихотям и дракой за имущество со стороны преуспевающих, за рабочие места и скудные заработки со стороны масс. При неограниченном росте населения, в конечном пункте экономического процесса не просматривалось никакой практической альтернативы массовому равенству на уровне прожиточного минимума, кроме как через механизм неравенства, который позволял меньшинству поддерживать более высокий уровень жизни путем изъятия всех излишков производства, которые можно было изъять у пролетариата, опустив его потребление до уровня простого выживания.
И в прошлом, и в настоящее время так называемая капиталистическая система, то есть бессистемная эксплуатация производства частными владельцами под защитой закона, в целом, несмотря на большие издержки и конфликты, приносила пользу путем препятствования этому тяготению к всеобщему низкосортному потреблению, которое было бы неизбежным результатом социализма, игнорирующего биологические процессы. Однако при эффективном сдерживании роста населения перед человечеством открываются совершенно новые возможности.
Экономическая наука, как ортодоксальная, так и неортодоксальная, постоянно грешит тем, что считает все проблемы возникшими как бы из воздуха: нынешнюю практику и убеждения, вопросы заработной платы, цен, ценностей и владения собственностью, тогда как глубинные проблемы человеческого общества в действительности вовсе не могут быть обнаружены на этих уровнях. Основными проблемами человеческого сообщества являются биологические и психологические, а основами экономики являются проблемы прикладной физики и химии. Первый предмет, который подлежит исследованию, – что мы хотим делать с природными ресурсами, а затем – как заставить людей делать то, что должно быть сделано с максимальным удовольствием и эффективностью. Тогда нам необходим стандарт, по которому можно измерить эффективность современных методов.
Но академические экономисты, и тем более Маркс и его последователи, отказываются иметь дело с этими фундаментальными основами и, с глупой позой житейской мудрости, настаивают на том, чтобы начать свой анализ с некритического допущения общего антагонизма работодателей и рабочих, и заводят долгую канитель о прибыли и заработной плате. Собственность и экспроприированный труд являются лишь одним из методов в широком наборе других возможных экономических методов.
Экономисты, однако, серьезно относятся только к одному этому методу; остальное они игнорируют; а марксисты, с их неконтролируемой склонностью использовать прозвища вместо суждений, осуждают всех остальных как «утопистов». У избранных умов наклеивание ярлыка «утопический» равносильно вынесению окончательного приговора и закрытию дела, так же как у коммунистов их любимая фишка, наклеивание ярлыка «буржуазный», служит им заменой мыслительного процесса. Если они могут убедить себя в том, что идея или утверждение «утопичны» или «буржуазны», то для них не имеет никакого значения, верны они или нет. Их выбрасывают в мусор. Точно так же, как в светских кругах дистанцируются от всего, что может быть названо «атеистическим», «подрывным» или «нелояльным».
Если бы полтора столетия назад мир обратился к экономистам за решением проблем с транспортом, то они для начала поскрипели бы немного перьями, подышали бы на бумагу с чернилами, но вскоре бросили бы это занятие и, упрекнув себя за допущенную расточительность, оставили бы все разговоры о железных дорогах, автомобилях, пароходах и самолетах и занялись написанием длинных невралгических диссертаций, диспутов и трактатов о дорогах и методах их соединения, о шлагбаумах и каналах, о влиянии платы за шлюзы на лодочников, о местах приливов, о якорных стоянках, об избыточной грузоподъемности, о перевозчиках, караванах, тачках и пешеходных переходах. Там было бы четкое дифференцирование в чувствах и требованиях между меньшинством, владеющим лошадью, и пешим большинством; ошибки последнего могли бы измучить ум каждого философа, который мог ездить верхом, и были бы сведены к минимуму каждым философом, который не мог; пролегла бы широкая пропасть между школой с узкой пешеходной дорожкой, школой без пешеходной дорожки и школой, которая ожидала бы времени, когда каждая лошадь должна была бы пройти по одной универсальной дорожке под диктатурой пешеходного движения. И все это – с глубочайшей серьезностью и достоинством. Эти вещи – пешеходные дорожки, дороги и каналы с их движением, были бы «реальными», а «утопические» проекты для достижения скорости в тридцать или сорок миль в час или более, с подъемом в гору, против ветра и прилива, не говоря уже о более невероятной идее воздушного транспорта, были бы осмеяны. Жизнь катилась колесом или расходилась кругами по воде; так было и так будет всегда.
Психология экономического сотрудничества только зарождается, и поэтому экономисты и социалисты-доктринеры пользовались широчайшей свободой в своем педантизме и авторитетной помпе. В течение ста лет они спорили и спорили о «ренте», о «прибавочной стоимости» и так далее, наиздавали литературы в десять тысяч раз более громоздкой, тоскливой и глупой, чем худшие излияния средневековых схоластов.
Но как только эта освященная веками озабоченность распределением долей учредителей, менеджеров, рабочих, поставщиков материалов, кредитных посредников и сборщиков налогов в общем продукте перестает рассматриваться как основной вопрос в экономике; как только мы освобождаем наши умы от озабоченности, с самого начала неизбежно превращающей эту науку в перебранку, и начинаем наш разбор предмета с обзора механизмов и других производительных материалов, необходимых для удовлетворения основных потребностей человечества; если мы пойдем дальше и рассмотрим, как можно выработать продукт из всего этого материала на этом оборудовании с наименьшими трудозатратами и распределить этот продукт для максимально возможного удовлетворения потребностей; тогда мы сместим наш подход к экономическим вопросам в сторону стандартов, с помощью которых о всех существующих методах эксплуатации, занятости и финансирования можно судить, а не пререкаться. Мы можем отложить второстепенный вопрос о претензиях того или иного участника на потом и рассматривать каждую разновидность человеческого участия в общих усилиях исключительно с точки зрения того, что делает это участие наименее обременительным и наиболее эффективным.
Зачатки такой действительно научной экономики уже существуют в исследовании индустриальной организации и индустриальной психологии. В частности, по мере развития науки индустриальной психологии все эти дискуссии о собственности, прибыли, заработной плате, финансах и накоплении, которые до сих пор рассматривались как основные вопросы экономики, встают на свое место в свете более важной дискуссии о том, какие соглашения в этих вопросах, какая денежная система и какие формы собственности обеспечат наибольший стимул и наименьшее трение этой всемирной системе сотрудничества, которая должна составить общий экономический базис деятельности объединенного человечества.
Очевидно, что главнейшие направления комплекса экономической деятельности человечества в таком мире должны сосредоточиться в информационно-консультативном бюро, которое будет учитывать все ресурсы планеты, оценивать текущие потребности, распределять производственную деятельность и контролировать распределение. Топографические и геологические исследования современных цивилизованных сообществ, карты их государств, периодические выпуски их сельскохозяйственной и промышленной статистики – это первые грубые и несогласованные начала такой мировой экономической разведки. Пропагандистская работа Дэвида Любина[20], пионера, которого человечество не должно забыть, и его Международный сельскохозяйственный институт в Риме положили начало первым беспристрастным ежемесячным и ежегодным обзорам мирового производства, мировых потребностей и мирового транспорта. Такая замечательная централизованная организация экономической науки обязательно задала бы общую направленность. Она указывала бы на то, что лучше всего сделать здесь, там и повсюду, решала бы общие проблемы, исследовала, утверждала и инициировала новые методы и организовывала переходный процесс от старого к новому. Это не была бы организация, навязывающая свою волю сопротивляющейся или непокорной расе; это было бы направление, так же как дорожная карта – это направление.
Карта не навязывает никому свою волю, не вламывается ни к кому со своей «политикой». И все же мы следуем нашим картам.
Желание, чтобы карта была полной, точной и актуальной, и решимость уважать ее указания должны будут охватить все сообщество. Питание и поддержание этой воли должно стать задачей не какого-либо конкретного социального или экономического подразделения сообщества, но всех правильно мыслящих людей в этом сообществе. Таким образом, организация и поддержание этой силы воли являются основным начинанием мировой революции, направленной на достижение всеобщего мира, благополучия и деятельности, приносящей радость. И, благодаря этой воле, мир создаст в качестве центрального органа мозг современного сообщества – великую энциклопедическую организацию, которая будет постоянно обновляться и давать примерные оценки и указания для всей материальной деятельности человечества.
Более старая и все еще распространенная концепция управления – запугивание, вторжение, захват и подчинение «субъекта» Богу, королю или сильным мира сего. Насилие над волей, преодоление непокорных младших и нижестоящих было важным процессом в становлении первобытных обществ, и его традиция все еще управляет нашим образованием и законом. Без сомнения, необходимо согласование воли обыкновенного человека со всеми формами общества. Ни один человек не является изначально добродетельным. Но принуждение и сдерживание – это трение социальной машины и, при прочих равных условиях, чем менее навязчивы социальные механизмы, тем более охотно, естественно и легко они принимаются, тем меньше требуется морализаторских усилий и тем счастливее общество. Идеальное государство, при прочих равных условиях – это государство с наименьшим возможным числом столкновений и подавлений воли. Это должно быть главным соображением при организации экономической, биологической и интеллектуальной организации мирового сообщества, к которой мы стремимся.
Мы высказали мнение о том, что контроль над демографической нагрузкой на практике осуществим без какого-либо насильственного конфликта с «человеческой природой», что при надлежащей атмосфере знаний и целеполагания необходимость в подавлении воли к деторождению будет меньше, чем сегодня. Подобным же образом возможно, что общая экономическая жизнь человечества может стать удовлетворительной повсеместно, что может быть достигнуто изобилие, вне всякого сравнения превышающее существующий запас материальных благ, необходимых для благосостояния, свободы и деятельности человека, с не просто небольшим, но бесконечно меньшим подавлением и порабощением, чем сейчас. Человек все еще наполовину является порождением слепой борьбы за существование, и его природа по-прежнему разделяет бесконечную расточительность своей матери-природы. Ему еще предстоит научиться ценить блага, которые он жаждет иметь, с точки зрения человеческой жизни. Он действительно только начинает понимать, что в этом вопросе есть чему поучиться. Нынешние экономические методы – пустая трата потенциала и воли человека.
В настоящее время мы знаем, что XIX век затратил огромное количество интеллектуальных усилий на бесплодное противопоставление индивидуализма и социализма. Они рассматривались как взаимоисключающие альтернативы, вместо того чтобы рассматривать их как разные уровни по шкале измерений. Человеческое общество было и всегда должно оставаться сложной системой балансировок между неограниченной свободой и дисциплиной, субординацией и кооперацией совместного предприятия. Нельзя однозначно сказать, что более индивидуалистическое государство движется к более социалистическому, или наоборот; на каком-то этапе может происходить высвобождение индивидуальной инициативы, а на каком-то этапе – усиление стандартизации или сдерживания.
Личная собственность никогда не может быть социально гарантирована, как того желали экстремальные индивидуалисты, и не может быть «отменена», как предлагали экстремальные социалисты. Собственность – не грабеж, как утверждал Прудон[21], это защита вещей от беспорядочного и, в основном, расточительного использования. Собственность не обязательно является личной. В некоторых случаях собственность может ограничивать или запрещать использование вещей, которые могли бы быть полезны всему обществу, и это может быть и часто является несправедливым в отношении присвоения инициативы, но лекарством от этого является не упразднение, а ревизия собственности. Говоря конкретно, это вид собственности, необходимый для свободы действий с материальными ценностями – деньги, представляющие собой дематериализованную, обобщенную, абстрактную форму собственности; это билет для индивидуальной свободы передвижения и индивидуального выбора вознаграждения.
Экономическая история человечества – это история действия в мире идеи собственности; она свидетельствует о конфликте неограниченного приобретательства эгоистичных индивидов с обидным положением других индивидов, неудачливых и лишенных наследства, и о менее успешном осуществлении идеи всеобщего благосостояния.
Деньги выросли из системы разрозненных конвенций и подвергались большому количеству разнообразных ограничений, монополизаций и правил. Деньги никогда не были до конца логичным и совершенным механизмом, и они сделали возможным развитие самых обширных и сложных форм кредита, долга и отчуждения собственности, повлекшими за собой характерные формы злоупотребления и коррупции. Это сложная история и клубок взаимоотношений, ангажированности, давления, подслушивания, злоупотреблений по службе, обременения непосильными долгами и доводящими до разорения обязательствами, в которых мы живем сегодня, она не допускает таких простых и общих решений, какие, например, многие представители социализма, кажется, считают возможными.
Но размышления и исследования за последние сто с небольшим лет прояснили, что классификация имущества в соответствии с характером имущественных прав и различием форм собственности должна быть базисом любой системы социальной справедливости в будущем.
Определенные вещи – океан, воздух, редкие дикие животные – должны быть коллективной собственностью всего человечества и не могут быть в полной безопасности, пока их не рассматривают в таком ключе и пока не существует какой-то конкретный орган для осуществления прав данной формы собственности. Каким бы ни был этот коллективный контроль, он должен защищать эту всеобщую собственность: море от обмеления, редких пугливых диких существ – от истребления охотником и неразумным собирателем. Исчезновение многих прекрасных существ – одно из наказаний, которые наш мир несет за свою медлительность в разработке механизма коллективного управления. И есть много предметов первой необходимости и общих потребностей, которые теперь также требуют единого контроля в общих интересах. Сырье, находящееся в земных недрах, должно принадлежать всем, не должно быть монополизировано каким-либо стяжательным индивидом или стяжательным суверенным государством, и не должно быть изъято из эксплуатации для общей выгоды в силу каких-либо случайных притязаний на территориальный приоритет того или иного отсталого или торгующегося лица или племени.
В прошлом большинство из этих универсальных проблем приходилось отдавать на откуп конкурентному предпринимательству индивидов, стремящихся к получению прибыли, потому что еще не было коллективов, организованных в той степени, чтобы они были способны озвучивать и контролировать эти проблемы. Но, конечно, никто в здравом уме не считает, что поставки и распределение предметов широкого потребления на земном шаре безответственными лицами и компаниями, работающими исключительно на получение прибыли, наилучший из возможных методов с точки зрения расы в целом. Земные недра, все пригодные для использования природные продукты в значительной степени подпадали под правила и нормы личной собственности потому, что в прошлом это была единственная признанная и практически осуществимая форма собственности. Развитие крупных частных компаний и правительственных департаментов с экономическими функциями было практикой последних нескольких веков. Речь идет о развитии коммунальной, более или менее обезличенной собственности, и только благодаря этим нововведениям идея организованного коллектива собственников заслужила доверие.
Даже на весьма современных государственных предприятиях наблюдается тенденция помнить о бдительном, ревнивом и примитивном личном собственнике в лице фиктивного собственника Его Величества Короля. Например, в Великобритании Святой Георгий[22] все еще смутно должен парить над главным почтмейстером своего почтового отделения, одобрять, не одобрять, призывать его к ответу. Но почтовый союз мира, который отправляет заказное письмо из Чили в Норвегию или из Ирландии в Пекин, почти полностью отделен от условностей индивидуального владения. Он работает; он критикуется без благоговейного страха или злого умысла. За исключением краж и вскрытия писем с помощью пара, практикуемого политической полицией разных стран, он работает довольно хорошо. И единственная сила, стоящая за тем, чтобы он работал хорошо, – это здравый смысл сознательного человечества.
Но когда мы предусмотрели замену индивидуальной частной собственности более высокоорганизованными формами коллективной собственности, при условии ее свободной критики и возложения ответственности перед всем человечеством за общий контроль над морем и землей, за получение, подготовку и распределение основных продуктов и за транспорт, мы в действительности назвали все возможные способы обобщения конкретной собственности, которые будут востребованы наиболее социалистически настроенными современниками.
И если мы добавим к этому необходимое поддержание денежной системы центральным мировым органом на основе, которая сделает деньги заслуживающими доверия у зарабатывающего их работника, воплощающими для него ценность полученных им основных предметов потребления, от первого до последнего, на которую он рассчитывал; если мы вообразим кредит, адекватно контролируемый в общих интересах социализированной мировой банковской организацией, мы можем утверждать, что очертили всю сферу, из которой исключены индивидуальная собственность и неограниченное индивидуальное предпринимательство.
Вне этой сферы наука социальная психология, вероятно, убедит нас в том, что наилучший вклад для мира будет сделан людьми, которые смогут свободно использовать свои способности по своему желанию. Если отдельный землевладелец или собственник полезных ископаемых вообще исчезнет из мира, он, вероятно, будет заменен на больших площадях арендаторами с существенной гарантией землепользования, домовладельцами и лицензиатами в форме коллективной собственности. Это станет распространенной практикой, которая будет признана наилучшей, она позволит культиватору полнее извлекать выгоду из его собственной индивидуальной производительности и даст свободу домовладельцу обустраивать свой дом и сад по собственному усмотрению.
В самых общих чертах таков нрав мирового содружества, к которому движется ныне воображение, характер, касающийся его направленности и экономической жизни. Организация коллективных органов, способных управлять этими более крупными формами собственности, которые не могут быть должным образом использованы в общих интересах необъединенными индивидуальными владельцами, является позитивной практической проблемой, стоящей сегодня перед разумной частью человечества. Характер таких коллективных органов по-прежнему представляет собой ряд открытых вопросов даже по таким пунктам, как: будут ли они избираемыми органами или группами, получающими свою власть с одобрения других органов. Их масштаб и методы работы, их отношения друг с другом и с центральным информационным бюро также предстоит определить. Но прежде чем мы закончим это эссе, нам, возможно, удастся уточнить терминологию для начала выработки такого определения.
Социализм XIX века в его различных формах, включая крайне жесткую формулу коммунизма, был серией проектов для установления таких коллективных механизмов управления – по большей части очень схематичных проектов, в которых необходимый фактор тщательного психологического анализа почти полностью отсутствовал. Движения протеста и восстания против жгучей несправедливости возникали преимущественно как результат эгоистической индивидуалистической эксплуатации новых и более продуктивных технических и финансовых методов XVIII и XIX веков, и поэтому они были склонны выходить за пределы разумного уровня обобществления в своих требованиях и до абсурда минимизировать трудности и опасности коллективного контроля. Возмущение и нетерпение были их главенствующими настроениями, и если они мало создавали, то много разоблачали. Теперь мы можем лучше измерить масштабы стоящей перед нами задачи благодаря расчистке территории и урокам, данным этими пионерскими движениями.
IX. Черты будущей утопии пока неуловимы
Этот объединенный мир, к которому Открытый Заговор будет направлять свою деятельность, не может быть представлен читателю как какая-либо статичная и стереотипная сцена счастья. В самом деле, читатель может усомниться в том, что такая вещь, как счастье, возможна вне непрерывно меняющихся условий, включающих в себя постоянно расширяющиеся и головокружительные возможности. Человечество, освобожденное от нагрузки перенаселения, расточительства войн и частной монополизации источников богатства, столкнется с огромным и растущим избытком воли и энергии во вселенной. Изменения и новизна станут обычным делом, каждый день будет отличаться от предыдущего большой амплитудой интересов. Жизнь, которая когда-то была рутиной, терпением трудностей и несчастной случайностью, станет приключением и открытием. Это больше не будет «старая, старая история».
Мы еле-еле вышли из разряда животных в их борьбе за существование и живем лишь на заре человеческого самосознания и в первом пробуждении духа господства над вселенной. Мы верим, что постоянное исследование нашего внешнего и внутреннего мира научными и художественными средствами приведет к развитию у нас таких сил и возможностей, которым в настоящее время мы не можем установить каких-либо пределов и форм.
Наши антагонисты – беспорядок в голове, недостаток мужества, любознательности и воображения, леность и эгоистическое расточительство. Это враги, против которых выступает Открытый Заговор, это тюремщики человеческой свободы и достижений.
X. Открытый Заговор не должен мыслиться как единая организация. Это концепция жизни, из которой вырастут усилия, организации и новые ориентиры
Сутью Открытого Заговора, к которому современный религиозный ум обязательно должен обратиться в своей практической деятельности, является открытое и провозглашенное намерение установить мировой порядок вместо нынешнего лоскутного одеяла партикуляристских правительств, стереть милитаристские концепции, до сих пор лежавшие в основе типичной политики правительств, а также исключить частнособственническую монополизациию банковского кредита и широких фундаментальных процессов экономической жизни и в интересах индивидуальных лиц, стремящихся к прибыли. Такое целеполагание не может не вызвать огромного сопротивления. Мы не одни в чистом поле, и наше творческое усилие едва ли может преуспеть без нападения на устоявшиеся вещи. Это отказ от дрейфа, от «предоставления вещей самим себе». Это критика всего в человеческой жизни сверху донизу и признание того, что все в этой жизни недостаточно хорошо. Это удар по универсальному человеческому желанию чувствовать, что «все в порядке».
Можно было бы сделать поспешный и необоснованный вывод, что единственными людьми, достойными вызвать у нас сочувствие и прилив энергии в продвижении революционных преобразований, являются несчастные, недовольные, обездоленные и потерпевшие поражение в жизненной борьбе. Эта идея лежит в основе догм марксистов о классовой борьбе и всецело опирается на концепцию грубой человеческой природы. Предполагается, что у успешного меньшинства не должно быть никакого побудительного мотива, кроме желания сохранить и усилить свои привилегии. Этому мотиву приписывают воображаемую классовую солидарность – абсурдную деятельность на примитивном уровне. С другой стороны, не преуспевший в жизни «пролетариат» должен ясно осознавать ущемленность своего положения, и чем больше он обездолен и озлоблен, тем яснее он начинает мыслить и тем ближе видится его восстание, его конструктивная «диктатура» и наступление Золотого века.
Несомненно, в этой марксистской теории революции можно найти немалую долю истины. Человеческие особи, как и другие животные, склонны оставаться там, где их обстоятельства являются терпимыми, и желать изменений тогда, когда они испытывают неудобства. Поэтому большая часть людей, которые «состоялись», не хотят или почти не хотят изменения сложившихся условий, особенно те из них, кто слишком сер и посредственен, чтобы скучать из-за своей непрогрессивной жизни, в то время как значительная часть тех, кто страдают от стесненности в средствах и на себе чувствуют последствия перенаселения, выступают за изменения. Но более широкие массы простых людей привыкли к своему низкому положению и отсутствию собственности, они не страдают от этого до такой степени, чтоб желать изменений, или даже если они чувствуют ущемленность своего положения, то все же боятся перемен больше, чем возмущаются этой ущемленностью. Более того, те, кто действительно страдают и приходят к пониманию того, что «с этим нужно что-то делать», скорее склоняются к ребяческим и угрожающим требованиям к небу и правительству о воздаянии и мстительных и карательных действиях против завидных счастливчиков, с которыми они оказались в непосредственном контакте, чем к какому-либо участию в такой сложной, экспериментальной, дисциплинированной и конструктивной работе, которая сама по себе может улучшить судьбу человечества. На практике обнаруживается, что марксизм проявляет готовность к зловредно-деструктивной деятельности и настолько творчески не созидателен, что оказывается практически бессилен перед лицом материальных трудностей. В России, по крайней мере в городских центрах и вокруг них, где марксизм подвергся испытанию, доктрина Рабочей республики остается на уровне партийного жаргона и проверки на ортодоксальность, имеющей такое же практическое значение, как коммунизм Иисуса и общение со Христом в христианском мире, в то время как, прикрываясь этим кредо, небольшая кучка олигархов, достигших власти благодаря своей профессии, делает все возможное, чтобы провести серию интересных и в различной степени успешных экспериментов по социализации экономической жизни, чему, однако, сильно мешают подозрительность и враждебность западных финансистов и политиков. Здесь у нас нет возможности обсуждать НЭП и Пятилетний план. Они рассматриваются в книге «Труд, богатство и счастье человеческого рода». Ни то, ни другое, строго говоря, не было «коммунистическим». Пятилетний план осуществляется как автократический государственный капитализм. Каждый год все яснее и яснее показывает, что марксизм и коммунизм – это отклонения от пути человеческого прогресса и что линия развития должна идти по пути более сложному и менее льстящему импульсам нашей натуры.
Одна
© Издательский дом «Кислород», 2021
© Перевод – Анастасия Крутько, 2021
© Предисловие – Валентин Катасонов, 2021
© Дизайн обложки – Георгий Макаров-Якубовский, 2021
Валентин Катасонов. Предисловие
Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагается ранее не издававшаяся на русском языке работа «Открытый Заговор», принадлежащая перу известного во всем мире писателя, мыслителя и публициста Герберта Уэллса (1866–1946). Западные политологи, социологи, философы и футурологи довольно часто вспоминали и ссылались на это неоднократно издававшееся за рубежом произведение Уэллса. Российские знатоки творчества английского писателя, конечно же, слышали о работе, которая называется The Open Conspiracy. Вместе с тем, в нашей стране представление о ней в лучшем случае можно было получить из нескольких строчек энциклопедий и справочников. В открытом доступе в интернете на английском языке она появилась несколько лет назад. И вот, спустя более девяти десятков лет с момента написания Уэллсом первого варианта работы, мы наконец имеем русскоязычную версию «Открытого Заговора».
Впервые работа увидела свет в 1928 году под названием «Открытый Заговор: чертежи мировой революции» (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution). После этого произведение дорабатывалось и последовательно выходило в новых редакциях и с новыми названиями. В 1931 году работа «Открытый Заговор» вышла с подзаголовком «Вторая версия веры современного человека в более ясном и простом изложении» (A Second Version of This Faith of a Modern Man Made More Explicit and Plain). В 1931 году книга была издана под названием «Что нам делать с нашей жизнью?» (What Are We to Do with Our Lives?). Окончательная версия книги вышла в 1933 году с лаконичным названием «Открытый Заговор» (The Open Conspiracy).
Работа была замечена, прежде всего, британскими интеллектуалами, с которыми Герберту Уэллсу приходилось постоянно общаться. Позитивно и даже восторженно книгу воспринял английский философ-атеист Бертран Рассел (Bertrand Russell). На книгу ссылались такие британские политики, как Ллойд Джордж (Lloyd George), Гарольд Макмиллан (Harold Macmillan), Гарольд Николсон (Harold Nicolson). Примечателен следующий факт: в начале 30-х годов английским писателем и философом Джеральдом Хардом (Gerald Heard) было создано Общество Герберта Уэллса (The H. G. Wells Society) для пропаганды идей великого английского писателя. Под влиянием рассматриваемого нами произведения Общество в 1935 году было переименовано и получило название Общества Открытого Заговора (The Open Conspiracy Society). Правда, позднее ему было возвращено прежнее название.
Были, конечно, и критики работы. Например, известный английский драматург и писатель Бернард Шоу (Bernard Shaw), а также английский писатель и верующий философ Гилберт Честертон (Gilbert Chesterton). Первый, будучи ярым фабианцем[1], был недоволен крайне резким отношением Герберта Уэллса к Карлу Марксу и его учению. А второй, будучи христианским писателем, критиковал религиозные идеи автора «Открытого Заговора», которые были антихристианскими и по сути атеистическими. Особенно его возмущала безумная идея Г. Уэллса создать (придумать) новую религию, которая должна была стать единой для всего человечества.
Большинство наших соотечественников знают Герберта Уэллса, прежде всего, как писателя-фантаста по его романам «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Остров доктора Моро», «Первые люди на Луне» и др., написанных им в молодые годы. Автор этих романов был человеком близким к науке. Он получил образование в области биологии (незадолго до смерти был даже удостоен звания доктора биологии). Первые свои шаги в жизни Герберт делал под руководством Томаса Гексли (или Хаксли) – английского зоолога, популяризатора науки и защитника эволюционной теории Чарлза Дарвина (за что даже заслужил кличку «Бульдог Дарвина»). Гексли некоторое время был президентом Лондонского королевского общества (что-то наподобие академии наук), и через него будущий великий писатель познакомился со многими знаменитыми английскими учеными. В дальнейшем Уэллс постоянно соприкасался с известными учеными из разных сфер: биологии (Джулиан Хаксли, внук упомянутого выше Томаса Гексли), истории (Арнольд Тойнби), математики и философии (Бертран Рассел), экономики (Джон Мейнард Кейнс). Джордж Филипп Уэллс, сын Герберта Уэллса, уже в молодости стал известным зоологом и был соавтором некоторых работ своего отца.
Отношение Герберта Уэллса к научно-техническому прогрессу в тот период его творчества, когда там преобладала фантастика (до 1920-х годов), было двойственным, смешанным. Такой прогресс, по мнению молодого писателя, мог и помогать в решении социально-экономических проблем и проблем отдельного человека, а мог и усугублять их. Но, пережив Первую мировую войну, Уэллс стал задумываться о несовершенстве общества и современного ему человека. И невольно стал приходить к выводу, что без радикальной перестройки общества и изменения природы человека научно-технический прогресс может нести лишь разрушения и смерть. Напомню, что известность Герберту Уэллсу принес его роман «Машина времени», опубликованный в 1895 году. Роман страшный, но ведь он относится к жанру фантастики. Мол, плод свободного воображения писателя. Герой романа оказался в далеком 8028 веке, где столкнулся с обществом звероподобных людей, разделенных на две части: элоев и морлоков. Как мне кажется, сам писатель поначалу не очень верил в то, что изобразил в своем романе. Но Первая мировая война проявила звериную сущность человека и человечества, и Герберту Уэллсу стало казаться, что мир очень скоро может оказаться населенным этими самыми элоями и морлоками. И что нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить такого одичания.
Постепенно Уэллс стал отходить от жанра фантастики, начал писать на темы социального и политического устройства мира, религии, психологии человека и тому подобные «гуманитарные» темы. Т. е. искать причины прогрессирующей деградации человечества и вырабатывать план противостояния этому энтропийному процессу.
Герберта Уэллса нередко причисляют к фабианцам. Он еще в начале века (в 1903 году) стал членом Фабианского общества. А уже спустя три года он выступил на заседании общества с ярким, страстным докладом «Ошибки фабианца», где предложил перестроить работу и идеологию организации. Он хотел превратить общество из аморфного, интеллигентского кружка в боевую политическую партию. А что касается идеологии, то он предлагал бороться с «предрассудками марксизма», которые довлели над фабианцами. В частности, предлагал отказаться от привычного классового подхода к анализу общества. Так называемые классовые антагонизмы, которые занимают центральное место в марксизме, – явление минувших веков. А если где-то еще пролетариат подвергается эксплуатации, то ее можно быстро ликвидировать с помощью науки и техники. Вот образчик рассуждений Герберта Уэллса на эту тему из «Открытого Заговора»:
«Огромная масса моральной силы была потрачена впустую за последние сто лет из-за антагонизма „труда“ и „капитала“, как если бы это было главной проблемой в человеческих делах. На самом деле этот антагонизм никогда не был главной проблемой и продолжает неуклонно терять свое былое значение. Древние цивилизации действительно широко опирались на рабский и невольнический труд. Человеческие мышцы были основным источником энергии, наряду с энергией солнца, ветра и воды. Но изобретения и открытия настолько изменили условия производства, передачи и использования энергии, что мышечная сила становится экономически второстепенной и несущественной. Нам больше не нужны дровосеки, водоносы, носильщики и землекопы. Мы больше не хотим иметь этой расплодившейся массы дюжих потных тел, без которых прежние цивилизации не смогли бы выжить».
Уэллс считал, что даже те, кого по привычке называли «капиталистами», должны быть заинтересованы в переустройстве современного общества на социалистических началах. Многим представителям капиталистической элиты встать на позиции обновленного фабианства мешают «предрассудки», с коими настоящие фабианцы и должны бороться. Развернуть политический и идеологический вектор общества Герберту Уэллсу не удалось. В 1908 году он покинул Фабианское общество, но те горячие идеи, которые он озвучивал на его заседаниях, позднее воплотились в «Открытом Заговоре». Биографы Герберта Уэллса, описывая его пребывание в Фабианском обществе, характеризовали писателя как «бунтаря» и «радикала». А кое-кто даже называл его «революционером». Этот революционный дух, радикализм просматриваются во многих произведениях Уэллса второй половины его жизни. В том числе и в «Открытом Заговоре».
«Открытый Заговор» Герберта Уэллса – произведение не художественное и не научное. По своему замыслу и стилю оно напоминает программный документ, манифест, обращенный, в первую очередь, к британской элите; во вторую очередь – ко всему английскому народу; в третью очередь – ко всему человечеству. Видимо поэтому в его названии присутствует слово «открытый». Писатель понимает, что «заговор», или план переустройства мира, сработает только тогда, когда манифест дойдет до каждого. И, по крайней мере, каждый второй, ознакомившийся с манифестом, позитивно на него отзовется и будет так или иначе участвовать в реализации плана.
Исследователи творчества Герберта Уэллса полагают, что «Открытый Заговор» родился из романа писателя «Мир Вильяма Клиссольда» (The World of William Clissold), увидевшего свет в 1926 году. Это самый большой из всех романов, написанных Уэллсом. Он представляет собой автобиографию человека, объединяющего в своем лице ученого и капиталиста. Клиссольд недоволен современным миром и мечтает перестроить его на разумных основаниях, руководствуясь выводами науки и здравого смысла. Подтверждение своим теориям он видит в накоплении знаний о мире и человеке, в распространении новых взглядов и новых отношений между людьми. Когда-нибудь, думает Клиссольд, неизбежно произойдет «созидательная революция». Передовые люди из разных классов общества, объединившись, возьмут в свои руки управление хозяйством, отстранив людей отсталых и вредных, мешающих ходу прогресса. Для того чтобы сделать это, лучшие люди должны сначала осознать единство своих целей. Стремясь помочь этому, Клиссольд и пишет свой труд. В романе уже просматривается концепция Уэллса по переустройству мира. Ориентиры для движения к более совершенному миру может дать не религия, как это считалось в Европе на протяжении многих веков, а наука. А кто будет выступать в качестве двигателя? Карл Маркс, его последователи и даже некоторые фабианцы ошибочно полагают, что это будут пролетарии. Нет, с точки зрения Герберта Уэллса, это умирающий, исчезающий класс. По крайней мере, пролетариат не креативен, играет пассивную роль в общественной жизни. Если не пролетарии, так, может быть, крестьяне? – Ну, так их уже в начале ХХ века в Англии почти не осталось.
Ставку, по мнению Уэллса, следует делать на ученых и предпринимателей. Герой романа «Мир Уильяма Клиссольда» являет собой пример идеального строителя будущего, сочетающего в себе ученого и предпринимателя. Построить единое Мировое государство может только человек науки и капитала! И не только человек из Англии. Такие люди есть во многих странах мира. Но, конечно, среди англосаксонской элиты, по мнению Герберта Уэллса, их больше всего. Нет, он не расист. Он просто объективно оценивает, что двигателем в светлое будущее станут, прежде всего, интеллектуалы и капиталисты англосаксонского мира (Англия, ее главные доминионы, Соединенные Штаты Америки).
Красной нитью через всю работу проходит мысль Уэллса о том, что многие социально-экономические проблемы порождаются такой причиной, как неконтролируемый рост населения на планете. Писатель выступает как рьяный мальтузианец[2], призывающий к сдерживанию демографического роста и даже сокращению численности населения планеты. Неконтролируемая рождаемость, по его мнению, есть признак варварства. И бороться с этим «варварством» Уэллс призывает, прежде всего, путем «просвещения» народа. Впрочем, Уэллс разделял взгляды многих сторонников евгеники, которых было много среди британских интеллектуалов, и считал вполне нормальным проведение насильственной стерилизации мужчин и женщин. Вот, например, в восьмом разделе работы («Общие характеристики научного мирового содружества») Уэллс неоднократно говорит о необходимости контролировать демографический рост:
«Умный контроль над ростом населения – это возможность, которая ставит человека вне конкурентных процессов, до сих пор управлявших изменением видов, и человек не может быть освобожден от этих процессов никаким другим путем. Существует явная надежда на то, что с течением времени директивное размножение войдет в сферу компетенции человека…»
«…организованное мировое сообщество, осуществляющее и обеспечивающее собственный прогресс, желает и требует планируемого коллективного контроля над численностью населения в качестве основного условия».
«В женской природе нет сильного инстинктивного стремления к многочисленному потомству как таковому. Репродуктивные импульсы действуют косвенно. Природа обеспечивает зов к деторождению через страсти и инстинкты, которые, при наличии достаточных знаний, интеллекта и свободы со стороны женщин, могут быть вполне удовлетворены и погашены, если это необходимо, без рождения многочисленных детей. В мире ясного доступного знания и честной и откровенной практики в этих вопросах даже самые незначительные изменения в социальных и экономических механизмах обеспечат достаточную мотивацию, или демотивацию, которая будет влиять на общую рождаемость, или на специфическую рождаемость, регуляцию которой общество может счесть желательным. До тех пор, пока большинство человеческих существ зачинается случайно, в похоти и неведении, человек продолжает оставаться, как и любое другое животное, под игом борьбы за существование. Социальные и политические процессы полностью меняют свой характер, когда мы осознаем возможность и осуществимость этой фундаментальной революции в биологии человека…»
«…при эффективном сдерживании роста населения перед человечеством открываются совершенно новые возможности».
Подобные мальтузианские (точнее неомальтузианские) «мантры» Герберта Уэллса звучат почти во всех девятнадцати разделах книги.
В «Открытом Заговоре» Уэллс использует термин «новый мировой порядок» (НМП). Сегодня это словосочетание очень популярно среди политиков, журналистов, публицистов. У меня есть предположение, что термин родился именно в 1928 году и его авторство принадлежит Герберту Уэллсу. Примечательно, что в 1940 году у Уэллса вышла книга, которая так и называлась: «Новый мировой порядок» (The New World Order), в ней продолжилось обсуждение вопросов, поднятых в «Открытом Заговоре».
В книге «Открытый Заговор» Уэллс откровенно призывает к созданию НМП. Это мировой порядок, который отличается от того, какой существовал на момент написания книги и которым писатель был явно недоволен. А существовал тогда мир капитализма с экономическими кризисами и постоянной социальной напряженностью, в любой момент грозящей перерасти в социалистическую революцию. Это мир капитализма, который в ХХ веке, как писал В. Ленин, достиг своей высшей, монополистической стадии. А это неизбежно порождает империалистические войны за передел мира. Первая мировая война была чисто империалистической. На момент написания книги уже чувствовалось, что может произойти и вторая империалистическая война (Версальский договор, подписанный в 1919 году на Парижской мирной конференции, уже программировал подготовку такой войны).
Главная идея Уэллса: на планете должно существовать Единое, Всемирное государство в форме республики. Национальные государства должны добровольно отказываться от своих суверенитетов, передавая их Мировому правительству. Создание Всемирного государства с Мировым правительством будет залогом того, что на планете не будет больше войн, не будет изматывающей конкуренции, исчезнет национальная и конфессиональная неприязнь. Более того, все порядки в мире будут унифицированы, что резко повысит эффективность управления людьми. На совершенно иной уровень поднимется эффективность экономической деятельности: «Очевидно, что главнейшие направления комплекса экономической деятельности человечества в таком мире должны сосредоточиться в информационно-консультативном бюро, которое будет учитывать все ресурсы планеты, оценивать текущие потребности, распределять производственную деятельность и контролировать распределение. Топографические и геологические исследования современных цивилизованных сообществ, карты их государств, периодические выпуски их сельскохозяйственной и промышленной статистики – это первые грубые и несогласованные начала такой мировой экономической разведки…»
«Открытый Заговор» не враждебен правительствам, парламентам и монархам, согласным считать себя временными институтами, которые будут еще функционировать в переходный период:
«Открытый Заговор не обязательно антагонистичен любому существующему правительству. Открытый Заговор – это не анархическое, но творческое и организующее движение. Он стремится не разрушать существующие средства контроля и формы человеческих ассоциаций, но лишь вытеснять их или объединять их под единым мировым управлением. Если с конституциями, парламентами и королями можно иметь дело, как с временными институтами, „попечителями“ до достижения совершеннолетия мирового содружества, то, при условии, что они ведут дела именно в таком духе, Открытый Заговор не нападает на них».
Надо полагать, что в отношении тех правительств и монархов, которые не готовы на добровольную сдачу своих полномочий, придется применять силу. Итак, английским писателем выдвинута идея добиваться всеобщего и вечного мира через войны. Уэллс почему-то уверен, что эти войны будут последними в истории человечества. Думаю, что и до Уэллса в истории человечества были сотни (а, может быть, тысячи) политиков, философов, императоров и полководцев, которые рассуждали примерно так же: мол, предлагаемая (или начатая) ими война будет последней на Земле. Мол, она призвана положить конец войнам и стать началом «мира во всем мире».
Но как соединять разные народы с очень разными культурами в рамках Единого государства? – Важную роль в стирании национально-культурных различий отдельных народов призвана будет сыграть единая Мировая религия. Необходимость таковой Уэллс разъясняет читателю подробно в пятом разделе работы «Религия нового мира» и шестом разделе «Цель – современная религия». Вот образчик «богословских» рассуждений писателя из пятого раздела:
«Пришло время очистить религию от всего наносного для решения стоящих перед нею задач – задач более важных, чем когда-либо прежде. Истории и символы, которые служили нашим отцам, обременяют и разделяют нас. Различия в таинствах и ритуалах порождают разногласия и впустую растрачивают ограниченный запас наших эмоций. Объяснение того, как и почему возник мир, является ненужным усилием в религии. Существенным фактом в религии является само стремление к ней, а не объяснение ею окружающего нас мира».
Герберт Уэллс, претендующий на роль интеллектуала и делающий ставку на ученых в будущем «дивном новом мире», желает лишить верующих христиан права на осмысление своей жизни и мира, в котором они живут! Кстати, к христианству Уэллс не демонстрировал никаких симпатий и очень одобрял политику агрессивного атеизма, проводившуюся в советской России. Его в этом поддерживали и некоторые другие британские интеллектуалы, например писатель Бернард Шоу и философ Бертран Рассел. Кстати, последний, наверное, переплюнул Герберта Уэллса в своем атеизме, написав в 1927 году вызывающее эссе «Почему я не христианин».
Я выше уже отметил, что Уэллс был знаком с британским интеллектуалом Арнольдом Тойнби (1889–1975), написавшим многотомный труд под названием «Постижение истории». В нем он изложил свои представления о существовавших и существующих в мире цивилизациях. Уэллс соглашается с тем, что многообразие цивилизаций существует, но, по его мнению, от него надо постепенно избавляться, выстраивать единую цивилизацию. Даже не путем конвергенции (сближения), а уничтожения «отсталых» цивилизаций. В таковые он записывает и Россию («русскую цивилизацию»). По мнению Уэллса, «Индия, Китай, Россия, Африка представляют собой смесь социальных систем, в большей или меньшей степени отставших, перенапряженных, расшатанных, оккупированных, эксплуатируемых и порабощенных финансовой зависимостью, механизацией и политической агрессией атлантической, балтийской и средиземноморской цивилизаций. Во многих отношениях они как будто ассимилируются с этой (капиталистической. – В. К.) цивилизацией, эволюционируют в современные типы и классы и отказываются от большей части своих отличительных традиций».
Наиболее «перспективной» цивилизацией Уэллс, естественно, считает англосаксонский мир («атлантическая цивилизация»). Его-то интересы он и представляет, и озвучивает. Ни для кого не секрет, что Уэллс был членом разных тайных обществ. По данным автора книги «Комитет 300» Джона Колемана, Уэллс был членом указанного комитета, который считается высшей инстанцией мировой закулисы[3].
Что касается других народов и государств, то они, по мнению Уэллса, могут оказывать сопротивление реализации планов Открытого Заговора. Этому вопросу в работе посвящен двенадцатый раздел («Сопротивление менее индустриально развитых народов продвижению Открытого Заговора»). Вместе с тем, Герберт Уэллс уверен, что рано или поздно «атлантической цивилизации» удастся перетянуть на сторону Открытого Заговора элиту таких «неперспективных» народов. Для этого им надо дать надежду войти в состав мировой элиты:
«Умам более тонким и энергичным среди этих темных народов, все еще в той или иной степени отставших от материальных достижений, которые обеспечили нынешнее господство Западной Европе и Америке, Открытый Заговор может сулить небывалые перспективы. Одним махом они могут перепрыгнуть с тонущего корабля их устаревшего порядка, через голову своих нынешних завоевателей, прямиком в объятия братства мировых правителей. Они могут посвятить себя задаче сохранения и адаптации всего лучшего и отличительного из их богатого культурного наследия для общих целей человеческой расы. Но менее живым умам этого отставшего мира новый проект Открытого Заговора покажется не лучше, чем новая форма западной оккупации, и они будут бороться за освобождение, как если бы этот проект был частью дальнейшего порабощения европейской традицией».
Примечательно, что Герберт Уэллс очень рассчитывает на Советскую Россию в реализации «Открытого Заговора»: «…советское правительство продержалось уже более двенадцати лет, и кажется, что оно скорее будет эволюционировать, чем сохраняться в прежних формах. Вполне возможно, что оно будет развиваться в сторону концепций Открытого Заговора, и тогда Россия сможет снова стать свидетелем конфликта между сторонниками новых идей и „староверами“. До сих пор Российская Коммунистическая партия вела обширную пропаганду своих идей во всем остальном мире, и особенно на своих западных границах. Многие из этих идей сейчас банальны и устарели. Возможно, не за горами то время, когда волна пропаганды потечет в обратном направлении. Коммунистическая партия льстит своему тщеславию, воображая, что ведет пропаганду мировой революции. Может быть, ее судьба – это развитие по тем направлениям, которые позволят ее наиболее разумному элементу легко ассимилироваться с Открытым Заговором для достижения мировой революции. По мере распространения и роста Открытого Заговора ему понадобится полигон для обкатки экономических идей, заложенных в его концепциях, и, возможно, именно в России, в Сибири это удастся осуществить с гораздо меньшими препятствиями, чем где-либо еще в мире».
Уэллс самим названием своей книги позиционирует себя как революционер. Ему, вероятно, очень импонирует то, что большевики – также революционеры, причем не «местечковые», а «международные». Лев Троцкий сразу же после октября 1917 года выдвинул лозунг превращения «русской» революции в «мировую». Правда, на момент написания Уэллсом книги «Открытый Заговор» Сталин уже разобрался с Троцким. Более того, даже выдвинул теоретическое положение о возможности построения социализма в отдельно взятой стране (для того, чтобы идеологически обосновать начинающуюся в стране индустриализацию). Но, видимо, до Уэллса эти новации в жизни СССР еще не дошли или же он их воспринимал как «тактические маневры».
В рассматриваемой работе и в других произведениях Уэллс осторожно затрагивает вопрос о социально-экономической модели желаемого им общества. Если не вдаваться в подробности, то это модель, в которой доминируют монополии и банки, при этом экономика находится под контролем со стороны государства. Уэллс был знаком с известным английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, идеологом вмешательства государства в экономическую жизнь. Видимо, Уэллс смотрел на будущий мир как на кейнсианский капитализм. Также чувствуется влияние на Уэллса австрийско-немецкого экономиста Рудольфа Гильфердинга, известного своим фундаментальным трудом «Финансовый капитал» (1910). После Первой мировой войны Гильфердинг, будучи приверженцем марксизма, стал двигаться в сторону социал-реформизма и создал теорию «организованного капитализма». Это, по мнению Гильфердинга, наиболее идеальная форма общества, она основана на доминировании в экономике банковского капитала, который вносит порядок в экономику и социальную жизнь (исключаются кризисы, организуется планирование). Это и не стихийный капитализм, и не социализм. Такая модель весьма импонировала Уэллсу, который был одним из наиболее видных фабианцев своего времени.
Несмотря на некоторую размытость взглядов Уэллса на социально-экономическое устройство общества при НМП, кое в чем его позиция была очень определенной. Он, в частности, считал, что социальная структура будущего общества должна быть предельно простой. Вверху – элита, внизу – все остальные, коих можно называть «плебсом», «пролетариями», «трудящимися массами» и т. п. Никаких «прослоек» и «средних классов» в модели Уэллса не предусмотрено. А что касается элиты, то она должна состоять из интеллектуалов и капиталистов. Подобно тому как, например, у большевиков основой социалистического строя был провозглашен союз рабочего класса и крестьянства, так у Герберта Уэллса основой общества НМП должен стать союз интеллектуалов и крупного капитала.
Вот рассуждения Уэллса по поводу того, что сторонников НМП следует искать, прежде всего, среди промышленных и банковских капиталистов: «И, наконец, у нас остаются основные функциональные классы землевладельцев, промышленных организаторов, банкиров и так далее, контролирующие нынешнюю систему такой, какая она есть. И нам вполне очевидно, что руководящие силы нового порядка должны появиться преимущественно из рядов этих классов, обладающих накопленным опытом, наработанными методами и традициями. Открытый Заговор не может иметь ничего общего с ересью, утверждающей, что путь человеческого прогресса пролегает через обширную классовую войну».
Среди предпринимателей Уэллс выделяет банкиров, которые, наверное, лучше других капиталистов понимают, как управлять миром. Уэллс рассчитывает на «оригинальных и умных людей в банковском деле, или связанных с ним, или интересующихся им. Они должны понимать, что банковское дело играет очень важную и интересную роль в мировых процессах, проявлять любознательность к своей собственной сложной функции и склонность к научному исследованию происхождения, условий и его будущих возможностей. Такие типы естественно движутся навстречу Открытому Заговору. Их запросы неизбежно выводят их за пределы привычного поля банковского дела, к изучению природы, направления и судьбы всего экономического процесса…»
Что касается тогдашней России, то, несмотря на ее «цивилизационную отсталость», у нее, по мнению Уэллса, были большие шансы быстрее других вписаться в НМП по той причине, что у нее была «интеллигенция». «Открытый Заговор» очень и очень рассчитывал на эту интеллектуальную элиту: «Только эти несколько десятков тысяч человек доступны для идей построения нового мира, и в деле привлечения русской системы к активному участию в мировом заговоре можно рассчитывать только на это небольшое меньшинство и на его влияние через соответствующее образование на мириады стоящих ниже индивидов».
Вместе с тем, по отношению к общей численности населения такие «продвинутые» люди в России составляют ничтожно малую долю, и они могут просто «раствориться» в «океане российского варварства»:
«По мере того как мы движемся на восток от европейской части России, доля здравомыслящих интеллектуалов, к которым мы можем обратиться за пониманием и участием, уменьшается до мизера. Уберите эту мизерную долю, и вы останетесь один на один с варварством, неспособным к социальной и политической организации выше уровня военного командира или атамана разбойников. Россия сама по себе (без большевицкого режима. – В. К.) по-прежнему отнюдь не застрахована от дегенеративного процесса в этом направлении».
Тем не менее Г. Уэллс в своей работе несколько раз выражал надежду на то, что Советская Россия поддержит «Открытый Заговор». Однако СССР пошел своим путем и даже спутал карты тем британским заговорщикам, позицию которых английский писатель озвучивал в своей работе. Окончательно это стало понятно Уэллсу в 1934 году, когда он посетил Советский Союз и встретился с И. В. Сталиным.
Вместе с тем идея Открытого Заговора на протяжении более 90 лет сохраняла свою актуальность. Правда, заговор перестал быть явным. Мировая закулиса, которая выстраивала и продолжает выстраивать новый мировой порядок, понимает, что эффективность ее усилий напрямую зависит от того, насколько заговор будет скрытым.
Герберт Уэллс проповедовал идею «Открытого Заговора». Но если задуматься: «открытый заговор» – нонсенс. Все равно что «сухая вода» или «красивый урод». Еще раз напомню: в названии книги Уэллса стоит слово conspiracy, что означает «секретность». «Открытый Заговор» означает «секреты, известные всем». Может быть, английский писатель шутил? Многое из того, что Герберт Уэллс озвучил публично в своей работе, действительно реализовывалось и реализуется. Но при строжайшем соблюдении секретности. Действительно, можно говорить о заговоре мировой закулисы против человечества. Полной секретности ей обеспечить, конечно же, не удалось и не удается. Об этом я, в частности, пишу в своей новой книге «Антиутопии: заговор против человечества без грифа „секретно“»[4].
Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на ошибочное представление о том, что Герберт Уэллс хорошо известен российскому читателю. Да, действительно, этого английского писателя очень активно издавали в нашей стране еще до революции. В начале прошлого века на книжном рынке России появилось даже несколько собраний сочинений Герберта Уэллса. Назову их: четырехтомник произведений Уэллса издательства П. Ф. Пантелеева (СПб., 1901); собрание сочинений в 12 томах издательства И. Д. Сытина (М., 1909); собрание сочинений в 13 томах издательства «Шиповник» (СПб., 1909–1917; вышло только 9 томов); четырехтомник издательства Сойкина (Петроград, 1918). Лучшим считается издание И. Д. Сытина, которое представляло собой приложение к журналу «Вокруг света» (переводы А. Анненской, Т. Богданович, В. Тана, К. Чуковского и др.).
Не обделен был вниманием Герберт Уэллс и в советское время, особенно после Великой Отечественной войны. Помимо миллионных изданий его фантастики в виде отдельных книг в первой половине 1960-х годов было издано собрание его сочинений в 15 томах под общей редакцией Ю. Кагарлицкого с прекрасными иллюстрациями Ильи Глазунова.
В постсоветское время Герберт Уэллс продолжал издаваться и «в розницу» (отдельными книгами), и «оптом» (в виде собраний сочинений). Так, в первом десятилетии нынешнего века было выпущено собрание сочинений в 12 томах в издательстве «Терра». И это, не считая специальных (подарочных, под заказ) изданий собраний сочинений в семи, восьми и десяти томах.
Примечательно, что львиная доля всех тиражей приходилась на фантастику, прежде всего на такие романы, как «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Остров доктора Моро» и еще несколько произведений данного жанра. А вот другие жанры (реалистические, бытовые романы и повести; философские произведения; произведения для детей и научно-популярные; автобиографические; киносценарии; публицистика) представлены намного хуже. Некоторые работы издавались на русском языке лишь единожды, причем по большей части еще до войны. Например, уже упоминавшийся роман «Мир Уильяма Клиссольда», который может быть отнесен к жанру реалистических (бытовых) произведений, а отчасти, наверное, и к философскому жанру. Он был издан лишь один раз – в 1928 году в Государственном издательстве тиражом всего 7000 экземпляров (перевод С. Займовского, В. Барбашевой, Н. Вельмина). Еще один пример – киноповесть (киносценарий) «Облик грядущего» (Things to Come). На основании этого произведения Герберта Уэллса в Англии в 1936 году был снят полнометражный одноименный художественный фильм (режиссер Уильям Кэмерон Мензиес), который собирал миллионные аудитории во многих странах англоязычного мира. В 1937 году у нас это произведение было опубликовано в издательстве «Журнально-газетное объединение» в переводе С. Г. Займовского. По моим данным, с тех пор «Облик грядущего» в нашей стране не переиздавался.
Но, оказывается, имеется немалое количество работ Г. Уэллса, которые вообще не были переведены на русский язык и нашему читателю совершенно неизвестны. Представленная вам работа «Открытый Заговор» – лишь один пример. Полной инвентаризации я не проводил. Но приведу несколько других примеров. Я уже отметил, что к «Открытому Заговору» тесно примыкает его работа 1940 года «Новый мировой порядок» (The New World Order). Она тоже не переведена на русский язык.
Биографы Г. Уэллса отмечают, что самым важным своим произведением писатель считал работу «Труд, богатство и счастье рода человеческого» (The Work, Wealth, and Happiness of Mankind). Этот фундаментальный труд объемом 924 страницы увидел свет в январе 1931 года в лондонском издательстве Doubleday, Doran & Co. Это последняя книга из трилогии, которая представляла собой составленную автором своеобразную энциклопедию науки, истории и социологии. Первая книга этой трилогии – «Очерки истории» (The Outline of History; 1919–1920); вторая – «Наука жизни» (The Science of Life; 1929)[5]. Первая книга трилогии была издана уже в наше время ограниченным тиражом в издательстве «Эксмо» (под названием «Очерки истории цивилизации»). Вторая не издавалась вообще.
Писатель очень ценил всю трилогию, но особенно упомянутую выше работу «Труд, богатство и счастье рода человеческого». Исследователи творчества Уэллса обычно относят ее к жанру философской литературы. Но это достаточно условно. В данном труде, между прочим, просматриваются претензии на новое слово в экономической науке. Герберт Уэллс продолжает в «Труде…» критику традиционной экономической мысли, которую он начал еще в «Открытом Заговоре» и «Мире Уильяма Клиссольда». Он здесь заявил в полный голос, что экономические теории только тогда смогут быть действительно «научными», когда экономисты будут опираться на биологию и психологию. Работу над книгой «Труд…» Уэллс заканчивал в то время, когда в мире уже бушевал экономический кризис. Писатель не преминул заметить, что этот кризис стал следствием неправильной экономической политики государств, а ее порочность проистекала из тех никчемных теорий, которыми экономисты забивали головы чиновникам. Уже в следующем, 1932 году книга Г. Уэллса «Труд…» была издана на немецком языке в Германии. Она позднее переводилась и на другие языки. Со времени публикации третьей книги – «Труд, богатство и счастье человеческое» – прошло уже девять десятков лет, а у нас не были переведены и изданы даже фрагменты этого самого ценимого Уэллсом труда.
Последнее значимое произведение писателя – «Разум на краю своей натянутой узды» (Mind at the End of Its Tether) – брошюра, увидевшая свет в 1945 году, незадолго до смерти Г. Уэллса. В ней он предсказал вымирание человечества. Увы, и эта работа не доступна до сих пор аудитории, читающей на русском языке.
Из неопубликованных на русском языке произведений Г. Уэллса хотел бы еще отметить сборник его эссе и статей под названием «Мировой мозг» (World Brain, 1938). На Западе идеи, «озвученные» в этой книге, оказались очень популярными и приобрели в последние три десятилетия практическую значимость. Герберт Уэллс был одержим идеей просвещения человечества в мировом масштабе, изменения его сознания в короткое время. Мировой мозг, как полагал писатель, поможет создать тот самый новый мировой порядок, контуры которого были описаны в «Открытом Заговоре». В восьмом разделе «Открытого Заговора» Уэллс пишет, что «мир создаст в качестве центрального органа мозг современного сообщества – великую энциклопедическую организацию, которая будет постоянно обновляться и давать примерные оценки и указания для всей материальной деятельности человечества».
Несколько подробнее остановлюсь на «Мировом мозге» именно потому, что он в определенном смысле стал продолжением «Открытого Заговора». Достаточно подробно идея «Мирового мозга» была публично озвучена писателем в его лекции в Королевском институте международных отношений 20 ноября 1936 года (она была включена в упомянутый сборник). Вот ее начало: «Моей конкретной целью всегда было обобщение, синтез. Я не люблю отдельные события и отдельные детали. Я ненавижу заявления, предрассудки, убеждения, которые кидаются на тебя из ниоткуда. Мне нравится мой мир как согласованный и последовательный, насколько это возможно. Это, во всяком случае, мой темперамент – как научного человека. Именно поэтому я потратил несколько сотен часов моего времени, создавая очертания коротких историй мира: общие итоги человеческих открытий, попытки подвести итоги экономической, финансовой и социальной жизни в одном конспекте и даже, еще более отчаянно, изо всех сил я пытался оценить возможные последствия тех или иных эксплуатационных причин на будущее человечества. Все эти попытки были моими глубокими и заметными недостатками и слабостями; даже мои друзья склонны упоминать о них с извиняющейся улыбкой. Я был самонадеян и нелеп, не спорю, но я оглядываюсь на свои записи совершенно беззастенчиво. Кто-то должен был сломать лед. Кто-то должен был опробовать такие сводки на благо общего разума. Мой ответ на критику всегда был… „Ну, черт с тобой, делай это лучше всех“».
Далее в этой лекции и в других материалах сборника Уэллс конкретизирует свою мысль, говорит о необходимости аккумуляции стремительно растущего в мире объема знаний и информации, тщательной фильтрации и обработки информационных массивов, предельно возможного «отжима» знаний и информации и предоставления «твердого интеллектуального остатка» всему человечеству. Ключевым термином в рассуждениях Герберта Уэллса становится «Мировая (или Всемирная) энциклопедия». Постоянно расширяемая, верифицируемая наукой и практическим опытом, обновляемая и доступная для любого человека. Доступная как в физическом смысле, так и с точки зрения простоты изложения (и понимания) самых сложных процессов и явлений. Мировая энциклопедия будущего, по мнению писателя, не должна иметь ничего общего с архаичными энциклопедиями французских просветителей-энциклопедистов XVIII века и тяжеловесными и застывшими талмудами XIX века типа Britannica. Все такие энциклопедии – старые коллекции прошлых знаний, постоянно отстающие от ритма ускоряющейся жизни и научно-технического прогресса. «Наши современные энциклопедии еще едут в карете с лошадью, это их этап развития, а на самом деле они должны лететь на самолете», – утверждал Уэллс.
В составлении Мировой энциклопедии, по мнению Уэллса, должны участвовать интеллектуалы всего мира. Для консолидации и координации их деятельности он предлагал создать Международный комитет по интеллектуальному сотрудничеству как структурное подразделение Лиги Наций.
Размышляя о том, как сделать Мировую энциклопедию доступной для всего человечества, Уэллс предлагал, чтобы она издавалась на английском языке, который к 1938 году был уже самым распространенным на планете. А те страны, которые еще не перешли на массовое использование английского языка, должны наладить обучение ему в школах. С технической точки зрения, доступность можно было увеличить за счет микрофильмирования текстов и повсеместного применения проекторов.
Впрочем, Герберт Уэллс выражал уверенность, что научно-технический прогресс сумеет обеспечить человечество еще более простыми и быстрыми средствами доставки информации каждому человеку. И тут он действительно как в воду глядел. Английский ученый, писатель и футуролог Артур Кларк, обращаясь к идее Мирового мозга Г. Уэллса, в начале 1960-х годов высказал предположение, что доступ к такому мозгу можно будет получить через разбросанные по всему миру компьютеры, связанные с Мировым компьютером. Эта идея прозвучала в книге А. Кларка «Черты будущего» (Profiles of the Future, 1962), вышедшей на русском языке в 1966 году в переводе Я. Берлина и В. Колтового. Сегодня мир опутан паутиной интернета, который доставляет громадные массивы информации каждому человеку через персональные компьютеры, мобильные телефоны и другие устройства.
Современную систему Мировой паутины (World Wide Web) считают практическим воплощением проекта Герберта Уэллса по созданию Мирового мозга. Практически реализована и идея Мировой энциклопедии Герберта Уэллса – в виде Википедии, или «Свободной энциклопедии». В составлении статей для нее может участвовать любой человек на планете, но при соблюдении определенных правил и процедур. На начало ноября 2020 года в Википедии было размещено 1 672 тыс. статей на русском языке, 2 495 тыс. – на немецком, 2 262 тыс. – на французском, 1 645 тыс. – на итальянском, 1 637 тыс. – на испанском и т. д. Вне конкуренции оказался английский язык – 6 183 тыс. статей. Но Википедия – не такая уж «свободная» и «объективная» энциклопедия, как ее пытаются представить те, кто стоит за созданием этого мощного глобального информационного ресурса. У нее есть не очень хорошо видимые широкой публике администраторы, которые активно влияют на контент энциклопедии. Страсти вокруг Википедии накаляются, доверие к ней постепенно падает (впрочем, это тема отдельного большого разговора).
Пример с Мировым мозгом показывает, что Герберт Уэллс то ли предвидел контуры будущего, то ли озвучивал далеко идущие планы британской элиты по переустройству мира. Безусловно, нам об этих пророчествах (или планах) надо было знать еще вчера или позавчера. Но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда». А для этого иметь на русском языке все книги английского писателя (не только многократно переиздаваемую фантастику). Рассчитываю, что перевод и публикация «Открытого Заговора» – лишь один, скромный шаг, за которым последуют дальнейшие шаги по переводу других интересных и актуальных произведений Герберта Уэллса на русский язык.
В заключение выражаю искреннюю благодарность (свою и моих коллег) Анастасии Крутько, которая сделала перевод книги Герберта Уэллса и безвозмездно передала его в редакцию издательства «Кислород».
В. Ю. Катасонов Председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор, доктор экономических наук.
От издателя
Книга «Открытый Заговор: чертежи мировой революции» впервые была издана в 1928 году, когда Г. Дж. Уэллсу исполнилось 62 года. В 1930 году она была доработана и вышла с дополнительным подзаголовком «Вторая версия веры современного человека в более ясном и простом изложении». В 1931 году появилось очередное издание книги в новой редакции под названием «Что нам делать с нашей жизнью?». Окончательная версия книги вышла в 1933 году под своим первоначальным названием. Многие идеи «Открытого Заговора» нашли свое раннее отражение в романе Уэллса «Мир Уильяма Клиссольда» (1926).
Представляемая версия книги по тексту издания 1928 года выпущена в издательстве Gollancz, Лондон, в 1933 году.
Уэллс изначально назвал свою книгу «Открытый Заговор: чертежи Мировой Революции». Он рассматривал ее как свою окончательную декларацию того, каким должен быть мировой порядок. Возможно, он недооценивал или игнорировал тот факт, что интересы одной группы людей часто заставляют ее действовать против другой группы людей. Кроме того, упор на религиозный аспект выглядит немного странно для рационалиста.
После Первой мировой войны, видя у большинства людей нехватку знания о множестве предметов, он обратился к истории, начав в 1918 году писать книгу «Очерки истории». Впервые книга была опубликована отдельными частями с великолепными обложками, затем, в 1920 году, вышло двухтомное издание с роскошными по тому времени иллюстрациями-вклейками. Фактически над книгой работал коллектив авторов: разделы книги рассылались сотрудничавшим авторам, а Уэллс потом собирал воедино многочисленные правки в окончательной редакции. Популярное однотомное издание вышло в 1930 году. По стандартам того времени это был бестселлер. Десятилетия спустя Алан Джон Персиваль Тейлор[6] хвалил это издание как непревзойденное на тот момент введение в историю. Тойнби[7] также положительно отзывался о нем. В 20-е годы книга вызвала полемику со стороны Хилэра Беллока[8], который верил в такие понятия, как грехопадение человека. Нападки на книгу также прозвучали со стороны одного преподавателя греческого языка. Надежды же Уэллса на то, что школьную историю можно преподавать с вненационального угла зрения, естественно, так и не осуществились.
Уэллс сотрудничал в написании огромного количества работ по биологии: «Наука жизни» было написана им в соавторстве со своим сыном и Джулианом Хаксли[9]; темой книги была преимущественно эволюция («Происхождение видов» Дарвина было опубликовано всего за несколько лет до его рождения). Хаксли, потомок Томаса Генри Хаксли[10], считал Уэллса кем-то вроде выскочки из кокни[11].
Уэллс написал книгу и по экономике, скорее описательного, чем аналитического характера, она содержала многие оригинальные идеи, но ее затмила книга Кейнса[12] «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшая четыре года спустя.
Некоторые книги Уэллса были экранизированы; сценарий к «Человеку-невидимке» был написан Престоном Стерджесом[13], который, тем не менее, считал книги Уэллса трудными для воплощения на экране и довел Уэллса до ярости, сделав его человека-невидимку в фильме сумасшедшим. Другой инцидент в 1938 году был связан с радиоспектаклем Орсона Уэллса[14] «Война миров», в котором агрессивные марсиане высаживались в американизированной версии уэллсовского городка Сэрри, что вызвало на восточном побережье массовую панику у менее образованных американцев, слушавших радиопостановку.
Чарльз Перси Сноу[15] писал об Уэллсе, что тот мог «бросить всего одну фразу, в которой была выкристаллизована вся суть предмета», и что «это был такой уровень, что рядом просто некого было поставить». Среди этих фраз – «Война, которая положит конец войне», придуманная Уэллсом, когда он работал в Министерстве пропаганды под началом лорда Нордклиффа во время Первой мировой войны, которую он поддерживал. «Новый мировой порядок» – термин, который, вероятно именно Уэллс применил впервые или же популяризировал в книге с одноименным названием, вышедшей в 1940 году. Одним из его менее удачных определений был «компетентный потребитель».
Уэллс говорил о себе, что он работал неустанно.
Он был социалистом эмпирического, довольно расплывчатого рационалистического толка, не любил Маркса и без энтузиазма относился к управленческому социализму Уэббсов[16].
Его книга «Открытый Заговор» была издана в 1928 году с подзаголовком «Чертежи мировой революции». Бертран Рассел[17] сказал об этой книге: «…Я не знаю ничего, с чем бы я был более согласен», хотя, если учесть, что эта фраза содержалась в просительном письме, Рассел, возможно, просто проявил вежливость. Книга была доработана и переиздана под названием «Что нам делать с нашей жизнью?» в 1931 году.
В этой краткой книге Уэллс пытается ответить на вопрос: «Что на самом деле должны делать социалисты?» – вопрос, на который, как он сам не раз признавался, у него не было четкого ответа. Его тезис в противовес Марксу: почему бы непролетариям не объединиться, чтобы изменить мир?
I. Современный кризис в делах человечества
Мир претерпевает грандиозные изменения. Никогда ранее условия жизни не менялись так значимо и так стремительно, как они изменились для человечества за последние пятьдесят лет. Мы несемся в потоке сменяющих друг друга событий и не имеем возможности измерить все возрастающую их скорость. Мы только сейчас начинаем осознавать штормовую силу и мощь тех перемен, которые обрушились на нас.
Эти перемены не пришли в наш мир извне. В нашу планету не ударил метеорит из космического пространства; не было мощных проявлений вулканической активности или странных пандемий; солнце не раскалилось до чрезмерных температур и не сжалось внезапно, погрузив нас в арктическую зиму. Перемены пришли посредством самих людей. То тут, то там, вместе и порознь, люди стали совершать открытия, создавать и внедрять изобретения, изменившие все условия социальной жизни. Но подозревали ли они сами о конечных последствиях того, что они совершили?
Мы только сейчас начинаем понимать природу этих изменений, находить для них слова и фразы, подбирать им определения. Сначала эти изменения шли незамеченными, и лишь затем мы их осознали. Теперь мы начинаем видеть, как эти изменения связаны друг с другом, и можем оценить масштаб их последствий. Мы уже настолько прояснили себе суть этих перемен, что скоро сможем продемонстрировать их и объяснить их детям в наших школах. Пока мы этого не делаем. Мы не даем нашим детям шанс осознать как открытие то, что они живут в мире всеобщих перемен.
Каковы же основные направления изменений условий жизни человечества?
Удобнее всего будет рассматривать эти изменения в том порядке, в котором мы стали их ясно видеть и осознавать, нежели в порядке их возникновения или в их логической последовательности. Все они являются более или менее взаимозависимыми; пересекаются и взаимодействуют друг с другом.
Только в начале ХХ века люди стали осознавать реальное значение того аспекта изменяющихся условий жизни, который был обозначен фразой «исчезновение расстояния». В течение всего предыдущего столетия происходило постоянное увеличение скорости и безопасности путешествий и перевозок, простоты и быстроты передачи сообщений, но, как представляется, это ускорение не было делом первостепенной важности. Начали проявляться различные последствия развития железных дорог, пароходного и телеграфного сообщения; города разрастались и сливались с окружающими их деревнями, прежде труднодоступные земли превратились в зоны быстрого заселения и культивации, индустриальные центры стали жить за счет импортируемого продовольствия, новости из дальних краев утратили временной лаг и стали приходить почти без задержки, но никто и не думал восхвалять эти вещи как что-то большее, чем просто «улучшение» существующих условий. Их не сочли за начало глубокой революции в жизни человечества. Они не привлекли к себе внимание молодых людей; не делалось никакой попытки адаптации социальных и политических институтов к этому ползучему увеличению масштабов.
Вплоть до самого конца XIX века не появилось осознания реального положения дел. Затем несколько наблюдательных людей начали довольно осторожно, в манере комментария, привлекать внимание к происходящему. Они, по-видимому, не преследовали идею того, что с этим нужно что-то делать; просто они ярко и умно комментировали происходившее вокруг. А затем пришли к пониманию того, что «исчезновение расстояния» было только одним из аспектов последствий, идущих гораздо дальше.
Люди быстрее стали передвигаться по миру, мгновенно обмениваться сообщениями, что было обусловлено прогрессирующим завоеванием сил природы и материи. Улучшение транспорта стало только одним из зловещих последствий этого завоевания; первым из наводящих на подозрения и заставляющих задуматься, но, возможно, не первым по важности. Их осенило, что за последние сто лет был достигнут выдающийся прогресс в получении и использовании механической энергии и повышении эффективности механизмов, повлекший за собой огромное расширение субстанций, доступных человеку для его нужд: от вулканической резины до современной стали, от нефти и маргарина до вольфрама и алюминия. Вначале умы человечества были склонны расценивать эти вещи как счастливые «находки», удачные случайные открытия. Не было осознания того, что этот поток открытий систематичен и непрерывен. Популярные авторы рассказывали об этих вещах, но говорили о них сначала как о «чудесах» – таких как египетские пирамиды, Колосс Родосский или Великая Китайская стена. Мало кто понимал, насколько эти вещи превосходили любые «чудеса». Семь чудес света не лишали людей свободы жить, трудиться, жениться и умирать так, как они привыкли с незапамятных времен. Если бы даже семь чудес света совсем исчезли или умножились трехкратно, это не изменило бы образа жизни сколь-нибудь значительного числа человеческих существ. Но эти новые силы и субстанции модифицировали и трансформировали – ненавязчиво, неуклонно и безжалостно – саму ткань повседневной жизни человечества.
Они увеличили объемы производства и улучшили его методы. Они вызвали к жизни большой бизнес, вытеснивший мелкого производителя и мелкого посредника с рынка. Они смели с лица земли старые фабрики и возвели новые. Они изменили облик полей. Они привнесли в обычную жизнь одно за другим, день за днем – электрический свет и отопление, яркое ночное освещение городов, улучшенную вентиляцию, новые виды одежды, чистоту и свежесть. Они превратили мир, в котором никогда не было достатка, в мир потенциального изобилия, в мир чрезмерного изобилия. После того как интеллектуалы осознали «исчезновение расстояния», до них дошло, что и нехватка поставщиков уже в прошлом, и утомительный труд уже не необходим для производства всего материального, что может потребоваться человеку. Но только в последние лет десять этот факт наконец проник в умы более или менее широкого круга людей. Большинству из них еще предстоит продвинуться на шаг вперед и увидеть, насколько полной и завершенной является революция в характере повседневной жизни, в которую встроены эти явления.
Но есть и другие перемены, помимо этого грандиозного ускорения темпа и усиления мощи материальной жизни. Биологические науки претерпели соответствующее преобразование. Медицинское искусство достигло нового уровня эффективности, так что во всех модернизирующихся мировых сообществах средняя продолжительность жизни увеличилась и, несмотря на значительное снижение рождаемости, стал наблюдаться устойчивый, тревожный прирост мирового населения. Доля взрослого населения сегодня выше, чем когда-либо прежде. Все меньше и меньше человеческих существ умирают в молодом возрасте. Это изменило социальную атмосферу в обществе. Трагедия жизней, оборванных в самом начале и закончившихся преждевременно, выходит за рамки повседневного опыта. Здоровье становится нормой жизни. Постоянные зубные боли, головные боли, ревматизм, невралгии, кашель, простуда, расстройства желудка, которые мучили наших дедушек и бабушек на протяжении большей части их и так короткой жизни, становятся делом прошлого. Все мы теперь можем жить, как обнаруживается, без какого-либо бремени страха, в здравии и изобилии до тех пор, пока в нас жива тяга к жизни.
Но мы этого не делаем. Вся эта ставшая доступной свобода передвижения, это могущество и изобилие остаются для большинства из нас не более чем возможностью. Существует ощущение глубокой нестабильности в отношении этих достижений нашей расы. Даже те, кто наслаждаются ими, наслаждаются, не чувствуя себя в безопасности, а для огромной части человечества нет ни легкости, ни изобилия, ни свободы. Тяжелый труд, отсутствие достатка и нескончаемые заботы о деньгах – все еще обычные спутники жизни. Над всем человечеством нависает угроза такой войны, которой человек никогда прежде не знал и которая будет снабжена и подкреплена всей мощью и открытиями современной науки.
Когда мы задаемся вопросом, почему овладение силами природы оборачивается бедствием и опасностью в наших руках, мы получаем совершенно неудовлетворительный ответ. Любимая банальность политика, ищущего себе оправдание за тщетность своих занятий, заключается в том, что «моральный прогресс не поспевает за материальным прогрессом». Кажется, такое объяснение полностью его удовлетворяет, но не может удовлетворить ни одного думающего человека. Он произносит слово «мораль». Он оставляет это слово без объяснения. По всей видимости, он хочет переложить ответственность на наших религиозных учителей. В лучшем случае он наводит туман, не зная, что ответить. И все же мы рассматриваем этот ответ милостиво и сочувственно: в нем, похоже, есть зародыш истины.
Что означает «мораль»? Mores означает «нравы и обычаи». Мораль – это то, как мы ведем себя в жизни. Это то, как мы проявляем себя в социальной жизни. Это то, как мы поступаем по отношению к своим собратьям. И сейчас, кажется, имеется гораздо большее противоречие, чем было, скажем, пару сотен лет назад, между превалирующими идеями о том, как подобает проводить жизнь, и возможностями и опасностями настоящего времени. Мы начинаем все более ясно видеть, что определенные сложившиеся традиции, которые веками составляли основу человеческих отношений, уже не просто не столь удобны, как раньше, но уже определенно вредны и опасны. И все же мы не знаем, как стряхнуть с себя эти традиции, эти привычки социального поведения, управляющие нами. Но также мы не способны продекларировать, а тем более ввести в обиход новые концепции социального поведения и социальных обязательств, которые должны их заменить.
Например, общее управление человеческими делами в мире до сих пор распределялось среди определенного числа суверенных государств – в настоящее время их около семидесяти – и до недавнего времени это была вполне сносная конструкция, в которую можно было вписать общий для всех образ жизни. По нашим нынешним стандартам уровень жизни, возможно, не был высоким, но социальная стабильность и уверенность в будущем были выше. Молодых учили быть лояльными, законопослушными, патриотичными, а сложившаяся система наказаний за преступления и правонарушения в виде репрессий и штрафов поддерживала целостность социального организма. Каждого учили истории, прославляющей его собственное государство, и патриотизм был главным среди добродетелей. Теперь же, когда стремительно произошло это «исчезновение расстояния», все мы стали соседями по улице. Государства, когда-то бывшие отдельными, социальные и экономические системы, прежде бывшие далекими друг от друга, теперь с раздражением толкают и теснят друг друга. Торговля в новых условиях постоянно нарушает национальные границы и совершает воинственные набеги на экономическую жизнь других стран. Это обостряет патриотизм, на котором все мы воспитаны и которым все мы, за редким исключением, пресыщены. Между тем война, которая когда-то была сравнительно вялой потасовкой на переднем фланге, превратилась в войну в трех измерениях; она затрагивает невоюющего почти так же, как воюющего, она приобрела вооружения колоссальной жестокости и разрушительности. В настоящее время не существует выхода из этой парадоксальной ситуации. Наше воспитание и наши традиции постоянно подталкивают нас к антагонизму и конфликтам, которые приведут к обнищанию, голоду и уничтожению как наших антагонистов, так и нас самих. Мы все научены не доверять иностранцам и ненавидеть их, салютовать своему флагу, послушно застывать, деревенея, при исполнении национального гимна и быть готовыми следовать за нашими маленькими собратьями в шпорах и перьях, изображающими из себя глав наших государств, в пекло самого ужасного тотального разрушения. Наши политические и экономические идеи устроения жизни устарели, и мы сталкиваемся с большими трудностями в их адаптации и реконструировании, с тем чтобы они начали соответствовать колоссальным требованиям нового времени. Вот что на самом деле имеют в виду наши граммофонные политики, выражающиеся в своем обычном туманном стиле, когда они вновь и вновь ставят эту заезженную пластинку о том, что «моральный прогресс не поспевает за научно-техническим прогрессом».
В социальном и политическом плане мы хотим пересмотра системы представлений о нормах поведения, обновленного взгляда на социальную и политическую жизнь. Мы попусту тратим нашу жизнь, мы дрейфуем, нас обманывают, надувают и вводят в заблуждение те, кто эксплуатирует старые традиции в своих корыстных целях. Нелепо то, что все продолжают навязывать нам войны, облагают нас новыми налогами для их финансирования, угрожают телесными увечьями и ограничением прав и свобод ради никому не нужного выживания старой модели разъединенного мира донаучной эры. И дело не только в том, что наш политический образ жизни сегодня ничем не лучше унаследованного образа жизни с его дефектами и пороками развития, но и в том, что наша повседневная жизнь, еда и питье, одежда и жилье, и все наши занятия также стеснены, расстроены и находятся в упадке из-за того, что мы не знаем, как стряхнуть с себя старый уклад жизни и приспособить нашу жизнь к новым возможностям. Напряжение принимает форму возрастающей безработицы и дисбаланса покупательной способности. Мы уже не знаем, тратить ли нам или экономить. Толпы людей оказываются необоснованно выброшенными с рынка труда. Несправедливо, иррационально. Колоссальные преобразования бизнеса осуществляются для увеличения производства и накопления прибыли, а между тем число потребителей с покупательной способностью все уменьшается и совсем исчезает. Машина экономики скрипит и подает все признаки остановки, и эта остановка будет означать всеобщую нужду и голод. Экономика не должна встать. Должно произойти преобразование, перенастройка. Но что за перенастройка?
Хотя никто из нас еще не знает, каким именно образом эта великая перенастройка должна будет осуществиться, во всем мире сейчас ощущается, что нам предстоит то ли перенастройка, то ли глобальная катастрофа. Все больше людей чувствуют, что этот переход от старого к новому не пройдет гладко и без потерь. В пределах жизни одного поколения человечество перешло от того состояния дел, которое нам сейчас кажется медленным, скучным, плохо обеспеченным и ограниченным, но, по крайней мере, колоритным и безмятежным, к новой фазе волнений, провокаций, угроз, безотлагательности, реальных или потенциальных бедствий. Наши жизни переплетены, мы являемся частями друг друга. Мы не можем уйти от этого. Мы – объекты в социальной массе. Что нам делать с нашей жизнью?
II. Идея Открытого Заговора
Я пишу на социальные и политические темы. По сути, я вполне обычный, заурядный человек. У меня довольно посредственный, среднестатистический мозг, и поэтому то, как мой мозг реагирует на эти проблемы, является хорошим индикатором того, как большинство мозгов будет реагировать на них. Но, поскольку мое дело – писать и думать об этих вопросах, и я могу уделять им больше времени и внимания, чем большинство людей, постольку мне удается значительно опережать других, и мои статьи и книги выходят немного раньше, чем те идеи, которые я там отражаю, они становятся понятны десяткам тысяч, затем сотням тысяч и, наконец, миллионам людей. И случилось так, что несколько лет назад (около 1927 года) у меня возникло страстное желание разобраться с этим запутанным клубком идей, которые, казалось, содержали в себе ответ на вопрос, как нам приспособить нашу жизнь к громадным новым возможностям и опасностям, стоящим перед человечеством, и придать этим идеям некую форму.
Мне казалось, что во всем мире разумные люди пробудились и поняли, как это унизительно и абсурдно. Что их подвергают опасностям, ограничению прав и свобод, обнищанию, пользуясь их некритической приверженностью традиционным правительствам, традиционным представлениям об экономической жизни и традиционным формам поведения, и что эти пробудившиеся разумные люди должны сначала заявить протест, а затем оказать творческое сопротивление той инерции, которая нас душит и нам угрожает. Эти люди, которых я себе представлял, сначала сказали бы: «Мы дрейфуем, мы не делаем ничего стоящего в жизни. Наши жизни скучны и глупы и недостаточно хороши».
Затем они спросили бы: «Что нам делать с нашей жизнью?»
И затем они сказали бы: «Давайте соберемся вместе с другими людьми нашего духа и превратим весь мир в великую мировую цивилизацию, которая позволит нам реализовать возможности этого нового времени и избежать его опасностей».
Мне казалось, что, по мере того как один за другим мы пробуждались, мы должны были бы говорить именно это. Это вырастало бы в протест сначала интеллектуальный, затем практический. Он представлял бы собой своего рода непреднамеренный и неорганизованный заговор против раздробленных и неадекватных правительств и широко распространившейся жадности, присвоения, неумелости и растрат, которые мы сейчас видим. Но, в отличие от обычных заговоров, этот растущий протест и заговор против устоявшихся порядков по самой своей природе рос бы и ширился открыто, при свете белого дня, и был бы готов принять содействие и помощь со всех сторон. Фактически он стал бы Открытым Заговором, необходимым, естественно эволюционировавшим заговором, который починил бы наш поломавшийся мир.
Я делал разные попытки развить эту идею. Еще в 1928 году я опубликовал небольшую книжку под названием «Открытый Заговор», в которую я вложил то, что думал в то время. Это была неудачная книжка, что было ясно уже тогда, когда я ее публиковал: недостаточно простая в изложении, недостаточно убедительная и, кроме того, непонятно на какую аудиторию рассчитанная. В то время я не знал, как написать лучше. Тем не менее, мне казалось, что моя книжка говорит о чем-то живом и актуальном, и поэтому все-таки опубликовал ее – но все устроил так, чтобы я мог отозвать публикацию через год или около того. Что и сделал. И настоящее издание является существенно переработанной версией, намного яснее и более точно выражающей мои идеи. Со времени первой публикации мы все удивительно продвинулись вперед. События подстегивали общественную мысль и, в свою очередь, сами подстегивались ею. Идея реорганизации мировых дел в больших масштабах, которая считалась «утопической» и т. п. в 1926 и 1927 годах и все еще «смелой» в 1928 году, теперь распространилась по всему миру и дошла уже почти до каждого. Эта идея загорелась повсюду, а интерес к ней во многом был простимулирован Российским пятилетним Планом. Повсюду сотни тысяч людей теперь думают в том направлении, которое впервые было обозначено в моем «Открытом Заговоре» не потому, что они когда-либо слышали об этой книге или об этой фразе, а потому что именно в этом направлении объективно развивалась общественная мысль.
Первая версия «Открытого Заговора» выразила общую идею реконструированного мира, но она была очень расплывчатой в отношении того, каким образом конкретная жизнь того или иного индивида может быть вписана в эту общую идею. Она дала общий ответ на вопрос: «Что нам делать с нашей жизнью?» Она говорила: «Помогите создать новый мир в тумане заблуждений старого». Но когда был задан вопрос: «Что мне делать со своей жизнью?», ответ был менее удовлетворительным.
Последовавшие за этим годы размышлений и накопления опыта позволяют приблизить эту общую идею реконструктивного усилия, попытки построить новый мир на фундаменте нынешнего мира с его опасностями и дисгармониями к самой индивидуальности, личности Открытого Заговорщика. Мы можем теперь осветить этот вопрос гораздо лучше, мы уже знаем, с какого бока за него взяться.
III. Мы должны оздоровить наш разум и привести его в порядок
Для большинства из нас, начинающих осознавать необходимость жить по-новому, становится довольно очевидно, что государство, которое определяет строй нашей жизни, необходимо переформатировать так, чтобы оно отвечало новым требованиям к нему. Но для этого мы должны в первую очередь привести в порядок наш собственный разум. Почему мы только сейчас очнулись и увидели всю глубину кризиса в человеческих делах? Ведь прогрессирующие изменения шли с постоянным ускорением в течение пары веков! Должно быть, мы все были очень ненаблюдательны, а наши знания в том виде, в котором они к нам пришли, были неупорядочены в наших головах, и наша реакция на этот кризис была неясной и сбивчивой, иначе мы наверняка давно осознали бы, какие громадные проблемы бросают нам вызов. Но если это так, если на то, чтобы разбудить нас, потребовались десятилетия, то вполне вероятно, что мы и сейчас еще не совсем проснулись. Даже сейчас мы, наверное, не осознали весь масштаб той работы, которая нам предстоит. Возможно, нам еще многое надлежит себе уяснить и, безусловно, нам еще многому надо поучиться. Поэтому одна из наших основных и постоянных обязанностей – продолжать мыслить и хорошенько следить за тем, каким способом мы мыслим и каким способом мы получаем и используем полученные знания.
По сути, Открытый Заговор должен стать интеллектуальным перерождением.
Человеческая мысль все еще очень путается от несовершенства слов и символов, которые она использует, и последствия этого спутанного мышления гораздо более серьезны и обширны, чем это обычно осознают. Мы все воспринимаем мир сквозь завесу слов, и только то, что напрямую нас касается, является для нас очевидным фактом. Посредством символов и особенно посредством слов и языка человек поднялся над уровнем обезьяны и обрел господство над вселенной. Но каждый шаг в его интеллектуальном восхождении был связан с путаницей символов и слов, которые он использовал; они были одновременно и полезными, и очень опасными, и вводящими в заблуждение. Многие наши занятия, социальные, политические, интеллектуальные, сегодня находятся в запутанном и опасном состоянии из-за нашего вольного, некритического, неряшливого использования слов.
На протяжении всего позднего Средневековья среди схоластов возникали жаркие споры об использовании слов и символов. Человеческий ум обладает странной склонностью думать, что символы, слова и логические умозаключения более точны, чем непосредственный опыт, и эта горячая полемика была вызвана осознанием данной склонности и попыткой человеческого разума бороться с ней. По одну сторону находились реалисты, которых так называли, потому что они полагали, что имена более реальны, чем факты, а по другую сторону – номиналисты, которые с самого начала были проникнуты подозрением в отношении имен и слов в целом; они полагали, что в словесных процессах может скрываться какая-то западня, и постепенно пришли к идее экспериментальной проверки, ставшей фундаментальной чертой экспериментальной науки – науки, давшей нашему человеческому миру все эти громадные силы и возможности, которые сегодня так нас соблазняют и сулят нам угрозу. Дебаты тех схоластов имели важнейшее значение для человечества. Современный мир не мог родиться прежде, чем человеческий разум порвал с узколобым вербалистическим мышлением, которому следовали реалисты.
Однако на протяжении всего моего обучения мне ни разу не прояснили этот вопрос. Лондонский университет выдал мне диплом с отличием первого класса и наградил меня правом носить элегантную мантию с капюшоном, что, видимо, подразумевало, что я – глубоко образованный молодой человек; Лондонский колледж наставников дал мне и миру самые твердые гарантии того, что я стал в состоянии обучать и тренировать умы моих собратьев, и все же мне еще предстояло обнаружить, что реалист не был тем романистом, который слишком сильно приправил свои книги ароматом сексуальности, но и номиналист не был тем, кто совсем ее недодал. Но, когда в процессе моей работы по биологии я узнал о феномене индивидуальности, а в процессе подготовки на роль идеального наставника – о логике и психологии, мне закралось в голову, что что-то очень важное и существенное было упущено в моем обучении и что я не был настолько хорошо экипирован знаниями, как об этом говорили мои дипломы, так что в последующие несколько лет я выделил время, чтобы довольно тщательно разобраться в этом вопросе. Я не делал чудесных открытий. Все, что я узнавал, уже было мне известно. Тем не менее мне приходилось снова и снова прояснять для себя некоторые вещи, как будто прежде я никогда этого не делал, настолько недоступно было представление о полноценном процессе мышления обычному человеку, который хотел привести свой ум в надлежащее рабочее состояние. И не то чтобы я пропустил какие-то глубокие и тонкие философские изыскания – нет; но фундаментальное мышление, лежащее в основе моего политического и социального поведения, было неверным. Я находился в человеческом сообществе и вместе с этим сообществом грезил о фантомах и фантазиях, как будто они были реальными живыми феноменами, находился в мечтах о нереальном, был слеп, беспорядочен, загипнотизирован, низок и никчемен, шел, спотыкаясь, в этом чрезвычайно прекрасном, но и чрезвычайно опасном мире.
Я решил переобучить себя и, пройдя курс писательского мастерства, отразил это в различных пробных брошюрах, эссе и книгах. Нет необходимости ссылаться здесь на эти книги. Суть вопроса изложена в трех сборниках, к которым я вскоре вернусь. Это «Очерки истории» (гл. XXI, § 6 и гл. XXXIII, § 6), «Наука жизни» (Книга VIII, «Мысль и поведение») и «Труд, богатство и счастье человеческого рода» (гл. II, § § 1–4). В последней работе достаточно ясно показано, как человеку пришлось бороться за господство над своим разумом, как лишь после многих проб и ошибок он обнаружил способ правильного и эффективного использования своего интеллектуального инструмента, и как он должен был научиться не попадать в расставленные там и сям ловушки и западни, прежде чем смог достичь своего нынешнего господства в этом вопросе. Ясное и эффективное мышление не дается от природы. Поиск истины – это искусство. Мы тысячу раз, самым естественным образом, попадаем в ловушки ложных обобщений и умозаключений. Тем не менее сегодня в мире вряд ли где-то существует обучение процессу мышления. Мы должны научиться этому искусству, если мы вообще хотим его практиковать. У наших школьных учителей не было надлежащей подготовки, и они «обучают» других на тех же примерах и заповедях, на которых сами были обучены, вот поэтому-то наша пресса и общественные дискуссии больше похожи на импровизированное восстание искалеченных, глухих и слепых умов, чем на разумный обмен идеями. Что за чушь иной несет! Что за поспешные и опрометчивые предположения! Что за идиотские умозаключения!
