Почему мы ошибаемся? бесплатное чтение
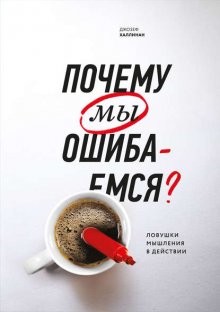
Посвящается Джеку, Кейт, Энн, и особенно Пэм
Посвящается Говарду Гессу – лучшему другу, какого только может иметь человек
Майк убежден, и я с ним согласен, что в определенный момент каждое решение нам кажется уже принятым, но обычно этот момент наступает значительно позже, – как излучаемый звездами свет, видимый нами лишь спустя какое-то время. Выходит, часто мы принимаем решения о важных вещах поспешно, как правило, не располагая всей необходимой для этого информацией. Но впоследствии убеждаем себя в том, что не делали этого, потому что, во-первых, по нашему мнению, это глупо, а мы не желаем, чтобы нас считали глупыми; во-вторых, поступив так, мы проигнорировали собственные жизненно важные потребности, и нам очень не хочется это признавать; в-третьих, приняв решение, но веря в то, что еще его не приняли, мы создаем для самих себя секрет, слишком уж приятный, чтобы его раскрывать. Иными словами, мы обманываем сами себя и радуемся этому.
Ричард Форд The Lay of the Land («Край земли»)
Введение. Почему мы совершаем ошибки?
Ошибки бывают самые разные. Например, возможно, вам стоило в свое время приобрести недвижимость, или не следовало жениться на этой женщине, или не надо было покупать акции компании, цены на которые рухнули, или устраиваться на работу, не приносящую ни малейшего удовлетворения, или стричь самого себя из-за желания сэкономить пару баксов – этот ряд можно продолжать бесконечно, – но вы сделали или не сделали что-нибудь из перечисленного выше, о чем сейчас сожалеете.
Впрочем, это ваши ошибки, а ведь есть еще и ошибки других людей.
Более двадцати лет я проработал репортером, и за это время у меня появилось немного странное хобби – коллекционировать истории об ошибках. Я вырезаю из газет самые любопытные заметки, посвященные этой теме, и складываю их в папку под названием «Ошибки». Рассказ о своей любимой на сегодня ошибке я нашел на тридцать четвертой странице Chicago Sun-Times, издаваемой в моем родном городе. В заметке повествуется о случае, произошедшем несколько лет назад в Южном Уэльсе, в деревне Сент-Брайдс. По сообщению Associated Press, толпа деревенских «блюстителей порядка и морали» напала и разгромила офис известного местного детского врача. Но зачем им понадобилось нападать на него? По данным полиции, казус произошел потому, что люди перепутали значение слов «педиатр» и «педофил». И педиатру Иветт Клоэт пришлось спасаться бегством из собственного дома, расписанного с помощью баллончиков надписями «педо» (сокращение от «педофил»). Позже она дала интервью местной газете. «Я полагаю, что стала жертвой самого обычного невежества», – заявила доктор Клоэт.
90 процентов ошибок вызваны человеческим фактором
Без сомнения, так и есть. И мы с вами тоже жертвы подобных ошибок. Всем известно клише «Человеку свойственно ошибаться». В подавляющем большинстве случаев это утверждение совершенно справедливо. Когда происходит что-то по-настоящему страшное, чаще всего это объясняется человеческой ошибкой: авиакатастрофы – 70 процентов, автокатастрофы – 90 процентов, несчастные случаи – 90 процентов. Назовите практически любую ошибку, и окажется, что в ней виноваты люди. Как только обнаруживается этот факт, дальнейшие расследования обычно прекращаются. А зря – во всяком случае, если мы хотим, чтобы подобное не повторилось.
Кстати, довольно часто человек не виноват в своих ошибках – ну, не в полной мере. Оценивая то, как мы видим, запоминаем и воспринимаем окружающий мир, можно утверждать, что мы все склонны искажать действительность, что и заставляет нас совершать ошибки конкретного типа. Например, правша, войдя в здание, в котором он прежде ни разу не был, склонен решительно поворачивать направо, хотя, вполне возможно, это не оптимальный маршрут. Кроме того, большинство из нас – как левши, так и правши – по какой-то необъяснимой причине отдают предпочтение номеру семь и синему цвету. А еще мы находимся под таким мощным гипнозом своих исходных решений и первых впечатлений, что, как правило, отказываемся менять первоначальный ответ в тесте даже несмотря на то, что, согласно целому ряду исследований, чаще всего это и следует делать.
Наши ожидания нередко формируют видение мира, а зачастую и определяют наши действия и поступки. Например, в рамках одного исследования разным группам людей по-разному представили одного и того же мужчину. Затем участников эксперимента попросили вспомнить, как он выглядел. Так вот, те, кому сказали, что он водитель грузовика, описали его как довольно крупного парня; а те, кому сообщили, что он танцор, вспомнили, что мужчина был изящного телосложения.
Или вот еще один случай. Половине посетителей ресторана сказали, что в их бокалы, в подарок от заведения, налито превосходное калифорнийское вино, а второй половине – что их угостили ординарным вином из Северной Дакоты. Люди, выпившие это вино, не только в тот вечер меньше съели, но еще и ушли из ресторана раньше тех, кому достался изысканный напиток.
К предвзятости склонны даже те, кого принято считать спокойными и даже флегматичными людьми, например фермеры. Оказалось, представители этой профессии – приверженцы теории глобального изменения климата считают, что погода была теплее, чем фактически зарегистрированная синоптиками. А что же те, кто не верит в глобальное потепление? Эти фермеры убеждены, что температура была ниже зарегистрированной синоптической статистикой.
Разумеется, мы вовсе не склонны считать, будто все дальнобойщики крупнее танцоров, и совершенно не обязательно запоминать погоду (если только вы не любитель заключать пари по любому поводу). Важно, что мы проявляем предвзятость в основном неосознанно, но не понимаем этого. Эта тенденция настолько сильна, что даже зная о своем предубеждении, мы ничего не можем с собой поделать. Наглядный пример из жизни – сила первого впечатления. Почти восемьдесят лет специальных исследований доказали, что, меняя первоначальное решение, люди намного чаще меняют неправильный ответ на правильный, чем наоборот, и что общий результат тестов, соответственно, изменяется в лучшую сторону. Проведя всеобъемлющий анализ результатов тридцати трех подобных исследований, ученые выявили, что в среднем абсолютно все те, кто решался изменить первоначальный ответ, сдали тест лучше. Но любопытно другое: даже когда люди знают о подобной тенденции, они склонны упрямо придерживаться первоначальных вариантов ответов. Кстати, это относится и к инвесторам, принимающим решения о том, в какие ценные бумаги вложить деньги. Узнав об ошибочности своего первоначального выбора, в 70 процентах случаев они отказываются что-либо менять.
Ошибки «хорошие» и «плохие»
Судя по всему, предвзятость и искажения подобного рода коренятся глубоко в нашем сознании. Многие качества, позволяющие человеку хорошо делать самые разные вещи, имеют обратную сторону, изначально предрасполагая нас к ошибкам. Например, нам обычно прекрасно удается оценивать текущую ситуацию. Иногда достаточно секунды, а то и доли секунды, чтобы, мельком взглянув на ту или иную сцену, оценить ее истинный смысл и значение. Но за такой скоропалительный анализ мы платим весьма высокую цену, упуская из виду множество существенных деталей. И главное – мы даже не подозреваем о том, что что-то упустили, нам-то кажется, что мы увидели все. Однако это не так. Наглядный пример предлагает нам кино. Фильмы, как известно, снимаются на пленку и состоят из длинного ряда отдельных кадров, проецирующихся на экран со скоростью двадцать четыре кадра в секунду. Когда лента прокручивается, мы видим на экране уже не отдельные неподвижные картинки, а движущиеся изображения. Это, конечно же, «хорошая» ошибка; мы не возражаем против того, чтобы так ошибаться; по сути, нам это даже нравится. Но, если подобная ошибка зрения совершается врачом-онкологом, рассматривающим рентгеновские снимки пациента в поисках опухоли, или таможенником в аэропорту, выявляющим запрещенные предметы в багаже пассажиров, она приводит к губительным последствиям. И, как мы с вами еще убедимся, эти специалисты тоже упускают довольно многое из того, что должны искать и находить.
Окружающий мир нам не помощник
Наше представление о реальности связано с окружающим миром совсем не так надежно, как нам кажется. При этом в нашем сознании мир функционирует так, словно эта связь достаточно адекватная. Так, например, современному человеку требуется помнить множество всевозможных паролей, PIN-кодов и имен пользователей. А между тем человеческая память фиксирует такую информацию очень плохо. Как показало одно исследование в этой области, 30 процентов людей забывают свои пароли уже через неделю, а по истечении трех месяцев эта цифра составляет более 65 процентов.
Кроме того, мы все живем на пределе человеческих возможностей, поскольку современный образ жизни требует от нас навыков многозадачности, хотя количество дел, которые человек способен выполнять одновременно, весьма ограничено. Точное их число частично зависит от того, чем именно нам приходится заниматься. В общем и целом особенности человеческой памяти таковы, что бессмысленно требовать от нас одновременно запомнить более пяти не связанных между собой вещей. А теперь подумайте, сколько всего – например, только того, что касается автомобиля, – вам надо держать в голове? Как управлять системой навигации? Системой круиз-контроля? Устройством автоматического слежения и предупреждения о столкновении? Прибором, предупреждающим о «слепой зоне»? Камерой заднего вида? Развлекательной системой для детей? MP3-плеером? Сотовым телефоном? Современные автомобили оборудованы множеством гаджетов и систем, управление которыми нередко лишь способствует созданию аварийных ситуаций, поскольку постоянно отвлекает водителя от дороги. А кого потом винят в аварии, вас или машину?
Неправильное определение виновного как раз и объясняет, почему мы снова и снова наступаем на старые грабли. Мы редко учимся на своих ошибках, потому что часто их причиной считаем не то, что есть на самом деле. Когда что-то идет не так, особенно в по-настоящему большом и важном деле, у нас возникает естественное желание как можно скорее переложить вину за это на кого-нибудь другого. Но выяснить, кого или что следует обвинять, не всегда просто. Действительно важные, серьезные ошибки расследуют и анализируют специалисты, от которых ожидают абсолютной беспристрастности и объективности. Однако им тоже свойственна специфическая предвзятость: они знают, что произошло, поэтому их восприятие того, почему это случилось, нередко весьма и весьма существенно меняется. Психологи называют этот эффект «склонностью к запоздалым суждениям», или, по-научному, «ошибочностью ретроспективного детерминизма». Суть этого явления заключается в том, что постфактум вероятность события кажется нам более очевидной и предсказуемой, чем есть на самом деле.
Вот поэтому-то многие ошибки по прошествии времени кажутся нам на редкость глупыми и невозможными («Ты что, опять захлопнул дверь снаружи?!»). И по этой же причине мы зачастую бестолково подходим к их исправлению. Если «многофункциональный водитель» разбивает машину из-за того, что возился на ходу с GPS на приборной панели, в аварии обвиняют его. А между тем, чтобы минимизировать вероятность подобного исхода в будущем, нужно решать проблему не с водителем, а с переоснащением автомобиля.
О причинах всевозможных ошибок сегодня многое известно благодаря исследованиям, проводившимся в областях, в которых ошибки стоят огромных денег, а то и жизни, например в медицине, военном деле, авиации и, конечно же, на финансовых рынках. Когда дела в них идут не так, как надо, у специалистов появляется мощный стимул искать причины проблем. И то, что они выясняют о своих оплошностях, часто способно нам многое подсказать в отношении наших собственных. Эта мысль осенила меня, когда я готовил статью, посвященную работе анестезиологов, для Wall Street Journal. Надо отметить, что благодаря техническому прогрессу в последние годы ситуация в этой области медицины резко улучшилась. Однако на протяжении довольно долгого времени врачи данной специализации пользовались поистине дурной репутацией. Их пациенты часто умирали страшной смертью. Одни задыхались, лежа на операционном столе, оттого что заскучавший во время многочасовой операции анестезиолог не заметил отсоединившейся дыхательной трубки; другие вдыхали смертельную окись углерода, ядовитый побочный продукт, образующийся при реакции некоторых препаратов. Кроме этих двух страшных причин, вспомним, что многие химические вещества, используемые для наркоза, взрывоопасны. Чтобы снизить риск возгорания от искры статического электричества, хирурги носят обувь на резиновой подошве и кладут в карман халата металлические бруски для заземления. И все равно время от времени – бум! – пациент и врач взрываются.
Такое печальное положение дел сохранялось вплоть до начала 1980-х, когда стремительный рост случаев преступной халатности и последовавшая за этим огласка (ABC News выпустила в эфир ряд ошеломительных изобличающих материалов) вынудили общество принять решительные меры. Перед сообществом анестезиологов во главе с замечательным доктором Эллисоном «Джипом» Пирсом-младшим встала серьезнейшая дилемма: либо признать свою вину, либо попытаться устранить проблемы, породившие столь незавидную ситуацию в отрасли. Анестезиологи выбрали второй путь.
Некоторые принятые меры, по крайней мере в ретроспективе, кажутся простыми и очевидными. В частности, оборудование для американских анестезиологов долгое время поставляли две компании. Если вам любопытно, это Ford и GM. Их модели были практически одинаковыми, за исключением одной важной детали: на оборудовании Ford клапан подачи наркоза открывался по часовой стрелке, а на приборах GM – против. Иногда анестезиологи, забыв, с какой моделью работают, поворачивали клапан не в ту сторону. Для устранения этой проблемы требовалось всего лишь стандартизировать оборудование, чтобы клапан всегда поворачивался только в одну сторону.
Другие меры были не такими простыми. Например, анестезиологи позаимствовали – в буквальном смысле слова – у пилотов и начали использовать карты контрольных проверок как гарантию, что специалист не забудет о важнейших процедурах. А еще они приступили к целенаправленной работе по изменению отношения медицинского персонала к своей работе. Для начала решили искоренить идеи о враче-всезнайке: медсестер и других специалистов призывали в случае необходимости открыто говорить, что врач, в частности анестезиолог, ошибся или делает что-то не так. Психологи, изучающие природу ошибок, называют данный метод «сглаживание градиента авторитета», и, как показала практика, он позволяет весьма существенно уменьшить число ошибок в той или иной области деятельности. В целом все принятые меры вынуждали анестезиологов признать некоторую ограниченность своих возможностей и сделать то, что, по сути, доступно многим, – начать реорганизацию своей рабочей среды с учетом этих ограничений.
Эти усилия принесли поистине потрясающие плоды. За два последних десятилетия смертность пациентов вследствие ошибок анестезиологов снизилась более чем в сорок раз – с одного случая на каждые пять тысяч больных до одного на 200-300 тысяч прооперированных. Показатель преступной халатности в анестезиологии тоже резко упал, хотя среди врачей других специальностей он, к сожалению, продолжает расти.
«Все это очень хорошо, – скажете вы. – Но какое отношение это имеет ко мне? Мне-то не требуется хирургическое вмешательство». Думаю, имеет, и немалое.
Осведомленность решает все
Узнав, как анестезиологи изменили положение дел в своей отрасли, я начал понимать, что между их и нашими ошибками можно провести параллель. Подобно этим специалистам, многие из нас сегодня живут и трудятся в среде, искривленной в тысячах мелочей, что, несомненно, повышает вероятность совершения ошибки. Чтобы убедиться в этом, просто прогуляйтесь по продуктовому магазину в своем районе и обратите внимание на цены, указанные на товарах. Что, например, написано на банках с консервированными персиками – двадцать пять центов за штуку или четыре банки за один доллар? Если второе, знайте, что вами тонко манипулируют, обманным путем заставляя покупать больше консервов, хотя вам, скорее всего, столько не нужно. Согласно результатам маркетинговых исследований, когда цены устанавливаются сразу на несколько единиц товара (четыре за доллар), а не отдельную единицу (одна банка за двадцать пять центов), продажи возрастают на 32 процента.
Покупая больше персиков, чем нужно, мы, конечно, совершаем не такую уж дорогостоящую ошибку, но этот факт весьма красноречив сам по себе. Без вашего ведома, обманным путем от вас добиваются того, чтобы, принимая решение о покупке, вы основывали его на первой цене. И самое важное, этот эффект действует не только в малом – как в случае с персиками, – но, как вы убедитесь, и во время принятия более серьезных решений, например при покупке дома.
Далее мы поговорим о множестве подобных ошибок, скажем, о не слишком разумном выборе программы членства в клубе здоровья или клюшки для гольфа в специализированном магазине. Но что же вообще считать ошибкой? Определим этот термин в широком смысле, как в словаре.
Ошибка – (сущ.)
1. Непонимание истинного смысла или значения.
2. Неправильное действие, поступок или высказывание, базирующиеся на неверном суждении, недостаточном знании или невнимательности[1].
Затем обсудим, например, почему вы почти никогда не забываете лица человека, но часто не можете вспомнить его имя, а также проанализируем типичные ошибки мужчин и женщин (они, как вы, наверное, догадываетесь, отличаются). А еще рассмотрим некоторые маленькие раздражающие бытовые неприятности – скажем, почему иногда никак не получается найти в собственном холодильнике пиво? Мы узнаем, как эти тенденции используют в своих интересах разные корпорации, предлагая заманчивые ставки по кредитным картам или скидки, которыми, как им известно, мы никогда не воспользуемся.
Мы также обсудим, как сократить число ошибок. На стопроцентную защиту от глупости рассчитывать, конечно, не приходится. Многие ментальные схемы, приводящие к ошибкам, настолько глубоко укоренились в нашем сознании, что выявить их крайне сложно, как и избавиться от них. Оказывается, чрезвычайно трудно забыть или научиться игнорировать информацию, даже если она стопроцентно неверна и не стоит обращать на нее никакого внимания. Касается это буквально всего – не только переговоров, где на кону стоят миллионы долларов, но и рутинных дел, от выбора недвижимости до покупки презервативов (правда-правда!).
Между тем, приняв самые простые меры, можно в корне изменить ситуацию. Как в случае анестезиологов, многие решения могут показаться вам слишком уж очевидными. Например, прежде чем сделать выбор, следует хорошенько отдохнуть – хотя, возможно, по совсем иным причинам, нежели те, о которых вы сейчас подумали. Ученые доказали, что, не выспавшись, люди склонны действовать опрометчиво и авантюрно (этим, кстати, можно отчасти объяснить и то, что казино работают круглые сутки). А еще в момент принятия решения полезно находиться в хорошем расположении духа. По мнению ученых, это способствует четкому мышлению и гибкости при решении задач, причем не только в таких зависящих от эмоций людей сферах деятельности, как маркетинг и реклама, но и в таких серьезных, как, скажем, медицина. А еще – хотите верьте, хотите нет – помогает отсутствие излишнего оптимизма. Дело в том, что для большинства людей характерна чрезмерная самонадеянность, которая и становится главной причиной человеческих ошибок.
Невероятно важно понимать роль контекста, особенно когда дело касается воспоминаний. Оказывается, наша память часто работает по принципу реконструкции. Иными словами, вспомнить что-либо – лицо, имя, список неотложных дел – намного проще в том же эмоциональном состоянии, в каком вы запоминали эти данные. В одном классическом эксперименте на группу студентов надели акваланги и попросили заучить перечень слов под водой; другие студенты в это же время учили те же слова на суше. Как вы, наверное, уже поняли, потом члены первой группы лучше вспомнили заученное, погрузившись под воду; а те, кто запоминал слова на суше, вспомнили больше, находясь на земле. То же самое относится и к любителям выпить: те, кто запоминал информацию, будучи навеселе, быстрее и точнее вспоминали ее, если их опрашивали в тот момент, когда они снова были под хмельком.
Конечно, мало кому из нас, чтобы лучше что-то запомнить, захочется лезть под воду; и если жизнь хоть чему-то учит, еще меньше людей станут заучивать что-нибудь под мухой (хотя, уверен, попробуют многие). Но выявленные в результате этих экспериментов основные принципы запоминания действительно применимы в повседневной жизни. Например, ученые доказали, что школьники намного подробнее вспомнят урок, проведенный в парке, если учитель спросит о нем в том же месте (тем самым будет восстановлен контекст), а не в классе. Попробуйте провести этот эксперимент со своими детьми и убедитесь на собственном опыте.
Многие ошибки возникают по причине именно таких на первый взгляд совершенно незаметных факторов. И я предлагаю отныне относиться к этому как к проблеме, которую можно нивелировать, но полностью устранить нельзя. Как при заболевании коленного сустава, которым страдают многие люди, если они приучаются ходить определенным образом, колено не болит или по крайней мере болит меньше и не так часто. Я очень надеюсь, что благодаря этой книге мы с вами научимся ходить так, чтобы умерить боль. Понимание, что мы делаем правильно, а что неправильно, позволит нам чаще поступать первым образом и реже вторым. Нам всем, как и людям из деревни Сент-Брайдс, не повредит научиться лучше понимать природу своих ошибок.
Глава 1. Мы смотрим, но не всегда видим
В бар заходит человек. Его зовут Берт Рейнольдс[2]. Да-да, сам Берт Рейнольдс. Он еще только в начале своей славной карьеры, и пока его никто знает, в том числе и молодой человек с огромными, широкими плечами, сидящий в дальнем конце бара.
Рейнольдс усаживается через два табурета от громилы и потягивает пиво и томатный сок. Вдруг ни с того ни с сего парень начинает задирать мужчину с женщиной за соседним столиком. Рейнольдс советует задире следить за языком. И нахал с огромными плечами переключается на него. Впрочем, чтобы не портить рассказ о происшествии пересказом, предлагаю услышать его от самого Берта Рейнольдса, поведавшего эту историю много лет назад в одном из интервью журналу Playboy.
Помню, что взглянул вниз и уперся правой ногой в латунную перекладину стула для лучшей устойчивости, а уже в следующую секунду, повернувшись, встретил его мощным хуком справа. Раздался ужасающий звук удара, и парень, просто слетев со стула, шмякнулся на спину в дверном проеме, метрах в пяти от места, где сидел. И только в середине его полета я увидел, что у него нет обеих ног.
Позже, уже уходя из бара, Рейнольдс заметил инвалидное кресло, в сложенном виде прислоненное к двери.
Вырубить в баре безногого бедолагу, конечно, неприятность, каких еще поискать. Но для целей нашего обсуждения важной частью истории являются вовсе не ноги, а глаза. Хоть Рейнольдс и смотрел прямо на забияку, он не увидел того, что должен был увидеть. Среди человеческих ошибок эта настолько распространена, что ученые и исследователи даже нарекли ее ошибкой «смотрел, но не видел». Когда человек смотрит на что-то или кого-то, ему кажется, что он видит все, что можно увидеть. Однако это не так. Мы часто упускаем из виду важные детали вроде отсутствующих ног и инвалидной коляски, а иногда и гораздо более масштабные вещи, например двери или мосты.
Мы видим лишь малую долю того, что, как нам кажется, видим
Чтобы понять, почему так происходит, полезно немного больше узнать о том, как работает зрение. Глаз – не камера. Он не рисует общую картину событий и не видит всего сразу. Поле зрения, охватываемое глазом человека в конкретный момент, – лишь малый фрагмент общей картины. При нормальном угле обзора площадь ясного видения составляет приблизительно четверть от общего пейзажа. Орган зрения справляется с этим ограничением, постоянно мечась туда-сюда; глаз движется и останавливается примерно по три раза в секунду. Но то, что при этом глаз видит, зависит от того, кто смотрит. Например, доказано, что мужчины и женщины замечают разные вещи. В ходе одного эксперимента вор мужского пола стащил у женщины кошелек. Так вот, наблюдавшие эту сцену женщины, как правило, обращали внимание на внешний вид и действия жертвы, а мужчины намного точнее и подробнее описывали вора.
Правши, оказывается, точнее левшей запоминают расположение увиденных ими конкретных предметов. Много лет назад, после того как по ночному небу совершила свой впечатляющий полет комета Хейла – Боппа, английские исследователи попросили левшей и правшей, наблюдавших за этим явлением, вспомнить, в каком направлении двигалось небесное тело. И правши значительно чаще левшей вспоминали, что оно летело справа налево. Кстати, леворукость и праворукость в значительной мере определяют и ваши предпочтения при выборе направления. Когда человеку надо решить, в какую сторону свернуть на перекрестке, правши – по крайней мере правши-американцы, – предпочитают сделать поворот направо, а левши чаще поворачивают налево. Учитывая, что левшей на свете меньше, автор одного похожего исследования рекомендует «в поиске самой короткой очереди в магазине, банке или любом другом месте сначала смотреть налево».
Спокойный глаз специалиста
В сущности, на то, что вы видите, влияет не только то, мужчина вы или женщина, правша или левша, но и то, чем вы занимаетесь в жизни. Исследователи выяснили, что люди часто воспринимают одну и ту же сцену по-разному. Предположим, вы игрок в гольф. Или, еще лучше, отличный гольфист. Но ваш приятель играет не так хорошо. Вы только что выложили мяч для первого удара, он прошел через фарвей, и теперь настало время для удара клюшкой. Как думаете, вы и ваш приятель смотрите на мяч одинаковым взглядом?
Скорее всего, нет.
Почему? Потому что эксперты и новички, как правило, смотрят на вещи по-разному, что можно объяснить явлением, которое ученые называют «периодом спокойного глаза». Это количество времени, необходимое для того, чтобы точно запрограммировать двигательные реакции, – период между последним взглядом на цель и первой реакцией нервной системы. Исследователи выявили особенности этого явления в целом ряде видов спорта, начиная со штрафных бросков в баскетболе и заканчивая стрельбой из винтовок на Олимпийских играх, и сделали вполне обоснованный вывод: «период спокойного глаза» у мастера длиннее, чем у начинающего.
В последние несколько секунд перед ударом опытный гольфист обычно долго смотрит на мяч, крайне редко переводя взгляд на клюшку или другой предмет. Менее же квалифицированные игроки в гольф не слишком долго смотрят на мяч и то и дело переводят взгляд на клюшку. А ведь отличное зрение в гольфе имеет огромное значение; многие лучшие игроки мира, в том числе Тайгер Вудс и как минимум семеро победителей флагманского тура PGA, сделали специальную операцию по лазерной коррекции зрения до показателя 20/15. Это значит, что они отчетливо видят с расстояния семи метров то, что люди с типичным коэффициентом 20/20 четко улавливают только с пяти метров. А гигант-производитель спортивной одежды и инвентаря Nike даже разработал новую клюшку для гольфа под названием IC, дизайн которой призван нивелировать отвлекающие визуальные факторы. Ручка и черенок клюшки (стоимостью 140 долларов) зеленого цвета, чтобы сливаться с травой и меньше отвлекать внимание игрока, а передний край крюка и Т-образный изгиб ослепительно белые, что помогает гольфисту сконцентрировать взгляд именно на той части клюшки, которая контактирует при ударе с мячом.
Мы замечаем то, что нам надо знать
Даже люди с идеальным зрением подвержены хоть и мимолетным, но все равно поразительным приступам слепоты. Одна из самых любопытных ее форм, слепота к изменениям, возникает тогда, когда человек не замечает крупных изменений в поле зрения из-за кратковременного прерывания зрительного контакта – даже такого кратковременного, как обычное моргание.
Мощный эффект такой слепоты десять лет назад наглядно продемонстрировал озорной эксперимент Дэниела Саймонса и Дэниела Левина, в то время исследователей Корнельского университета. Эксперимент был прост: чужаки на территории университетского колледжа просили проходящих мимо студентов сказать, как им попасть в нужное место. Как вы, наверное, догадываетесь, этим дело не ограничивалось. Пока «чужак» разговаривал с «обитателем здешних мест», между ними довольно бесцеремонно проходили двое мужчин, несущих огромную дверь. Перерыв в беседе длился всего пару секунд, но за это короткое время происходило нечто очень важное. Один из мужчин, несущих дверь, менялся местами с «чужаком». А когда дверь проносили, студент оказывался лицом к лицу уже с совсем другим собеседником, который как ни в чем не бывало продолжал разговор. И как вы думаете, все ли это замечали?
Далеко не все. Подмену заметили только семеро из пятнадцати участников эксперимента.
Ошибки в кино
Возможно, сейчас вы подумали: «Ну, я-то, конечно, сразу бы заметил подмену». Очень может быть. Но учтите, скорее всего, вы уже видели бесчисленное множество подобных изменений, однако не замечали их. Где? В фильмах. Общеизвестно, что сцены в кинолентах снимаются не по ходу сюжета, то есть совсем не в том порядке, в каком они идут в фильме, и зачастую съемки идущих подряд сцен разделяют месяцы, а то и годы. Это нередко приводит к досадным оплошностям, в среде киношников называемым ошибками последовательности, или попросту киноляпами.
Ошибки последовательности издавна терзают киноиндустрию. Яркий пример – голливудская эпическая лента «Бен-Гур». Фильм был снят в 1959 году (главную роль в нем исполнял ныне покойный Чарлтон Хестон). Кинокартина получила одиннадцать «Оскаров» – больше, чем любой другой фильм за всю историю существования этой престижной премии, в том числе награду за лучший фильм. Но и в нем имеется целый ряд киноляпов, особенно в знаменитой сцене с колесницами, на съемки которой ушло целых три месяца, хотя длилась она всего одиннадцать минут. Например, в эпизоде гонок на колесницах Мессала повреждает колесницу Бен-Гура пилообразными ступицами своих колес. Но в конце гонки, если присмотреться внимательно, видно, что колесница героя цела-целехонька! Или взять хоть путаницу с числом колесниц. В начале гонки в ней участвуют девять колесниц. Шесть из них разбиваются. Значит, должно остаться три. А на финише их четыре.
В Голливуде даже есть специалисты, которые, как предполагается, должны выявлять киноляпы. Официально их называют редакторами постановочного сценария или помощниками режиссера по сценарию (чаще помощницами, так как традиционно эту работу выполняют женщины). Но даже они не способны отыскать все ошибки.
«Это просто выше человеческих сил», – утверждает Клэр Хьюитт, которая была помощницей режиссера по сценарию в самых разных фильмах, от документальных, короткометражных до полнометражных и даже кинолент в жанре экшен с элементами кунг-фу. По ее словам, самое большее, что можно сделать с той или иной сценой, – попытаться отследить наиболее важные моменты. Но даже это сделать очень сложно.
Самый запоминающийся киноляп Клэр не заметила в своем втором фильме. Это была короткометражная лента о мужчине и женщине, которые жили по соседству в огромном многоквартирном доме. Создатели фильма схитрили, решив снимать актеров не в двух квартирах, а в одной. Для этого приходилось делать косметический ремонт, чтобы в разных эпизодах помещения выглядели по-разному, как жилище мужчины или женщины. Зато подобная хитрость позволяла сэкономить.
Ошибка, о которой вспоминает Хьюитт, происходит в ключевой сцене фильма – встрече героев. «Зритель видит героиню. Она стоит, прислонившись к двери, и прислушивается к звукам, пытаясь определить, в коридоре ли он. А потом выходит… – рассказывает Клэр. – Но дверь открывается не в ту сторону!»
Сама Хьюитт этого киноляпа не заметила; на него ей указал приятель ее матери. «Люди просто обожают нас подлавливать», – признается Клэр. И это чистая правда. Сегодня деятельность многих сайтов посвящена историям об ошибках последовательности. (Один из самых популярных – британский moviemistakes.com; им управляет Йон Сэндис. Этот человек коллекционирует и каталогизирует киноляпы с семнадцати лет.) Рассказ Хьюитт позволяет нам извлечь один весьма важный урок: ошибки, очевидные другим людям, зачастую остаются невидимыми для тех, кто изо всех сил старается их выявить.
Легко не заметить несоответствие в незначительных деталях, например в какую сторону открывается дверь в эпизоде фильма. Но это мелочи. Кого они волнуют? А как же обстоит дело с изменениями в более важных вещах? Именно это и вознамерились узнать исследователи Левин и Саймонс, решив снять собственный фильм. Согласно замыслу, они не просто изменили декорации, а подменили актеров. В каждом эпизоде один актер заменялся другим. Например, в одном актер проходил через пустой класс и садился на стул. Затем ракурс камеры менялся, изображение прерывалось крупным планом, и уже начатое действие завершал другой актер. А потом фильмы показали сорока студентам. И только треть из них заметила подмену.
Мы видим то, что нам близко
Глядя на что-то, мы интуитивно чувствуем, что способны рассмотреть все до мельчайших деталей, и абсолютно уверены, что сразу заметим любую подмену. Именно это, по словам Саймонса, и делает слепоту к изменениям невероятно интересной для изучения проблемой. «Люди убеждены, что неожиданное изменение автоматически привлечет их внимание, следовательно, они его непременно заметят». Например, в рамках описанного выше эксперимента с дверью ученые опросили группу из пятидесяти студентов. Рассказав о сути эксперимента, исследователи попросили поднять руку тех, кто уверен, что обязательно заметил бы подмену. Руки подняли все пятьдесят человек.
Глаз человека, утверждает Саймонс, имеет высокое разрешение только под углом два градуса. Это совсем немного. Если, держа кулак на вытянутой руке, выставить большой палец, его ширина будет примерно два градуса. Для сравнения наложите свой палец на экран в кинотеатре и получите вполне полное представление о том, какую малую его часть мы видим абсолютно четко. За этой зоной все размыто – чем дальше, тем больше. Конечно, некоторые детали мы улавливаем благодаря периферийному зрению. Именно поэтому зрелищные фильмы вроде «Марша пингвинов»[3] пользуются особой популярностью при просмотре на широкоформатных экранах, например в кинотеатрах IMAX. Однако, по словам Саймонса, все, что мы видим посредством периферических органов зрения, представляет собой размытую, несфокусированную картину. «Мельчайших деталей вы так не заметите».
Надо сказать, замечаемые нами детали в определенной степени зависят от того, кто мы и как себя характеризуем. Например, в результате эксперимента с дверью Саймонс и Левин обнаружили, что у всех семерых участников, заметивших подмену собеседника, было нечто общее: все они были примерно одного возраста с человеком, с которым разговаривали до подмены. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Социальные психологи давно доказали, что к членам своей социальной группы мы относимся несколько иначе, чем к представителям других групп. Чернокожие люди, общаясь с белыми (и наоборот), нередко ведут себя не так, как с представителями своей расы; то же самое касается богатых и бедных, старых и молодых, мужчин и женщин. Саймонса и Левина заинтересовало, распространяется ли этот феномен и на то, как мы видим непохожих на нас людей.
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи повторили эксперимент с дверью, задействовав тех же людей, что и первоначально. Только на этот раз незнакомцы были одеты не в обычную одежду, которую носят студенты, а в спецодежду для строителей, с касками на головах. И проходили они мимо людей приблизительно своего возраста. В общей сложности «строителей» увидели двенадцать студентов. Из них только четверо заметили подмену после пронесенной мимо них двери. Переодевания участников эксперимента в рабочую одежду оказалось достаточно, чтобы изменить то, как их видели студенты. Теперь они не узнавали в них своих, а воспринимали как членов другой, чуждой им группы.
Одна из девушек, не заметившая подмены, в опросе, проведенном после эксперимента, заявила, что видела только строителя, а человека не заметила; то есть она быстро классифицировала его, отнеся к группе строителей, и не обратила никакого внимания на детали: волосы, глаза, улыбку и прочие особенности внешности, которые позволили бы увидеть в нем конкретного человека, личность. Вместо этого студентка ограничилась репрезентацией конкретной категории – стереотипом. В ходе этого процесса она подменила реальные визуальные детали сцены общим, абстрактным пониманием ее смысла, или, так сказать, «сняла сливки».
Как мы с вами еще убедимся, люди поступают так довольно часто. И для многих из нас такого «снятия сливок» вполне достаточно, по крайней мере в большинстве жизненных ситуаций. Когда мы проходим по улице мимо строителя, нам обычно незачем изучать его лицо. В конце концов, нам не нужно знать, кто этот человек; хватит и общего представления о нем. И хорошо бы, каждый раз мы делали это осознанно. Но, к сожалению, мы твердо убеждены, что заметили то, что на самом деле упустили. Мы просто не понимаем, что только «снимаем сливки» с увиденного.
Правда нам не по зубам
Даже зная о подверженности визуальным ошибкам, таким как слепота к изменениям, мы не способны предотвратить их последствия; мы по-прежнему уязвимы. Чтобы убедиться в этом, предлагаю попробовать такой метод. Взгляните на столешницы двух столов на рисунке. Какая из них больше?
По правде говоря, они одинаковые. Как ни трудно в это поверить, левая столешница по форме и размеру абсолютно равна правой. Можете проверить, вырезав из бумаги точные копии и наложив их друг на друга[4]. Любопытно, что, даже зная, что это иллюзия, мы не можем соответствующим образом откорректировать мнение об увиденном. Сколько бы раз мы ни смотрели на рисунок, нам все равно будет казаться, что столешницы разные.
Трюк со столешницами придумал известный профессор Стэнфордского университета Роджер Шепард. Шутник с детства (однажды он тайком вывез всю мебель из комнаты сестры), Шепард давно и с огромным удовольствием использует визуальные трюки для подтверждения вполне серьезных идей. Например, его анимированная иллюстрация (она называется «Верчение столов»[5]) призвана наглядно продемонстрировать не только то, что восприятие обусловлено особенностями нервной системы, но и что функционирует оно абсолютно автоматически. Вследствие чего мы не способны по собственному желанию увидеть рисунок таким, каков он есть – просто линиями на плоском листе бумаги. Вместо этого при нужных условиях расположение этих линий автоматически запускает в нашем мозгу цепи, выдающие трехмерную интерпретацию рисунка. И что еще важнее, данный эффект остается нами незамеченным. Пока человеку не скажут, что две, казалось бы, совершенно разные по форме столешницы идентичны, у него нет никаких причин подозревать, что его вывод неверен. Иными словами, мы совершаем ошибку, не осознавая этого.
Мы видим то, что ожидаем увидеть: где же пиво?
И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание: то, что мы видим, частично зависит и от того, что мы хотим увидеть. По большому счету мы видим то, что ожидаем увидеть. То, что люди привыкли видеть, они обычно замечают, и наоборот.
«Если вы не сталкиваетесь с чем-то часто, то вполне можете этого не заметить», – утверждает Джереми Вольф, профессор офтальмологии из Гарвардской медицинской школы.
Доктор Вольф специализируется на изучении проблем визуального поиска. Ученые, работающие в этой области, давно пытаются ответить на вопрос, сформулированный в задаче под названием «Пиво в холодильнике, или Как люди находят то, что ищут?». Ответить на него не так просто, как может показаться на первый взгляд. Допустим, вы ищете пиво на конкретной полке холодильника, потому что знаете, что оно всегда стоит именно там. Но что если кто-нибудь его переставил, чтобы освободить место для других продуктов? Тогда вы ведете поиск, скажем, по форме бутылки или банки. Но другие предметы в холодильнике могут иметь такую же форму – например, банка колы довольно сильно похожа на банку Budweiser. И так на поиск нужного напитка у вас может уйти масса времени.
Мы запрограммированы на то, чтобы бросить трудное дело
Оказывается, видеть – это очень тяжелая работа. Большинству из нас трудно понять, насколько она сложна. Для тех, кто всегда был зрячим, видеть окружающий мир – совершенно естественно: просто открываешь глаза – и вот он перед тобой. Но для тех, кто какое-то время побыл слепым, вновь научиться видеть чрезвычайно трудно.
Накануне Второй мировой войны немецкий исследователь Мариус фон Зенден собрал и опубликовал отчеты о почти сотне людей, ослепших из-за катаракты и прозревших в результате хирургической операции. Так вот, для многих из них опыт повторного обучения видеть оказался поистине мучительным. Один мужчина, прогуливаясь по улицам Лондона, «до такой степени путался в том, что видит, что переставал видеть вообще», сообщает фон Зенден. Другой совсем не мог оценить дистанцию. «Он снимал ботинок и бросал его на некоторое расстояние, чтобы оценить, как далеко тот лежит; затем делал несколько шагов по направлению к ботинку и пытался его поднять. Когда у него не получалось, мужчина делал еще пару шагов вперед, пока наконец не нащупывал и не поднимал ботинок». А одному мальчику обучение давалось настолько тяжело, что он угрожал родным выцарапать себе глаза. Растерянные и подавленные, многие из обретших зрение пациентов просто прекращали попытки вновь научиться видеть.
Нечто подобное происходит с людьми, когда они ищут то, что видят редко. Не так давно доктор Вольф с коллегами из Visual Attention Lab и бостонской Brigham and Women’s Hospital провел эксперимент, в ходе которого добровольцев просили посмотреть на тысячи изображений. Каждая картинка располагалась на фоне, плотно заполненном другими изображениями («холодильник»). После чего участники эксперимента должны были ответить, видели ли они там тот или иной инструмент, скажем гаечный ключ или молоток («пиво»).
Так вот, когда инструмент встречался, и встречался часто – что было правдой в половине случаев, – добровольцы отвечали в основном правильно. Ошиблись только 7 процентов участников. Если же инструмент встречался редко, только в одном из ста изображений, эффективность ответов резко снижалась. Частота ошибок подскочила до 30 процентов.
Почему? Потому что участники эксперимента сдались. Доктор Вольф наглядно продемонстрировал существование некоего «порога отказа», или, иными словами, количества времени, в течение которого человек будет продолжать искать нужный зрительный образ, прежде чем бросит это безнадежное дело. Обычно наблюдатель притормаживает, совершив ошибку, и ускоряется, добившись успеха. Поскольку люди, которые ищут объект, встречающийся им редко, почти во всех случаях могут сказать, что его не было, не боясь при этом ошибиться, они, как правило, ускоряются, приближаясь к тому, чтобы отказаться от задачи увидеть. Проходит совсем немного времени, и они, как персонаж известного мультфильма «Флинстоуны» Фред Флинстоун, уходят из каменоломни, изрекая коронную фразу: «Ябба-дабба-ду!».
По сути, эксперимент доктора Вольфа продемонстрировал, что люди обычно отказываются от своей задачи быстрее, чем в среднем необходимо, чтобы найти цель. Как и упомянутые выше излеченные от слепоты испытуемые фон Зендена, они просто прекращают попытки увидеть нужное.
В любом случае, утверждает доктор Вольф, мораль этой истории в том, что мы, судя по всему, «запрограммированы» быстро бросать поиски, если не ожидаем, что их цель действительно находится там, где мы ищем. По его словам, в целом в этом нет ничего плохого. «Я имею в виду, что тратить массу времени на поиск вещей там, где их, скорее всего, нет, действительно глупо», – поясняет он.
Пожалуйста, храните оружие на верхней полке багажного отделения
Итак, если ваша работа не заключается в том, чтобы огромное количество времени искать то, чего, вполне возможно, нет там, где вы ищете, бросьте это дело. Однако, предположим, ваш служебный долг – находить спрятанное в багаже оружие. Или опухоль в мозге пациента. В этом случае никому не хочется, чтобы вы бросили поиски раньше, чем надо; все желают, чтобы вы искали как можно дольше.
И офицер, досматривающий багаж в аэропорту, и онколог большую часть рабочего времени ищут то, что видят довольно редко. Если говорить, например, о врачах, то рутинная маммография выявляет заболевание только в 0,3 процента случаев. Иными словами, в 99,7 процента случаев эти специалисты не находят искомого. Оружие попадается еще реже. Так, по данным Управления по безопасности на транспорте, в 2004 году в США совершили авиаперелет 650 миллионов пассажиров. Но при досмотре багажа было найдено всего 598 единиц огнестрельного оружия, то есть примерно одна единица на каждый миллион пассажиров – шансы один на миллион в буквальном смысле слова.
Неудивительно, что для обеих профессий характерна высокая вероятность ошибок. Целый ряд исследований показал, что коэффициент «непопадания» среди врачей-онкологов достигает аж 30 процентов. При некоторых видах онкологических заболеваний этот показатель намного выше. Расскажу об одном эксперименте, результаты которого вызывают особенно большую тревогу. Врачи из клиники Мэйо перепроверили предыдущие «нормальные» рентгенографии грудной клетки пациентов, у которых впоследствии развился рак легких. Их выводы оказались поистине ужасающими: почти на 90 процентах первоначальных снимков можно было рассмотреть опухоль в начальной стадии. Более того, исследователи отметили, что во многих случаях признаки онкологического заболевания были вполне различимы на протяжении «нескольких месяцев или даже лет». Но врачи их упрямо не замечали.
Что же касается пятидесяти тысяч офицеров, осуществляющих досмотр багажа в аэропортах США, правительство, конечно же, никогда не расскажет нам, насколько часто они ошибаются. Но в 2002 году был проведен специальный тест, который продемонстрировал, что таможенники пропускают примерно одну из четырех единиц огнестрельного оружия. Аналогичная проверка, проведенная двумя годами позже в аэропорту Ньюарка, выявила идентичный коэффициент ошибок – 25 процентов. А в 2006 году во время досмотра в Международном аэропорту О’Хара в Чикаго таможенники не нашли 60 процентов деталей для изготовления бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в ручной клади работавших под прикрытием агентов из Управления по безопасности на транспорте. В международном аэропорту Лос-Анджелеса результаты проверки оказались и того хуже: таможня пропустила 75 процентов деталей для изготовления бомб[6].
Имейте в виду, что речь идет о профессионалах, деятельность которых связана с вопросами жизни и смерти. А что же мы с вами? Насколько успешно мы замечаем и выявляем действительно важные объекты и вещи в окружающем мире? Например, лицо преступника, который раньше на нас напал?
Глава 2. Мы во всем ищем смысл
В 1970-х годах известный психолог Гарри Бахрик провел важное исследование, результаты которого заинтересуют всех, кто недавно посещал встречу одноклассников или планирует подобное мероприятие. Бахрик и его коллеги попросили сотни взрослых людей, оглянувшись на школьные годы, вспомнить лица своих одноклассников. То, что обнаружили ученые, можно с уверенностью назвать гимном мощи человеческой памяти. Спустя много десятилетий бывшие ученики практически не забыли лиц школьных товарищей. Даже почти через полвека они узнавали 73 процента из тех, кто учился с ними в одном классе.
Когда же дело дошло до имен, обнаружилось, что здесь дела обстоят намного хуже. Спустя почти пятьдесят лет люди вспомнили всего 18 процентов имен своих одноклассников. По непонятным причинам имена не слишком хорошо задерживаются в нашей памяти, вследствие чего мы можем назвать шурина Боба Робом или путаем писателя Эрнеста Хемингуэя с актером Эрнестом Боргнайном.
Смысл имеет значение, детали – нет
Почему же лица запоминаются лучше, чем имена людей, которым они принадлежат? Частично ответ на этот вопрос кроется в том, что для человеческой памяти главенствующим является смысл. Долгосрочная память ограничена даже в запоминании того, что мы видим тысячи раз. Она носит преимущественно семантический характер. Это означает, что в большинстве случаев, вспоминая то, что нам надо, мы вспоминаем общее, а не частное. Возьмите, например, обычные монетки. Как, по-вашему, хорошо ли вы помните, как они выглядят? Задавшись этим вопросом, двое ученых, Рэймонд Никерсон и Мэрилин Адамс, провели известный эксперимент. Полученный результат удивил исследователей и, скорее всего, удивит и вас.
Никерсон и Адамс попросили двадцать человек выполнить, на первый взгляд, обманчиво простое действие – нарисовать по памяти аверс и реверс одноцентовой монеты. (Попробуйте и вы это сделать, прежде чем станете читать дальше. Только не жульничайте: не смотрите на монету.) Далее экспериментаторы проанализировали готовые рисунки, оценивая, насколько точно участники воспроизвели восемь важнейших элементов изображения на монете, таких, например, как профиль Линкольна на лицевой стороне и памятник Линкольну на обратной. Результаты оказались просто поразительными: из двадцати участников эксперимента только один, заядлый нумизмат, точно вспомнил и расположил все восемь ключевых компонентов (очевидно, они имели для него какой-то особый смысл). Из восьми элементов рисунка люди вспомнили и правильно разместили в среднем всего лишь три. Любопытно, что чаще всего испытуемые забывали слово Liberty, расположенное на аверсе монеты слева от профиля Линкольна. (Если вы нарисовали собственный вариант, достаньте настоящий цент и сравните с ним свой рисунок. Ну что, удалось вам вспомнить больше трех элементов изображения?)
Этот эксперимент подтолкнул Никерсона и Адамс провести серию последующих исследований, чтобы выяснить причины столь странной забывчивости. Помимо прочего, ученые задумались: если люди не могут вспомнить, как выглядит одноцентовая монета, может, они хотя бы сумеют отличить настоящую монету от фальшивой?
Чтобы ответить на этот вопрос, ученые показали другой группе людей пятнадцать изображений аверса пенни[7]. Только один из рисунков был подлинным, остальные имели те или иные изъяны. Участникам эксперимента нужно было выбрать одну, настоящую, монету. Проверьте, кстати, сможете ли вы найти среди монет на рисунке нефальшивый цент.
Результаты опять оказались совсем неутешительными. Правильный вариант выбрали меньше половины испытуемых (это рисунок А).
Вы можете подумать, что столь скверные результаты обусловлены какой-то специфической особенностью американцев. Возможно, они вообще менее наблюдательны, чем представители других наций? Судя по всему, это не так. Проведенный несколько позже в Великобритании эксперимент (британцев просили изобразить их национальную монету) показал еще более печальные результаты. «Дизайн британского пенса смогли точно воспроизвести еще меньше людей, чем в Америке», – пришел к выводу автор исследования.
Имена лишены смысла
Так вот, оказывается, имена людей имеют много общего с деталями изображения на монетах: в них тоже мало смысла. Вследствие чего мы постоянно их забываем или путаем. Относительно малое значение имен много лет назад наглядно продемонстрировали результаты одного британского исследования, в рамках которого реальных людей просили изучить биографии людей вымышленных. В каждой биографии содержалось фиктивное имя и ряд другой фальшивой информации, например город, в котором родился человек, род занятий, хобби и другие детали. Так, в одной вымышленной биографии говорилось: «Известный фотограф-любитель Энн Коллинз живет недалеко от Бристоля, работает патронажной сестрой».
И что же реальные люди запомнили о придуманных? Если вы предположили, что профессию, вы правы. Род занятий запомнили 69 процентов респондентов. Почти столько же, 68 процентов, запомнили хобби. После этого идет место рождения – 62 процента. В конце списка оказались имена. Их вспомнили всего 31 процент испытуемых, а фамилии – 30 процентов.
Почему, спросите вы? Ученые пока не знают точного ответа на этот вопрос. Но наиболее вероятным объяснением представляется то, что в именах содержится мало смысла, это лишь произвольные, условные метки, некие ориентиры. Джим или Тим, Энн или Фрэн – в именах нет ничего конкретного, по крайней мере для большинства из нас. А вот род занятий, хобби и место проживания обычно с точки зрения смысла намного богаче, они-то что-то для нас означают.
