Истукан бесплатное чтение
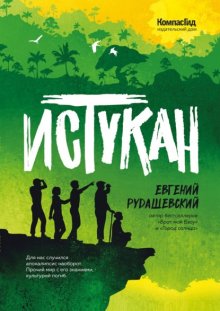
© Рудашевский Е. В., текст, 2022
© ООО «Издательский дом
«КомпасГид», 2022
In angello cum libello
Вас никогда не посещала внезапная мысль о нашем острове как некоем живом и дышащем существе, громадном животном допотопных времён, проспавшем столетия, не чувствуя, как по его спине в поисках средств существования ползают какие-то насекомые?
Джон Кутзее
Ныне покоится здесь в ничтожестве тот, кто познал землю, и чудится ему, жалкому лягушонку, боязливо прильнувшему к оболочке земного шара, будто он вращается вместе с ним в головокружительных безднах космоса…
Мишель Турнье
Вирджиния Морено
- Я падаю всё ниже, ниже, ниже.
- Волна, кружась, сливается с волною.
- Идут на дно со мною гиацинты,
- И затворились мрачно анемоны.
- Лишь шёпоты и вздохи тишины.
- И я затих, спокоен и недвижим.
Том 1
Глава первая
Старинная шкатулка
Неказистая шкатулка заинтересовала антиквара больше, чем лежавшие в ней драгоценности. Он провёл пальцем по шероховатому торцу, осмотрел узоры лакированной крышки, будто мог с ходу прочитать их историю, и чуть приметно кивнул собственным мыслям. Настя рассеянно проследила за его движениями. Посетителей в новоарбатской «Изиде» собралось немного: две женщины возле застеклённого шкафа с механическими куклами да мужчина возле коллекции портсигаров, – и антиквара никто не поторапливал.
– У вас есть заключение геммолога? – спросил он и тут же добавил: – Садитесь.
– Геммолога? – Настя растерянно взглянула на предложенный ей стул. – Не знаю… Нет, наверное.
– Значит, нет.
– Это плохо?
– Обычно к нам приходят с заключением.
– А что… Зачем оно? У меня есть завещание, и в нём упомянуты драгоценности, если вы об этом.
– Нет. – Антиквар качнул головой и вновь сосредоточился на шкатулке.
Шустов. Так он представился. Ему было лет тридцать. Каштановые волосы расчёсаны и смазаны матовым воском. Скулы и подбородок – выраженные, нос – чистый и прямой. У Насти было достаточно времени рассмотреть гладко выбритое лицо антиквара, его крепкую шею и чёрную, застёгнутую на все пуговицы рубашку. Обручального кольца нет.
Настя продолжала стоять. Между тем молчание Шустова затягивалось. Пора бы обратить внимание на старинные серьги, брошки и кулоны! Да хоть на браслет с золотыми вензелями, с серпом и молотом на пробе – бабушка им особенно дорожила.
– Откуда она? – Антиквар отложил шкатулку.
– Я же говорю, у меня умерла бабушка, и…
– Откуда она у вашей бабушки?
– От дедушки. А он привёз из Хургады. Это в Египте. На берегу… Ну, вы, наверное, знаете.
– Знаю, – мягко ответил Шустов.
Насте нравились его зелёные, с коричневыми крапинками глаза. Их взгляд успокаивал и мог бы очаровать в каминном полумраке ресторана. «Обручальное кольцо хорошо бы смотрелось на его руке». Мысль неуместная, как и стоявшая на столе антиквара искусственная ёлочка с броскими игрушками и разноцветно-праздничной надписью «2001». С Нового года прошло два месяца. Настя не удивилась бы, узнав, что ёлочка простоит здесь до лета.
– Мой дедушка… Он был моряком.
Настя, вздохнув, опустилась на стул. Быстро избавиться от драгоценностей не получилось.
– Служил механиком на тральщике. Где-то в семидесятых попал в Хургаду.
Дедушка часто рассказывал эту историю – всякий раз, как семье удавалось собраться у него в Малаховке. Её детали менялись от будничных до нелепо фантастических, но общие черты оставались неизменными. После очередной арабо-израильской войны требовалось разминировать Суэцкий канал, и Египет запросил помощь у советских кораблей. Им выделили пролив Губаль, где и оказался Давид Альтенберг, Настин дедушка. О поиске и подрыве мин Давид Соломонович вспоминал редко, предпочитал описывать сорокаградусную жару, песчаные бури и беспокойный рейд Хургады. Поставки продуктов и воды были ограничены, моряки выкручивались самостоятельно.
– И мылись они по команде. – Настя скользнула взглядом по стеллажу с потемневшими иконами. – Дедушка сравнивал поход в баню с торпедной атакой. Залетел – вылетел. Ну, вы понимаете, экономили воду.
– Понимаю.
– Простите, я зря всё это говорю…
Шустов не стал её разубеждать, и Настя поторопилась закончить:
– В Хургаде после войны… Там была нищета, голод. Дедушка по городу толком не ходил, но с местными рыбаками сталкивался. Ну они и менялись чем могли. За бинты или тушёнку давали морякам украшения, старинные книги… А дедушка вот получил шкатулку. Чья-нибудь семейная реликвия.
– Что-нибудь ещё? – спросил Шустов.
– Ещё дедушка говорил, что в Суэцком канале приходилось поднимать затонувшие корабли, они…
– О шкатулке.
– Нет, о шкатулке больше ничего.
Шустов, явно разочарованный ответом, наконец удосужился взглянуть на бабушкины драгоценности.
В тишине антикварного магазина было слышно, как гудят люминесцентные лампы низкого потолка, как шепчутся женщины, перекочевавшие от механических кукол к фарфоровым статуэткам. Настя различила новостной голос радио, доносившийся из-за стены. Ведущий сообщал о предстоявшем затоплении орбитальной станции «Мир» и американском чартерном рейсе, пассажиры которого смогут вживую наблюдать за падением космических обломков.
– Это искусственный александрит. – Настя оживилась, увидев в руках Шустова одну из бабушкиных серёжек. – А это… не знаю.
– Топаз. – Шустов осмотрел увесистую брошь. – Или дымчатый кварц. Оправа золотая. Пятьсот восемьдесят третья проба.
– Хорошо, – кивнула Настя.
В магазине приятно пахло полиролью и старым деревом, но драгоценности вызывали в памяти удушающе приторный запах бабушкиных духов. Бабушка умерла осенью. Настя не общалась с ней пять или шесть лет. Не думала, что когда-нибудь вновь зайдёт в малаховский дом. С того дня, как скончался дедушка, бабушка разругалась со всеми родственниками, но завещание написала на свою дочь, Настину маму. Мама заниматься наследством не захотела и разобраться с ним поручила Насте – заполучив шкатулку, та отправилась в «Изиду», её не остановили даже пробки после вчерашнего снегопада и минусовая температура. Март начался прохладный, хотя в Москве обещали потепление.
– Сколько вы хотите за шкатулку? – спросил Шустов.
– Шкатулку? Не знаю… А сколько она стоит?
Шустов осматривал кулон с тремя зеленоватыми камнями, делал пометки в блокноте и в остальном вёл себя так, будто не услышал обращённых к нему слов. Настя уже хотела повторить вопрос, когда возле стола появился другой работник магазина – ровесник Шустова, полноватый и с наметившейся лысиной.
– Серж, там Катя звонит.
Шустов молча кивнул. Затем сказал Насте, что захватит с собой шкатулку.
– Хочу кое-что проверить.
– Да, пожалуйста… Конечно.
«Значит, есть Катя. Печально. Всегда есть какая-нибудь Катя».
Полноватый коллега Шустова сменил его за столом. Закатав рукава полосатой рубашки, кратко расспросил Настю о лежавших перед ним драгоценностях, платком обтёр лоб и принялся с хозяйской важностью перебирать сгруженные возле пузатого монитора папки.
Обеспокоенная плохим предчувствием, Настя поднялась со стула. Не могла спокойно сидеть. Шкатулка – единственное, что она хотела сохранить из наследства. Как память о бабушке и дедушке. Печальную, полную разочарований и слёз, но всё-таки память. Настя считала, что шкатулка не привлечёт внимания антиквара, надеялась лишь на продажу драгоценностей, а теперь Шустов унёс её в дальний угол торгового зала и вместе с ней скрылся за тёмно-вишнёвой, сливавшейся со стенными панелями дверью.
«Хочу кое-что проверить. Что там проверять?»
Малаховский участок Настя выставила на продажу. Жалкие шесть соток были застроены несуразными теплицами, а где не застроены – утыканы арматурой и примяты бетонными кольцами от начатого колодца. Напротив калитки – двухэтажная громадина жилого дома с каркасно-засыпными покоробившимися стенами. Вчера Настя с грустью шла по некогда родным комнатам с однообразными коврами, напольными и настенными, клеёнками и древесностружечными сервантами. Если бы не шкатулка, упомянутая в завещании, Настя вообще не приехала бы в Малаховку. К счастью, дом стоял на второй линии, в семи минутах от станции, и в посёлке Настя пробыла не дольше часа. Убедилась, что запасные ключи по-прежнему лежат под козырьком, проверила насос в септике и газовый котёл, после чего достала из бабушкиного тайника шкатулку и вернулась на станцию. Тем же вечером просмотрела список ломбардов, ювелирных и антикварных магазинов. Выбрала «Изиду» – единственное знакомое название. Настя читала о выставленных в её витринах африканских масках; владельцы магазина собственноручно раздобыли их в Сомали или в какой-то ещё африканской глуши.
Интересно, Шустов тоже побывал в той экспедиции? И где же маски? В надежде развеять тревогу Настя прогулялась между застеклёнными шкафами, задержалась возле группы бронзовых бюстов, прислушалась к шёпоту женщин, выбиравших подарок общей подруге, а вскоре увидела, что Шустов возвращается, и поспешила ему навстречу.
– Всё в порядке? – полноватый коллега уступил антиквару место за столом.
– Что?
– Я так понял, у Кати что-то с ребёнком.
«Ещё и ребёнок».
– Катя… – Шустов вздохнул. – Скажи, я перезвоню.
– Ты…
– Да, я забыл. Трубка лежит.
– Ну ты хохмач.
Шустов проигнорировал напарника. Поставил перед собой шкатулку и уставился на неё в задумчивости, будто увидел впервые. Настя, чувствуя, как волнение усилилось, села на стул.
– Ну как? – спросила она, ногтями постукивая по краешку столешницы. – Кое-что проверили?
– Что? Да. Да, проверил.
Шустов выпрямился и посмотрел на Настю.
Шкатулка заурядная. Старинная, по-своему необычная и всё же заурядная. Сантиметров двадцать в ширину и глубину. Высотой сантиметров пятнадцать. С откидной крышкой, некогда замыкавшейся на два замочка, сейчас утраченные и заменённые обыкновенными застёжками. По крышке шла скучная резьба из банальных завитков. Никакой инкрустации или гнёзд, где она могла бы крепиться. Единственной особенностью шкатулки были громоздкие выступы – округлые набалдашники, прикреплённые к боковым стенкам изнутри и снаружи – так, словно в стенках застряли приплюснутые шары, каждый диаметром почти во всю высоту стенки. Ни красоты, ни удобства в них не было. Изнутри они вообще мешали равномерно заполнять шкатулку, как мешал этому и квадратный нарост на дне, больше похожий на своеобразное крепление. Наверное, шкатулку прежде использовали вместо подставки. Но подставки для чего? Настя спросила об этом Шустова. В ответ он пожал плечами.
Наружный выступ левой стенки был украшен вырезанными буквами «BH» с подобием растительных узоров внутри букв, а на выступе справа читалось простенькое «Tolle. Lege», которое Настя вчера перевела с латыни как «Возьми. Читай». Слова имели отношение к святому Августину – Настя обнаружила отсылку к ним на одном богословском сайте, однако вникать в прочитанное не стала.
