Любовь: история в пяти фантазиях бесплатное чтение
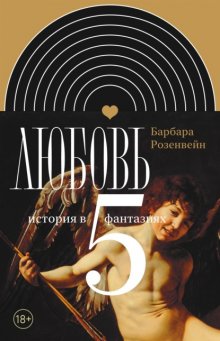
Редакторы серии «Интеллектуальная история» Т. Атнашев и М. Велижев
Научный редактор: Н. Проценко
Перевод с английского К. Бандуровского
В оформлении обложки использована картина Микеланджело Меризи да Караваджо «Амур-победитель» (Amor Vincet Omnia), 1601–1602 гг. Берлинская картинная галерея, Германия. Фото: Wikimedia Commons, Public Domain Mark
LOVE: A HISTORY IN FIVE FANTASIES (1st Edition)
By BARBARA H. ROSENWEIN
© Barbara H. Rosenwein, 2021
This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge
© К. Бандуровский, перевод с английского, 2023
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
Посвящается Тому
- Феба
- Мой друг пастух, скажи ему, что значит любить…
Уильям Шекспир. Как вам это понравится. Акт V, сцена 2 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).
- Сильвий
- Быть созданным всецело из фантазий,
- Из чувств волнующих и из желаний,
- Боготворить, покорствовать, служить,
- Терпеть, смиряться, забывать терпенье,
- Быть чистым и сносить все испытанья —
- Вот так, как я для Фебы.
Благодарности
Прежде всего мне следует отдать дань уважения Риккардо Кристиани, совместно с которым были впервые (пусть и в иной форме) изучены, проанализированы и описаны многие темы, о которых пойдет речь в этой книге.
Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить семерых проницательных коллег, которые, прочитав рукопись целиком, поделились со мной исключительно ценными замечаниями. Это Кристиан Бейли, Наоми Хоунет, Фрэнсис Фримен Пейден, Паскаль Поршерон, Том Розенвейн, Майкл Шерман и Питер Н. Стернз. Разговоры с Уильямом Д. Пейденом, которому я признательна за комментарии к первой версии главы 4, неизменно служили источником тем для моих размышлений.
Эта книга претерпела больше изменений, чем многие другие мои работы, и за помощь на разных этапах ее создания, включая окончательный вариант, я должна выразить благодарность многим друзьям и коллегам – Кэти Барклай, Яну Бёрцлаффу, Ангелосу Ханиотису, Дженнифер Коул, Матье Дюпа, Лоре Фэйр, Кэтрин де Луне, Лесли Досси, Аннализе Дюпри-Анри, Дайане Эллиотт, Эбраму Ван Энгену, Николь Юстас, Элине Герцман, Фредерику Райту Гличу, Адриане Лауре Гуарро, Сьюзан Карант-Нанн, Дэвиду Мелтону, Барбаре Ньюман, Нэнси Сигал, Марку Сеймуру, Саймону Суэйну, Линн М. Томас, Фабрицио Титоне, Уве Вагелполу и Илоне Висмулек.
Благодаря плодотворному партнерству библиотек Чикагского университета Лойолы и Северо-Западного университета у меня появился доступ к множеству чрезвычайно ценных ресурсов, и здесь отдельной похвалы заслуживает Дженнифер Стиджен, поистине образцовый работник межбиблиотечного абонемента. Кроме того, для меня оказались чрезвычайно ценными помощь и поддержка издательства Polity Press, где мне были предоставлены блестящие внешние рецензенты и всегда готовые прийти на помощь сотрудники, из которых особых слов признательности достоин Паскаль Поршерон.
Эта книга не состоялась бы без моей любимой семьи: Джесс и ее дочерей Софи и Натали; Фрэнка, Эми и их сыновей Джошуа, Джулиана и Бенджи; моей сестры Наоми, которая не только прочла книгу в рукописи, но и исправно писала о ней электронные письма на всем протяжении моей работы. Наоми и ее муж Джим с благосклонным терпением выслушивали мою болтовню в FaceTime о том постоянно меняющемся калейдоскопе, каким оказался процесс создания книги. Свой труд я посвящаю моему мужу Тому. Какими бы ни были фантазии о любви, моя любовь принадлежит ему.
Уведомление для читателей
Все даты, приведенные в книге, относятся к нашей эре; даты до нашей эры указываются соответствующим образом. Для упоминаемых в книге персоналий приведены даты смерти либо расцвета их творчества (периода активной деятельности). Цитаты из первоисточников не на английском языке в оригинале книги приведены в современных переводах на английский. Кроме того, были обновлены орфография и пунктуация источников на английском языке раннего Нового времени, в некоторых случаях устаревшие слова и фразы оказались заменены актуальными эквивалентами. Основной источник цитат из Библии: The New Oxford Annotated Bible: New Revised Standard Version with the Apocrypha. An Ecumenical Study Bible / Ed. by M. D. Coogan with M. Z. Bretter, C. A. Newsom and P. Perkins. 5th edn. Oxford, 2018. Все цитаты, как в тексте, так и в примечаниях, приводятся со ссылкой на страницы источника, если не указаны иные принципы нумерации.
Введение
Не стану утверждать, что всегда стремилась написать работу, посвященную любви. Возможно, мне бы следовало это сделать, ведь я выросла в семье убежденных фрейдистов, а Фрейд много рассуждал об Эросе. Но, поддавшись очарованию нашего замечательного университетского профессора Лестера Литтла, я решила стать историком Средневековья – странное решение, если учесть мое воспитание. Родителям я пыталась объяснить свой выбор, используя словечки, которые тогда были в ходу у нас дома: история есть не более чем «явное содержание» бессознательных фантазий людей конкретной эпохи. Иными словами, я утверждала, что история (history) – это пересказанное сновидение, за которым скрывается реальный сюжет (story), и мне лишь оставалось этот сюжет обнаружить. Кроме шуток: в те времена моей любимой книгой было «Толкование сновидений» Фрейда.
Однако вскоре я поняла, насколько несуразным был план, разработанный девицей девятнадцати лет от роду, особенно если учесть, что тогда я еще не знала ни слова на латыни. Как следствие, несколько последующих десятилетий я посвятила изучению языков, чтению первоисточников и погружению в историю – да-да, в то самое «явное содержание» – Средних веков, в особенности средневекового монашества. Впрочем, желание понять, что именно скрывается «за» фактами, которые я изучала, никуда не делось. Почему, например, монахи Клюнийского монастыря, обладавшие наибольшим престижем в раннем Средневековье, проводили основную часть времени в храме, распевая псалмы? Что побуждало благочестивых мирян из любых социальных слоев жертвовать землю этому монастырю? Какие представления о пространстве или о насилии стояли за заявлением папы римского о священных и неприкосновенных границах владений Клюни? Опираясь на антропологию, социологию и этнографию, я постепенно отдалялась от Фрейда – хотя и не полностью.
Любовь – по меньшей мере как тема для исследования – тогда меня не интересовала. Конечно, в детстве я думала о любви. У меня были и лучшая подруга, и увлечения, и несколько совершенно ужасных парней, доставлявших мне душевные страдания, и несколько очень милых поклонников, с которыми я испытывала огромную радость, пока наши отношения не заканчивались. Но в самом начале учебы в колледже я встретила своего будущего мужа Тома – мы создали семью сразу после того, как я закончила колледж, а затем у нас родились близнецы Фрэнк и Джессика. Не особо задумываясь, я повторяла лозунг моего поколения: «Занимайтесь любовью, а не войной». Тогда я не понимала, что любовь – это еще более сложное занятие, чем война.
В дальнейшем основной предмет моего внимания изменился – я заинтересовалась историей эмоций. Это произошло в 1995 году, когда коллега-медиевист Шарон Фармер попросила меня провести дискуссию по теме «Социальное конструирование гнева» на съезде Американской исторической ассоциации. Слушая доклады и их последующие обсуждения, я вдруг поняла, что история эмоций дает возможность проникнуть в тот еще неисследованный материал, который скрывается за «явным содержанием».
Здесь в самом деле открывалось масштабное поле для новых исследований. Основной парадигмой истории эмоций на тот момент выступала концепция «процесса цивилизации» социолога Норберта Элиаса, который охарактеризовал Средневековье как эпоху душевных порывов, насилия и ребяческого пренебрежения социализацией, закончившуюся только с возникновением абсолютистского государства раннего Нового времени с его упором на контроль над импульсивностью и эмоциональную сдержанность. И хотя я понимала, что Элиас ошибался насчет Средневековья, и подозревала, что он был неправ и в отношении более поздних периодов, у меня не было уверенности, что мне удастся найти собственный подход.
Все это привело меня к изучению исторических источников, теорий эмоций и новых парадигм истории эмоций. Как оказалось, и в Средневековье, и в другие эпохи существовало огромное разнообразие эмоциональных норм и ценностей, практиковавшихся различными группами. В конце концов я обнаружила способ их концептуального представления, назвав эти группы «эмоциональными сообществами» – группами, зачастую существующими в одно и то же время и нередко тождественными социальным сообществам, в которых люди демонстрируют одинаковые или схожие оценки конкретных эмоций, целей и норм эмоционального выражения. Эти сообщества иногда пересекаются и заимствуют нечто друг у друга, а также способны меняться со временем (в целом так и происходит), но даже в этом случае у них достаточно общих характеристик, чтобы исследователь мог изучать их как некую целостную группу.
Но и на этом этапе моей работы любовь еще не представляла для меня особого интереса. Правда, с одной-единственной оговоркой: я отмечала, что всем эмоциональным сообществам так или иначе приходилось иметь с ней дело – люди любили что-то или кого-то, придавали любви ту или иную ценность, выражали ее определенными способами. Однако эта проблематика не отличалась от вопросов, которыми я задавалась относительно любых эмоций: как происходит их выражение, как они превозносятся и обесцениваются в конкретном эмоциональном сообществе? Моя цель прежде всего состояла в том, чтобы отследить сосуществующие эмоциональные сообщества в рамках отдельно взятого промежутка времени и обнаружить, каким образом в последующие эпохи на авансцену выходили новые сообщества, а старые отступали на задний план.
Как следствие, меня не слишком интересовали индивидуальные эмоции, даже несмотря на то что мне довелось редактировать сборник статей о феномене гнева в Средневековье, в котором подводились итоги той самой панельной дискуссии по социальному конструированию в Американской исторической ассоциации1. Необходимость в подобных исследованиях и интерес к ним я осознавала совершенно четко, и пока я занималась эмоциональными сообществами в раннем Средневековье, Джоанна Бёрк опубликовала книгу об истории страха, а Даррин М. Макмахон представил аналогичную работу о счастье2. Правда, этих ученых не интересовали эмоциональные сообщества. Бёрк обращалась к современной истории, рассматривая способы, при помощи которых различные (в первую очередь англоязычные) культуры используют страх и злоупотребляют им, а Макмахона занимали западные представления о счастье, а не характерные для Запада эмоции.
В конечном счете я нашла выход. Во-первых, требовалось расширить хронологические рамки – эта задача была решена в моей работе об эмоциональных сообществах, охватывающей период с 600 по 1700 год3. Лишь после этого мне удалось написать книгу, где рассказывается история одной эмоции в контексте большой длительности – я взялась за тему гнева, который одновременно является и добродетелью, и пороком, в связи с чем этот феномен представлял для меня больший интерес, чем, скажем, радость. Композиционно книга оказалась выстроена на основе разного отношения к гневу: одни эмоциональные сообщества питали к нему отвращение, другие считали его пороком, но при этом до определенной степени признавали его достоинство, третьи же утверждали, что гнев является чем-то «естественным», а следовательно, он в принципе не составляет моральную проблему. Наконец, не так давно появилась еще одна точка зрения: в ряде работ отмечаются мобилизующие и насильственные характеристики гнева4.
Только после этого я обратилась к любви – еще одной эмоции, относительно которой почти не существовало согласия. Любовь оказалась еще более трудным и конфликтным феноменом, чем гнев, – вот вам список из множества противоречащих друг другу истин, мифов, мемов и поговорок о любви:
• Любовь – это благо.
• Любовь приносит боль.
• Любовь поражает, как удар молнии.
• Любовь требует времени и терпения.
• Любовь естественна и бесхитростна.
• Любовь морально возвышает и является основанием общества.
• Любовь разрушительна для общества, ее необходимо укрощать.
• Любовь – это навсегда.
• Любовь – это разнообразие.
• Вершина любви – секс.
• Лучше всего, когда любовь не связана с сексом.
• Любовь преодолевает мирское.
• Любовь требует всего.
• Любовь ничего не требует.
Все эти мысли, рассуждения и настроения несут в себе соблазн – они требуют, чтобы их услышали. Словом, не удивительно, что поначалу я понятия не имела, как писать историю любви. Любовь не только подразумевает – и теперь, и прежде – великое множество разных вещей, но и включает немало иных эмоций: радость, боль, удивление, замешательство, гордость, смирение, стыд, спокойствие, гнев. К тому же у любви есть масса мотивов: к ним относятся стремления контролировать, подчиняться, соблазнять, быть желанным, лелеять, получать заботу. Любовь можно использовать и для оправдания действий, которые исходно выглядят ей враждебными, – даже для завоеваний и войн.
Однако по мере изучения материалов для этой книги я постепенно замечала, как некоторые расхожие формулировки сливаются воедино – реальные и вымышленные сюжеты повторялись вновь и вновь, пусть и в разных обличьях и контекстах. Если оглядеться вокруг, то можно заметить, что они сохраняются и сегодня, в современных сюжетах – в телепередачах, в романах, фильмах, а заодно и в жизни наших друзей и семей. Кроме того, я начинала понимать, как эти непреходящие фантазии любви повлияли – и продолжают влиять – на мои собственные ожидания в отношении тех, кого я люблю, и на их ожидания по отношению ко мне.
Более того, я стала осознавать цели этих фантазий: они были – и остаются – ключевыми сюжетами (narratives), которые организуют, обосновывают и наделяют смыслом переживания, желания и чувства, в противном случае являющиеся бессвязными и сбивающими с толку. Именно на эту мысль в свое время намекнул столь почитаемый в моей семье авторитет – доктор Фрейд, утверждавший, что симптомы взрослых неврозов представляют собой выражение подавляемых в течение длительного времени детских фантазий – композиций чувств, подобных тому, которое он назвал эдиповым комплексом, уподобив его греческому мифу.
Однако для понимания того, что рассказывание историй представляет собой способ объяснения, организации и овладения содержанием человеческих чувств, нам едва ли нужно обращаться к Фрейду. Парадигматические сюжеты предназначены не просто для того, чтобы их примеряли на себя, создавали, а затем, возможно, и разыгрывали дети. Их значимость вполне очевидна и для взрослых – например, в работах социолога Арли Хохшилд, хотя в них речь и не идет о любви. Изучая приверженцев правых взглядов в США, Хохшилд не принимала за чистую монету декларируемые ими объяснения недовольства политической ситуацией вроде тех, что давал один дружелюбно настроенный респондент по имени Майк Шафф: «Я выступаю за жизнь5, за оружие, за свободу жить своей жизнью так, как мы считаем нужным». Напротив, Хохшилд стремилась обнаружить некую «глубинную историю», которая в ее интерпретации выступает «историей ощущений – историей, которую чувства рассказывают на языке символов»6. Как следствие, сюжет «глубинной истории» Майка и его соотечественников выглядел примерно так: вместе в основном с такими же белыми мужчинами они давно стояли в очереди, терпеливо ожидая, когда же наконец исполнится «американская мечта» – мечта о прогрессе, улучшении ситуации в экономике и увеличении жизненных возможностей. Дабы встать в эту очередь, белым американским мужчинам приходилось терпеть страдания, долго и упорно трудиться, но на пути у них возникли незваные гости – «черные», «коричневые» и иммигранты. В этой глубинной истории сошлись воедино и обрели смысл такие чувства, как гнев, стыд, обида и гордость, – именно это я и называю фантазией.
К таким же глубинным фантазиям обращаются Л. И. Энгус и Л. С. Гринберг, сторонники психотерапии, которая вмешивается в сюжеты, используемые людьми для понимания своих чувств и идентичности, и меняет их. По тем же самым причинам Ииро П. Яаскеляйнен и его коллеги используют нейровизуализацию в качестве инструмента, позволяющего разгадать, «каким образом различные сюжеты влияют на человеческий мозг, тем самым формируя восприятие, познание, эмоции и принятие решений». «Мы рассказываем себе истории для того, чтобы жить» – вот как эти авторы интерпретируют заголовок впечатляющего сборника статей Джоан Дидион7.
Тот факт, что западное воображение – лишь одна из множества разновидностей воображения – породило те или иные фантазии о любви, которые сохраняются на протяжении столетий, не означает, что любовь была, есть и всегда будет чем-то неизменным. Отдельные сюжеты, разумеется, оказались весьма устойчивыми, однако и они видоизменялись, утрачивая одни смыслы и приобретая другие. Эти сюжеты выступают культурными референтами, которые по-прежнему так или иначе вызывают мурашки по коже, но даже они часто нуждаются в обновлении. Обратимся к опубликованному в New Yorker рисунку Мэдди Дей, на котором изображены находящаяся в бедственном положении некая юная особа, слегка удивленный дракон и рыцарь в доспехах и с мечом в руке8. Представленный сюжет – рыцарь приходит на помощь даме, чтобы ее спасти, – знаком нам настолько хорошо, что, фигурально выражаясь, чуть ли не стал частью человеческой ДНК. Этот образ постоянно возникает (правда, всякий раз в новом обличье) в диснеевских фильмах и детских грезах. Впрочем, ожидания, создаваемые изображением, нарушает подпись: оказывается, что в роли рыцаря выступает современный парень, который, прежде чем соизволить убить дракона, расспрашивает даму, чьей жизни грозит опасность, о ее репродуктивных желаниях и финансовой философии. Шутливый рисунок вызывает смех, но отчасти это смех сквозь слезы, ведь представление о том, что любовь подразумевает самопожертвование, что она является или должна быть безусловной, и сегодня остается действенным идеалом. Как утверждал философ Саймон Мэй, «обладая огромной ценой, человеческая любовь узурпировала ту роль, которую раньше играла только любовь Бога»9. Эта фантазия требует от человеческой любви невозможного, и все же именно такие требования и ожидания бытуют в некоторых кругах.
Впрочем, так происходит не во всех группах – в чем и заключается специфика эмоциональных сообществ любви. Ведь если одни люди видят в «истинной любви» образец безвозмездного самопожертвования Христа, то другие понимают ее как экстатическое переживание, которое выводит их за пределы земной реальности, а третьи придерживаются каких-то иных устойчивых представлений о любви. Подобные фантазии и их трансформации во времени и составляют темы отдельных глав моей книги. Тем не менее лишь переплетенные сюжеты позволяют окинуть общим взглядом многогранную, поистине калейдоскопическую историю любви в западной традиции, поскольку любовные истории всегда так или иначе взаимодействовали друг с другом, а также потому, что, сколь бы преданны мы ни были тому или иному сюжету, все пять служат нам образцами.
В отличие от некоторых сегодняшних исследователей, я не намерена давать определение того, что такое любовь. Вопреки многим философам, я понятия не имею, какой она должна быть, и не хочу, как это делают историки идей, просто рассматривать теории любви, существовавшие в прошлом, – хотя к некоторым из этих теорий мы действительно обратимся. Что именно люди думают о любви сегодня и как они осмысляли ее в прошлом – вот что нам предстоит понять. Мне хотелось бы включить в мою историю женщин, а также привести высказывания «реальных» людей, их собственные слова о любви, наряду с вымыслами, слишком уж часто служащими в качестве подмостков для фантазий о любви, которые мы создаем и за которые держимся.
Для этой книги я отобрала пять устойчивых сюжетов. В первой главе мы обратимся к фантазии о любви как единодушии, а затем перейдем к трансцендентности любви – представлению о том, что любовь переносит нас в какую-то высшую реальность. Темой третьей главы станет любовь как свобода в противоположность обязательствам, в четвертой главе мы рассмотрим фантазию о том, что истинная любовь представляет собой одержимость, а в пятой речь пойдет о ненасытности любви. В центре каждой главы оказываются различные модальности и переживания любви, которые имеют в западной традиции давнюю историю. Хотя они обладают определенными точками пересечения, можно утверждать, что единодушие в основном связано с дружбой, трансцендентность – с любовью к Богу, обязательства – с браком и другими долговременными любовными отношениями, одержимость – с безответной любовью, а ненасытность – с исканиями.
Связывая все эти тематические нити воедино, мы увидим полотно со множеством оттенков – и если оно выглядит незавершенным, то так и должно быть, ведь история любви, как и сама любовь, всегда пребывает в процессе изменения, переработки и порождения новых фантазий.
Глава 1
Единство душ
В одном из первых эпизодов трагикомедийного телесериала «Просветленная» главная героиня Эми Джеллико (ее играет Лора Дерн) встречается с подругой Сэнди (в исполнении Робин Райт). Пока они прогуливаются и разговаривают, Эми ощущает, что нашла в подруге родственную душу, второе «я», ведь она может рассказать ей обо всем и сразу же обрести понимание. На самом деле ей даже не нужно говорить ни слова – подруга и так знает ее мысли и чувства. Но в конце концов Эми с сожалением осознает, что дело обстоит не так: у подруги есть свои планы, не совпадающие с планами Эми10.
Надежды разбиты, чувства оскорблены. Желание Эми найти «второе я» не воплотилось в Сэнди, которая оказалась просто проходной фигурой, неведомой избранницей, на которую Эми проецировала свои надежды. Нельзя сказать, что это стремление Эми было «жестко запрограммировано», как если бы поиски родственной души являлись врожденным свойством человеческой – или женской – психики. Но даже если бы дело обстояло именно так, то фантазия Эми об обретении «второго я» не была выдумана сценаристами сериала. Напротив, они опирались на осколки соблазнительной, утешительной, но порой и разочаровывающей фантазии, давно укоренившейся в западной любовной традиции. Идеал поиска родственной души создавался в течение долгого времени, урывками, с лакунами и различными вариациями, с пышным декором и причудливыми отклонениями.
Партнерства
Подобную идею можно обнаружить уже в «Одиссее» Гомера, где единство душ сигнализирует об абсолютной гармонии. Гомер (вне зависимости от того, идет ли речь об одном человеке или о некой группе, стремившейся согласовать различные устные традиции, гомеровские поэмы были написаны примерно в VIII веке до н. э.) рассказывает о долгом возвращении Одиссея на Итаку после сокрушительной победы над Троей. Основной составляющей этого сюжета выступает движение: корабли плывут, останавливаются и дрейфуют, грохочут волны, разражается буря, люди бегут, прячутся и превращаются в свиней, пока герой наконец не возвращается к единственному устойчивому центру, неподвижному брачному ложу на Итаке, которое он сам построил вокруг ствола крепко вросшего в землю оливкового древа. На этом ложе, где жена Одиссея Пенелопа в течение двух десятилетий – а именно столько его не было дома – проливала слезы, оба они «утехой любви (philо́tes) удовольствовали душу» (XXIII, 300)11.
Древнегреческие слова philо́tes, philos и philia обозначают сильную привязанность. Хотя некоторые комментаторы утверждают, что у Гомера существуют только «обязанности» и нет места для добровольных уз любви и дружбы, эта теория разбивается именно об идею «единодушия», когда другой человек оказывается «вторым я». Когда Телемах, сын Пенелопы и Одиссея, посещает Пилос в поисках известий о своем долго отсутствующем отце, Нестор, старый царь Пилоса, говорит об одной из разновидностей единодушия:
- Я ж постоянно, покуда войну мы вели, на совете ль,
- В сонме ль народном, всегда заодно говорил с Одиссеем;
- В мненьях согласные, вместе всегда мы, обдумавши строго,
- То лишь одно избирали, что было ахейцам полезней
Нестор подчеркнуто оказывает Телемаху всяческое гостеприимство, проявляя к нему уважение и привязанность. Тем не менее его «единодушие» с Одиссеем значительно отличается от ощущения Эми, будто подруга разделяет все ее надежды и мечты. Нестор имеет в виду политическое согласие: у него и у Одиссея были одинаковые планы, они давали одинаковые благие советы своим воинам. Это единодушие было ограниченным, но все же порождало привязанность, распространявшуюся и на следующее поколение.
Впрочем, у Гомера обнаруживается описание и более глубокого единодушия, когда Одиссей дает советы молодой прекрасной принцессе Навсикае, оказавшей гостеприимство герою, когда он потерпел кораблекрушение у берегов ее владений. Испытывая влечение к герою, Навсикая желает выйти за него замуж, но Одиссей полон решимости вернуться домой. Вместо себя он предлагает ей благословение:
- О, да исполнят бессмертные боги твои все желанья,
- Давши супруга по сердцу тебе с изобилием в доме,
- С миром в семье! Несказанное там водворяется счастье,
- Где однодушно живут, сохраняя домашний порядок,
- Муж и жена, благомысленным людям на радость, недобрым
- Людям на зависть и горе (VI, 180–184).
Два человека, которые «однодушно живут, сохраняя домашний порядок», – такова основа брака Одиссея, и его отношения с Нестором меркнут в тени семейного очага. Совместно вести домашнее хозяйство в полном согласии могут только мужчина и женщина, и Гомер в описании Одиссея с Пенелопой использует понятие ekluon [я слышал – греч.] – «они слушали, слышали и одаривали вниманием друг друга»12. И все же их единодушие также не полностью идентично случаю Эми, поскольку оно было плотским, имеющим в основе любовное наслаждение. Тем не менее это единодушие являлось практичным и предполагало достижение общих целей двумя людьми в полной гармонии и согласии. Поэтому после возвращения домой, насладившись любовью, Одиссей сообщает Пенелопе:
- Ныне опять мы на сладостном ложе покоимся вместе.
- Ты наблюдай, Пенелопа, за всеми богатствами в доме,
- Я же потщусь истребленное буйными здесь женихами
- Все возвратить: завоюю одно; добровольно другое
- Сами ахейцы дадут, и уплатится весь мой убыток
Те, кто лелеет фантазию о любви как одержимости (подробно мы рассмотрим ее в главе 4), могут усмотреть в этом эпизоде нечто вроде антикульминации: герой находился вдали от своей жены на протяжении двадцати лет и тем не менее сообщает ей, что скоро вновь отправится в сражение. Однако все это обретает совершенный смысл в контексте гомеровского единодушия, совместного стремления к тому, что лучше всего подходит для «ведения домашнего хозяйства», выступающего ячейкой как экономической и политической, так и любовной.
В этой античной фантазии о любви и единодушии командует мужчина – Одиссей велит Пенелопе наблюдать «за всеми богатствами в доме». Но действительно ли она разделяет его мнение? Одиссей рассказывает Навсикае, что такое брак. Но смотрит ли она на брак таким же образом? Мужские привилегии так встроены в повествование, что Гомер даже не осознает этого.
Платон, живший через четыре столетия после создания гомеровских поэм, прекрасно осознавал неравенство сил между влюбленными, в особенности в том случае, если любовь имеет эротический характер. В Афинах времен Платона Эрос ассоциировался прежде всего с педерастией, не являющейся тождественной педофилии, с которой ее часто путают. Педерастия представляла собой отношения, оправданные потребностью подростка в получении воспитания – интеллектуального, военного и морального – от старшего мужчины. Идея состояла в том, чтобы наделить мальчика добродетелями, качествами и знаниями, необходимыми гражданину полиса, и, кроме того, вовлечь его в сексуальные отношения, пусть в целом и без проникновения. От мальчика ожидалось, что он будет несколько застенчивым и даже скорее неподатливым, а от взрослого мужчины требовалось выступить в роли воздыхателя и влюбленного. Платон хорошо осознавал, что такая диспозиция предполагает неравенство сил, и это помогает объяснить, почему в «Законах» (одном из его последних диалогов) основой социальной и политической гармонии становится целомудренная дружба, а не сексуальные связи13. В последнем случае доминирует тот или иной партнер, и это разрушает равенство, необходимое для процветающего гражданского общества. В «Законах» Платон рассчитывал на то, что дружба неэротического характера обеспечит единодушие, которое даст государству прочный фундамент. Платон имел в виду людей, равных в политическом отношении, которые заботятся о благополучии друг друга и выступают единомышленниками прежде всего в совместном стремлении к добродетели в течение всей жизни. Места для единодушия мужей и жен у Платона не оставалось: супружеская пара у него оказывается полезной только для продолжения рода и снятия сексуального напряжения.
Однако в других диалогах Платон очертил иные решения проблемы неравенства, которая, похоже, неотъемлемо присутствует в эротических отношениях. Самые убедительные доводы подобного рода приведены в его «Пире». Греческое название диалога (Symposium) напоминает о практике мужских посиделок (symposia)14, распространенных в греческих полисах классической Античности, – эти вечеринки славились девушками-флейтистками, изобилием вина и добрыми беседами. На свой вымышленный пир Платон собрал знаменитых людей предшествующего философу поколения, включая Сократа. Отпустив девушек-флейтисток, мужчины решают, что будет лучше не предаваться пьянству, а произнести импровизированные речи во славу Эрота, бога любви. Упомянутая выше проблема неравенства в сексуальных отношениях решается в речи драматурга-комедиографа Аристофана, который превращает любовь в поиск «второй половины» человека.
Первоначально, утверждает Аристофан, люди имели идеально круглую форму и были совершенно самодостаточны, не нуждаясь ни в ком другом. В определенном смысле это были существа, к которым применима формула «два в одном»: одни люди состояли из двух мужчин, другие – из двух женщин, третьи – из мужчины и женщины. Каждый имел два лица, два половых органа, четыре ноги, четыре руки. Эти существа могли очень быстро перемещаться, вращаясь как колесо, и были настолько охвачены гордыней, что «посягали даже на власть богов» (190b)15. За несносное высокомерие Зевс разрезал их пополам, заставив Аполлона повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, а все остальное залечить. В результате люди могли увидеть свою вторую половину, которую Аполлон разгладил, и лишь «возле пупка и на животе… оставил немного морщин, на память о прежнем состоянии» (191a). Разделение оказалось совершенно плачевным решением, поскольку отныне каждая половина тратила все свое время на поиски второй половины, пытаясь с ней соединиться. Люди не думали ни о чем другом и, как следствие, умирали, никто не размножался, а боги не получали должного поклонения и жертвоприношений.
Затем Зевс нашел другое решение: он переместил гениталии вперед – на разрезанную сторону, благодаря чему «при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной – достигалось все же удовлетворение от соития» (191c). Женщин же, «представляющих собой половинку прежней женщины, больше привлекают женщины» (191e). Несмотря на отсутствие абсолютной уверенности в том, что каждый найдет свою половину, Аристофан подчеркивал радость, возникавшую в том случае, когда они все-таки встречались: «Происходит нечто удивительное: двое теряют рассудок от любви» и затем «проводят вместе всю жизнь» (192c). В рассказе Аристофана единственной истинной формой любви как таковой предстает любовь единодушных, а секс оказывается наименее значимой составляющей: «Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе». Напротив, любовь представляет собой стремление душ друг к другу: влюбленные «не хотят разлучаться даже на короткое время» (192c) и были бы рады «срастись воедино», подобно солдатам в идеальной греческой фаланге (192e). Идея разделенного целого у Аристофана решала проблему сексуального неравенства: если пары были половинками друг друга, то даже в сексе они обладали одинаковой властью.
Никто из присутствующих на платоновском пиру прямо не критикует Аристофана. Вместо этого все участники дискуссии настолько страстно хотят представить собственное, совершенно отличное от других представление о любви, что можно лишь гадать, не противоречило ли радикальное утверждение Аристофана о гендерном равенстве античным предрассудкам.
Разумеется, стремление изложить собственную концепцию любви присутствовало и у поколения, следовавшего за Платоном, о чем можно судить по трудам его ученика Аристотеля (ум. в 322 году до н. э.), – хотя и в гораздо более упорядоченном, прикладном и приземленном виде. Аристотель ограничивал идею «второго я» друзьями мужского пола – точнее, лишь лучшими друзьями среди мужчин, узы между которыми возникали благодаря одинаковой добродетельности. Аристотель был весьма осведомлен о низших разновидностях дружбы, присущих людям, которые ожидают друг от друга благосклонности или же им просто нравится быть вместе. Всевозможные варианты добрых приятельских отношений Аристотель именовал понятием philia – любовь в смысле привязанности. Но лучшим видом дружбы – «совершенной» дружбой, как именовал ее Аристотель, – служили отношения между добродетельными мужчинами, желавшими друг другу самого лучшего. Достичь добродетели непросто: ее самая общая идея подразумевает развитие всех человеческих способностей под руководством разума. Никто не рождается добродетельным, и на то, чтобы стать таковым, могли рассчитывать лишь свободнорожденные мужчины, получившие правильное воспитание и образование. Более того, добродетельные мысли и поведение следует практиковать регулярно и в любых ситуациях, чтобы они превратились в привычку, – только это и является признаком истинной добродетели. Таким образом, добродетельные люди встречаются редко, а если они становятся совершенными друзьями (для появления такой дружбы необходимо время), то желают проводить все свое время вместе. «Присутствие друзей доставляет удовольствие и при удачах, и в несчастьях», поскольку они оба стремятся к добродетели (1171a5)16. Это радостное, но трудное призвание, к которому дети неспособны, поскольку их разум еще неразвит, а женщины могут браться за него лишь под руководством высшего разума мужчины – отца или мужа. В такой концепции не содержится представления о взращивании самостоятельных индивидуальностей, ведь в своем стремлении к добродетели друзья преследуют одну и ту же цель. В этом смысле Аристотель мог утверждать, что для добропорядочного человека «друг – это второй он сам» (1170b).
Правда, Аристотель не упускал из виду матерей, которые хотят лучшего для своих детей, разделяют их горести и радости, жертвуют собой и собственными желаниями ради потомства. Для своих детей эти матери служили неким подобием «совершенных» друзей, но не всецело таковыми, поскольку совершенная дружба требует взаимности, а дети никогда не могут отвечать взаимностью в должной мере. Впрочем, на это способны мужья – а следовательно, напрашивается вопрос: могут ли мужья и жены быть единомышленниками? Аристотель отвечает на него утвердительно, но лишь в том смысле, что Одиссей и Пенелопа находились «на одной волне», пусть они и не были зеркальными отражениями друг друга: Пенелопа заботилась о доме, а Одиссей совершал набеги, дабы пополнить их припасы. Таким образом, признавал Аристотель, в дружбе мужей и жен «присутствует как польза, так и удовольствие. Она будет и [дружбой] по добродетели, если и муж, и жена – добрые люди» (1162a20–5). Кажется, сказать о супружеской паре как единомышленниках нечто большее Аристотель не мог.
Таким образом, древние греки не слишком охотно признавали возможность того, что женщины способны на единодушие с другим мужчиной или другой женщиной. Когда понятие «другое я» появилось в трудах сурового древнеримского оратора, политика и моралиста Цицерона (ум. в 43 году до н. э.), оно явно не могло быть применимо к женщинам. Зачем же тогда вообще обращаться к Цицерону при рассмотрении исторических источников, на которых строится одна из современных фантазий о любви? Отчасти мы вспоминаем о Цицероне потому, что в контексте нашего разговора заслуживает обязательного упоминания его диалог «О дружбе», где предельно четко показана связь между любовью и определенными ожиданиями найти свое зеркальное отражение в другом человеке. Важно и то, что работы Цицерона стали бесконечным источником блестящих афоризмов, которые приспосабливались к любым случаям и обстоятельствам. Наконец, мы можем, пусть и неохотно, простить Цицерону его сексизм, поскольку он не представлял себе дружбу отдельно от политической сферы, где римским женщинам не было места. Впрочем, на деле никакой политической роли не играли и большинство римских мужчин, даже в поздний республиканский период, когда жил и работал Цицерон. В политике той эпохи могли участвовать лишь представители элиты – и некоторые выскочки вроде самого Цицерона. То обстоятельство, что он заводил друзей, также являлось привилегией узкого слоя мужской элиты, людей «щедро одаренных богатством и средствами», – к этим строгим критериям Цицерон делает следующее дополнение: «а особенно доблестью», – еще больше сужая коридор возможностей для дружбы (XIV, 51)17.
Для Цицерона дружба начинается лишь в тот момент, когда индивид с высокими моральными достоинствами (их обретение – задача сама по себе непростая) видит заслуживающего восхищения другого человека или слышит о нем. В таком случае благочестивый муж не может не испытывать «чувства любви и приязни» (IX, 32) к достойному похвалы образцу добродетели. Он стремится приблизиться к своему идеалу и тянется к нему все ближе, как растение, взыскующее солнца. Если ему повезет, то возникнет возможность «близкой дружбы», а когда почитатель и тот, кем он восхищается, любезно оказывают друг другу различные услуги и делают нечто вместе, «когда все это прибавилось… к первому движению души и расположению, то загорается, так сказать, редкостная доброжелательность» (IX, 29). Если последнее понятие – в латинском оригинале benevolentia – в английском переводе (goodwill [букв.: добрая воля]) выглядит довольно расплывчато, то вот вам его итальянский аналог, в котором оно все еще содержит толику латинской страсти: ti voglio bene, «я люблю тебя». Таким образом, перед нами разновидность любви, которую мы испытываем к самым дорогим друзьям, родителям и детям. Это прекрасное, теплое чувство, хотя оно приносит с собой череду тревог, ведь мы ощущаем озабоченность, беспокоимся и грустим, когда с теми, кого мы любим, случается что-то нехорошее.
Цицерон как типичный стоик мог привычно и предсказуемо избегать дружеских эмоций, поскольку он считал чувства нежелательным и неприятным раздражителем психики. Однако для дружбы сделано исключение: ради нее Цицерон становится красноречивым защитником чувств и осмеливается заявить, что без привязанности не было бы различия «между человеком и пнем, или камнем» (XIII, 48).
Образцом и выразителем подобной привязанности в диалоге «О дружбе» становится Лелий, живший за несколько поколений до Цицерона18. В изображении Цицерона Лелий наслаждается согревающим светом дружбы с великим полководцем Сципионом Африканским и даже после его смерти утешается воспоминанием о ней. Лелий считал себя счастливым человеком, поскольку «жил в одно время со Сципионом». Далее он писал: «С ним меня связывали заботы о делах и государственных, и частных; с ним у меня были общими и дом, и походы, и то, в чем весь смысл дружбы – полное согласие в желаниях, стремлениях и мнениях» (IV, 15).
Высказывание Цицерона напоминает формулировки, при помощи которых Гомер описывал отношения Нестора с Одиссеем. Однако дружба Лелия и Сципиона была еще крепче, потому что они действительно жили под одной крышей и делили сокровенные радости и печали. Занимались ли они сексом? Все может быть, поскольку, как показывает доскональное исследование Крейга Уильямса, свободнорожденные римские мужчины не считали однополое желание чем-то проблематичным, а в некоторых случаях не порицали и гомосексуальные акты19. Однако в диалоге Цицерона Лелий настаивает на необходимости равенства между друзьями (XIX, 69), при том что если бы они со Сципионом занимались сексом, то лишь один из них мог бы – в соответствии с римскими представлениями – взять на себя «маскулинную» проникающую роль. Таким образом, маловероятно, что призыв Лелия к «полному согласию» включал в себя и секс.
Впрочем, в этом согласии присутствовало столь полное единодушие, что, согласно Цицерону, истинный друг становился «как бы вторым я». Мы любим себя, потому что заботимся о себе, и привязываемся к другим, о которых заботимся. Вот почему человеческое существо «ищет другого человека, чью душу он настолько сливает со своей, что делает как бы из двух душ одну!» (XXI, 80–81).
Такая формулировка отчасти напоминает теорию Аристофана в «Пире», однако у Цицерона «слияние» не имело ничего общего с сексом, а его акцент на разуме был совершенно чужд аристофановскому опыту любви. Этот опыт был прежде всего радостным, тогда как опыт Цицерона сближался с болью. В силу ряда причин подобное обстоятельство связано с разными контекстами: в «Пире» Платон вкладывал речь о любви в уста комедиографа, тогда как Цицерон размышлял о настоящих друзьях и собственном опасном политическом положении. В момент работы над диалогом о дружбе Цицерон действительно пытался решить, кого из соперников, боровшихся за власть над Римом, – Октавиана или Антония, – ему следует поддерживать. Он сделал ставку на Октавиана, но когда оба претендента решили действовать вместе, они заодно согласились пожертвовать бывшими «друзьями» и членами семей. Цицерон оказался среди тех, кто попал в проскрипционные списки и был приговорен к смерти. В данных обстоятельствах требовалось быть либо очень храбрым, либо очень глупым человеком, чтобы «смешивать» свою душу с чужой вместо спасения собственной шкуры. Вот почему Цицерона беспокоило, как далеко должна заходить верность другу. По его мнению, не стоило совершать дурные поступки лишь потому, что об этом просит друг.
Цицероновская дружба была меланхоличной прежде всего потому, что на нее возлагалось слишком много ожиданий, которые редко исполнялись в полном объеме. Цицерону нравилось проводить время со своим другом детства Аттиком, которому он и посвятил диалог «О дружбе». «Ведь многое волнует и угнетает меня. Мне кажется, что если бы ты выслушал меня, то я мог бы исчерпать все в беседе в течение одной прогулки». Но Аттика не было рядом, чтобы выслушать Цицерона, – он вообще редко бывал в Италии, предпочитая аристократический досуг в своих поместьях в далекой Греции. Цицерон же оплакивал его отсутствие: «Где же ты, так часто облегчавший мою заботу и беспокойство своей беседой и советом, мой обычный союзник в государственной деятельности, поверенный во всех личных делах, участник всех моих бесед и замыслов?»20 Дружба, которая должна доставлять огромное удовольствие, у Цицерона часто приносит печаль и тоску.
Бог как связующий элемент
Страдания античной страсти стали умалять христиане, чей Бог выступал лучшим и более устойчивым объектом любви. Как только Римская империя в конце IV века приняла христианство, дружба в духе Цицерона, опутанная мирскими связями, больше не могла оставаться идеалом, равно как и политическая карьера наподобие цицероновской. Теперь у Рима был единственный правитель – император, – а люди, которые прежде приходили на римский Форум для споров о государственной политике, получили должности епископов и занимались отправлением пастырских обязанностей, ведя споры по острым богословским вопросам на церковных соборах.
Августин (ум. в 430 году), епископ Гиппона и важнейший из западных отцов церкви, хорошо знал диалог Цицерона «О дружбе». До принятия христианства у Августина тоже был друг в духе Цицерона – родственная душа с детских лет, человек, с которым он вместе испытывал воодушевление и никогда не хотел расставаться. Однако, когда этот друг умер в молодом возрасте, реакция Августина совершенно не походила на умиротворенные воспоминания Лелия о Сципионе. Напротив, Августин был вне себя от горя: «Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв». Августин не мог поверить, что сам он, «его второе я», все еще жив, и хотел умереть, ибо «чувствовал: моя душа и его душа были одной душой в двух телах… не хотел я ведь жить половинной жизнью» (IV, 6)21.
Стремясь избавиться от болезненного осознания печали, приносимой любовью, Августин нашел необычное решение: он отрицал, что его любовь была «настоящей». Та разновидность дружбы, которой он наслаждался, являлась притворной, «потому что истинной она бывает только в том случае, если Ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу» (IV, 4). «Ты» в данном случае – это Бог.
