Деньги бесплатное чтение
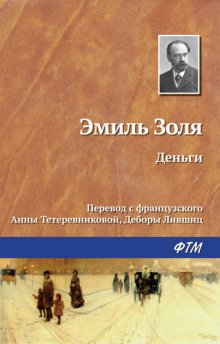
© Перевод. А. Тетеревникова, наследники, 2019
© Перевод. Д. Лившиц, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
1
Часы на бирже только что пробили одиннадцать, когда Саккар вошел в ресторан Шампо, в белый с позолотой зал с двумя высокими окнами, выходящими на площадь. Он окинул взглядом ряды столиков, где с озабоченным видом, близко придвинувшись друг к другу, сидели посетители, и, казалось, удивился, не найдя того, кого искал.
Один из официантов, торопливо сновавших по залу, пробегал мимо с полным подносом. Саккар спросил его:
– Что, господин Гюре не приходил?
– Нет еще, сударь.
Тогда, решив ждать, Саккар сел за освободившийся столик в амбразуре окна. Он боялся, что опоздал, и, пока меняли скатерть, стал смотреть на улицу, следя за прохожими. Даже когда ему подали прибор, он не сразу заказал завтрак и еще несколько мгновений не отрывал глаз от площади, залитой веселым светом одного из первых майских дней. В этот час, когда все завтракали, она почти совсем опустела: скамьи под каштанами с нежной молодой зеленью были свободны; на стоянке экипажей, вдоль ограды, от одного ее конца до другого, вытянулся ряд фиакров; и омнибус, идущий от Бастилии, остановился перед конторой у сада, не приняв и не высадив ни одного пассажира. Лучи солнца, падая почти отвесно, заливали светом здание биржи с его колоннадой, двумя статуями, широкой лестницей и обширным пространством за колоннами, где пока стояли только пустые стулья, выстроенные в боевом порядке.
Обернувшись, Саккар увидел за соседним столиком Мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку:
– А, это вы! Здравствуйте!
– Здравствуйте, – отозвался Мазо, рассеянно отвечая на рукопожатие.
Маленький подвижной красивый брюнет, Мазо недавно, в тридцать два года, получил свою должность по наследству от дяди. Казалось, он был всецело поглощен беседой с сидевшим напротив него толстым господином с красным и бритым лицом, знаменитым Амадье, к которому вся биржа преисполнилась уважением после его прославленной аферы с Сельсисскими рудниками. Когда акции упали до пятнадцати франков и на каждого, кто их покупал, смотрели как на безумца, он вложил в это дело все свое состояние, двести тысяч франков; на авось, без всякого расчета или чутья, с упрямством удачливого тупицы. Потом действительно были найдены богатые месторождения руды, курс акций перевалил за тысячу франков, и Амадье выиграл около пятнадцати миллионов; его сумасбродная покупка, за которую в свое время его нужно было бы посадить в сумасшедший дом, теперь создала ему славу одного из самых глубоких финансовых умов. Ему все кланялись, с ним советовались. Впрочем, с тех пор он воздерживался от дел, словно был удовлетворен, царствуя в ореоле своей единственной легендарной аферы. Мазо, должно быть, мечтал заполучить его в клиенты. Саккар, которого Амадье не удостоил даже улыбки, раскланялся с тремя знакомыми дельцами, сидевшими за столиком напротив, – Пильеро, Мозером и Сальмоном:
– Здравствуйте! Как дела?
– Да ничего… Здравствуйте!
С их стороны он тоже почувствовал холодок, почти враждебность. А между тем Пильеро, высокий, очень худой, с резкими жестами, с ястребиным носом на костлявом лице странствующего рыцаря, обычно отличался фамильярностью игрока, который взял себе за правило действовать напропалую: он говорил, что терпит полный крах всякий раз, как начинает размышлять. У него был буйный темперамент игрока на повышение, тогда как Мозер, низенький, с желтым цветом лица, истощенный болезнью печени, напротив, беспрестанно ныл, все время опасаясь какой-нибудь катастрофы. Что касается Сальмона, это был очень красивый мужчина, который в пятьдесят лет не поддавался приближающейся старости, гордился своей роскошной черной как смоль бородой и, считался, необыкновенно ловким малым. Он был очень неразговорчив, отвечал только улыбками; никто не знал, играет он на повышение или на понижение, да и вообще играет ли он; его манера слушать производила на Мозера такое впечатление, что часто, рассказав Сальмону о своих делах и сбитый с толку его молчанием, он бежал изменить какой-нибудь ордер на покупку или на продажу ценных бумаг.
В этой атмосфере всеобщего равнодушия Саккар продолжал осматривать зал беспокойным и вызывающим взглядом. Он издали обменялся поклоном еще только с одним высоким молодым человеком, красавцем Сабатани, левантинцем с великолепными черными глазами и продолговатым смуглым лицом, которое, однако, несколько портил неприятный, вызывающий недоверие рот. Любезность этого молодчика окончательно рассердила Саккара: наверно проворовавшийся на какой-нибудь иностранной бирже, таинственная личность, любимец женщин, Сабатани появился здесь прошлой осенью; Саккар знал, что его уже успели использовать в качестве подставного лица при крахе одного банка; постепенно он завоевывал доверие маклеров и кулисье своей корректностью и неутомимой любезностью даже по отношению к лицам, пользующимся самой дурной репутацией.
Перед Саккаром стоял официант:
– Что прикажете подать, сударь?
– Ах, да! Что-нибудь, ну хоть котлету и спаржи.
Затем он снова окликнул официанта:
– Вы уверены, что господин Гюре не был здесь и не ушел еще до моего прихода?
– О, совершенно уверен!
Вот до чего он дошел после этой катастрофы, когда ему пришлось в октябре еще раз ликвидировать свои дела, продать особняк в парке Монсо и нанять вместо него квартиру, – только такие, как Сабатани, здоровались с ним, головы уже не поворачивались, руки не протягивались к нему, когда он входил в ресторан, где прежде царил. Страстный игрок по натуре, он не обижался на это после своей последней скандальной и злосчастной аферы с земельными участками, в результате которой ему не удалось спасти ничего, кроме собственной шкуры. Но его охватывало страстное желание отыграться, и его бесило отсутствие Гюре, который обещал ему непременно прийти сюда к одиннадцати часам, чтобы рассказать о своем разговоре с его братом Ругоном, в то время всемогущим министром. Больше всего он сердился на брата. Гюре, депутат, послушный воле министра, обязанный ему своим положением, был только посредником. Но неужели всесильный Ругон оставит его на произвол судьбы? Ругон никогда не был хорошим братом. То, что он рассердился после катастрофы и открыто порвал с ним, чтобы самому не быть скомпрометированным, было еще понятно; но за эти полгода разве не мог он оказать ему тайную поддержку? И неужели теперь у него хватит бессердечия отказать в последней помощи, о которой Саккар, не смея обратиться к нему лично, чтобы не вызвать в нем приступа бешенства, просил через третье лицо? Стоит ему сказать одно только слово, и Саккар снова поднимется на ноги и будет попирать этот подлый огромный Париж.
– Какого вина прикажете, сударь? – спросил метрдотель.
– Вашего обычного бордо.
Котлета Саккара остывала, но он не чувствовал голода, поглощенный своими мыслями. Заметив, что по скатерти его стола мелькнула тень, он поднял глаза. Это был Массиас, биржевой агент, толстый краснолицый малый, прежде сильно нуждавшийся. Он проскользнул между столиков с таблицей курсов в руке. Саккар был уязвлен, когда он проскочил мимо него, не остановившись, и предложил таблицу Пильеро и Мозеру. Увлекшись своим спором, те едва бросили на нее рассеянный взгляд, – нет, у них не было никаких поручений, может быть, в другой раз. Массиас, не смея подойти к знаменитому Амадье, который, склонившись над салатом из омаров, вполголоса разговаривал с Мазо, вернулся к Сальмону. Тот взял таблицу, долго ее изучал, затем возвратил, не сказав ни слова. Оживление в зале возрастало. Ежеминутно, хлопая дверьми, входили другие агенты. Многие издали громко переговаривались, биржевая лихорадка разгоралась по мере того, как приближался полдень. И Саккар, взгляд которого постоянно возвращался к окну, заметил, что площадь тоже постепенно оживает, прибывают экипажи и пешеходы, а на ступенях биржи, залитых ярким солнцем, один за другим, как темные пятнышки, уже показываются люди.
– Говорю вам, – сказал Мозер своим скорбным голосом, – что дополнительные выборы двадцатого марта – очень тревожный симптом… Словом, оппозиция уже завоевала весь Париж.
Но Пильеро пожимал плечами. Что могло измениться от того, что на скамьях левых появились Карно и Гарнье-Пажес?
– Вот тоже вопрос о герцогствах[1], – продолжал Мозер, – ведь он чреват осложнениями. Конечно! Напрасно смеетесь! Я не хочу сказать, что мы должны воевать с Пруссией, чтобы помешать ей жиреть за счет Дании; однако была возможность действовать другими путями… Да, да, когда сильные начинают пожирать слабых, нельзя предугадать, чем это может кончиться. Что же касается Мексики…
Пильеро, который в этот день был в самом благодушном настроении, перебил его, громко засмеявшись:
– Ах, дорогой мой, вы нам надоели с вашими страхами насчет Мексики… Мексика будет славной страницей этого царствования…[2] Черт возьми, откуда вы взяли, что империя в опасности? Январский заем в триста миллионов был покрыт больше чем в пятнадцать раз! Потрясающий успех!.. Слушайте, я вам назначаю свидание в шестьдесят седьмом году, да, через три года, когда откроется Всемирная выставка, согласно недавнему решению императора.
– Говорю вам, дела плохи, – безнадежным тоном повторял Мозер.
– Да бросьте вы, все в порядке!
Сальмон по очереди взглядывал на них, улыбаясь со свойственным ему проницательным видом. И Саккар, слышавший их разговор, сопоставлял свои личные затруднения с кризисом, который, казалось, угрожал империи. Судьба еще раз положила его на обе лопатки; неужели этот режим, который его создал, обрушится, как и он, с недосягаемых высот во тьму ничтожества? Ах, как он любил и как защищал империю, чувствуя, что в течение последних двенадцати лет сам он жил полной жизнью, рос, наливался соком, словно дерево, корни которого уходят в подходящую для него почву! Но если брат хочет вырвать его отсюда, если его хотят исключить из числа тех, кто процветает на жирной почве наслаждений, пусть все идет прахом в великом разгроме, которым должны завершиться пиршественные ночи!
Пока он ожидал свою спаржу, шум все возрастал, на него нахлынули воспоминания и унесли его далеко от этого зала. Он заметил свое отражение в зеркале напротив, и оно удивило его. Возраст не запечатлелся на его маленькой фигурке; в пятьдесят лет ему нельзя было дать больше тридцати восьми, и он все еще оставался худощавым и шустрым, как юноша. Его смуглое лицо с впалыми щеками, похожее на лицо марионетки, с острым носом и блестящими глазками теперь даже стало как-то благообразнее, приобрело какое-то очарование, упорно сохраняя живую и подвижную моложавость, а в густой шевелюре еще не было ни одного седого волоса. И он невольно вспомнил свой приезд в Париж сразу после переворота, тот зимний вечер, когда он очутился на парижской мостовой без гроша в кармане, голодный, с бешеным желанием удовлетворить свои вожделения. Ах, эта первая прогулка по парижским улицам, когда, даже не раскрыв чемодана, он почувствовал непреодолимую потребность, как был, в дырявых сапогах и засаленном пальто, броситься в город, чтобы завоевать его! С тех пор он много раз поднимался высоко, через его руки прошел целый поток миллионов, но никогда он не обладал фортуной как рабыней, как собственностью, которой располагаешь по своему желанию, которую держишь под замком, ощутимую, живую. Всегда в его кассах хранились ложные, фиктивные ценности, золото утекало из них в какие-то невидимые дыры. И вот он снова на мостовой, как в те далекие времена, когда только начинал свою карьеру, и все такой же молодой, такой же алчный, терзаемый все той же потребностью наслаждаться и побеждать. Он попробовал всего и не насытился, потому что, казалось ему, у него не было ни случая, ни времени как следует использовать людей и обстоятельства. Сейчас он испытывал особое унижение от того, что чувствовал себя на этой мостовой ничтожнее новичка, которого еще поддерживают иллюзии и надежды. И его охватывало страстное желание начать все сначала и снова все завоевать, подняться на такую высоту, какой он еще не достигал, увидеть, наконец, у своих ног завоеванный город. Довольно обманчивого, показного богатства, теперь ему нужно прочное здание солидного капитала, нужна подлинная власть золота, царящая на туго набитых мешках!
Раздавшийся снова резкий и пронзительный голос Мозера на минуту оторвал Саккара от его размышлений:
– Экспедиция в Мексику стоит четырнадцать миллионов в месяц, это доказал Тьер… И надо быть поистине слепым, чтобы не видеть, что большинство в палате ненадежное. Левых теперь больше тридцати человек. Сам император хорошо понимает, что неограниченная власть становится невозможной, раз он первым заговорил о свободе.
Пильеро не отвечал и только презрительно усмехался.
– Да, я знаю, вам кажется, что рынок устойчив, что дела идут хорошо… Но посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что в Париже слишком много разрушили и слишком много настроили! Эти большие работы истощили накопления. Конечно, крупные банки как будто процветают, – но пусть только один из них лопнет, и вы увидите, как все они рухнут один за другим… Не говоря уже о том, что народ волнуется… Эта международная ассоциация трудящихся[3], организованная недавно в целях улучшения жизни рабочих, очень меня пугает. Во Франции всюду недовольство, революционное движение усиливается с каждым днем… Говорю вам, в плод забрался червь. Все полетит к черту.
Но тут все стали громко возражать. У этого проклятого Мозера, должно быть, опять разболелась печень. Между тем, произнося свои речи, он не спускал глаз с соседнего столика, где Мазо и Амадье, среди общего шума, продолжали тихо разговаривать. Мало-помалу весь зал встревожился этой конфиденциальной беседой. Что они поверяли друг другу, о чем шептались? Конечно, Амадье давал ордера, подготовлял какую-то аферу. Вот уже три дня, как распространялись недобрые слухи о работах на Суэцком перешейке. Мозер прищурился и понизил голос:
– Вы знаете, англичане не хотят, чтобы там продолжались работы. Можно ожидать войны.
На этот раз даже Пильеро заколебался – уж очень поразительная была новость.
Известие было невероятно, и оно тотчас же стало переходить от столика к столику, приобретая силу достоверности: Англия послала ультиматум, требуя немедленного прекращения работ. Амадье, очевидно, об этом и говорил с Мазо и, конечно, поручал ему продать все свои акции Суэцкого канала. В воздухе, насыщенном запахом подаваемых блюд, среди непрерывного звона посуды поднялся ропот, надвигалась паника, и волнение усилилось до предела, когда внезапно вошел один из служащих Мазо, маленький Флори, юноша с приятным лицом, наполовину закрытым густой каштановой бородой. С пачкой фишек в руке он быстро пробрался к своему патрону и, передавая их, сказал ему что-то на ухо.
– Хорошо, – кратко ответил Мазо, раскладывая фишки по своему блокноту.
Затем, взглянув на часы, он сказал:
– Скоро двенадцать! Скажите Бертье, чтобы он подождал меня, и будьте сами на месте.
Сходите за телеграммами.
Когда Флори ушел, Мазо возобновил разговор с Амадье и, вынув из кармана чистые фишки, положил их на скатерть возле своей тарелки; каждую минуту кто-нибудь из его клиентов, уходя, наклонялся к нему мимоходом и говорил несколько слов, которые он быстро записывал на одном из кусочков бумаги, продолжая есть. Ложное известие, пришедшее неизвестно откуда, возникшее из ничего, разрасталось, как грозовое облако.
– Вы продаете, не правда ли? – спросил Мозер у Сальмона.
Но последний промолчал и улыбнулся так загадочно, что Мозер оробел, уже сомневаясь в этом ультиматуме Англии и не подозревая, что сам только что выдумал его.
– Что до меня, так я куплю, сколько предложат, – решил Пильеро с хвастливой отвагой игрока, не признающего никакого метода.
Опьяненный атмосферой игры, наполнявшей этот тесный зал и все более накалявшейся к концу завтрака, Саккар решился, наконец, съесть свою спаржу, снова чувствуя раздражение против Гюре, который так и не явился. Вот уже несколько недель, как он, всегда быстро решавший все вопросы, колебался, одолеваемый сомнениями. Он понимал, что нужно коренным образом изменить свое положение. Сперва он мечтал о совсем новой жизни, о высшей административной или политической деятельности. Почему бы Законодательному корпусу не ввести его в Совет министров, как ввели его брата? В биржевой игре ему не нравилась эта постоянная неустойчивость – там можно было так же легко потерять громадные суммы, как и нажить их: никогда ему не приходилось спать спокойно, с уверенностью, что он обладает реальным миллионом и никому ничего не должен. И сейчас, тщательно анализируя самого себя, он сознавал, что, быть может, был слишком горяч для этих денежных битв, где нужно иметь столько хладнокровия. Вероятно поэтому, повидав в своей необычайной жизни так много роскоши и нужды, за десять лет грандиозных спекуляций земельными участками нового Парижа он прогорел и разорился, в то время как другие, более тяжеловесные и медлительные, нажили колоссальные состояния. Да, может быть, он ошибся в своих настоящих способностях, может быть, его активность, страстная вера в свои силы сразу обеспечили бы ему успех в политических схватках? Все будет теперь зависеть от ответа его брата. Если брат оттолкнет его, снова бросит его в пучину ажиотажа, – ну что ж, тем хуже для него и для других, он пойдет тогда на крупнейшую аферу, о которой мечтал уже несколько месяцев, никому еще ничего не сказав, на колоссальное дело, пугавшее его самого; оно было такого размаха, что в случае успеха или провала должно было потрясти весь мир.
Пильеро громко спросил:
– А что, Мазо, исключение Шлоссера уже решено?
– Да, – ответил маклер, – сегодня будет объявление… Что же делать? Это всегда бывает неприятно, но я получил самые тревожные известия и первый опротестовал его векселя.
Приходится время от времени выметать с биржи всякий сор.
– Мне говорили, – сказал Мозер, – что ваши коллеги Якоби и Деларок потеряли на этом деле кругленькие суммы.
Маклер пожал плечами:
– Ничего не поделаешь… За спиной этого Шлоссера действовала, наверное, целая шайка; ему что? Он теперь поедет обирать берлинскую или венскую биржу.
Саккар перевел взгляд на Сабатани, который, как он случайно узнал, был в тайном сообщничестве с Шлоссером: оба вели хорошо известную игру – один на повышение, другой на понижение тех же самых бумаг; тот, кто проигрывал, получал половину доходов другого и исчезал. Но молодой человек спокойно платил по счету за свой изысканный завтрак. Затем, со свойственным ему мягким изяществом уроженца востока с примесью итальянской крови, он подошел пожать руку Мазо, клиентом которого состоял. Наклонившись к нему, он передал какое-то поручение, и Мазо записал его на карточке.
– Он продает свои Суэцкие акции, – пробормотал Мозер.
И, не выдержав, терзаемый подозрениями, громко спросил:
– Ну как, что вы думаете о Суэце?
Гул голосов смолк, головы всех сидевших за соседними столиками повернулись к нему.
Этот вопрос выражал все растущую тревогу. Но спина Амадье, который пригласил Мазо завтракать просто для того, чтобы рекомендовать ему одного из своих племянников, оставалась непроницаемой, так как ее обладателю нечего было сказать; а маклер, удивленный обилием ордеров на продажу акций, только кивал головой, из профессиональной скромности не высказывая своего мнения.
– Суэц – верное дело! – заявил своим певучим голосом Сабатани, который, выходя, обошел столики, чтобы любезно пожать руку Саккару.
И Саккар сохранил на минуту ощущение этого рукопожатия, этой гибкой и мягкой, почти женской руки. Еще не решив, какой путь избрать, как по-новому переустроить жизнь, он считал жуликами всех, кого видел здесь. Ах, если они принудят его к этому, как он прижмет их, как оберет этих трусливых Мозеров, хвастливых Пильеро, пустых, как тыква, Сальмонов и этих Амадье, слывущих гениями только потому, что им повезло! Звон стаканов и тарелок усилился, голоса становились хриплыми, двери хлопали сильнее, все хотели быть там, на бирже, когда акции Суэца полетят вниз. И глядя в окно на площадь, которую бороздили фиакры и наводняли пешеходы, Саккар видел, что залитые солнцем ступени биржи были теперь испещрены, словно насекомыми, непрерывно поднимавшимися мужчинами в строгих черных костюмах, постепенно заполнявшими колоннаду, а за оградой появились неясные фигуры бродивших под каштанами женщин.
Но едва он принялся за свой сыр, чей-то густой бас заставил его поднять голову:
– Простите, дорогой мой, я никак не мог прийти раньше.
Наконец-то! Это был Гюре, нормандец из Кальвадоса, с грубым и широким лицом хитрого крестьянина, разыгрывающего простака. Он сейчас же велел подать себе что-нибудь, хотя бы дежурное блюдо с овощами.
– Ну? – сухо, сдерживаясь, спросил Саккар.
Но тот, как человек осторожный и себе на уме, не торопился. Он принялся за еду и, наклонившись, понизив голос, сказал:
– Ну, я видел великого человека. Да, у него дома, сегодня утром. О, он был очень мил, очень мил по отношению к вам.
Он остановился, выпил полный стакан вина и положил в рот картофелину.
– И что же?
– Так вот, дорогой мой… Он готов сделать для вас все, все, что сможет; он вас очень хорошо устроит, только не во Франции… Например, губернатором в какой-нибудь из самых лучших наших колоний. Там вы будете полным хозяином, настоящим царьком.
Саккар позеленел:
– Да вы что же, смеетесь надо мной? Почему бы тогда не прямо в ссылку? А, он хочет от меня отделаться! Пусть побережется, как бы я и в самом деле не доставил ему неприятностей.
Гюре с полным ртом старался успокоить его:
– Да что вы, мы хотим вам только добра, позвольте нам позаботиться о вас.
– Чтобы я позволил уничтожить себя, не так ли?.. Слушайте! Только что здесь говорили, что империя уже совершила почти все ошибки, какие только можно совершить. Да, война с Италией[4], Мексика, отношения с Пруссией. Честное слово, все это правда! Вы делаете столько глупостей и безумств, что скоро вся Франция поднимется и вышвырнет вас вон. Депутат, послушная креатура министра, сразу встревожился, побледнел, стал озираться вокруг:
– Простите, я не могу согласиться с вами… Ругон – честный человек. Пока он у власти, бояться нечего… Нет, подождите, вы его недооцениваете, уверяю вас.
Саккар грубо прервал его и сдавленным голосом проговорил:
– Ладно, целуйтесь с ним, обделывайте вместе свои дела! Да или нет, будет он помогать мне здесь, в Париже?
– В Париже – никогда!
Не сказав больше ни слова, Саккар встал и подозвал официанта, чтобы расплатиться, тогда как Гюре, знавший его бешеный нрав, спокойно глотал большие куски хлеба и не противоречил ему, опасаясь скандала. Но в эту минуту в зале началось сильное волнение. Вошел Гундерман, король банкиров, хозяин биржи и всего мира, человек лет шестидесяти с огромной лысой головой и круглыми глазами навыкате; лицо его выражало бесконечное упрямство и крайнюю усталость. Он никогда не бывал на бирже и даже нарочно не посылал туда официальных представителей; он никогда не завтракал в публичных местах. Изредка только ему случалось, как сегодня, показаться в ресторане Шампо, где он садился за столик и заказывал всего лишь стакан виши, который ему подавали на тарелке. Уже двадцать лет он страдал болезнью желудка и питался исключительно молоком.
Официанты стремглав бросились за водой, а все присутствующие приняли подобострастные позы. Мозер со смиренным видом рассматривал этого человека, которому известны были все тайны, который повелевал повышением и понижением курса, как бог повелевает громом. Сам Пильеро почтительно приветствовал его, веря только в непреодолимую силу миллиарда. Было уже половина первого, и Мазо внезапно оставил Амадье, подошел и склонился перед банкиром, от которого он иногда имел честь получить ордер. Многие биржевики, собравшиеся уходить, стоя окружили божество и, угодливо согнув хребты, почтительно смотрели, как он взял дрожащей рукой стакан воды и поднес его к своим бледным губам, в то время как официанты вокруг поспешно уносили грязные скатерти.
Когда-то в связи со спекуляциями земельными участками в Монсо Саккар имел разногласия с Гундерманом и даже однажды поссорился с ним. Они были слишком разные люди: один – страстный, падкий до наслаждений, другой – умеренный, исполненный холодной логики. И теперь, когда Саккар, окончательно взбешенный этим триумфальным появлением, выходил из ресторана, Гундерман окликнул его:
– Скажите, друг мой, правда ли, что вы бросаете дела? Наконец-то вы взялись за ум; давно пора.
Для Саккара это было ударом хлыста по лицу. Он выпрямился во весь свой маленький рост и ответил ясным, колющим, как острие шпаги, голосом:
– Я основываю банк с капиталом в двадцать пять миллионов и надеюсь скоро заглянуть к вам.
И он вышел, оставив за собой гул возбужденных голосов, – в зале все теснились к дверям, чтобы не опоздать к открытию биржи. Ах, если бы, наконец, добиться успеха, снова увидеть у своих ног тех, кто теперь поворачивается к нему спиной, померяться силами с этим королем золота и, быть может, свалить его когда-нибудь! Он еще не решил начать свое грандиозное дело, он сам удивился той фразе, которую произнес, чтобы только что-нибудь ответить. Но разве может он теперь попытать счастья на каком-нибудь другом поприще, когда брат отказывается от него, когда люди и обстоятельства непрерывными оскорблениями вызывают его на борьбу, как окровавленного быка, которого снова и снова выталкивают на арену?
С минуту он стоял, весь дрожа, на краю тротуара. Это был тот шумный час, когда жизнь Парижа как будто приливает к этой центральной площади между улицами Монмартр и Ришелье, двумя узкими артериями, по которым несется толпа. С четырех сторон площади непрерывным потоком катились экипажи, бороздя мостовую среди водоворота спешащих пешеходов. На стоянке, вдоль ограды, то разрывались, то снова смыкались две цепи фиакров, а на улице Вивьен коляски биржевых агентов вытянулись сплошным рядом, над которым возвышались кучера с вожжами в руках, готовые хлестнуть лошадей по первому приказанию. Ступени и колоннада биржи были до того запружены толпой, что казались черными от кишевших там сюртуков, а под часами, где уже собралась и действовала кулиса, поднимался шум спроса и предложения, гул ажиотажа, похожий на рокот поднимающейся волны и заглушающий обычный городской шум. Прохожие оборачивались, с вожделением и страхом думая о том, что происходит в этом здании, где совершается недоступное для большинства французов таинство финансовые операций, где среди этой давки и исступленных криков люди непостижимым образом вдруг разоряются или наживают состояния. Саккар остановился на краю тротуара. В ушах у него стоял гул отдаленных голосов, его задевали на ходу локтями торопливые прохожие, а он опять мечтал основать царство золота в этом охваченном лихорадочной страстью квартале, посреди которого от часу до трех бьется, как огромное сердце, биржа.
Но со времени своей неудачи он не смел показаться на бирже, и сегодня то же чувство оскорбленного тщеславия, уверенность в том, что его встретят как побежденного, мешало ему подняться по ступеням. Как любовник, изгнанный из алькова своей возлюбленной, которую он страстно желает, хотя ему кажется, что он ее ненавидит, словно увлекаемый роком, он возвращался сюда под всякими предлогами, огибал колоннаду, проходил через сад с видом человека, прогуливающегося в тени каштанов. Здесь, в этом пыльном сквере без газонов и цветов, где на скамьях, среди общественных уборных и газетных киосков, копошились спекулянты подозрительного вида и простоволосые женщины из соседних кварталов кормили грудью своих младенцев, он делал вид, что бродит без определенной цели, и, поднимая глаза, наблюдал за биржей, и ему все казалось, что он осаждает это здание, заключает его в тесное кольцо блокады, чтобы когда-нибудь войти туда триумфатором.
Он повернул за угол направо, в тень деревьев против Банковской улицы, и сейчас же очутился на «малой» бирже обесцененных акций, среди «мокроногих», как с презрительной иронией называют этих спекулянтов биржевым хламом, торгующих на ветру, под дождем и в грязи акциями прогоревших предприятий. Тут была целая толпа евреев с жирными, лоснящимися лицами, с острым профилем прожорливых птиц, необыкновенное сборище типичных носов; склонившись, словно стая над добычей, с неистовым гортанным криком, они, казалось, готовы были растерзать друг друга. Проходя мимо, Саккар вдруг заметил стоявшего поодаль грузного человека, который разглядывал на солнце рубин, осторожно поворачивая его в своих толстых и грязных пальцах.
– А, Буш!.. Я и забыл, что как раз собирался зайти к вам.
Буш, у которого была деловая контора на улице Фейдо, много раз бывал полезен Саккару в затруднительных обстоятельствах. Он продолжал в самозабвении исследовать игру драгоценного камня, запрокинув широкое плоское лицо с серыми глазами навыкате, как бы потухшими от яркого света; его белый галстук, которого он никогда не снимал, скрутился жгутом, а сюртук, купленный по случаю, когда-то превосходный, но необыкновенно потертый и весь в пятнах, поднялся у него на затылке до тусклых волос, падавших с голого черепа редкими и непослушными прядями. Возраст его шляпы, порыжевшей от солнца, полинявшей от дождей, невозможно было определить.
Наконец он решился спуститься с небес на землю:
– А, господин Саккар, и вы завернули сюда?
– Да… У меня тут письмо на русском языке, письмо от одного русского, у него банк в Константинополе. Так вот, я подумал, что ваш брат мог бы мне его перевести.
Буш, продолжая с бессознательной нежностью вертеть свой рубин в правой руке, протянул левую, говоря, что сегодня же вечером он пришлет перевод. Но Саккар объяснил, что в письме всего только десять строк.
– Я поднимусь к вам, и ваш брат мне тут же его и прочтет.
Его прервало появление госпожи Мешен, женщины чудовищно тучной, хорошо известной завсегдатаям биржи: это была одна из тех ненасытных мелких спекулянток, чьи жирные руки вечно копаются во всяких подозрительных делах. Лицо ее, похожее на полную луну, одутловатое и красное, с маленькими голубыми глазками, едва заметным носом пуговкой, с крошечным ротиком, откуда исходил тонкий писк, казалось, выпирало из-под старой розовой шляпы, криво завязанной гранатовыми лентами, а гигантскую грудь и огромный, вздутый живот стягивало платье из зеленого поплина, побуревшего от грязи. На руке у нее висела старомодная черная сумка, с которой она никогда не расставалась, – громадная, глубокая, как чемодан. Сегодня эта сумка была набита до отказа, и под ее тяжестью Мешен сгибалась на правую сторону, как склоненное дерево.
– Вот и вы, – сказал Буш, по-видимому ожидавший ее.
– Да, я получила бумаги из Вандома, они со мной.
– Хорошо! Идем ко мне… Здесь сегодня нечего делать.
Саккар бросил косой взгляд на вместительную кожаную сумку. Он знал, что туда неминуемо попадают обесцененные бумаги, акции обанкротившихся компаний, на которых «мокроногие» еще продолжают играть, перекупая друг у друга пятисотфранковые бумаги за двадцать су, за десять су, в смутной надежде на невозможное повышение курса; другие, более практичные, покупают их как жульнический товар, который они с барышом уступят банкротам, стремящимся раздуть свой пассив. В смертельных финансовых битвах Мешен была вороном, который провожает армии в походе; она со своей сумкой присутствовала при основании каждого акционерного общества, каждого банка, разнюхивала обстановку, ловила трупный запах даже в периоды процветания, во время блистательных эмиссий, зная, что крах неизбежен, что настанет день разгрома, когда можно будет пожирать трупы, подбирая акции в грязи и в крови. И Саккар, который обдумывал свой проект грандиозного банка, слегка вздрогнул, – у него мелькнуло недоброе предчувствие при виде этой сумки, этой свалки обесцененные бумаг, куда попадала вся выметенная с биржи макулатура.
Буш уже уходил вместе со старухой, но Саккар удержал его:
– Значит, мне можно зайти, ваш брат наверное дома?
На лице Буша появилось тревожное удивление:
– Мой брат? Ну конечно! Где же ему еще быть?
– Прекрасно, значит, мы увидимся.
Расставшись с ними, Саккар медленно пошел вдоль деревьев к улице Нотр-Дам де Виктуар. Эта часть площади была самой оживленной, здесь помещались торговые фирмы, мелкие предприятия, и золотые буквы вывесок горели на солнце. На балконах колыхались шторы, у окна меблированной комнаты, разинув рты, стояла целая семья провинциалов. Саккар невольно поднял голову, посмотрел на этих людей, улыбаясь их ошеломленному виду, и в голове его мелькнула утешительная мысль о том, что в провинции всегда найдутся акционеры. А позади все раздавался гул биржи, преследуя его, как шум отдаленного прилива, который вот-вот проглотит его.
Но его остановила новая встреча.
– Как, Жордан, вы на бирже? – воскликнул он, пожимая руку высокому смуглому молодому человеку с маленькими усиками, с решительным и твердым выражением лица. Жордан, после того как отец его, марсельский банкир, когда-то проигравшись на бирже, покончил с собой, уже десять лет с трудом перебивался в Париже, страстно увлекаясь литературой, и мужественно боролся с самой ужасной нищетой. Один из его родственников, живший в Плассане и знакомый с семьей Саккара, рекомендовал его последнему в то время, когда тот еще принимал весь Париж в своем особняке в парке Монсо.
– На бирже, о нет, ни за что! – ответил молодой человек, резко махнув рукой, как будто отгоняя трагическое воспоминание об отце.
Затем он снова улыбнулся и сказал:
– А знаете, ведь я женился… Да, на подруге детства. Нас обручили, когда я был еще богат, и она ни за что не захотела отказаться от меня даже теперь, когда я стал бедняком.
– Да, правда, я получил извещение, – сказал Саккар. – А у меня прежде были дела с вашим тестем, господином Можандром, когда у него еще была фабрика парусины в Лавилете. Он, должно быть, заработал на ней хорошее состояние.
Они остановились возле уличной скамьи, и Жордан прервал разговор, чтобы представить сидевшего на ней толстого и низенького, с военной выправкой, господина, с которым он беседовал, когда подошел Саккар.
– Капитан Шав, дядюшка моей жены… Госпожа Можандр, моя теща – урожденная Шав, из Марселя.
Капитан встал, и Саккар раскланялся с ним. Он уже видел прежде это апоплексическое лицо, эту шею, потерявшую способность гнуться от привычки к жесткому воротнику, – перед ним был один из тех мелких спекулянтов, играющих за наличный расчет, которых непременно встретишь здесь каждый день, от часу до трех. Это жалкая игра с почти верным выигрышем в пятнадцать – двадцать франков, реализующимся на бирже в тот же день.
Жордан прибавил с добродушным смехом, чтобы объяснить свое присутствие:
– Мой дядя – отчаянный биржевик, и мне только изредка удается мимоходом пожать ему руку.
– Что поделаешь! – просто сказал капитан. – Поневоле приходится играть, если правительство дает мне такую пенсию, что можно подохнуть с голоду.
Затем Саккар, в котором молодой человек возбуждал участие своим мужеством в житейской борьбе, спросил, как идут его литературные дела. И Жордан, еще больше оживившись, рассказал, что он устроился со своим скромным хозяйством в шестом этаже на авеню Клиши, так как Можандры, не питая доверия к его профессии писателя и считая, что они и так уже много сделали, согласившись на брак, ничего не дали молодым под тем предлогом, что после смерти они оставят дочери все состояние нетронутым, да еще увеличат его своими сбережениями. Нет, литература плохо кормит того, кто посвящает себя ей; у него задуман роман, который ему некогда писать, ему приходится поневоле работать в газетах, и он строчит обо всем, о чем может писать журналист, начиная с хроники и кончая отчетами о судебных процессах и даже происшествиями.
– Ну что же, – сказал Саккар, – если я начну свое крупное дело, может быть, вы мне понадобитесь. Заходите ко мне.
Попрощавшись, он обогнул биржу. Здесь, наконец, отдаленные крики, вопли ажиотажа стихли, теперь это был только неясный ропот, сливающийся с шумом площади. С этой стороны ступени тоже были покрыты народом, но кабинет биржевых маклеров, красные обои которого виднелись через высокие окна, отделял колоннаду от большого зала с его шумом и гамом, и здесь, в тени, удобно сидели спекулянты-богачи, не желавшие смешиваться с толпой, некоторые поодиночке, другие небольшими группами, как будто эта обширная галерея под открытым небом была для них чем-то вроде клуба. Эта сторона здания, немного напоминающая задний фасад театра с подъездом для артистов, выходила на темную и сравнительно спокойную улицу Нотр-Дам де Виктуар, всю занятую кабачками, кафе, пивными, тавернами, кишащими особой, весьма разношерстной клиентурой. Вывески тоже указывали на эту сорную траву, выросшую на краю огромной клоаки: страховые общества с сомнительной репутацией, мошеннические финансовые газеты, различные компании, банки, агентства, конторы, длинный ряд скромных с виду разбойничьих притонов, ютящихся в лавках или на крохотных антресолях. На тротуарах и посреди мостовой – повсюду расхаживали люди, кого-то поджидая, словно грабители на большой дороге.
Саккар остановился за оградой и смотрел на дверь, ведущую в кабинет маклеров, острым взглядом полководца, изучающего все подступы к крепости перед штурмом. Вдруг из кабачка вышел высокий человек, перешел улицу и, подойдя к Саккару, очень низко поклонился ему:
– Господин Саккар, нет ли у вас для меня местечка? Я окончательно ушел из Общества движимого кредита и хотел бы где-нибудь устроиться.
Жантру был прежде преподавателем в Бордо и уехал оттуда после какой-то подозрительной истории. Вынужденный уйти из университета, он опустился; однако, несмотря на рано появившуюся лысину, имел представительный вид, носил черную бороду веером и к тому же был образован, умен и любезен. Попав на биржу в возрасте около двадцати восьми лет, он в течение десяти лет терся там и возился в грязи в качестве комиссионера, едва зарабатывая на удовлетворение своих порочных наклонностей. И теперь, совсем облысев, он приуныл, как проститутка, морщины которой угрожают отнять у нее кусок хлеба, и все-таки ждал случая, который доставил бы ему успех и богатство.
Саккар, видя его почтительность, с горечью вспомнил о поклоне Сабатани у Шампо: решительно, теперь ему приходилось иметь дело только с людьми сомнительной репутации и с неудачниками. Но Жантру он все же уважал за живой ум и отлично знал, что самые храбрые войска набираются из людей отчаявшихся, готовых на все, потому что им нечего терять. Он проявил добродушие.
– Устроить вас? – повторил он. – Что ж, может быть и удастся. Приходите ко мне.
– Теперь на улицу Сен-Лазар, не так ли?
– Да, на улицу Сен-Лазар. Как-нибудь утром.
Они разговорились. Жантру яростно ругал биржу и с озлоблением неудачливого мошенника повторял, что нужно быть негодяем, чтобы добиться там успеха. С этим покончено, теперь он хочет попробовать свои силы в чем-нибудь другом; ему кажется, что его университетское образование, его знание света могли бы помочь ему получить хорошее место по административной части. Саккар одобрительно кивал головой. Выйдя за ограду и пройдя по тротуару до улицы Броньяр, они оба обратили внимание на стоявшую здесь темную карету с безукоризненной упряжкой. Голова лошади была обращена к улице Монмартр. Спина кучера, сидевшего на высоких козлах, словно окаменела, но они заметили, что в окне кареты дважды показалась и исчезла женская головка. Вдруг она опять высунулась, и женщина, забывшись, устремила долгий нетерпеливый взгляд в сторону биржи.
– Баронесса Сандорф, – прошептал Саккар.
Это была очень оригинальная темноволосая головка, черные горящие глаза, окруженные синевой, страстное лицо с кроваво-красными губами; лицо это немного портил слишком длинный нос. Она казалась преждевременно созревшей для своих двадцати пяти лет и была очень красива – словно вакханка, одетая у лучших портных империи.
– Да, баронесса, – повторил Жантру. – Я познакомился с ней, когда она была еще девушкой, у ее отца, графа де Ладрикур. Вот это был игрок! И грубиян возмутительный! Каждое утро я ходил к нему за ордерами, и однажды он чуть не избил меня. Уж о нем-то я не пожалел, когда он умер от удара, разорившись после целого ряда плачевных ликвидаций. Девчонке пришлось тогда выйти замуж за барона Сандорфа, советника при австрийском посольстве, на тридцать пять лет старше ее, – она положительно свела его с ума своими пламенными взглядами.
– Я знаю, – заметил Саккар.
Голова баронессы снова скрылась в глубине кареты. Но почти тотчас же она появилась опять и с еще большим возбуждением, повернув шею, устремила взгляд вдаль, на площадь.
– Она играет, правда?
– О да, напропалую. Каждый раз, когда ожидаются какие-нибудь события, она здесь, в своем экипаже, следит за курсами акций, лихорадочно помечает их в записной книжке, дает ордера. А-а, вот что! Она ожидала Массиаса: вот он идет к ней.
В самом деле, Массиас бежал во всю прыть своих коротких ножек с таблицей курсов в руке; облокотясь на дверцу и просунув голову в карету, он стал оживленно совещаться с баронессой. Саккар и Жантру немного отошли, чтобы их не могли уличить в подглядывании, и когда комиссионер бегом пустился назад, окликнули его. Оглянувшись и видя, что угол дома скрывает его от баронессы, он сразу остановился, запыхавшись; его прыщавое лицо побагровело, но крупные голубые глаза смотрели весело и были прозрачны, как у ребенка.
– Что они все, с ума сошли, что ли? – крикнул он. – Суэц летит вниз. Говорят о какой-то войне с Англией. Переполошились из-за новостей, неизвестно откуда взявшихся. Подумать только, война! Кто бы это мог выдумать? Разве что этот слух возник сам собой… Словом, чертовский переполох.
Жантру подмигнул:
– Что, эта дамочка все играет?
– Еще как! Сходит с ума! Я несу ее ордера к Натансону.
Саккар, слушавший этот разговор, сказал:
– Да, в самом деле, мне говорили, что Натансон теперь тоже в кулисе.
– Славный малый этот Натансон, – заметил Жантру, – и вполне заслуживает своего счастья. Мы были вместе в Обществе движимого кредита. Но он-то вылезет, на то он и еврей. Его отец из Австрии, теперь он в Безансоне, – кажется, часовщик. Знаете, его это как-то сразу захватило, там, в Обществе, когда он насмотрелся на их махинации. Он решил, что здесь нет ничего хитрого, стоит только обзавестись комнатой и открыть кассу. Так он и сделал… Ну, а вы как, довольны, Массиас?
– Как бы не так, доволен! Вы сами прошли через это, вы правы, говоря, что тут нужно быть евреем, иначе ничего не поймешь, не знаешь, как подойти; чертовски не везет. Паршивое ремесло! Да уж раз взялся, надо продолжать. Ну, пока еще ноги носят, я не отчаиваюсь. И он, смеясь, побежал дальше. Рассказывали, что он сын судейского чиновника из Лиона, выгнанного со службы за какие-то грязные дела; после исчезновения отца он оставил юридический факультет и попал на биржу.
Саккар и Жантру не спеша вернулись на улицу Броньяр: карета баронессы все еще стояла там, но стекла были подняты, и таинственный экипаж казался пустым; кучер совсем застыл в своей неподвижности; он, по-видимому, привык к ожиданию, которое часто продолжалось до самого закрытия биржи.
– Она чертовски соблазнительна, – грубо заметил Саккар. – Я понимаю старого барона.
Жантру двусмысленно улыбнулся:
– Ну, барону она, кажется, давно надоела. А он, говорят, страшный скряга. Знаете, с кем она сошлась, кто оплачивает ее счета? Ведь жить одной игрой она не может.
– Нет.
– С Делькамбром.
– С Делькамбром, генеральным прокурором! С этим длинным, костлявым господином, таким желчным, чопорным!.. Ах, я хотел бы видеть их вместе!
И оба в веселом и игривом настроении расстались, крепко пожав друг другу руки. Жантру напомнил Саккару, что на днях зайдет к нему.
Как только Саккар остался один, в ушах его опять громко зазвучал голос биржи, бушевавшей с упорством возвращающегося прилива. Он обогнул угол и снова пошел по улице Вивьен, по той стороне площади, которая кажется более строгой из-за отсутствия ресторанов. Он миновал Торговую палату, почтовую контору, большие рекламные агентства; по мере того как он приближался к главному фасаду, гул в ушах у него становился все сильнее, возбуждение его росло, и, дойдя до того места, откуда видна была вся колоннада, словно не решаясь уйти отсюда, он опять остановился, обнимая ее взглядом, полным страстного вожделения. Здесь мостовая расширялась, и жизнь кипела и била ключом: потоки посетителей наводняли кафе, кондитерская была битком набита, у витрин собирались толпы народа, особенно возле ювелирного магазина, где сияли изделия из массивного серебра. И с четырех углов площади, из четырех улиц, казалось, все прибывал поток фиакров и пешеходов, создавая головоломную путаницу линий. Остановка омнибусов еще усиливала стечение народа и экипажей, а пролетки биржевых агентов, стоя в ряд, тянулись у тротуара почти вдоль всей ограды. Но взоры Саккара были устремлены на лестницу, испещренную сюртуками и залитую ярким солнечным светом. Потом он перевел глаза на колонны, на кишащую черную массу людей, бледные лица которых мелькали светлыми пятнами. Никто не садился, стульев не было видно, кружок кулисы под часами только угадывался по какому-то кипению, по буре движений и выкриков, от которых дрожал воздух. Налево группа банкиров, занятых арбитражем, вексельными операциями и операциями с английскими чеками, держалась более спокойно; ее то и дело рассекала вереница людей, направлявшихся к телеграфу. Всюду, даже под боковыми галереями, толпились дельцы, создавая страшную давку, а некоторые, стоя между колоннами, опирались на железную балюстраду и, чувствуя себя как дома, прислонялись животом или спиной к бархату перил. Вся биржа рокотала и вздрагивала, как машина под парами при ярком мерцании пламени. Вдруг он увидел, как агент Массиас со всех ног бросился вниз по ступенькам, вскочил в свою пролетку, и кучер погнал лошадей галопом.
Кулаки у Саккара невольно сжались. Тогда усилием воли он заставил себя оторваться от этого зрелища, повернул на улицу Вивьен и, перейдя мостовую, направился к улице Фейдо, где жил Буш. Он вспомнил о письме на русском языке, которое ему нужно было перевести. У дверей ему поклонился какой-то молодой человек, который стоял перед писчебумажным магазином, занимавшим нижний этаж. Саккар узнал Гюстава Седиля, сына фабриканта шелка с улицы Женер; отец поместил его к Мазо для изучения финансового дела. Он сочувственно улыбнулся этому высокому элегантному молодому человеку, сразу догадавшись, чего он здесь дожидается. Писчебумажная лавка Конена стала снабжать блокнотами всю биржу с тех пор, как маленькая госпожа Конен начала помогать своему мужу, толстяку Конену, который всегда сидел в помещении за магазином, занимаясь изготовлением товара, тогда как она ходила взад и вперед, работала у прилавка, бегала по делам. Она была полненькая, розовая, настоящий завитой барашек, с шелковистыми светлыми волосами, грациозная, ласковая и всегда веселая. Как говорили, она очень любила своего мужа, что не мешало ей дарить своей нежностью какого-нибудь приглянувшегося ей клиента-биржевика в одном гостеприимном доме по соседству, но не за деньги, а исключительно ради удовольствия и, как гласила легенда, один-единственный раз. Во всяком случае счастливцы, которых она удостаивала своего внимания, очевидно, проявляли скромность и благодарность, потому что за ней по-прежнему ухаживали, обожали ее, и никто не распространял о ней дурных слухов. Проходя, Саккар заметил, как она улыбалась Гюставу через окно. Какой хорошенький барашек! Посмотрев на нее, он почувствовал блаженное ощущение ласки. Наконец он поднялся по лестнице.
Уже двадцать лет Буш занимал на самом верху, в шестом этаже, тесную квартирку из двух комнат и кухни. Родители его были выходцами из Германии, а сам он родился в Нанси. Приехав в Париж, он понемногу расширил круг своих необыкновенно сложных дел. Не нуждаясь в более просторном кабинете, он отдал комнату, выходившую на улицу, своему брату Сигизмунду, а сам довольствовался маленькой с окном во двор каморкой, до того заваленной бумагами, папками, разными пакетами, что, кроме письменного стола, там помешался только один стул. Главной статьей его дохода была, конечно, торговля обесцененными бумагами; он собирал их и служил посредником между «малой» биржей «мокроногих» и банкротами, которым нужно заткнуть дыры в своем балансе; поэтому он следил за курсом бумаг, иногда покупал их сам, но главным образом оперировал целыми кипами, которые ему приносили на дом. Кроме ростовщичества и тайной торговли ювелирными изделиями и драгоценными камнями, он занимался еще скупкой векселей. Они-то и заполняли его кабинет до самого потолка, из-за них он и бегал по всему Парижу, вынюхивал и подстерегал должников, поддерживал связи во всех слоях общества. Узнав о каком-нибудь банкротстве, он уж был тут как тут, бродил вокруг представителей несостоятельного должника и его кредиторов и в конце концов скупал все, из чего нельзя было сразу извлечь реальную выгоду. Он следил за делами нотариусов, ждал открытая спорных наследств, присутствовал при продаже с торгов безнадежных векселей. Он сам публиковал объявления, приманивал нетерпеливых кредиторов, которые предпочитают получить сразу же хоть какие-нибудь гроши, чем преследовать своих должников, рискуя потерять вес. И из этих многочисленных источников все прибывали бумаги, как будто их носили корзинами, все росла куча мусора этого тряпичника, собиравшего отбросы долговых обязательств – неоплаченные векселя, оставшиеся на бумаге договоры, просроченные расписки. Затем начиналась разборка. Он как бы сортировал вилкой составные части этого протухшего винегрета, а это требовало особого, тонкого нюха. В море исчезнувших несостоятельных должников нужно было сделать выбор, чтобы не слишком рассеивать свои силы. В сущности он считал, что из всякого векселя, даже самого безнадежного, при случае можно извлечь его стоимость. Он завел множество папок, содержал их в идеальном порядке, составил соответствующий список имен, который перечитывал время от времени, чтобы освежить их в памяти. Но среди несостоятельных должников он, конечно, усерднее всего следил за теми, у кого, как он предвидел, были возможности быстрого обогащения: он узнавал всю подноготную, проникал в семейные тайны, записывал сведения о богатых родственниках, о средствах к существованию и, в особенности, о новых назначениях по службе, чтобы наложить арест на жалованье. Целыми годами он ждал, пока созреет его жертва, с тем чтобы при первом успехе задушить ее. За скрывающимися должниками он охотился с еще большим азартом, упорно и непрестанно разыскивая их, следя за вывесками и именами, упоминающимися в газетах, выслеживая адреса, как собака выслеживает дичь. И как только они попадались в его лапы, он становился свирепым, съедал их живьем, высасывал из них кровь, извлекая по сто франков там, где затратил десять су, цинично объясняя, что он рискует в своей игре и потому должен наверстать на тех, кого поймал, то, что терял на других, ускользавших, как дым, у него из рук.
В этой охоте на должников ему помогала Мешен, и ее услугами он пользовался всего чаще; у него был еще целый отряд загонщиков, действовавших по его приказаниям, но он не доверял этому народу, голодному и пользующемуся дурной славой, тогда как Мешен была все же домовладелицей: за Монмартрским холмом ей принадлежал целый квартал, так называемый Неаполитанский городок – большой участок, застроенный жалкими лачугами, которые она сдавала помесячно. Это был приют ужасающей нищеты; голодные бедняки кучами ютились там среди отбросов в свиных закутах, которые они оспаривали друг у друга. Она безжалостно выбрасывала на улицу своих жильцов вместе с их жалким скарбом, как только они переставали платить. Но ее разоряла несчастная страсть к игре, пожиравшая все доходы с этого городка. И ее тоже тянуло к ранам, нанесенным деньгами, к развалинам, к пожарам, где можно украсть какие-нибудь расплавившиеся драгоценности. Когда Буш поручал ей навести справки, выследить должника, она часто шла на издержки, тратила собственные деньги из любви к искусству. Она называла себя вдовой, но никто никогда не знал ее мужа. Она появилась неизвестно откуда, и казалось, что ей всегда было пятьдесят лет и всегда она была такой же тушей, с тонким, как у маленькой девочки, голоском.
Сегодня, как только Мешен уселась на единственный стул, кабинет сразу наполнился, как будто ее огромное тело забило собою всю комнату. Буш оказался в плену перед своим письменным столом и совсем погрузился в море папок, откуда торчала только его квадратная голова.
– Вот, – сказала Мешен, вываливая из своей битком набитой старой сумки огромный ворох бумаг, – вот что Фейе посылает мне из Вандома… Он скупил для вас все во время этого банкротства Шарпье, о котором я написала ему по вашему указанию. Всего на сто десять франков.
Фейе, которого она называла своим родственником, недавно открыл там кассу по сбору ренты. Официально он занимался получением денег по купонам для мелких рантье своей провинции и, пользуясь тем, что ему доверяли купоны и деньги, с бешеным азартом играл на бирже.
– Из провинции много не выжмешь, – пробормотал Буш, – но все же и там бывают находки.
Он просматривал бумаги и уже раскладывал их опытной рукой, сортировал начерно, оценивая приблизительно, чутьем. Его плоское лицо омрачилось, он скроил разочарованную гримасу:
– Гм! Не жирно, нечем поживиться. Хорошо, что хоть не дорого стоит… Вот векселя… Еще векселя… Если это молодые люди и если они приехали в Париж, может быть мы их выловим…
Но вдруг он вскрикнул от изумления:
– Смотрите-ка! Это что такое?
Он только что заметил на листе гербовой бумаги подпись графа де Бовилье; выше было только три строчки, написанные крупным старческим почерком: «Обязуюсь уплатить десять тысяч франков девице Леони Крон в день ее совершеннолетия».
– Граф де Бовилье, – медленно повторил он, думая вслух, – да ведь у него были фермы, целое имение близ Вандома… Он погиб от несчастного случая на охоте, оставив без средств жену и двоих детей. У меня когда-то были их векселя, по которым они едва смогли уплатить…
Это распутник, и больше ничего.
Вдруг он громко захохотал, сообразив, в чем дело:
– Ах, старый плут, здорово он облапошил малютку! Наверное, она не соглашалась, и он оговорил ее с помощью этого клочка бумаги, который по закону не имеет никакой цены. Потом он умер… Смотрите-ка, бумага помечена пятьдесят четвертым годом, прошло уж десять лет… Девчонка теперь уже совершеннолетняя, черт возьми! Как эта расписка могла оказаться у Шарпье? Этот Шарпье торговал зерном и кроме того занимался ростовщичеством. Очевидно, девчонка заложила у него эту расписку за несколько экю, а может быть, он взялся получить по ней.
– Но ведь это выгодное дело, – прервала Мешен, – и верное!
Буш с пренебрежением пожал плечами:
– Да нет же! Говорю вам, что расписка не имеет никакого юридического значения. Если я предъявлю ее наследникам, они могут послать меня к черту. Ведь нужно доказать, что граф действительно должен эти деньги. Однако если мы разыщем девчонку, я, пожалуй, заставлю их быть помягче и договориться с нами, чтобы избежать неприятной огласки… Понимаете? Разыщите-ка эту Леони Крон, напишите Фейе, чтобы он откопал ее нам. А потом посмотрим. Он разложил бумаги на две стопки, чтобы рассмотреть их как следует, когда останется один, и сидел неподвижно, положив на них руки.
Помолчав, Мешен продолжала:
– Я занялась векселями Жордана… Кажется, я нашла этого молодчика. Он был где-то служащим, а теперь пишет в газетах. Но там так плохо принимают, в газетах, отказываются давать адреса. И к тому же он, кажется, не подписывает статьи своей настоящей фамилией. Не говоря ни слова, Буш протянул руку туда, где в алфавитном порядке стояли папки с делами, и достал дело Жордана. Там было шесть векселей по пятидесяти франков, выданных уже пять лет тому назад, один за другим, с перерывами в месяц, всего на сумму в триста франков; молодой человек выдал их портному, когда его совсем одолела нужда. Не оплаченный при предъявлении векселей долг вырос за счет громадных начислений, и в связи с этим накопилась куча бумаг. Теперь общая сумма долга достигала семисот тридцати франков пятнадцати сантимов.
– Если у этого малого есть будущее, – пробормотал Буш, – мы еще успеем его прижать.
Вдруг, должно быть в связи с этим, он вспомнил о другом деле. Он воскликнул:
– А как дело Сикардо? Мы его уже бросили?
Мешен скорбным жестом подняла к небу свои пухлые руки. Вся ее чудовищная фигура выразила отчаяние.
– Ах, боже мой! – простонала она своим тонким, как флейта, голоском. – Он просто уморит меня!
Это была романическая история, которую она всегда охотно рассказывала. Ее родственница Розали Шавайль, дочь ее тетки, родившаяся, когда та была уже немолодой, была в шестнадцать лет изнасилована вечером на лестнице в доме на улице Лагарп, где она с матерью занимала квартирку на седьмом этаже. Хуже всего было то, что виновник происшествия, женатый человек, только неделю тому назад снявший комнатку у дамы на третьем этаже и поселившийся там со своей женой, проявил такой любовный пыл, что вывихнул плечо бедной Розали, слишком поспешно опрокинув ее на ступеньку лестницы. Мать, конечно, рассердилась и хотела устроить ужасный скандал, несмотря на слезы девчонки, признавшейся, что она сама позволила это, ушиблась случайно, и ей будет очень жаль, если бедного господина посадят в тюрьму. Тогда мать решила молчать и удовольствовалась векселями на шестьсот франков – двенадцать векселей по пятьдесят франков в месяц, сроком на год. И тут уж она не запросила, это была очень скромная плата, потому что ее дочь, заканчивавшая ученье у портнихи, теперь ничего не могла зарабатывать и лежала больная в постели. К тому же ее плохо лечили, хотя леченье стоило больших денег, так что мышцы у нее на руке укоротились и она осталась калекой. Еще до конца первого месяца этот господин исчез, не оставив своего адреса. А несчастьям не было конца, они сыпались на нее, словно град: Розали родила мальчика, мать ее умерла, она пошла по плохой дорожке, впала в ужасную нищету. Переехав в Неаполитанский городок к своей родственнице, до двадцати шести лет она таскалась по улицам, иногда продавала лимоны на рынке, пропадала по целым неделям с разными мужчинами, которые в конце концов выгоняли ее, пьяную, в синяках. Наконец, год назад ей посчастливилось: после ряда особенно рискованных приключений она отправилась на тот свет. Тогда Мешен пришлось взять к себе ребенка, Виктора, и в результате всего этого происшествия у нее остались только двенадцать неоплаченных векселей, подписанных Сикардо. Так ничего и не узнали о нем, кроме того, что фамилия его была Сикардо. Снова протянув руку, Буш взял дело Сикардо в тонкой обложке из серой бумаги. Там лежали только двенадцать векселей, никаких попыток опротестовать их сделано не было.
– Если бы еще этот Виктор был мальчик как мальчик, – плаксиво объясняла старуха. – Но ведь это ужасный ребенок… Да, тяжело получить такое наследство: мальчишку, который кончит на эшафоте, да эти никуда не годные бумажки.
Буш упорно не спускал с векселей своих бесцветных выпуклых глаз. Сколько раз он изучал их таким образом, надеясь найти разгадку по какой-нибудь незамеченной подробности, по форме букв, по фактуре гербовой бумаги! Ему казалось, что он не в первый раз видит этот тонкий, заостренный почерк.
– Любопытно, – повторил он еще раз, – я, несомненно, уже видел эти «о» и «а», такие высокие и тонкие, что они похожи на «l».
В это время кто-то постучал, и он попросил Мешен протянуть руку и отворить, так как дверь вела прямо на лестницу. Чтобы попасть во вторую комнату, с окнами на улицу, нужно было пройти через кабинет Буша. Каморка без окон, служившая кухней, находилась по ту сторону площадки.
– Войдите, сударь.
Вошел Саккар. Он улыбался, развеселившись при виде медной, привинченной к двери, дощечки, на которой было написано большими черными буквами: «Спорные дела».
– Ах да, господин Саккар, вы насчет перевода? Мой брат там, в другой комнате. Входите, входите же.
Но Мешен буквально загораживала собой проход и глядела в упор на вновь прибывшего со все усиливающимся удивлением. Пришлось произвести целый маневр: он отступил на лестницу, она вышла на площадку и прижалась к стене, чтобы дать ему возможность войти и попасть, наконец, в соседнюю комнату, где он и скрылся. Во время этих сложных движений она не спускала с него глаз.
– О, – задыхаясь, проговорила она, – я никогда не видела так близко этого господина Саккара… Виктор похож на него как две капли воды.
Буш, не сразу сообразив, смотрел на нее в недоумении. Затем его вдруг осенило, и он тихонько выругался:
– Черт возьми, так оно и есть! Я ведь знал, что где-то уже видел этот почерк.
На этот раз он встал, перерыл все папки и, наконец, нашел письмо, которое в прошлом году ему написал Саккар, прося об отсрочке для одной несостоятельной должницы. Он быстро сличил почерк на векселях с письмом: конечно, это были те же самые «а» и «о», со временем ставшие еще острее; заглавные буквы были написаны той же рукой.
– Это он, он, – повторял Буш. – Только почему же Сикардо, почему не Саккар?
И в его памяти возникла полузабытая история из прошлого Саккара, которую он слышал от одного агента, по имени Ларсонно, теперь ставшего миллионером: как сразу после государственного переворота Саккар приехал в Париж, чтобы использовать положение своего только что выдвинувшегося брата Ругона, как он вначале бедствовал на грязных улицах старого Латинского квартала и как быстро разбогател, благодаря какому-то подозрительному браку, после того как ему посчастливилось похоронить свою первую жену. В эти-то трудные годы он и назвался Саккаром, переменив свою настоящую фамилию, Ругон, на слегка переделанную фамилию своей первой жены, Сикардо.
– Да, да, Сикардо, я прекрасно помню, – пробормотал Буш. – У него хватило наглости подписать векселя фамилией своей жены. Конечно, этой фамилией они и назвались, когда поселились на улице Лагарп. А потом этот подлец принимал всяческие предосторожности, съезжал с квартиры при малейшей тревоге… Ах, вот как? Он не только искал, где бы нахапать денег, он еще и опрокидывал девчонок на лестницах! Это не умно и может в конце концов сыграть с ним скверную штуку.
– Тише, тише, – перебила его Мешен. – Он в наших руках! Значит, есть все-таки бог на небе. Наконец-то я буду вознаграждена за все, что сделала для этого бедного маленького Виктора, которого, вот поди ж ты, я все-таки люблю, хоть он и неисправим.
Она сияла, ее маленькие глазки блестели на заплывшем жиром лице. Но Буш, когда прошел первый пыл радости от этой случайной разгадки, которую он так долго искал, поразмыслив, уже охладел и покачивал головой. Конечно, Саккар теперь разорен, а все же с него еще можно кое-что содрать. Они могли бы напасть и на менее выгодного отца. Но только он не позволит морочить себе голову, с ним нужно держать ухо востро. А потом, что с ним сделаешь? Он, конечно, и сам не знает, что у него есть сын, он может отрицать это, даже несмотря на необычайное сходство, так поразившее Мешен. К тому же он овдовел во второй раз, был свободным человеком, никому не обязан был отдавать отчет в своем прошлом, так что даже если бы он и признал малыша, на него невозможно было бы воздействовать никаким страхом, никакими угрозами. А если заработать на его отцовстве только те шестьсот франков, которые он должен по векселям, так это слишком уж ничтожная сумма, жаль было бы так плохо использовать этот чудесный случай. Нет, нет! Надо подумать, выносить все это, найти способ собрать жатву, когда зерно полностью созреет.
– Не будем торопиться, – заключил Буш. – К тому же он сейчас на мели, дадим ему время оправиться.
И прежде чем распрощаться с Мешен, он закончил разбор порученных ей мелких дел – о молодой женщине, заложившей свои драгоценности для любовника, о зяте, долги которого можно было получить с тещи, его любовницы, если взяться за это умеючи, словом, о самых тонких и разнообразных приемах сложного и трудного искусства взыскания по векселям. Войдя в соседнюю комнату, Саккар на мгновение был ослеплен ярким солнечным светом, лившимся из окна без занавесок. Комната, оклеенная светлыми обоями в голубых цветочках, была почти пуста, только в углу стояла узкая железная кровать, а посредине еловый стол и два соломенных стула. Вдоль стены, слева, грубо сколоченные полки заменяли книжный шкаф и были завалены книгами, брошюрами, газетами, всякими бумагами. Но комната находилась на такой высоте, что яркий дневной свет озарял эти голые стены как бы весельем молодости, улыбкой наивной свежести. Брат Буша, Сигизмунд, человек лет тридцати пяти, безбородый, с длинными и редкими каштановыми волосами, сидел за столом, опершись широким выпуклым лбом на свою худую руку; он был до такой степени поглощен чтением какой-то рукописи, что не слышал, как открылась дверь, и не повернул головы. Сигизмунд был человек большого ума: получив образование в германских университетах, он, кроме своего родного французского языка, говорил еще по-немецки, по-английски и по-русски. В 1849 году в Кельне он познакомился с Карлом Марксом и стал одним из самых любимых сотрудников его «Новой Рейнской газеты». С тех пор он нашел свою религию: страстно уверовав, он стал проповедовать социализм, отдав всего себя идее близкого общественного обновления, которое должно было обеспечить счастье бедняков и обездоленных. Теперь, когда его учитель, изгнанный из Германии, вынужденный после июньских дней уехать из Парижа, жил в Лондоне, писал, отдавая много сил созданию партии, он со своей стороны предавался мечтам, до того беспечный в практической жизни, что, наверно, умер бы с голоду, если бы брат не приютил его на улице Фейдо, возле биржи, подав ему мысль использовать свое знание языков и стать переводчиком. Этот старший брат обожал его с материнской страстью; лютый волк по отношению к должникам, готовый вытащить десять су из лужи человеческой крови, он умилялся до слез, проявляя страстную и заботливую, как у женщины, нежность, когда речь шла об этом рассеянном большом ребенке. Он отдал ему лучшую комнату с окнами на улицу, ухаживал за ним, как нянька, сам вел их своеобразное хозяйство, подметал пол, стелил постели, заботился о пище, которую они два раза в день получали из маленького ресторана по соседству. Он, такой энергичный, с головой, забитой множеством дел, терпимо относился к праздности своего брата, переводы которого подвигались плохо, так как на них не хватало времени из-за личных занятий Сигизмунда. Буш даже запрещал ему работать, встревоженный его легким, но зловещим кашлем, и, при всей своей алчной любви к деньгам и убийственной жадности, сделавшей погоню за наживой единственной целью его жизни, он снисходительно улыбался, слушая революционные теории, и позволял брату мечтать о гибели капиталистического строя, как ребенку дают забавляться игрушкой, зная, что он может сломать ее.
Сигизмунд и не догадывался, что делал его брат в соседней комнате. Он понятия не имел об этой страшной торговле обесцененными бумагами и о скупке векселей; он жил в более высоких сферах, в мечтах о высшей справедливости. Мысль о благотворительности оскорбляла его, выводила из себя, он считал, что благотворительность – это милостыня, неравенство, освященное милосердием; он признавал только справедливость, требовал, чтобы права каждого были восстановлены и закреплены в незыблемых основах новой социальной системы. Таким образом, по примеру Карла Маркса, с которым он был в постоянной переписке, он тратил все свое время на изучение этой системы, беспрестанно изменяя, совершенствуя на бумаге будущее общество, покрывая цифрами страницу за страницей, подводя научное основание под сложное здание всеобщего счастья. Он отнимал капитал у одних, чтобы разделить его между всеми другими, он оперировал миллиардами, перемещал одним росчерком пера мировые богатства, и все это в пустой комнате, не имея никакой другой страсти, кроме своей мечты, не стремясь ни к каким наслаждениям, настолько умеренный в еде и питье, что брат без ссоры не мог заставить его поесть мяса и выпить вина. Он считал, что работа каждого человека, выполненная по мере его сил, должна обеспечить удовлетворение его потребностей, – сам же губил себя своими занятиями, ничего не требуя для себя лично. Это был настоящий мудрец, восторженно преданный науке, отрешившийся от материальной жизни, кроткий и чистый. С прошлой осени он кашлял все сильнее, чахотка его развивалась, а он даже не снисходил до того, чтобы заметить это и начать лечиться.
Саккар шагнул вперед, Сигизмунд поднял, наконец, свои большие задумчивые глаза и удивился, хотя посетитель был ему знаком.
– Мне нужно перевести письмо.
Молодой человек еще больше удивился, потому что от него уже отступились клиенты – банкиры, дельцы, маклеры, все биржевики, получающие большую корреспонденцию, циркуляры, уставы различных компаний, главным образом из Англии и Германии.
– Да, письмо на русском языке. Всего только десять строк.
Тогда он протянул руку; русский язык был его специальностью, из всех переводчиков этого квартала, живших немецким и английским, он один бегло переводил с русского. Но документы на русском языке попадались на парижском рынке редко, и этим объяснялись долгие перерывы между заказами.
Он вслух прочел письмо по-французски. Это был утвердительный ответ одного константинопольского банкира, заключавшийся в трех фразах, – просто согласие на деловое предложение.
– Благодарю вас, – воскликнул Саккар, по-видимому очень обрадованный.
И он попросил Сигизмунда написать эти несколько строк перевода на оборотной стороне письма. Но тут молодой человек страшно закашлялся; он зажал рот платком, чтобы не беспокоить брата, зная, что тот прибежит, как только услышит кашель. Когда приступ прошел, он распахнул окно, задыхаясь, стараясь вдохнуть свежего воздуха. Саккар, подойдя вслед за ним к окну, взглянул на улицу и слегка вздрогнул:
– А, от вас видна биржа! Какая она отсюда забавная!
Он никогда не видел ее с птичьего полета, и в самом деле она показалась ему странной: четыре широких ската ее отлогой крыши ощерились целым лесом труб, острия громоотводов поднимались вверх, как гигантские копья, угрожающие небу. И все здание казалось каменным кубом, изборожденным правильными рядами колонн, кубом грязно-серого цвета, голым и безобразным, с изорванным в лохмотья флагом посредине. Но особенно странными казались ступени и колоннада, словно усыпанные черными муравьями, – настоящий муравейник в переполохе, копошащийся в неустанном движении, которое отсюда, с этой высоты, казалось бессмысленным и жалким.
– Какими маленькими они кажутся отсюда, – продолжал Саккар. – Так бы и захватил их всех в горсть.
Затем, зная убеждения своего собеседника, он прибавил, смеясь:
– Когда же вы сметете все это с лица земли?
Сигизмунд пожал плечами:
– А зачем? Вы уничтожите себя сами.
Мало-помалу он воодушевился; он заговорил о том, что волновало его больше всего на свете. Потребность обращать других в новую веру заставляла его при малейшем предлоге излагать свою систему.
– Да, да, вы работаете на нас, сами того не подозревая. Вас здесь несколько узурпаторов, которые экспроприировали народ, и когда вы будете сыты по горло, мы просто экспроприируем вас в свою очередь… Всякий захват богатства, всякая централизация ведут к коллективизму. Вы еще раз убеждаете нас в этом; ведь и крупное землевладение поглощает мелкие участки земли, так же, как большие мануфактуры пожирают ремесленников, работающих на дому, как крупные банки и магазины убивают всякую конкуренцию, жиреют от разорения мелких банков и маленьких лавчонок! Все это – медленное, но верное продвижение к новому общественному строю… Мы ждем, чтобы все затрещало, чтобы существующий способ производства, доведенный до последней стадии своего развития, привел к невыносимым противоречиям. Тогда буржуа и крестьяне сами помогут нам.
Саккар, заинтересовавшись, смотрел на Сигизмунда со смутной тревогой, хотя и считал его сумасшедшим.
– Объясните же мне в конце концов, что такое этот ваш коллективизм?
– Коллективизм – это превращение частных капиталов, живущих борьбой и конкуренцией, в единый общественный капитал, являющийся собственностью всех трудящихся… Представьте себе такое общество, где орудия производства принадлежат всем, где все работают в меру своих умственных и физических сил и где продукты этой общественной кооперации распределяются пропорционально труду каждого. Нет ничего проще, не правда ли? Общественное производство на заводах, на верфях, в национализированных мастерских – и в обмен на труд оплата натурой. Если произведены излишки, их помещают в общественные склады, чтобы воспользоваться ими для возмещения возможных дефицитов. Нужно только все точно вычислить… И это как ударом топора срубит гнилое дерево. Не будет больше конкуренции, не будет частного капитала, а следовательно, исчезнут и всевозможные аферы, торговля, рынки, биржи. Идея наживы потеряет всякий смысл. Источники спекуляции, рента, доходы, получаемые нетрудовым путем, сами собой иссякнут.
– Ого! – прервал его Саккар. – Многим тогда придется изменить свои привычки! Но что же вы сделаете с теми, у кого сейчас есть рента?.. А как с Гундерманом? Вы отнимете у него его миллиард?
– Ни в коем случае, мы не грабители. Мы купим у него его миллиард, все его ценности и процентные бумаги, и заплатим ему бонами на право пользования материальными благами, рассчитанными на годовые сроки. Вы только представьте себе этот колоссальный капитал, замененный огромным количеством предметов потребления! Через какие-нибудь сто лет потомки вашего Гундермана будут вынуждены трудиться сами, как и другие граждане, потому что срок действия годовых бон истечет, а те продукты, которые они могли бы скопить, излишки этой массы предметов потребления они не смогут превратить в деньги, даже если предположить, что право наследования будет сохранено… Говорю вам, что так одним взмахом будут уничтожены не только личные предприятия, акционерные общества, объединения частных капиталов, но и все косвенные источники доходов, вся кредитная система, займы, квартирная и арендная плата. Мерой ценности останется один только труд. Заработная плата будет, конечно, упразднена, так как при существующей капиталистической системе она не соответствует стоимости продуктов труда, а всегда приравнивается к прожиточному минимуму трудящегося. И нужно признать, что виной этому только существующий строй, что даже самый честный предприниматель вынужден подчиняться суровому закону конкуренции, эксплуатировать своих рабочих, если он хочет жить. Нужно разрушить всю нашу общественную систему. Ах! Гундерман задохнется под грудой своих бон на предметы потребления! Наследникам Гундермана никогда не удастся съесть всего, они будут вынуждены поделиться с другими и взяться за мотыгу или молот, как остальные.
И Сигизмунд, все еще стоя у окна, расхохотался от души, как школьник на перемене, устремив взор на биржу, где черным муравейником кишели спекулянты. На щеках его выступил яркий румянец – представлять себе забавную иронию грядущей справедливости было его единственным развлечением.
Саккару стало не по себе. Что, если этот мечтатель прав? Что, если он угадал будущее? Все то, что он говорил, казалось таким простым и разумным.
– Ну, – пробормотал он для собственного успокоения, – это случится не сегодня и не завтра.
– Конечно! – ответил молодой человек, приняв свой прежний серьезный и усталый вид, – мы теперь находимся в переходном периоде, в периоде агитации. Может быть, еще произойдут революционные насилия, они часто бывают неизбежны. То будущее, о котором мы мечтаем, кажется неосуществимым. Трудно дать людям разумное представление об этом грядущем обществе, об этом обществе справедливого труда, нравы которого будут столь отличны от наших. Словно какой-то новый мир, на другой планете… А потом, нужно в этом признаться, переустройство еще не продумано, мы все еще ищем. Я совсем не сплю и думаю целые ночи напролет. Конечно, нам могут сказать: «Если сейчас дело обстоит так, как оно есть, то, значит, к этому привела логика вещей. А следовательно, какую огромную работу нужно произвести, чтобы вернуть реку к ее истокам и направить ее в другое русло!.. Конечно, существующий общественный строй обязан своим многовековым процветанием принципу индивидуализма, который, благодаря конкуренции и личному интересу, вызывает все большую производительность. Будет ли так же плодотворен коллективизм? И какими средствами можно повысить производительность труда, если исчезнет стимул наживы? Вот это для меня неясно, это меня тревожит, здесь наше слабое место, и нам нужно будет долго бороться, чтобы социализм когда-нибудь восторжествовал. Но мы победим, потому что мы – справедливость. Смотрите! Вот перед вами здание… Вы его видите?
– Биржу? – спросил Саккар. – Да, разумеется!
– Ну, так вот! Было бы глупо взрывать ее, так как ее все равно выстроили бы в другом месте… Но только предупреждаю вас – она взорвется сама собой, когда государство станет единственным всеобщим банком нации и экспроприирует ее. И кто знает? Она, быть может, будет служить нам складом излишних богатств, житницей изобилия, откуда наши внуки будут черпать средства для своих роскошных празднеств.
Широким жестом Сигизмунд словно распахнул это будущее всеобщего и для всех одинакового счастья. Он был так возбужден, что у него начался новый приступ кашля; вернувшись к столу, он оперся локтями о свои бумаги и охватил руками голову, чтобы подавить хрип, разрывавший ему грудь. Но на этот раз приступ не проходил. Вдруг дверь отворилась, и вбежал Буш, который тем временем распрощался с Мешен; он был сильно взволнован и как будто сам испытывал боль, слыша ужасный кашель брата. Он сейчас же наклонился и обнял его своими большими руками, как бы укачивая больного ребенка.
– Ну, малыш, что это ты – опять задыхаешься? Нет, как хочешь, надо вызвать врача. Нельзя же так… Ты, наверно, слишком много говорил.
И он искоса взглянул на Саккара, который стоял посреди комнаты, потрясенный тем, что он только что слышал из уст этого долговязого охваченного страстью и изнуренного болезнью юноши, который с высоты своего окна мог, чего доброго, накликать гибель на биржу разговорами о том, что нужно все снести и все построить заново.
– Спасибо, я ухожу, – сказал посетитель, торопясь выйти на улицу. – Пошлите мне это письмо вместе с переводом. Я жду еще писем, мы рассчитаемся за все сразу.
Но приступ кончился, и Буш задержал его еще на минуту.
– Между прочим, дама, которая только что была здесь, знала вас прежде… О, очень давно.
– Вот как? Где же?
– На улице Лагарп, в доме пятьдесят два.
Как ни владел собою Саккар, он все же побледнел. Рот его нервно передернулся. Не потому, что он в эту минуту вспомнил о девчонке, которой овладел когда-то на лестнице, – он ведь даже не знал о том, что она забеременела, не знал о существовании ребенка. Но воспоминание о первых тяжелых годах его жизни в Париже всегда было ему очень неприятно.
– На улице Лагарп? Я жил там всего неделю, когда приехал в Париж, пока не нашел квартиры… До свидания!
– До свидания, – многозначительно ответил Буш. Заметив смущение Саккара, он принял его за признание и уже обдумывал, как бы получше использовать это происшествие.
Снова очутившись на улице, Саккар машинально повернул к Биржевой площади. Он был очень взволнован и даже не взглянул на маленькую госпожу Конен, хорошенькое личико которой, обрамленное светлыми волосами, улыбалось у дверей писчебумажной лавки. Возбуждение на площади еще усилилось, рев биржевой игры перекатывался на кишащие толпой тротуары с безудержной силой морского прилива. Без четверти три всегда начинался особенно неистовый галдеж: это была битва последних курсов, когда разгоралось бешеное желание узнать, кто сегодня набил себе карманы. Стоя на углу Биржевой улицы против колоннады, Саккар смотрел на эту беспорядочную толкотню; ему почудились в толпе между колоннами охваченные азартом понижатель Мозер и повышатель Пильеро, он как будто слышал доносящийся из большого зала резкий голос маклера Мазо, временами заглушаемый раскатистым басом Натансона, сидевшего под часами среди кулисы. Вдруг его обдала грязью пролетка, проехавшая возле самой сточной канавы. Не успел еще кучер остановить лошадей, как с подножки соскочил Массиас и бегом, тяжело дыша, помчался по лестнице, чтобы передать последний ордер какого-то клиента. А он, стоя все так же неподвижно, не спуская глаз с происходившей наверху свалки, мысленно вновь переживал свою жизнь, вспоминая после разговора с Бушем свои первые шаги в Париже. Он вспомнил улицу Лагарп, потом улицу Сен-Жак, по которой ходил в стоптанных башмаках, как авантюрист-завоеватель, приехавший в Париж с тем, чтобы подчинить его себе, и его охватывало бешенство при мысли о том, что ему это до сих пор не удалось, что он снова очутился на мостовой, снова должен подстерегать удачу, по-прежнему ненасытный, терзаемый такой жаждой наслаждений, какой он никогда еще не испытывал. Этот безумец Сигизмунд сказал правду: работой жить нельзя, только ничтожества и глупцы работают, чтобы другие жирели за их счет. Одна лишь игра настоящее дело, она в один день может дать человеку благосостояние, роскошь, полную, настоящую жизнь. Если этот старый мир когда-нибудь погибнет, то разве такой человек, как он, не успеет удовлетворить свои желания, прежде чем произойдет крушение?
Какой-то прохожий толкнул его и даже не обернулся, чтобы извиниться. Он узнал Гундермана, который совершал свою ежедневную прогулку, предписанную ему врачом. Саккар видел, как он вошел в кондитерскую, где этот король золота иногда покупал своим внучкам коробку конфет ценою в один франк. И то, что Гундерман толкнул его в эту минуту лихорадочного возбуждения, охватившего его, пока он ходил вокруг биржи, было как бы ударом плети, последним толчком, заставившим его принять решение. Он окончил окружение крепости, теперь он пойдет на приступ. Он дал себе клятву бороться до конца: он не уедет из Франции, он бросит вызов своему брату, он сыграет последнюю партию, даст отчаянно смелое сражение, которое повергнет Париж к его ногам или выбросит его самого в сточную канаву со сломанной шеей. До самого закрытия биржи Саккар упрямо оставался на своем посту, наблюдая полным угрозы взором. Он видел, как опустела колоннада, как залила ступени схлынувшая толпа, возбужденная и усталая. Вокруг него тротуары и мостовая были по-прежнему запружены народом, непрерывным потоком людей, толпой, поддающейся любой эксплуатации, завтрашними акционерами, которые не могут пройти мимо этого огромного игорного дома, не повернув головы, полные вожделения и страха перед тем, что совершается здесь, перед таинством финансовых операций, тем более привлекательным для французов, что мало кто из них может в нем разобраться.
2
Когда Саккар, разорившись в результате последней аферы с земельными участками, должен был выехать из своего дворца в парке Монсо и, во избежание еще большей катастрофы, оставить его кредиторам, он хотел было приютиться у своего сына Максима. Последний, после смерти жены, которая покоилась теперь на маленьком кладбище в Ломбардии, один занимал особняк на Авеню Императрицы, где устроил свою жизнь с благоразумным и свирепым эгоизмом; он проживал здесь состояние покойницы, не позволяя себе никаких легкомысленных поступков, как и подобало молодому человеку слабого здоровья; преждевременно состарившемуся от разврата; и он сухо отказал отцу взять его к себе – из предосторожности, чтобы сохранить хорошие отношения, как он объяснял, тонко улыбаясь.
Тогда Саккар стал думать о другом пристанище. Он хотел уже нанять маленький домик в Пасси, мещанское убежище удалившегося от дел коммерсанта, но вспомнил, что первый и второй этажи особняка Орвьедо на улице Сен-Лазар все еще пустуют и стоят с заколоченными дверями и окнами. Княгиня Орвьедо, после смерти мужа занимавшая только три комнаты в третьем этаже, даже не приказала вывесить объявление у въезда во двор, где бурно разрасталась трава. Низенькая дверь на другом конце фасада вела на черную лестницу в третий этаж. И часто Саккар, бывая по делам у княгини, выражал удивление по поводу того, что она пренебрегает возможностью извлечь приличный доход из своего дома. Но она только качала головой, у нее были свои взгляды на денежные дела. Однако, когда Саккар попросил сдать дом лично ему, она тотчас же согласилась, предоставив ему первый и второй этажи за смехотворную плату в десять тысяч франков, хотя это роскошное княжеское помещение, конечно, можно было сдать вдвое дороже.
Многие еще помнили роскошь, которую любил выставлять напоказ князь Орвьедо. В лихорадочной спешке насладиться своим громадным состоянием, нажитым финансовыми операциями, когда на него градом сыпались миллионы, приехав из Испании и поселившись в Париже, он купил и отремонтировал этот особняк, в ожидании дворца из мрамора и золота, которым он мечтал удивить мир. Здание было построено еще в прошлом веке; это был один из тех предназначенных для развлечений домов, которые веселящиеся вельможи окружали обширными садами, но частью разрушенный и перестроенный в более строгих пропорциях; от парка, который примыкал к нему прежде, остался только широкий двор, окруженный конюшнями и каретными сараями, да и его вскоре должны были уничтожить при ожидавшейся прокладке улицы Кардинала Феша. Князь купил его у наследников представительницы рода Сен-Жермен, владения которой простирались раньше до улицы Труа-Фрер, бывшей прежде продолжением улицы Тетбу. Кроме того, сохранились ворота, ведущие во двор дома с улицы Сен-Лазар, рядом с другим большим зданием той же эпохи, прежней виллой Бовилье, которую Бовилье, постепенно разорявшиеся владельцы, до сих пор еще занимали; им же принадлежали остатки чудесного сада, великолепные деревья которого тоже должны были погибнуть при перепланировке этого квартала.
