Летние обманы бесплатное чтение
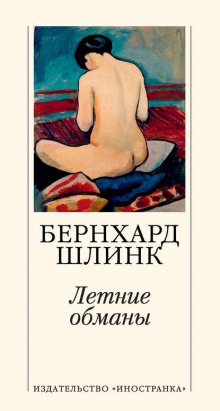
Bernhard Schlink
Sommerlügen
© 2010 by Diogenes Verlag AG Zurich, Switzerland
© Г. В. Снежинская, перевод, 2011
© И. П. Стреблова, перевод, 2011
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство Иностранка®
Межсезонье
Контроль багажа – здесь и пришлось им проститься. Но в этом маленьком аэропорту все стойки и службы находились в одном зале, и он мог издали смотреть на нее, когда она поставила сумку на ленту транспортера, когда прошла через рамку металлоискателя, предъявила билет и направилась к самолету. Самолет стоял на летном поле, сразу за стеклянными дверями.
Она то и дело оборачивалась и махала ему. На трапе оглянулась последний раз, засмеялась и тут же заплакала, прижала руку к сердцу. Она уже скрылась в самолете, а он все махал и махал, глядя на маленькие иллюминаторы, но видит ли она его – не знал. Взревели моторы, завертелись винты, самолет покатил по дорожке, разбежался, набрал скорость и взмыл в небо.
А до его рейса еще целый час. Он взял себе кофе и газету, где-то сел. С тех пор как они познакомились, он не заглядывал в газеты и не сидел один в кафе. Через четверть часа, не прочитав ни строчки и не отпив ни глотка, он подумал: «А я отвык от одиночества». Мысль была приятная.
Он прилетел сюда тринадцать дней назад. Туристский сезон как раз закончился, а заодно и солнечные дни. Лил дождь, и весь первый день он просидел с книгой на крытой веранде пансиона, но на другой день, махнув рукой на дурную погоду, под проливным дождем отправился гулять вдоль берега, в сторону маяка. Вот тогда он и встретил ее: первый раз – когда шел к маяку, второй – на обратном пути. Они взглянули друг на друга с улыбкой, в первый раз с улыбкой любопытства, во второй – уже как чуточку знакомые. Вокруг ни души, похоже, только они двое и вышли прогуляться под дождем, он и она – товарищи по несчастью, а может, и наоборот, они разделяли общую радость – оба, конечно, предпочли бы гулять под безоблачным синим небом, однако были довольны и прогулкой под мелким дождиком.
Вечером он увидел ее в здешнем рыбном ресторане, она сидела одна, на большой террасе, сносно оборудованной для осенних дождей. На столике перед ней стоял полный бокал, а сама она читала книгу – знак ли это, что она еще не ужинала и не ждет прихода мужа или приятеля? Он нерешительно топтался в дверях. И тут она подняла голову от книги и дружески ему улыбнулась. Тогда, собравшись с духом, он подошел и спросил, нельзя ли составить ей компанию.
– Конечно. – Она отложила книгу.
Она уже заказала себе ужин и охотно помогла ему с выбором блюда из здешнего меню. Он взял то же, что она, – треску. А потом они замолчали, не зная, о чем говорить. От книги никакой пользы – со своего места ему было не прочитать название. Наконец он сказал:
– По-моему, что-то в этом есть. В таком вот отдыхе на Кейпе после окончания сезона.
– Потому что погодка радует? – Она засмеялась.
Она смеется над ним? Он поднял взгляд. Миловидным ее лицо не назовешь: глаза маленькие, подбородок явно тяжеловат, но выражение было не насмешливое, а просто веселое и, пожалуй, чуточку неуверенное.
– Потому что весь пляж в твоем распоряжении. Потому что можешь занять столик в таком ресторане, куда в разгар сезона вообще не попадешь. Потому что, когда людей вокруг мало, тебе не так одиноко, как в толпе.
– Вы всегда приезжаете сюда в межсезонье?
– Я здесь впервые. Вообще-то, мне сейчас не полагалось бы отдыхать. Но видите ли, мизинец еще не восстановился, а здесь я могу разрабатывать его с таким же успехом, как в Нью-Йорке.
Он несколько раз согнул и разогнул мизинец левой руки, покрутил им туда-сюда.
Она удивилась:
– А для чего его надо разрабатывать?
– Для игры на флейте. Я играю в оркестре. А вы?
– Училась когда-то на пианино. Но играю редко. – Она покраснела. – Да вы же не об этом! В детстве я часто бывала здесь с родителями, вот и теперь иногда тянет приехать, но только не в сезон. Вы прекрасно объяснили, чем так хорош Кейп в межсезонье. Всюду пустынно, спокойно – мне нравится!
Он не сказал, что отдыхать здесь в разгар туристского сезона ему просто не по карману, и подумал: должно быть, и ей этого не позволяют средства. На ней были джинсы, джемпер, на ногах кроссовки, рядом висела на стуле выцветшая ветровка. Когда они выбирали вино, она предложила взять дешевое белое – совиньон. Потом она рассказала о своей работе в Лос-Анджелесе, в каком-то фонде, устраивающем театральные спектакли, в которых играют дети из гетто, еще – о жизни на побережье, где не бывает зимы, о могучей силе Тихого океана, о движении на дорогах. А он рассказал, как грохнулся недавно, зацепившись за протянутый где не надо кабель, и сломал мизинец, рассказал и о давнем переломе руки – это с ним случилось в девять лет, когда он выпрыгнул из окна, – и еще о переломе ноги, дело было на лыжной прогулке, тогда ему уже исполнилось тринадцать. Сначала они сидели на террасе одни, через некоторое время появились другие посетители, потом, заказав вторую бутылку, они опять остались одни. За окнами – они изредка поглядывали туда – все тонуло в непроглядном мраке: и берег, и море. По пластиковой крыше шуршал дождь.
– Какие у вас планы на завтра?
– В пансионе, я знаю, вам подадут завтрак. Но почему бы вам не позавтракать у меня?
Он проводил ее до дому. Под зонтиком она взяла его под руку. Они не разговаривали. Домик ее, маленький, стоял на той самой улице, на которой, какой-нибудь милей дальше, находился его пансион. Над дверью сам собой зажегся свет, и они внезапно увидели друг друга чересчур отчетливо. Она быстро обняла его и легонько поцеловала. Прежде чем она закрыла за собой дверь, он успел сказать:
– Меня зовут Ричард. А как…
– Сьюзен. Меня – Сьюзен.
Ричард проснулся рано. Немного полежал, заложив руки за голову, прислушиваясь к шуму дождя, шуршавшего в листве и по гравию дорожки. Ему нравился этот размеренный, успокаивающий звук, хотя и не предвещал он солнечного дня. Пойдут ли они со Сьюзен после завтрака гулять по берегу? Или – в лес и на озеро? Или будут кататься на велосипеде? Автомобиля он в аренду не взял, вряд ли взяла и она. Так что дальность их прогулок будет ограниченной.
Он принялся сгибать и разгибать мизинец, чтобы потом, в течение дня, меньше заниматься упражнениями. Ему было немного боязно. Если они со Сьюзен после завтрака и правда проведут весь день вместе, будут вместе обедать, а может быть, сначала вместе и приготовят обед, то что потом? Должен ли он лечь с ней в постель? Доказать этим, что она женщина, вызывающая желание, а он мужчина, которого от желания прямо-таки распирает? Ведь если ничего такого не случится, она, пожалуй, обидится? А он оскандалится? Уже несколько лет он не был близок ни с одной женщиной. Куда уж ему до молодцов, в которых желание бьет ключом, и, кстати, вчера, приглядевшись к Сьюзен, он не нашел, что она из тех женщин, что вызывают безумную страсть. Она много чего рассказывала, что-то спрашивала и внимательно слушала, была оживленной и остроумной. Прежде чем что-нибудь сказать, она медлила, совсем чуть-чуть, а когда на чем-нибудь сосредоточивалась, то закрывала глаза, и в этом был некий шарм. Она пробудила в нем любопытство? Ну да. Но желание?..
В гостиной пансиона его ждал на столе завтрак. Не хотелось огорчать хозяев – пожилую супружескую пару, – они же ради него старались: выжимали апельсиновый сок, взбивали яйца для омлета, да еще напекли блинчиков. Он сел завтракать. Каждую минуту хозяйка наведывалась посмотреть, не надо ли еще кофе, не принести ли еще масла, не подать ли другого повидла, или фруктов, или йогурта. Наконец он догадался, что ей просто хочется поболтать, и спросил, давно ли она здесь живет. Хозяйка разговорилась. Сорок лет назад муж унаследовал небольшое состояние. Они купили дом на Кейпе. Думали, муж будет писать, а она заниматься живописью. Да только ни с литературой, ни с живописью дело не заладилось, а к тому времени, когда дети выросли, от наследства мало что осталось, ну они и завели пансион.
– Если понадобится что-то узнать о Кейпе – где тут самые красивые места и где самая лучшая кухня, – спрашивайте у меня. А если сегодня гулять надумали, так я вам скажу: берег – он и в дождливую погоду хорош, не то что лес, мокредь в лесу и ничего больше.
На опушке повис туман. Он окутал не только деревья, но и дома в стороне от шоссе. Маленький домик, где жила Сьюзен, оказался флигельком привратника – рядом начиналась подъездная дорога, которая вела к большому дому, почти скрытому в тумане, таинственному. Не обнаружив звонка, он постучал.
– Иду! – крикнула она; голос определенно донесся издалека.
Он услышал быстрые шаги на лестнице, стук двери и вновь – торопливые шаги, похоже в коридоре. И вот она перед ним, запыхавшаяся, с бутылкой шампанского в руках:
– В подвале была.
Шампанское? Он опять оробел. И сразу представилось: вот Сьюзен и он сам сидят на диване, с бокалами шампанского, перед пылающим камином. Она придвигается ближе… И что тогда?..
– Ну что же ты стоишь и смотришь? Входи!
В просторной комнате рядом с кухней и в самом деле был камин, тут же несколько поленьев, а перед камином – диван. Сьюзен накрыла на стол в кухне, и опять он пил апельсиновый сок, ел яичницу и фруктовый салат с орехами.
– Невероятно вкусно! Но теперь мне надо на воздух – побегать, прокатиться на велосипеде или поплавать.
Она с сомнением покачала головой, взглянув в окно: лил дождь; Ричард рассказал, что умял сегодня два завтрака.
– Ты не хотел огорчать Джона и Линду? О, да ты просто золото! – Она поглядела на него весело и восхищенно. – А почему бы и правда не пойти искупаться? У тебя нет плавок? Ты… – Она как будто заколебалась, но все же решилась и проворно сложила в большую сумку полотенца, сунула туда же зонтик, бутылку шампанского и стаканы. – Можно пройти по участку, там и вид красивей, и доберемся скорей.
Они подошли к большому дому; с высокими колоннами, с закрытыми ставнями, он и вблизи оставался таинственным. Поднявшись по широким ступеням на террасу, они немного постояли под колоннами, затем, обойдя вокруг дома, поднялись по лестнице и очутились на крытой веранде, откуда можно было подняться еще выше, на следующий этаж. С веранды открывалась туманная даль: дюны, берег и – еще дальше – серое море.
– Оно такое спокойное… – сказала она, понизив голос до шепота.
Неужели она отсюда видит? С такого большого расстояния? Или она догадалась по тишине? Дождь уже не шумел.
– А где же чайки? – В этой глубокой тишине он невольно тоже заговорил шепотом.
– Дальше, в открытом море. Когда дождь перестает, из земли вылезают черви, а на поверхность моря поднимаются рыбы.
– Не может быть!
Она засмеялась:
– Мы же решили поплавать!
И она вдруг пустилась бегом, очень быстро и очень уверенно находя дорогу, – конечно, она же знала, куда бежать, – он сразу отстал, да ведь и громоздкая сумка ужасно оттягивала руку.
В дюнах он потерял ее из виду, а в ту минуту, когда он тоже наконец добрался до пляжа, она, чуть ли не на бегу стащив носки, бросилась к воде. А когда он тоже наконец подошел к воде, она плыла уже далеко от берега.
Море и правда было совсем спокойным, и холодным оно казалось, лишь пока он не поплыл. Он плыл, и море все нежней ласкало его тело. Заплыв подальше, он перевернулся на спину и лежал, покачиваясь на чуть заметных волнах. Впереди, совсем далеко от берега, плыла Сьюзен, резко взмахивая руками. Снова начал накрапывать дождь – и так приятно было ощущать на лице капли влаги…
Но дождь усилился – Сьюзен скрылась из виду. Он позвал ее. Не получив ответа, поплыл в ту сторону, где вроде бы еще недавно ее видел, и опять позвал. Когда берег почти скрылся в тумане, он повернул назад. Пловец он был никудышный: сил тратил много, а вперед едва продвигался, из-за этой медлительности движения тревога его, непрестанно возраставшая, превратилась в панический страх. Долго ли Сьюзен сможет продержаться на воде? Сунул ли он в карман мобильник, когда выходил из дому? Да неизвестно же, может, этот берег вне зоны действия сети?! Где тут ближайший жилой дом? Он совсем скис – сил не стало – и поплыл еще медленнее, с каждой минутой все больше мучась от страха.
А потом он увидел: Сьюзен выходила из моря – у кромки берега поднялась и застыла бледная фигура. От злости сил сразу прибавилось. Да как она смеет! Это совершенно невозможно – какого страха ему пришлось из-за нее натерпеться! Она помахала рукой, но он и не подумал махнуть в ответ.
Вне себя от ярости, он наконец подошел к ней, а она улыбнулась:
– Что-то не так?
– Не так?! Я чуть не спятил от страха, я же потерял тебя из виду. Почему ты не подплыла ко мне, когда повернула к берегу?
– Я тебя не видела.
– Не видела? Не видела?!
– Я довольно близорука… – Она покраснела.
Злость, ярость – внезапно он осознал их нелепость и опомнился. Они стояли друг против друга, голые и мокрые, у обоих бежали по щекам капли дождя, оба покрылись гусиной кожей, тряслись от холода и старались согреться, обхватив себя руками за плечи. Ее взгляд был недоумевающим и растерянным, и не было в этом взгляде – теперь-то он понял – никакой неуверенности – обычный взгляд близорукого человека… Он вдруг заметил голубоватые жилки, просвечивавшие под тонкой белой кожей Сьюзен, и рыжие волосы на лобке, притом что она светлая блондинка, заметил плоский живот и узкие бедра, сильные руки и ноги. И тут же застеснялся своего собственного голого тела и втянул живот.
– Извини, пожалуйста, я тебе нагрубил.
– Понимаю, все понимаю. Ты испугался. – И она опять улыбнулась, глядя ему в глаза.
Он все еще не мог избавиться от смущения. Однако взял себя в руки и, кивнув в ту сторону, где лежали их вещи, крикнул:
– А ну, бегом! – и первым бросился туда.
Она запросто могла бы его обогнать и в этой гонке – бегала она гораздо быстрее, – но она держалась рядом с ним. А ему вспомнилось, как весело бывало в детстве бежать вместе с сестрами или другими ребятами к какой-нибудь общей цели.
Когда он бежал рядом со Сьюзен, то заметил, что у нее маленькая грудь, – пока стояли у воды, она закрывала грудь руками.
Одежда намокла – хоть выжимай. Но полотенца в сумке остались сухими, Сьюзен и Ричард завернулись в них и, усевшись под раскрытым зонтиком, пили шампанское.
Она прислонилась к его плечу:
– Расскажи о себе. Расскажи с самого начала. О матери и отце, о братьях и сестрах – все-все до этой минуты. Ты родился в Америке?
– Нет, в Берлине. Мои родители давали уроки музыки, отец – на фортепиано, мама учила игре на скрипке и альте. Из нас, четверых детей, только мне предоставили возможность поступить в консерваторию, хотя все три мои сестры занимались гораздо лучше меня. Но таково было решение отца. Ему не давал покоя страх, что я могу стать неудачником, каким был он сам. Так и получилось, что я за отца окончил консерваторию, потом за него стал второй флейтой в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, ну а в один прекрасный день, опять же за него, стану первой флейтой в каком-нибудь другом хорошем оркестре.
– Они живы, твои родители?
– Отец умер семь лет назад, а мама в прошлом году.
Она о чем-то задумалась, затем спросила:
– Если бы ты не стал за отца флейтистом, а мог выбирать профессию и стать тем, кем хочешь, – что бы ты выбрал?
– Не смейся надо мной. Когда родители умерли – отец, потом и мать, – я подумал: ну вот, теперь ты свободен, можешь заниматься чем хочешь. Но родители никуда не делись из моих мыслей и по-прежнему дают мне наставления. Ах, мне бы уйти из оркестра, скажем, на год, в общем, уволиться, бросить флейту и заняться чем-то другим: плавать, бегать, размышлять о жизни, может быть, написать о том, как мы жили дома – я, родители и сестры. Прожив так хотя бы год, я понял бы, чего хочу от жизни. И может быть, я опять выбрал бы флейту.
– А я в детстве иногда думала: ну почему никто не дает мне наставлений! Мои родители попали в дорожную аварию. Они погибли, когда мне было двенадцать лет. А тетка, взявшая меня к себе, не любила детей. Да вообще-то, я не знаю, любил ли меня отец. Иногда он говорил, что ждет не дождется, когда я вырасту большая, – а то он-де вообще не знает, что со мной делать. Не очень-то приятно было это выслушивать.
– Сочувствую. А какой была твоя мама?
– О, красивая! Она хотела, чтобы и я выросла такой же красивой, как она. Платья у меня были элегантные, как у нее, и в те минуты, когда мама помогала мне одеваться, она была чудесная – ласковая, нежная. Она бы научила меня, как ставить на место бессовестных подружек и нахальных приятелей. А без мамы пришлось мне самой набираться ума.
Вот так они, укрывшись под зонтиком, перебирали свои воспоминания. «Словно заблудившиеся дети, которым ужасно хочется домой», – подумал он. Ему вспомнились любимые детские книги, в которых рассказывалось о том, как мальчик и девочка плутают по лесу, прячутся в хижинах и пещерах, а их хватают злые люди и угоняют в рабство, или похищают в Лондоне и заставляют просить милостыню, или приучают воровать, или из кантона Тичино их увозят в Милан и продают трубочисту. Вместе с теми детьми он когда-то горевал, потеряв родителей, жил надеждой разыскать родных и вернуться домой. Однако прелесть этих историй была в том, что дети, оставшись без родителей, не погибали. Когда они в конце концов возвращались домой, то были уже такие большие, что отлично могли обходиться без родителей. Ах, почему это так трудно – быть самостоятельным, жить только своим умом и ни на кого не надеяться? Он вздохнул.
– Что?
– Нет, ничего. – Он обнял ее за плечи.
– Нет, ты вздохнул.
– Подумал: мало я преуспел в жизни. Мог бы и большего добиться.
– Это и мне знакомо. – Она прижалась к его груди. – Но, по-моему, жизнь движется вперед рывками, а не постепенно. Долгое время ничего не меняется, и вдруг – какое-то хорошее известие, или неожиданная встреча, или ты принимаешь решение, и вот уже ты стал другим, не тем, каким был прежде.
– Не тем, каким был прежде? Знаешь, ходил я полгода назад на встречу одноклассников, и что же? Кто в школе был порядочным и симпатичным человеком, тот таким и остался, а кто был паршивцем – остался паршивцем. Наверное, другие, глядя на меня, тоже что-то такое подумали. Но меня это тогда поразило. Ведь как странно: работаешь над собой и думаешь, ты изменяешься, развиваешься. А другие глянут и тотчас увидят, что ты тот же самый, каким был всегда.
– Пессимисты вы, европейцы! Вы, уроженцы Старого Света, никак не уразумеете, что мир изменяется, а вместе с ним изменяются и люди, для вас нет ничего нового.
– Давай пройдемся по берегу. Дождь почти перестал.
Закутавшись в полотенца, они побрели вдоль берега, у самой воды. Босиком было холодновато идти по мокрому песку, они сразу взбодрились.
– Знаешь, я не пессимист. Я всегда надеюсь, что моя жизнь станет лучше.
– Я тоже.
Потом дождь снова припустил, и они вернулись в дом Сьюзен. Оба озябли. Пока Ричард принимал душ, Сьюзен спустилась в подвал и включила отопление; пока Сьюзен принимала душ, Ричард развел огонь в камине. Он надел халат, принадлежавший отцу Сьюзен, – красный, теплый, из мягкой шерсти, на шелковой подкладке. Мокрую одежду они повесили сушиться, потом возились с самоваром: сняв его с каминной полки, разбирались, что и как надо сделать, чтобы приготовить чай. Потом устроились на диване, она – сидя по-турецки, в одном углу, он – в другом, поджав ноги под себя. Они молча пили чай и смотрели друг на друга.
– Скоро я уже смогу надеть свое.
– Оставайся. Ну что ты будешь делать в такой дождь? Сидеть сиднем в пансионе, один?
– Я…
Надо было сказать, что он не хочет навязываться, быть в тягость, нарушать ее планы. Но ведь это пустые отговорки. Он видел: ей с ним хорошо. Он видел это по ее глазам, слышал в звуке ее голоса. Он все улыбался – поначалу из вежливости, потом смущенно. Что, если вся эта ситуация пробуждает у Сьюзен ожидания, которых он не сможет оправдать? Но она вдруг, вытащив из стопки возле дивана какую-то книжку, принялась читать. Она так спокойно сидела в своем углу и читала – всем довольная, с таким непринужденным и самодостаточным видом, – что и он, поглядев на нее, почувствовал, как постепенно успокаивается. Поискав, он выбрал себе книгу, показавшуюся занятной, однако не стал читать – сидел и смотрел на поглощенную чтением Сьюзен. Смотрел и смотрел, наконец она подняла голову и, встретив его взгляд, улыбнулась. Он ответил улыбкой, почувствовав, что окончательно успокоился, и принялся за свою книгу.
В пансион он вернулся около десяти, Линда и Джон смотрели телевизор. Он сказал им, что завтрак для него готовить не нужно, он позавтракает у молодой женщины, которая живет в домике по этой же улице, всего в миле отсюда, – они вчера вечером познакомились в ресторане.
– А разве она не в большом доме живет?
– Она уже давно там не живет, если приезжает одна.
– Ну здравствуйте! В прошлом-то году…
– В прошлом году она приехала одна, но у нее все время кто-нибудь гостил.
Ричард, слушая своих хозяев, понимал чем дальше – тем меньше.
– Вы говорите о Сьюзен… – И тут он сообразил, что не знает ее фамилии. Они назвали друг другу только свои имена.
– Сьюзен Хартмен.
– Разве тот большой дом с колоннами принадлежит ей?
– Большой дом купил ее дед еще в двадцатых годах. А после смерти обоих родителей управляющий довел дом до жуткого состояния, деньги от аренды прикарманивал, в содержание дома не вкладывал ни гроша. Но несколько лет назад Сьюзен его уволила и привела в порядок оба дома и сад.
– Да ведь это же безумных денег стоило, наверное?
– Ничего, она может это позволить себе. А мы тут все очень довольны, что она так распорядилась своим имением, потому что уже повылезли отовсюду кое-какие предприимчивые господа, хотели дом и весь участок прибрать к рукам да разделить или построить там отель. Совсем другая жизнь у нас бы тут началась.
Ричард пожелал Джону и Линде спокойной ночи и ушел в свою комнату. Да, знай он о таком богатстве, не заговорил бы тогда со Сьюзен. Богатых он не любил. Богатство, доставшееся в наследство, вызывало у него презрение, богатство приобретенное он считал награбленным. Его родители никогда не могли заработать столько, чтобы обеспечить детей всем, что они хотели бы им дать. Того, что сам он получал в Нью-Йоркском филармоническом, в обрез хватало на жизнь в дорогущем мегаполисе. Богатых друзей у него не было и никогда не бывало.
Он злился, как будто Сьюзен его одурачила, хитростью втянула в не пойми какую историю и он теперь увяз! Увяз, в самом деле? Ничего подобного. Не обязательно же завтра утром идти к ней. Или ладно, можно пойти, но сказать, что больше они встречаться не будут: они слишком разные люди, жизнь у каждого своя, мир у каждого свой и ничего у них нет общего. Да, но… ведь сегодня, лишь несколько часов назад, они вместе сидели у камина, читали друг другу понравившиеся в книжке места и вместе приготовили обед, вместе поели, а после обеда вместе посмотрели фильм… им было очень хорошо… Так слишком ли они разные?
Зубы он на ночь чистил с такой яростью, что оцарапал изнутри щеку. Опустившись на кровать, прижав к щеке ладошку, он принялся себя жалеть. А ведь и в самом деле увяз он. Влюбился в Сьюзен. Лишь чуть-чуть влюбился, поправил он себя. Ну что он о ней знает, по правде-то? Если разобраться, чем она, собственно говоря, ему так понравилась? Наконец, если они живут настолько по-разному, в таких разных мирах, – что из всего этого выйдет? Да, раза три она, пожалуй, из любопытства пообедает в итальянском ресторанчике, который ему по средствам, скажет, может быть, что там очень мило. А дальше-то как быть? Позволить ей платить за них обоих? Или что прикажете делать – расплачиваться кредитными карточками? Он же залезет в долги, да-да, и очень скоро!
Спал он плохо. То и дело просыпался, часам к шести, поняв, что уже не заснет, он оделся и вышел на улицу. Все небо заволокли тяжелые темные тучи, но на востоке самый краешек небосвода тускло алел. Восход! О, если не хочешь прозевать восход над морем, нельзя терять времени, надо бежать, шут с ними, с уличными туфлями, некогда возвращаться и надевать кроссовки. Каблуки звонко цокали по асфальту, он спугнул стаю ворон, чуть позже – парочку зайцев. Заря в восточной стороне неба разгоралась все ярче, все выше; когда-то Ричард видел нечто подобное, но на закате, а вот встречать восход ему еще никогда в жизни не доводилось. Поравнявшись с домиком Сьюзен, он постарался потише стучать каблуками.
Наконец-то берег. Солнце в сиянии золота поднималось из полыхающего моря в охваченное пламенем небо. Это длилось лишь несколько мгновений – темные тучи погасили пожар. Ричарду показалось, что разом нахлынул не только сумрак, – стало как будто холодней.
Совсем ни к чему было так стараться не шуметь, проходя мимо дома Сьюзен, – она, как и он, была уже на ногах. Она сидела под склоном дюны. Увидев его, она поднялась, пошла к нему. Она шла медленно – песок там глубокий, идти трудно. Ричард сделал несколько шагов ей навстречу, но только потому, что не хотел показаться невежей. Он бы с удовольствием стоял себе и смотрел, как она идет – спокойной, решительной походкой, держась уверенно, – она шла, то чуть наклоняя, то вскидывая голову; поднимая голову, она всякий раз смотрела прямо на него, не отводя глаз. Казалось, они, идя навстречу друг другу, вели очень важный, но молчаливый разговор, только вот не знал он – о чем. Он не мог понять, о чем спрашивают ее глаза и какой ответ находят на его лице. Он улыбнулся, но она не ответила улыбкой, она смотрела почти строго.
Когда они сошлись лицом к лицу, она взяла его за руку:
– Идем!
За руку она привела его в дом, в доме – за руку наверх, в спальню. Сняв одежду, она легла на кровать и смотрела, как он раздевался.
– Я так долго тебя ждала.
Вот так она и любила его. Словно долго искала и наконец нашла. Словно она и он во всем правы и не может быть, чтобы что-то было не так.
Она взяла его за руку, повела – он покорно пошел за ней. Он не спрашивал себя: а как, я ей нравлюсь? Не спрашивал и ее: ну как тебе со мной? Отдыхая потом рядом с нею, он был уверен: он ее любит. Эта хрупкая женщина с маленькими глазами и тяжелым подбородком, с чересчур тонкой кожей и скорее мальчишеской фигуркой – кстати, мальчишеского в ней было больше, чем у женщин, с которыми он раньше был близок, – эта женщина обладала уверенностью, какой он никак не ожидал найти в ней, неизбалованной родительской любовью девочке, перешедшей от них к сухой и черствой тетке. Женщина, у которой было, по-видимому, денег больше, чем нужно нормальному человеку. Женщина, которая угадала в нем что-то такое, о чем он сам даже не подозревал, а значит, одарила его неведомым богатством.
А он впервые любил так, словно на свете не было и нет никаких представлений о том, какой должна быть любовь. Словно они люди девятнадцатого века и ни телевидение, ни кино со своими картинками не поучает их, как полагается целоваться и как вздыхать, не показывает им правильного выражения страсти на лицах и в содроганиях тел. Они были мужчина и женщина, которые сами, без чужих подсказок, учились целоваться и ласкать друг друга. Сьюзен не закрывала глаз, кажется, ни на минуту. Когда бы он ни посмотрел на нее, он встречал ее взгляд. И этот взгляд, самозабвенный и доверчивый, наполнял его сердце любовью.
Она оперлась на локоть и засмеялась:
– Как хорошо, что я улыбнулась тебе тогда, в ресторане. Ты ведь не знал, как быть. А я сперва думала, что ты сразу ко мне подойдешь уверенно и быстро.
Он радостно улыбнулся в ответ. Им не пришло в голову увидеть тревожный знак в том, что при первой встрече не все у них пошло гладко. Они оба решили: ну не получилось что-то – чепуха, посмеяться над этим, да и забыть.
Они оставались в постели до самого вечера. А вечером вывели из гаража машину Сьюзен – видавший виды, однако содержавшийся в полном порядке «БМВ» – и на ночь глядя, под проливным дождем поехали за продуктами. В супермаркете все было залито ярким, слепящим светом, пахло химическими моющими средствами, дребезжала и тренькала техническая музыка, редкие в этот поздний час покупатели устало катили нагруженные тележки по проходам между прилавками и полками с товарами.
– Лучше бы мы в постели остались! – шепнула Сьюзен, и он обрадовался: значит, ей тоже не по себе от яркого света, химического запашка и назойливого музыкального фона.
Она вздохнула, засмеялась и принялась за дело – тележка вскоре наполнилась. Он тоже кое-что положил – яблоки, блинчики, вино. Расплатившись в кассе кредиткой, он подумал, что в следующем месяце впервые в жизни не сможет рассчитаться по кредиту. На сердце заскребли кошки, однако его больше встревожило то, что в столь знаменательный день он, оказывается, способен волноваться из-за каких-то ничтожных пустяков, – подумаешь, превышение кредита. А посему он купил в винном неподалеку еще три бутылки шампанского.
Сев за руль, она предложила:
– Давай отвезем ко мне твои вещи?
– Джон и Линда, наверное, уже легли спать. Не стоит их беспокоить.
Сьюзен кивнула. Машину она вела быстро и уверенно; глядя на то, как она вписывалась в повороты – а на дороге их хватало, – он заключил, что и машину, и эту дорогу она знает как свои пять пальцев.
– Ты из Лос-Анджелеса на этой машине приехала?
– Нет. Машина здесь обитает, в гараже. Кларк присматривает за домом и садом, ну и машиной тоже занимается.
– А в большом доме ты живешь, только когда к тебе приезжают гости?
– Хочешь, завтра переберемся в большой дом?
– Не знаю… Этот дом…
– Этот дом слишком огромный для меня одной. Но вместе с тобой – милое дело. Отлично! В библиотеке будем читать, в бильярдной – играть, в музыкальном салоне ты будешь упражняться на флейте, в малой гостиной я попрошу подавать нам завтрак, в большой гостиной – ужин. – Она все больше оживлялась, ее голос звучал все более решительно. – Спать будем в большой опочивальне, где когда-то спали дед с бабкой, потом родители. Или будем спать в моей комнате, в кровати, в которой я девчонкой мечтала о своем принце.
В тусклом свете от приборной панели он видел ее улыбающееся лицо. Сьюзен погрузилась в воспоминания. Впервые за все время после их встречи мысли увлекли ее куда-то совсем, совсем далеко от него. Ричард хотел спросить, о ком же из актеров или певцов она мечтала в те далекие годы, ему хотелось все знать о мужчинах в ее жизни и, главное, услышать, что все это были, так сказать, предтечи, а вот он… он – мессия. Но в ту же минуту собственная обеспокоенность насчет других мужчин показалась ему столь же мелкой, как недавнее волнение из-за превышенного кредита. Ах, как он устал! Он положил голову на плечо Сьюзен, а она свободной рукой погладила его по щеке, крепче прижала его голову к своему плечу – и он задремал.
О мужчинах в жизни Сьюзен он вскоре все узнал от нее самой. Узнал и то, что она хочет иметь детей, непременно двоих, а лучше бы – четверых. С мужем у нее сначала детей не получилось, а потом она разлюбила мужа и вскоре с ним развелась. Он узнал и о том, что в колледже она изучала историю искусств, но после его окончания поступила в бизнес-школу, затем некоторое время занималась реорганизацией фирмы, производившей игрушечные железные дороги. Фирма досталась ей в наследство от отца, позднее она продала ее вместе с другими фирмами, раньше тоже принадлежавшими отцу. Он узнал, что у нее квартира на Манхэттене и там сейчас идет ремонт, так как она решила переселиться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И еще узнал, что ей сорок один, то есть она на два года его старше. Рассказывая о прошлом, Сьюзен неизменно сворачивала на планы их будущей совместной жизни. Она описала свою нью-йоркскую квартиру: апартаменты на двух уровнях – с седьмого этажа на восьмой ведет широкая лестница, везде большие коридоры, высокие потолки, в кухне есть подъемник. Из окон – вид на парк. В этой квартире она жила до смерти родителей, тетка увезла ее в Санта-Барбару.
– Я съезжала по перилам, каталась на роликах в холлах и коридорах и в кухонный лифт залезала, пока могла там поместиться, значит, лет до шести, а лежа в кровати, я видела, как за окном колышутся верхушки деревьев. Ты должен посмотреть эту квартиру!
Однако показать ее она пока не могла: с Кейпа ей надо было лететь в Лос-Анджелес, чтобы подготовить там перевод фонда и свой собственный переезд в Нью-Йорк.
– Ты встретишься с моим дизайнером? В квартире можно еще все переделать как захочется.
Ее дед во время экономического кризиса очень выгодно приобрел не только громадную квартиру, но и весь дом на Пятой авеню. И тогда же он купил дом и сад на Кейпе и еще одну усадьбу в Адирондакских горах.
– Там тоже все надо привести в порядок. А ты любишь строительство? Архитектуру? Ремонты, обустройство дома? Я уже получила эскизы и чертежи, привезла сюда с собой, мы должны вместе их посмотреть.
А еще она рассказала об одной знакомой паре: эти люди много лет тщетно ждали детей и в конце концов, потеряв надежду, отправились во время отпуска в fertility farm – загородный репродуктивный центр. Она описала, какие там проводят процедуры, какую назначают диету, – муж и жена там ели, спали, занимались физкультурой строго по часам, в определенное время, и любовью занимались тоже в определенные дни и часы. Она рассказывала об этом с юмором, но в то же время немножко испуганно.
– У вас, европейцев, ничего подобного нет – знаю, я читала. Для вас в жизни все решает судьба, которую нельзя изменить.
– Это так, – сказал он. – И если судьбой нам назначено быть убийцами наших отцов и насильниками матерей, то, действительно, с этим, видно, ничего не поделаешь.
Она засмеялась:
– Ага! Значит, у вас не должно быть возражений против репродуктивных центров. Если вы не можете исправить свою судьбу, то репродуктивные центры, конечно, не сделают вашу судьбу хуже, чем она есть. – Тут Сьюзен, как бы извиняясь, пожала плечами. – С Робертом мне не удалось завести ребенка. Наверное, мое здоровье тут ни при чем и дело было как раз в Роберте, а впрочем, мы не обследовались. Но все-таки с того времени так и остался у меня этот страх.
Он кивнул. Он тоже почувствовал страх. Как минимум двое детей, а лучше бы четверо – тут было чего испугаться. Внушало страх и другое: что в репродуктивном центре ему придется, соблюдая диету и прочее, любить Сьюзен в определенные дни, по расписанию. Внушало страх громкое тиканье биологических часов, которое не прекратится, пока не появится на свет четвертый ребенок или же не выяснится, что больше детей быть не может. Внушало страх то, что страсть Сьюзен, самозабвенность ее любви предназначалась вовсе не ему.
– Ничего не надо бояться. Я просто говорю о том, что для меня самое важное. Не думай, что это мое последнее слово. Ты-то все, что говоришь, тщательно контролируешь.
– Это опять же чисто европейская черта.
Он не хотел откровенничать о своих страхах. Она права, конечно: он тщательно взвешивал каждое свое слово, она же прямо говорила о том, что думала и чувствовала. Нет, она вовсе не строила планы их совместного пребывания в репродуктивном центре. Но она стремилась планировать их совместное будущее. А он? Он, конечно, тоже хотел этого, и с каждым днем сильнее, но он-то не мог дать ей столько, сколько она готова дать ему, – нет у него ни квартиры, ни особняков, ни денег. Вот, скажем, случился бы у него роман с оркестранткой из первой группы вторых скрипок: они бы вместе нашли квартиру, а потом вместе решили бы, что из мебели перевезти от него, а что – от нее и что прикупить в «Икее» или на дешевой распродаже. Разумеется, Сьюзен не станет возражать, если одну-две комнаты он захочет обставить своими старыми вещами. Но ясно как день, что это нарушило бы общую гармонию. Можно принести туда флейту и ноты, можно играть, стоя за пюпитром, который наверняка найдется среди вещей Сьюзен.
Можно расставить свои книги на ее стеллажах и сложить бумаги в секретер ее отца и можно будет писать письма, сидя за столом в бывшем кабинете ее отца. Свою одежду он бы здесь, в приморском местечке, повесил в ее гардеробный шкаф без всяких там колебаний, но в городе… в городе он бы плоховато выглядел в своем старье рядом со Сьюзен. Впрочем, она, конечно, с удовольствием купит ему новую одежду, сообразуясь с модой.
Он много занимался, в основном «вхолостую», как он называл эти упражнения, – сгибал и разгибал мизинец, двигал им туда-сюда. Но все чаще брался и за инструмент. Флейта словно сделалась частью его самого – раньше он ничего подобного за собой не замечал. Флейта была его собственная, очень ценная, на ней он создавал музыку, на ней зарабатывал, он мог повсюду носить ее с собой, с ней он повсюду был как у себя дома. А Сьюзен он своей игрой давал то, чего никто другой не мог ей дать. Когда он импровизировал, рождались мелодии, гармонировавшие с их настроением.
В большом доме ее любимой комнатой была угловая, с окнами от пола до потолка. В хорошую погоду рамы раздвигались в стороны, в плохую – окна закрывались ставнями. Даже когда лил дождь и нельзя было гулять по берегу, в угловой они чувствовали близость моря, его волн, и чаек, и проплывавших вдали кораблей. На берегу холодный дождь, случалось, сильно, резко хлестал по лицу, до боли.
В угловой стояла плетеная мебель – лежанки, кресла, столики; жесткие сиденья были покрыты мягкой обивкой и подушками.
– Жаль… – сказал он, когда она водила его по комнатам, показывая дом, и они пришли в угловую, – жаль, что на этих лежанках нам вдвоем не поместиться.
Через два дня – они завтракали в малой гостиной – к дому подъехал грузовичок, и два парня в синих комбинезонах втащили в дом широкую двуспальную лежанку. В точности как прочая мебель из плетеного гарнитура, даже цветочки на обивке такие же.
По милости погоды все дни были как один. День за днем лил дождь, изредка разражалась гроза, иногда дождь вдруг переставал на несколько часов или минут на десять, иногда пелена на небе внезапно разрывалась – и тогда ярко блестели крыши. Если погода позволяла, Сьюзен и Ричард гуляли вдоль берега; если кончались продукты, они ездили в супермаркет, а в остальное время не покидали большого дома. Перебравшись сюда из маленького домика при въезде, Сьюзен позвонила жене Кларка – ее звали Майта – и договорилась, чтобы та приходила каждый день и занималась уборкой, стиркой, готовкой. Майта держалась так неприметно, что Ричард впервые увидел ее лишь спустя несколько дней.
Однажды они пригласили на обед Линду и Джона. Готовили Сьюзен и Ричард сами, причем оба, как оказалось, готовить вовсе не умели, а заглянуть в кулинарную книгу поленились. Но все же сварганили стейки с картошкой и салат, главное же – оба прониклись приятным сознанием, что вместе способны одолевать критические жизненные ситуации. Не считая этого раза, гостей они не приглашали и сами ни к кому не ходили.
«Успеется, еще будет время для друзей».
Когда начинало смеркаться, они обнимались и любили друг друга. Им хватало сумеречного вечернего света, а когда становилось совсем темно, они зажигали свечу. Их любовь была такой спокойной, что Ричарда порой одолевали сомнения: быть может, он приятно удивил бы Сьюзен, если бы яростно сорвал одежду с нее и с себя? Бросился на нее? Или покорился ее бушующей страсти? Но все это было не в его характере, да и она, видимо, всем была довольна. «В конце концов, мы же не дикие кошки, – думал он, – мы кошки домашние».
Так все и шло до их крупной ссоры, первой и последней. Они собирались в супермаркет, и Сьюзен оставила Ричарда дожидаться в машине, так как в доме зазвонил телефон; разговор немыслимо затянулся. Ах так, значит, она бросила его, ничего не объяснив, заставила ждать, забыла о нем, да она ни в грош его не ставит! На него напала такая ярость, что он выскочил из машины, вбежал в дом и накинулся на Сьюзен, едва успевшую положить трубку:
– Вот, значит, как ты ко мне относишься?! Твои дела имеют значение, а мои – нет? Твое время драгоценно, а мое ничего не стоит?
В первую минуту она ничего не поняла:
– Я говорила с Лос-Анджелесом. Правление фонда…
– Почему ты ни слова не сказала? Почему ты меня вечно…
– Ладно, извини. Да, тебе пришлось минутку подождать. Я-то думала, европейцы относятся к женщине…
– Ах, европейцы? Надоело, слышать этого не могу! Битых полчаса сижу там, как… как…
Она тоже разозлилась:
– Полчаса? Несколько минут, а не полчаса! А надоело ждать, так пошел бы в дом, почитал бы газету! Тоже мне примадонна!
– Что? Я – примадонна?! Да кто из нас двоих…
Она сказала: невозможно понять, с чего он так развоображался. Он в ответ – что ничего тут нет непонятного и почему это он «развоображался», если он требует, чтобы она с ним считалась так же, как он с ней. Да, требует – у него ничего нет, в отличие от нее, но он требует, чтобы с ним считались. Она сказала, что не понимает, как ему могла прийти в голову эта дикая мысль: будто бы она с ним не считается. Дальше – больше, под конец они уже орали друг на друга во все горло, отчаянно, яростно.
– Ненавижу тебя!
Она шагнула к нему – он отпрянул, она шагнула снова – он еще попятился, и так далее, пока он не уперся в стену, и тут она стала колотить его кулаками по груди, колотила и колотила, наконец он обхватил ее и прижал к себе. Она дергала пуговицы на его рубашке, потом рванула что было силы, он стал стягивать с нее джинсы, она – с него, но это было слишком сложно, слишком долго, – в общем, каждый сам расправился с одеждой, и они повалились прямо на пол, обнявшись нетерпеливо, жадно, страстно.
Потом он лежал на спине, а она – обняв его за шею, положив голову ему на грудь.
– Все-таки моя взяла. – Он радостно засмеялся.
Она же чуть пошевелилась – покачала головой, пожала плечами и крепче прижалась к нему. Он почувствовал: в отличие от него, она не перенесла пыл поединка в любовную страсть. Она рвала на нем рубашку не потому, что тянулась к его телу, нет, она искала его сердце. Она стремилась вернуть покой, утраченный ими в этой схватке.
Они поехали в супермаркет, и Сьюзен нагрузила на тележку целую гору продуктов, как будто впереди у них по меньшей мере неделя. Когда уже возвращались, солнце прорвалось сквозь тучи, и они свернули на первую же дорогу, что вела к морю, вернее, к заливу. Море было спокойно, воздух чист, они смогли разглядеть оконечность мыса и противоположный берег залива.
– Люблю, когда перед грозой видимость вот такая ясная и резко выступают все контуры.
– Перед грозой?
– Да. Не знаю, в чем тут фокус. Может, влажность воздуха, может, электричество влияет, но воздух всегда такой вот ясный перед грозой. Обманчивая ясность: обещает хорошую погоду, а приносит грозу.
– Ты, пожалуйста, прости, что я на тебя окрысился. Да нет, в сто раз хуже – я же разорался на тебя. Мне очень жаль. Правда.
Он ждал, что́ она ответит. А потом увидел: она плачет. От испуга он даже вздрогнул. Подняв заплаканное лицо, Сьюзен сказала:
– Никто никогда не говорил мне таких чудесных слов. Никто не просил у меня прощения за какие-то слова. – Она обвила его руками. – И ты меня прости. Я тоже разоралась, я ругала тебя и била. Никогда больше не будем так делать, слышишь? Никогда…
И вот настал последний день. Ее самолет улетал в половине пятого, его – в половине шестого, так что завтракали они без спешки и впервые – на террасе. Было солнечно, пригревало, – казалось, дожди и холода миновали, как короткая болезнь, после которой лето уже поправилось. Позавтракав, они вышли пройтись по берегу.
– Всего две недели ждать.
– Да…
– Ты помнишь, что завтра у тебя встреча с дизайнером?
– Помню.
– А о матрасе помнишь?
– Все помню. Купить матрас, складную мебель, пластиковую посуду. Если найдется часок – сходить на мебельный склад, посмотреть, может, приглянется что-нибудь из мебели твоих родителей. А обстановкой займемся вместе. Все там устроим, каждой вещи найдем подходящее место… Я люблю тебя.
– Смотри, здесь мы встретились в самый первый день.
– Да, когда шли к морю. А на обратном пути – вон там.
Они говорили о том, как дважды встретились на берегу и как им невероятно повезло, что это случилось, – ведь и он, и она в тот день запросто могли бы пойти куда-нибудь в другое место; говорили о том, что в первый вечер они не познакомились бы в том рыбном ресторане, если бы Сьюзен не улыбнулась – нет-нет, если бы он не посмотрел на нее, – и о том, как она его заметила, – нет-нет, это он ее заметил.
– Пойдем уложим вещи, а после давай отодвинем рамы в угловой? У нас еще есть время.
– Не набирай с собой много. Оставь тут все летнее и пляжное, пусть вещи дождутся, когда ты приедешь сюда через год.
Он кивнул. Хотя Линда и Джон вернули ему часть суммы, которую он заплатил вперед за пансион, кредит на карточке был превышен безбожно. Но теперь его не пугало то, что вместо вещей, которые он здесь оставит, в Нью-Йорке придется купить новые, а значит, он наделает новых долгов. Что ж, такова жизнь, если твоя любовь тебе не ровня. Ничего, какой-нибудь выход найдется.
В холле, возле двери, стояли уложенные дорожные сумки, из-за этого дом ему показался чужим. Они поднялись по лестнице, как столько раз поднимались в эти дни. Но сейчас оба почему-то ступали бесшумно и переговаривались почти шепотом.
Они отодвинули оконные рамы – сразу стали слышны шум моря и крики чаек. Все еще было солнечно, но Ричард принес из спальни одеяло и бросил его на широкую лежанку:
– Иди сюда.
Они легли и накрылись одеялом.
– Как же я буду спать без тебя?
– А я без тебя?
– Ты правда не можешь полететь со мной в Лос-Анджелес?
– У меня репетиция. А ты не можешь полететь со мной в Нью-Йорк?
Она засмеялась:
– Не купить ли мне твой оркестр? Тогда ты сам будешь назначать дни репетиций.
– Но сейчас-то ты не купишь оркестр.
– Хочешь, пойду позвоню им?
– Нет уж, не уходи.
Страшно было расстаться, но в то же время, оттого что час прощания приближался, все сделалось каким-то странно легким. Их жизнь уже перестала быть общей, совместной жизнью, но ни он, ни она еще не вернулись в свою собственную, отдельную жизнь. Они находились как бы на нейтральной полосе. И любовь их в этот час была такой же – поначалу робкой, потому что они понемногу уже становились чужими друг для друга, потом беспечной. И как всегда, она смотрела ему в глаза самозабвенно и доверчиво.
В аэропорт они приехали на машине Сьюзен. Вечером Кларк отгонит машину домой и поставит в гараж.
Они еще раз уточнили, где и когда каждый из них будет находиться, где можно будет связаться по телефону, – как будто не было у них мобильников и они не могли созвониться в любой момент! Они говорили о том, чем каждый будет заниматься в те две недели, которые оставались до их новой встречи. И еще говорили, правда не всерьез, о том, что в будущем предпримут вместе. Чем ближе они подъезжали к аэропорту, тем сильнее Ричард чувствовал, что на прощание должен сказать Сьюзен какие-то слова, которые остались бы с ней надолго. Но ничего подходящего не приходило в голову. И он лишь снова и снова повторял: «Люблю тебя, люблю тебя».
В самолете ему захотелось еще разок, из окна, увидеть тот дом и берег. Но они остались на севере, а лайнер взял курс на юго-запад. Он смотрел на море и острова, потом увидел Лонг-Айленд и наконец Манхэттен. Самолет описал большой круг над Гудзоном, и тут Ричард разглядел внизу церковь, от которой до его улицы рукой подать.
Не сразу он привык к этому кварталу в те давние времена… Всюду шум, вдобавок, возвращаясь поздним вечером домой, он чувствовал себя очень неуютно из-за подростков – крутые, накачанные, они вечно торчали на крылечках, сидели или стояли, привалившись к перилам, пили, курили под грохот и вой своей музыки. Иной раз кто-нибудь из них небрежно ронял два-три слова, а он не понимал, что им надо и почему они нахально глазеют, когда он проходит мимо, а потом долго смеются ему вслед. Однажды они встали, загородив ему дорогу, и потребовали футляр с флейтой, он испугался – ну все, заберут, но им вздумалось просто посмотреть, что там такое, потом пожелали послушать. Они отключили свою музыку – все звуки стихли, и от внезапно наступившей тишины парни даже чуточку смутились. Он тоже смутился, да и от страха он все еще подрагивал, – в первых тактах флейта зазвучала робко. Но затем он заиграл смелее и свободнее, а подростки, подхватив мелодию, принялись подпевать и хлопать в такт. Закончилось все тем, что он с ними выпил пива. С тех пор они здоровались с ним: «Hey, pipe! Hola, flauta!»[1] Он здоровался в ответ, а через некоторое время уже знал парней по именам.
В квартире тоже не было спасения от шума. Он слышал, когда соседи скандалили, дрались или занимались любовью, он знал, какие им нравятся радиопередачи и телеканалы. Однажды ночью в доме грохнул выстрел, после этого он несколько дней с опаской вглядывался в каждого, кого встречал на лестнице или в подъезде. Случалось, соседи приглашали его на домашнюю вечеринку, и, сидя в гостях, он старался определить, к кому из соседей отнести тот или иной шум или звук: женщина с тонкими губами – визгливые возгласы, мужчина с татуировками – удары, их дочь, крепкая толстушка, и ее приятель – нескромные вздохи. Он, со своей стороны, раз в году приглашал соседей к себе, и враги, полные взаимной ненависти, в угоду ему вели себя мирно. И никогда не бывало у него каких-то недоразумений с соседями из-за игры на флейте – он играл рано утром и поздно вечером, он даже за полночь мог бы играть – никто бы слова не сказал. Сам он, ложась спать, всегда затыкал уши специальными затычками.
Прошли годы, квартал изменился. Молодые пары отремонтировали обветшалые дома, в заброшенных помещениях бывших магазинов открыли ресторанчики. Ричард нередко встречал новых соседей – теперь в доме жили врачи, юристы, банкиры; своих гостей он мог пригласить на неплохой ужин в одном из ресторанчиков. Дом сохранил свой старинный облик – многочисленные наследники прежнего домовладельца давным-давно перессорились, да так, что не могли договориться о продаже дома целиком или о его перестройке. Ричарда это устраивало. Даже здешний шум ему полюбился. Эти звуки словно напоминали, что живет он в большом мире, а не только в анклаве богачей.
Он вдруг сообразил, что, рассказывая Сьюзен о своих планах на первое время в Нью-Йорке, даже не упомянул о втором гобое! С гобоистом они раз в неделю ужинали в итальянском ресторане, что на углу, толковали о житье-бытье европейцев в Америке, делились друг с другом надеждами и разочарованиями, обсуждали дела в музыкальном мире, сплетни об оркестрантах, говорили и о женщинах; гобоист был родом из Вены, американок он находил привередливыми… Совсем недавно так же думал и сам Ричард.
Он забыл рассказать Сьюзен и о старике-соседе, который жил под самой крышей, – по вечерам тот иногда заглядывал к Ричарду поиграть в шахматы, причем изобретал настолько оригинальные и хитрые комбинации, что Ричард, ничуть не обижаясь, раз за разом проигрывал. Он не рассказал и о Марии – одной из девчонок с его улицы! Эта Мария неизвестно где и как раздобыла флейту, он учил ее правильному дыханию, поставил ей руку и обучил нотной грамоте, в конце уроков Мария обнимала его, прижимала к себе и целовала, ну да, в губы. Ох, да ведь он не рассказал Сьюзен и о своих занятиях испанским: уроки ему давал эмигрант из Сальвадора, живший на соседней улице, и не рассказал о фитнес-центре, ужасно замызганный центр, но тем не менее он там приятно проводил время… Репетиции оркестра и концерты он расписал Сьюзен во всех подробностях, так же подробно рассказал о флейтисте, с которым они иногда вместе занимались музыкой, и – о чем еще? – о детях своей тетки, которая после войны сошлась с американским солдатом, уехала из Германии и живет теперь в Нью-Джерси, а вот о том, что учит испанский, он только упомянул, не сказал, кто ему дает уроки, и что в фитнес-центр ходит, упомянул, но не рассказал, где этот центр находится. Он вовсе не собирался что-то скрывать. Просто так получилось.
Такси подвезло его к дому. Было тепло, мамаши с малышами сидели возле подъездов, ребята постарше играли в прятки на парковке среди машин, старики, вытащив на улицу складные стулья, сидели, попивая пиво из банок, несколько парней слонялись вокруг, изо всех сил стараясь держаться солидно, с небрежной повадкой взрослых мужчин, несколько девчонок, стоявших в сторонке, глядели на них, посмеиваясь.
– Hola flauta! – крикнул сосед. – Ну что, хорошо съездили?
Ричард посмотрел в один конец улицы, в другой и сел на крылечке, поставив сумку рядом. Да, это и есть его мир: улица, чистенькие дома и облезлые домишки, на углу итальянский ресторанчик, куда они ходят с гобоистом, на другом углу продуктовые лавки, газетный киоск, дальше на той улице – фитнес-центр, и над всеми крышами возвышается церковная башня. А рядом с церковью живет его учитель испанского. Он не просто привык к этому миру. Он любил этот мир. С тех пор как он приехал в Америку и поселился в Нью-Йорке, у него не было ни одного серьезного романа. Что его здесь удерживает – работа, друзья, люди, живущие в этом доме или на этой улице, привычные хождения в магазин, в фитнес-центр, в одни и те же кафе? Каждое утро он покупал газету в киоске, с его хозяином, Амиром, они любили перекинуться парой слов о погоде; потом шел в кафетерий, читал там газету; в кафетерии давно привыкли подавать ему на завтрак два яйца с зеленым луком и поджаренный зерновой хлеб; потом часа два он играл, потом прибирался в квартире или стирал, потом шел в фитнес-центр, разминался на тренажерах, потом учил Марию играть на флейте, и девушка на прощание обнимала его; обедал он в итальянском ресторане, ел спагетти болоньезе, вечером играл в шахматы и наконец ложился спать – чего же ему еще?..
Запрокинув голову, он поглядел на окна своей квартиры. Клематисы цветут чудесно, должно быть, Мария не забывала их поливать. Цветочными ящиками он тут первый обзавелся, и по его примеру многие соседи развели на окнах красивые цветы. А не забывала ли Мария выливать воду из ведра, которое он подставил под прохудившейся трубой? Надо вызвать слесаря – до отъезда-то не успел.
Он поднялся – домой же надо. Но снова опустился на ступеньку. Забрать почту, подняться по лестнице, отпереть дверь, проветрить все комнаты, разобрать сумку и разложить по местам вещи, просмотреть электронную почту, на какие-то письма ответить сразу же, потом принять горячий душ, одежду бросить в корзину для белья, достать из шкафа чистые вещи, одеться, прослушать автоответчик – оставил ли гобоист сообщение, что сегодня вечером он не прочь посидеть в итальянском ресторане, – и тогда позвонить гобоисту и договориться… Если он вернется к своей прежней жизни, она уже никуда его не отпустит.
Да и вообще, о чем это он размечтался? Что в новую жизнь – жизнь со Сьюзен – можно прихватить и свою старую жизнь? Что раз-другой в неделю он будет ездить через весь город в этот фитнес-центр и на уроки испанского? И ненароком встречать Марию и других девчонок и парней? А старик-сосед иногда, взяв такси, будет приезжать на Пятую авеню и в гостиной – одной из нескольких в квартире, расположенной на двух этажах, – будет сражаться с ним в шахматишки, сидя за столиком у стены, на которой красуется подлинный Герхард Рихтер? А гобоист сможет чувствовать себя как дома в шикарных ресторанах Ист-Сайда? Да, если разобраться: рассказывая Сьюзен о себе, он умолчал о многих сторонах своей жизни, которым в их совместной жизни не нашлось бы места. Все последние дни он гнал от себя мысль, что ради новой жизни необходимо отказаться от старой.
Ну и что из того? Он любит Сьюзен. На Кейпе только она и была в его жизни, и не хотел он никого другого и ничего другого. Значит, и здесь все будет так же, и здесь никто ему не нужен, кроме Сьюзен. Ведь на Кейпе им было так хорошо вместе не потому, что его старая жизнь осталась где-то вдалеке! Вот и здесь не встанет старая жизнь между ним и Сьюзен лишь потому, что эта старая жизнь, во всей своей реальности, будет не далеко, а в каких-то двух милях от того места, где заживет он новой жизнью!
Не встанет? Еще как встанет. Следовательно, нельзя подниматься в квартиру. Надо уйти отсюда, оставив старую жизнь в прошлом, и начать новую немедленно, сейчас же. Взять номер в отеле. Нет, лучше устроиться по-походному в квартире Сьюзен, среди ведер с краской и стремянок. Можно попросить кого-нибудь забрать его вещи из старой квартиры и доставить туда. Но, подумав о гостиничном номере и о квартире Сьюзен, он испугался и затосковал по старому дому, хотя еще шагу никуда не сделал.
Ах, ну почему они со Сьюзен не остались на Кейпе! Ах, была бы ее квартира уже отремонтирована, была бы сама Сьюзен здесь! Хоть бы ударила в его дом молния и сожгла его дотла!
Он загадал: если в течение десяти минут кто-нибудь войдет в дом, ну, тогда и он войдет. А если нет – подхватит свою сумку и поедет в отель. Десять минут. Пятнадцать минут. Никто не вошел в дом, а он все сидел на крыльце и ждал. И опять загадал: если в течение пятнадцати минут на улице появится свободное такси, он его останавливает и едет в отель, если нет – поднимается в квартиру. Свободное такси он увидел ровно через минуту, но даже не подумал махнуть шоферу, однако и в квартиру не стал подниматься.
Да, пора посмотреть правде в глаза: он не способен самостоятельно принять решение. Он уже был готов в этом признаться и Сьюзен. Не обойтись ему без ее помощи. Пусть она приедет и останется здесь, с ним. Пусть поможет ему забрать вещи из старой квартиры, и они вместе устроят все в новой. А потом уж пусть летела бы в свой Лос-Анджелес. Он набрал ее номер. Она находилась в бостонском аэропорту, где только что объявили посадку.
– Уже иду к самолету на Лос-Анджелес!
– Я не могу без тебя.
– И я без тебя не могу! Любимый, я так по тебе скучаю.
– Я не о том. Я в прямом смысле не могу без тебя. Не могу ничего решить насчет моей старой жизни и нашей общей новой. Сделай так: прилетай сюда, а потом полетишь в Лос-Анджелес. Прошу тебя! – (В трубке что-то зашуршало.) – Сьюзен! Ты меня слышишь?
– Я уже подхожу к самолету. Так что, прилетишь ко мне в Лос-Анджелес?
– Нет-нет, Сьюзен! Ты, ты прилетай в Нью-Йорк, очень тебя прошу.
– Ну конечно я прилетела бы, мне очень хочется быть с тобой. – (Он услышал, как кто-то просит ее предъявить билет.) – Может быть, увидимся через неделю на выходных. Давай попозже созвонимся, а сейчас все, меня торопят, я тут последняя осталась. Я люблю тебя.
– Сьюзен!
Ее телефон отключился, а когда он опять вызвал ее номер, на экранчике выскочило сообщение о подключении электронной почты.
Стемнело. К нему подсел сосед:
– Паршиво?
Ричард кивнул.
– Из-за юбки?
Ричард засмеялся и снова кивнул.
– Понимаю… – Сосед ушел. Чуть позже он вернулся и поставил перед Ричардом бутылку пива. – Выпей! – Он потрепал Ричарда по плечу.
Ричард пил пиво. На улице шла обычная суета. Вот подростки возле дома, чуть дальше по улице, курят, что-то потягивают из банок под громыхание своей музыки. Вот дилер, укрывшись в темноватом углу под наружной лестницей, без лишних слов предлагает прохожим аккуратно свернутые пакетики и прячет в карман купюры. Обнимается парочка возле дверей. Старик, один он тут остался, другие уже сложили свои складные стулья и разошлись по домам, а этот сидит, иногда вытаскивая из сумки-холодильника новую банку пива. Все еще не похолодало, в воздухе не ощущалось той терпкой вечерней свежести, которая в конце лета уже предвещает осень, – нет, вечерний теплый воздух давал надежду на долгий, мягкий исход лета.
Ричард очень устал. И по-прежнему не давала ему покоя мысль, что нужно сделать выбор: или – или, старая жизнь или новая жизнь, надо только собраться с духом и принять решение, и тогда все произойдет легко и просто: либо он встанет и поднимется к себе наверх, либо уедет отсюда. Но мысль эта была вялой, такой же как он сам.
Почему непременно сегодня надо ехать на такси в какой-то отель на Ист-Сайде? Почему не завтра? Почему нельзя еще немного пожить своей старой жизнью, пока он не решится начать новую? Какая глупость – думать, что через неделю или две он не найдет в себе сил, чтобы бросить старую жизнь и начать новую! Да он и сейчас бы мог. Если бы была необходимость. Но ее ведь нет. Ничто не помешает ему, если он уедет сейчас, завтра вернуться. А вот если он уедет не сейчас, а позже, то сюда уже не вернется. Новая жизнь – жизнь со Сьюзен – его уже не отпустит.
Важно одно – принять решение. И он его принял. Он откажется от своей старой жизни и начнет со Сьюзен новую жизнь. Но… как только действительно будет готов ее начать. А пока он еще не готов. Он начнет новую жизнь, когда настанет время. Начнет, потому что он так решил, да, начнет. Только не сейчас.
Когда он встал и выпрямился, спина и ноги заныли. Потянувшись, он поглядел вокруг. Подростки уже разошлись по домам: сидят теперь кто перед телевизором, кто уткнувшись носом в монитор, а кто-то уже и в подушку. На улице ни души.
Ричард взял сумку, открыл дверь, забрал из ящика почту, поднялся на свой этаж и отпер дверь квартиры. Он прошел по комнатам, везде открывая окна. В ведре под прохудившейся трубой вода едва покрывала донышко, на столе в комнате стоял букет хризантем. Мария. Гобоист – он прослушал записи автоответчика – предлагает увидеться сегодня вечером. От учителя испанского пришла открытка – привет из Мексики, где тот решил провести отпуск и заодно пройти курс йоги. Ричард включил компьютер, но тут же выключил – с электронной почтой успеется. Он разобрал сумку, разделся и одежду бросил в корзину для белья.
Стоя голышом посреди комнаты, он прислушался к звукам своего дома. За стеной тишина, наверху невнятно бормочет телевизор. Откуда-то снизу, из отдаленной квартиры, доносятся голоса – там ссорятся, потом хлопнула дверь. Где-то тихо гудели кондиционеры на окнах. Дом спал.
Ричард выключил свет и лег. Засыпая, он думал о Сьюзен, вспоминал, как она стояла на трапе самолета, смеялась и плакала.
Ночь в Баден-Бадене
Он взял с собой Терезу, потому что она так этого ждала, потому что так обрадовалась, когда это случилось. Потому что с ней, такой радостной, приятно было поехать. Потому что не было серьезных причин не брать ее с собой.
Это была премьера его первой пьесы. Он должен был сидеть в ложе, а в конце выйти на сцену и вместе с актерами и режиссером получить заслуженные аплодисменты или быть освистанным. Он, правда, считал, что не заслуживает освистания за постановку, которую не он ставил. А вот покрасоваться на сцене перед аплодирующим залом очень даже хотелось.
Он заказал номер на двоих в парк-отеле «Бреннер», в котором ему еще ни разу не довелось побывать. Он с удовольствием предвкушал, как окажется в роскошном номере с роскошной ванной, как перед премьерой пройдется по парку и посидит на веранде за чашечкой «Эрл Грея» с клубным сэндвичем. Выехав в третьем часу, они, несмотря на пятничный час пик, без задержек проехали по автобану и в четыре уже прибыли в Баден-Баден. В ванне с золотыми кранами сначала помылась она, потом он. Затем они не спеша прогулялись по парку, а на веранде после чашечки «Эрл Грея» с сэндвичем еще и выпили по бокалу шампанского. В обществе друг друга им было хорошо и легко.
Притом она хотела от него больше того, что он готов был ей дать и что от него получала. Целый год она из-за этого отказывалась с ним встречаться, но потом, соскучившись по совместным вечерам с походами в кино или театр и ужином, примирилась с тем, что все это заканчивается легким поцелуем у подъезда. В кино она иногда пристраивалась к нему поближе, и он тогда одной рукой обнимал ее за плечи. Иногда на прогулке она брала его за руку и он держал ее ладонь в своей. Было ли это в ее глазах обещанием чего-то большего? Ему не хотелось над этим задумываться.
Они дошли до театра, их встретил режиссер, познакомил с актерами, затем их проводили в ложу. Поднялся занавес. Он смотрел и не узнавал свою пьесу. Ночь, когда ее герой – преследуемый полицией террорист – находит приют у родителей, сестры и брата, превратилась на сцене в гротескное зрелище, в котором все показывают себя с самой смешной стороны: террорист смешон своим фразерством, родители – трусоватой добропорядочностью, брат – деловой хваткой, сестра – морализированием. Однако все сработало, и, немного поколебавшись, он вышел на аплодисменты, присоединившись к режиссеру и актерам.
Тереза не читала пьесу и простодушно радовалась его успеху. Ему это было приятно. За ужином после премьеры она все время так тепло ему улыбалась, что он, обычно неловко чувствовавший себя на публичных мероприятиях, тут вдруг освободился от привычной скованности. Он понял, что режиссер не выворачивал его пьесу на гротескный лад, а искренне воспринял ее как гротеск. Может быть, надо принять как данность, что он, сам того не зная и не желая, написал гротеск?
Окрыленные, они пешком вернулись в отель. В комнате все было так, как полагается на ночь: занавески затянуты и постель приготовлена. Он заказал бутылку шампанского, они сели в пижамах на диван и с шумом открыли пробку. Говорить уже было не о чем, но это не мешало. На комоде стоял музыкальный центр и лежало несколько дисков, один – с французской музыкой для аккордеона. Она прильнула к его груди, он обнял ее за плечи. Потом диск кончился, кончилось и шампанское, они пошли спать и после легкого поцелуя легли в кровать спиной друг к другу.
На следующий день они не торопились сразу возвращаться по домам, а сперва сходили в баден-баденскую художественную галерею, по дороге заехали в винодельню, а в Гейдельберге осмотрели замок. В обществе друг друга им опять было просто и легко. Правда, когда в кармане его рука натыкалась на телефон, у него на сердце начинали скрестись кошки. Телефон лежал выключенный. Кто знает, что за это время на нем накопилось?
Ничего – убедился он, вернувшись домой. Его подруга Анна не оставила никаких сообщений. Он не мог проверить, не было ли среди входящих звонков ее вызовов; возможно, неопределяемый номер принадлежал ей, возможно, и нет.
Он позвонил ей. Извинился, что, к сожалению, не мог позвонить вечером из отеля. Было, дескать, уже поздно. Сегодня он спозаранку отправился в дорогу и не хотел беспокоить ее ни свет ни заря. Да к тому же и телефон забыл дома.
– Ты мне не звонила?
– За последние недели это был первый вечер, что мы не поговорили. Я скучала по тебе.
– Я тоже.
Это было правдой. В прошедшую ночь все было для него как-то не так. Близость общего ложа была словно бы лишней. В ней отсутствовало ощущение внутренней близости, вызванной любовью или похотью или хотя бы потребностью тепла или страхом одиночества. Вот с Анной общее ложе, да и вообще вся ночь вызвали бы правильное ощущение.
– Когда ты приедешь? – спросила она нежно и требовательно.
– Я думал, ты приедешь.
Разве она не обещала, что, закончив читать свой курс в Оксфорде, проведет недели две с ним – недели, которых он одновременно страшился и ждал с таким нетерпением?
– Да, но до тех пор еще ждать четыре недели.
– Я постараюсь приехать в конце следующей недели на выходные.
Она помолчала. Он как раз собрался спросить у нее, что, может быть, на той неделе его приезд будет некстати, как вдруг она сказала:
– У тебя какой-то не такой голос.
– Какой-то не такой?
– Не такой, как всегда. Что у тебя не так?
– Все так. Может быть, я слишком засиделся, отмечая премьеру, слишком поздно лег спать и слишком рано встал.
– Чем ты сегодня был занят весь день?
– Собирал кое-какие материалы в Гейдельберге. Там у меня будет происходить действие одной сцены.
Ничего другого ему с ходу не пришло в голову. Теперь, значит, надо не забыть, что в следующей пьесе одна сцена должна происходить в Гейдельберге.
Она опять помолчала, прежде чем сказать:
– Нехорошо это для нас. Ты – там, я – здесь. Почему бы тебе не писать здесь, пока я тут преподаю?
– Не могу, Анна. Ну не могу я. Здесь я могу встретиться с директором констанцского театра и с редактором театрального издательства, Штефену я обещал помочь в избирательной кампании. Ты думаешь, что я, в отличие от тебя, могу поступать, как мне вздумается? Но я же не могу тут все бросить. – Он даже рассердился на нее за ее слова.
– Избирательная кампания…
– Никто же тебя не заставлял…
Он хотел сказать, что никто не заставлял ее принимать приглашение прочесть курс лекций в Оксфорде. Однако ее узкой специальностью была феминистская теория права, а занимаясь этой областью, нельзя было рассчитывать на место штатного преподавателя – только на чтение специального курса лекций. Она могла бы расширить свою сферу деятельности. Но ничем другим она не хотела заниматься, а судя по тому, каким спросом пользовался ее специальный курс, он понимал, что в своей области она была превосходным специалистом. Нет, он не опустится до пошлых пререканий!
– Надо нам лучше продумывать свои планы. Надо прямо говорить друг другу, чего мы друг от друга хотим. Надо договариваться, на что мы согласны, а на что – нет.
– Ты можешь приехать уже в среду?
– Постараюсь.
– Люблю тебя!
– Я тоже тебя люблю.
Его мучили угрызения совести. Он наврал Анне, злился на нее, чуть не наговорил пошлостей и был только рад, когда этот разговор наконец кончился. Выйдя на балкон и почувствовав теплоту воздуха и воцарившийся в городе летний покой, он решил посидеть. Временами внизу проезжал автомобиль, иногда с улицы доносился звук шагов. Совесть мучила его и за то, что он так и не позвонил Терезе, чтобы справиться, как она себя чувствует после поездки и все ли в порядке у нее дома.
Потом он подосадовал на себя за угрызения совести. Перед Терезой он ни в чем не виноват. Если он о чем-то недоговаривал с Анной, то лишь потому, что она чересчур ревниво на все отзывалась. Его прежних подруг нисколько не волновало, когда они слышали, что в какой-нибудь поездке или зайдя куда-то в гости он очутился в одной постели с другой женщиной, – главное было, что, кроме постели, сюда ничего не примешивалось. Анна на их месте зашлась бы от возмущения. Ну подумаешь, другая женщина! Есть из-за чего волноваться! И потом, это ее убеждение, будто бы он сам распоряжается своей жизнью по своему усмотрению и в любой момент должен быть к ее услугам, в то время как она должна подчиняться законам своей карьеры! Ну как тут не сердиться? Она, точно так же как он, сама выбрала свою жизнь.
Он был рад, что телефонный разговор закончен, а между тем весь уже жил ожиданием следующего. Вот уже семь лет, как они познакомились и полюбили друг друга, а до сих пор не сумели наладить свою совместную жизнь. Анна жила в Амстердаме, там у нее была преподавательская работа – заработок не ахти какой, зато всегда можно сделать перерыв и поехать читать лекции в Америку, или Канаду, или Австралию, или Новую Зеландию. Он в таких случаях навещал ее там, иногда ненадолго, иногда задерживался подольше. В перерывах между ее поездками она наведывалась к нему на несколько дней или недель во Франкфурт, иногда он гостил у нее в Амстердаме. Во Франкфурте она казалась ему слишком заносчивой в своих запросах, а он ей – слишком нетребовательным. В Амстердаме все было не так напряженно, то ли благодаря ее широкой натуре, то ли благодаря его непритязательности. Добрую треть года они проводили вместе. В остальное время Анна вела бродячее существование, жила, что называется, на чемоданах, мотаясь по гостиницам, тогда как его жизнь протекала в спокойном русле и была наполнена мероприятиями, деловыми встречами, общественной работой в писательском союзе и в партии, в ней присутствовали друзья, ну и, конечно, Тереза.
Не то чтобы все это имело для него большое значение. Он был рад каждому несостоявшемуся мероприятию, каждой отмененной встрече, каждой партийной повестке, не успевшей вовремя попасть к нему в ящик для писем или в электронную почту. Однако вырваться из всей этой привычности и переехать к Анне в Амстердам, с тем чтобы колесить с ней по всему свету, – нет уж, это было никак невозможно.
Невозможно, хотя он физически, до боли, тосковал по Анне. Тосковал, когда был счастлив и хотел, чтобы она разделила с ним его радость, тосковал, когда печалился и мечтал, чтобы она его утешила, тосковал, когда не мог поделиться с ней своими мыслями и проектами, когда один лежал в постели. А между тем, оказавшись вместе, они почти никогда не говорили о его мыслях и проектах, и утешительница из нее была неважнецкая, и его радостям она не умела сочувствовать так душевно, как ему бы хотелось. Она была деловитая и решительная женщина, и он с первой же встречи разглядел эту деловитую решительность в ее красивом крестьянском лице, усыпанном веснушками, и с первого взгляда ему пришлась по душе рыжеволосая Анна. Нравилось ему и ее тяжеловатое, сильное, надежное тело. Видеть ее рядом, засыпая и просыпаясь, ощущать ночью рядом с собой в кровати было так же хорошо, как мечтать о ней, когда они были врозь.
Как ни тосковали они друг по другу, как ни хорошо им бывало вдвоем, но ссорились они жестоко, в пух и прах. Потому что он как-то сжился с раздельным существованием, а она – нет. Потому что он был недостаточно легок на подъем и не всегда оказывался к ее услугам по первому требованию, как ей хотелось, а по ее мнению, это было вполне в его силах. Потому что она рылась в его вещах. Потому что он врал в тех случаях, когда маленькая ложь могла предотвратить крупный конфликт. Потому что он ни в чем не мог ей угодить. Потому что ей часто казалось, что он относится к ней бездушно и без должного уважения. В припадке ярости она на него орала, а он замыкался в себе. Иногда в разгар ее криков на его лице вдруг проступала дурацкая ухмылка, и это еще больше распаляло ее злость.
Но раны, нанесенные ссорами, заживали скорее, чем боль разлуки. Спустя некоторое время от ссор оставалось смутное воспоминание: ну, было там что-то, какой-то горячий ключ, в котором по временам что-то булькало, шипело и пыхало паром, которым можно было даже смертельно ошпариться и обжечься, если ненароком туда свалишься. Но они могли остеречься и не падать в него. И возможно, когда-нибудь обнаружится, что горячий источник был всего лишь наваждением. Когда-нибудь? Может быть, уже при следующей встрече, к которой они стремились и с нетерпением ждали.
Вылетел он не в среду, а только в пятницу. В итальянском ресторане за углом, куда он пришел поужинать, к нему подсел мужчина, заказавший пиццу, чтобы забрать ее с собой. Между ними затеялась беседа, незнакомец представился как продюсер, и они разговорились о сюжетах, пьесах и фильмах. Уходя, новый знакомый пригласил его зайти к нему в четверг в контору на чашечку кофе. С продюсером ему впервые довелось познакомиться; он давно уже мечтал о фильмах, но ему не к кому было пойти со своими предложениями. Поэтому он поменял билет на пятницу.
В Англию он, вопреки своим надеждам, улетел без договора или заказа на сценарий. Но как-никак продюсер предложил ему составить экспозе на тему одного из сюжетов, которые они обсуждали. Можно ли было считать это успехом? Этого он не знал, так как до сих пор не был вхож в мир кино. Но улетел он довольный и довольный прибыл в Англию…
Не увидев Анны, он позвонил ей по телефону. Час езды из Оксфорда до Хитроу, час в аэропорту, час на обратный путь – нет, ей нужно было дописать статью, и она осталась за письменным столом. Не хочет же он, чтобы она весь вечер провела за работой! Нет, этого он не хотел. Но подумал, что она могла бы сесть за работу пораньше. Однако вслух он ничего не сказал.
Колледж предоставил ей маленькую двухуровневую квартирку. У него был ключ, он отпер дверь и вошел:
– Анна!
Поднявшись по лестнице, он застал ее за письменным столом. Не вставая, она обняла его за пояс, а головой прислонилась к его груди:
– Подожди меня еще полчасика. Пойдем потом погуляем? Я уже два дня не выходила из дому.
Он понял, что ей и часа не хватит, распаковал вещи, устроился в комнате и сделал заметки о беседе с продюсером. Когда они наконец вышли в парк и направились к Темзе, солнце уже стояло низко, небо сияло густой голубизной, деревья отбрасывали на стриженые газоны длинные тени, а птицы затихли, прекратив свои песни. Над парком опустилось таинственное безмолвие, словно он выпал из мирской круговерти.
Долгое время ни он, ни она ничего не говорили. Затем Анна спросила:
– С кем ты был в Баден-Бадене?
Что это она вдруг спрашивает? Та ночь в Баден-Бадене, телефонный разговор на следующий вечер, маленькая ложь, угрызения совести – все это, казалось ему, уже давно позади.
– С кем?
– Да с чего ты взяла, что я…
– Я звонила в парк-отель «Бреннер». Я обзвонила много отелей, но в Бреннере меня спросили, надо ли будить господ.
С какой стороны кровати стоял там телефон? Он панически испугался при одной мысли о том, что она могла попросить, чтобы ее соединили с его номером. Но она не стала переводить звонок на номер. Как они там ответили? Нужно ли будить господ?
– Ну и что, если «господ»! Они всегда так говорят, во множественном числе, независимо от того, об одном человеке или о нескольких идет речь. Это просто такой старинный оборот, в лучших отелях считается, что так звучит благороднее. Почему ты не попросила, чтобы тебя переключили на мой номер?
– С меня и этого хватило!
Он обнял ее:
– Ох уж эти наши языковые недоразумения! Разве не помнишь, как я тебе раз написал, что хотел бы с тобой schmusen[2], а ты поняла это как «I want to schmooze with you», то есть что я собираюсь трепаться о ерунде? Или помнишь, как ты сказала мне, что «in principle»[3] ходишь на семейные сборища, и я понял это так, что ты высказала окончательное согласие, а ты имела в виду, что еще подумаешь?
– Почему ты мне не сказал, что останавливался в парк-отеле «Бреннер»? Я спросила – у них все номера были заняты. Значит, ты забронировал номер заранее. Раньше ты мне говорил, где остановишься, если знал это заранее.
– Да я просто забыл. Номер я заказал за несколько недель до поездки, а в пятницу прямо сел в машину и уже в Баден-Бадене посмотрел бумаги, где был записан адрес, время заезда и броня. Поскольку время уже было позднее, я успел только оформиться в гостинице и переодеться, а позвонить тебе уже не успел. А после окончания представления и банкета я уже не хотел будить тебя среди ночи.
– Номер за четыреста евро! Что-то раньше за тобой такого не водилось.
– Гостиница «Бреннер» – это же что-то особенное, и пожить в ней сутки было моей давней мечтой. Я…
– А потом вот так взял и напрочь забыл, что забронировал номер в гостинице своей мечты? Зачем ты мне врешь?
– Не вру я тебе.
Он рассказал ей, в каком стрессе провел последние недели. Что забыл не только это, но и другие вещи, очень для него важные, которыми он хотел заняться.
Она смотрела все так же недоверчиво:
– «Бреннер» – твоя мечта, а ты приходишь туда так поздно и съезжаешь так рано, что, можно сказать, почти там и не побыл? Как-то непонятно получается.
– Действительно, непонятно. Но я-то в последние недели был вообще не в себе и плохо соображал.
Он продолжал распространяться про стресс, про то, что находился в цейтноте, про договоры и сроки, встречи и телефонные переговоры и договорился до того, что обрисовал свою жизнь в последние недели в несколько преувеличенном виде, но в целом эта картина более или менее соответствовала действительности, и Анна уже не вправе была выражать какие-то сомнения, не имея к тому ни малейшего повода. Чем дольше он говорил, тем больше у него прибавлялось уверенности. Разве это не возмутительно, что Анна без всяких оснований так несправедливо его в чем-то подозревает? Разве это не дикость какая-то, что из-за одной ночи с женщиной, с которой он даже не спал и к которой не испытывал даже чувства душевной близости, она его так третирует! Третирует среди теплого летнего вечера в затихшем парке, который дремлет как зачарованный, озаренный первыми звездами?
В конце концов ссора заглохла, как машина, в которой кончился бензин. Как машина, она начала работать с перебоями: то заглохнет, то фыркнет – и наконец остановилась. Они пошли есть, строили планы. Обязательно ли проводить несколько недель, на которые сможет вырваться к нему Анна, во Франкфурте? Нельзя ли уехать на это время на Сицилию, в Прованс или в Бретань, снять там домик или квартиру и писать, составив рядом столы?
Вернувшись домой, они сняли матрас с отслужившей свое, продавленной кровати, положили его на пол и любили друг друга. Среди ночи он проснулся от ее плача. Он обнял ее.
– Анна, – говорил он, – Анна…
– Мне надо знать правду. Всегда. Я не могу жить во лжи. Мой отец обманывал маму, изменял ей, он без конца обещал мне и брату то одно, то другое и не выполнял обещания. Когда я спрашивала его почему, он злился и орал на меня. Все детство я не чувствовала под ногами твердой почвы. Ты должен говорить мне правду, чтобы я почувствовала твердую почву под ногами. Ты это понимаешь? Обещаешь, что сделаешь?
В первый момент он чуть было не сказал Анне правду про ночь в парк-отеле. Но что бы тогда началось! И сможет ли правда искупить тот час, ну два часа, когда он врал ей напропалую? И не сделает ли запоздалое признание ту ночь с Терезой более значительным событием, чем оно было на самом деле? Впредь – да. Впредь он будет говорить Анне правду. На будущее он мог и охотно готов был ей это пообещать:
– Все хорошо, Анна. Я тебя понимаю. Перестань плакать! Я обещаю тебе говорить правду.
Три недели спустя они уже ехали по Провансу. В Кюкюроне на площади они нашли дешевый старый отель, и хозяева с удовольствием сдали им на четыре недели расположенную наверху большую комнату с лоджией. Тут не предоставляли ни завтраков, ни ужинов, в гостинице не было Интернета, постельное белье меняли когда придется. Но зато им дали дополнительный стол и стул, так что они могли работать в своей комнате или на лоджии, устроившись, как они и хотели, за соседними столами.
Они рьяно принялись за дело. Но с каждым днем работа казалась все менее спешной и менее важной. Не оттого, что было особенно жарко: толстые стены и толстые потолки старинного здания поддерживали прохладу в комнате и на лоджии. К работе – у нее книга о гендерных различиях и эквивалентных правах, у него – пьеса о финансовом кризисе – просто не лежала душа. Душа лежала к отдыху в «Бар де л’Этань»[4] на берегу четырехугольного, с кирпичными стенками пруда, где можно было спокойно сидеть за чашечкой эспрессо, глядя на воду и на платаны. Или к тому, чтобы съездить в горы. Или познакомиться на винодельческой ферме с новыми сортами винограда. Или к тому, чтобы сходить с цветами на могилу Камю на кладбище Лурмарена. Или погулять по улицам Аи и зайти в библиотеку, чтобы проверить электронную почту. Без электронной почты прогулка была бы еще приятнее, но Анна ждала приглашения на новый курс лекций, а он – предложения заключить договор на пьесу.
– Это все свет, – сказал он. – При этом свете можно работать в поле, на винограднике и в оливковой роще, может быть, даже писать, но писать о любви, о рождении и смерти, а не о банках и биржах.
– Свет и запахи. Как интенсивно все пахнет! Лаванда, и пинии, и рыба, и сыр, и фрукты на рынке. Куда уж тем мыслям, которые я хочу вбить в головы моих читателей, тягаться с этими запахами!
– Да уж! – отозвался он со смехом. – Но, нанюхавшись этих запахов, никто уже не захочет изменять мир. Ты же хочешь, чтобы твои читатели изменили мир?
– А надо ли?
Они сидели на лоджии за своими лэптопами. Он взглянул на нее с удивлением. Разве она не хотела изменить мир, разве не для того она учила людей и писала книги, чтобы ее студенты и читатели тоже захотели его изменить? Разве она не поэтому отказывалась идти на какие бы то ни было компромиссы и приноравливаться к требованиям университетской карьеры? Она смотрела куда-то поверх крыш, в глазах у нее стояли слезы.
– Я хочу ребенка.
Он подошел к ней, присел на корточки рядом с ее стулом и с улыбкой заглянул ей в лицо:
– Это вполне осуществимо.
– Но как мне тогда быть? Как мне при моей жизни растить ребенка?
– Ты переедешь ко мне. На первые годы бросишь преподавать и будешь только писать. А дальше посмотрим.
– А потом университеты перестанут меня приглашать. Они приглашают меня, потому что я никогда не отказываюсь и всегда готова приехать. И пишу я хуже, чем преподаю. Над этой книжкой я работаю уже несколько лет.
– Университеты будут тебя приглашать, потому что ты замечательная преподавательница. А для того чтобы они тебя за первые несколько лет не забыли, тебе было бы, наверное, неплохо написать не книгу, а, скажем, ряд отдельных статей. Знаешь, через несколько лет мир опять совершенно изменится по сравнению с нынешним, появятся новые дисциплины и новые специальные курсы, а для тебя откроются новые преподавательские места. Сейчас все так быстро меняется.
Она пожала плечами:
– Но и очень быстро все забывается.
Он заключил ее в объятия:
– И да и нет. Разве ты сама не рассказывала мне, что декан Уильямс-колледжа[5] пригласила тебя потому, что с этой женщиной вы двадцать лет тому назад сидели за одной партой на каком-то семинаре и ты произвела на нее тогда большое впечатление? Ты не из тех, кого быстро забывают.
Вечером они нашли в Бонньё ресторан с террасой, с которой открывался широкий вид на окружающую местность. Большая группа шумных австралийских туристов, занимавшая почти все остальные столики, уехала рано, и в вечерних сумерках они остались одни. Не обращая внимания на ее удивленный, вопросительный взгляд, он заказал шампанское.
– За что будем пить? – спросила она, вертя за ножку бокал.
– За нашу свадьбу!
Она продолжала вертеть бокал двумя пальцами. Затем взглянула на него с печальной улыбкой:
– Я всегда знала про себя, чего хочу. И я знаю, что люблю тебя. Как знаю и то, что ты меня любишь. И я хочу детей, и хочу их от тебя. А раз дети, то и женитьба. Но сегодня мы впервые об этом заговорили, не торопи меня. – Затем ее улыбка снова стала веселой. – Хочешь чокнуться со мной в честь твоего предложения?
Спустя несколько дней они легли в постель, не дожидаясь вечера, и любили друг друга, потом уснули. Когда он проснулся, Анны рядом не было. Найдя записку, он узнал, что она уехала в Аи проверять электронную почту.
Это было в четыре. В семь он удивился, что она еще не вернулась, в восемь встревожился. Отправляясь в поездку, они захватили с собой мобильные телефоны, но держали в комоде отключенными. Он заглянул в ящик. Они были на месте. В девять он не выдержал и, не усидев в четырех стенах, отправился к деревенскому пруду, возле которого они оставляли машину.
Машина, как всегда, оказалась там. Он огляделся и увидел Анну; она сидела за столиком перед темным, закрытым «Баром де л’Этань» и курила. Курить она бросила уже давно.
Он подошел и остановился перед ее столиком:
– Что случилось? Я беспокоился.
Она даже не посмотрела на него:
– Ты был в Баден-Бадене с Терезой.
– Да с чего ты взяла…
Тут она на него взглянула:
– Я посмотрела твою электронную почту. Там есть заказ номера на двоих. По электронной почте ты уславливался о встрече с Терезой. Там есть твое письмо к ней, в «отправленных»: «Встреча с тобой была очень приятной. Надеюсь, ты хорошо доехала и к твоему возвращению все было в порядке». – Она заплакала. – «Встреча с тобой была очень приятной»!
– Ты шпионила в моей электронной почте? Может быть, ты роешься и в моем письменном столе и в шкафу? По-твоему, ты имеешь право…
– Ты лжец и обманщик, ты делаешь, что тебе нравится. Да, я имею право защищаться от тебя! Я должна от тебя защититься! Ты мне правду не говоришь, я сама должна ее узнавать. – Она снова заплакала. – Почему ты так сделал? Почему так поступил со мной? Почему ты с ней спал?
– Я не спал с ней.
Она закричала:
– Хватит врать, хватит! Ты едешь с этой женщиной в романтический отель, живешь с ней в одном номере, спишь в одной кровати и потом делаешь из меня дурочку?! Сперва ты думал, что я как дура не узнаю, что ты мне врал, теперь думаешь, что сможешь мне как дуре заговаривать зубы и я поверю, что белое – это черное? Трепач ты несчастный, потаскун, дерьмо последнее!..
Она вся дрожала от возмущения.
Он сел напротив нее. Он сознавал, что его не должно волновать, если на улице люди начнут раскрывать окна и они с Анной станут всеобщим посмешищем. Но нет. Оказывается, ему не все равно. Слушать, как на тебя кричат, уже унизительно, а терпеть, чтобы на тебя орали на глазах у людей, унизительно вдвойне.
– Можно мне сказать?
– Можно мне сказать? – передразнила она его. – Сыночек спрашивает у мамочки разрешения, можно ли ему сказать? Потому что мамочка его всегда подавляет и даже не дает сказать слова? Не разыгрывай из себя жертву! Пора бы уж, кажется, тебе отвечать за собственные слова и дела! Ты лжец и обманщик, так хотя бы имей смелость в этом признаться!
– Я не…
Она хлопнула его рукой по губам и, увидев в его глазах отвращение, с перепугу опять закричала. Она придвинулась к нему почти вплотную, ее слюна брызгала ему в лицо, он шарахнулся от нее, а она, видя такое, накинулась на него еще яростнее и заорала еще громче:
– Ах ты, дрянь, скотина, ничтожество! Нет, ты не можешь ничего сказать! У тебя что ни слово, то ложь, а мне так надоело твое вранье, что я тебя больше и слушать не хочу. Ты понял?
– Я…
– Ты меня понял?
– Мне очень жаль.
– Что тебе жаль? Жаль, что ты лгун и обманщик? Что ты с другими женщинами…
– Не было у меня ничего ни с какими другими женщинами. А жаль мне только, что…
– Да иди ты со своим враньем сам знаешь куда!
Она вскочила и вышла.
Сперва он хотел идти за ней следом, потом передумал и остался сидеть. Ему вспомнилось, как он ехал на машине с одной подругой и та в дороге сообщила ему, что наряду с ним у нее были и другие мужчины. Дело было в Эльзасе, и они ехали по извилистой дороге, после ее сообщения он поехал прямо, никуда не сворачивая, съехал с шоссе на лесную дорогу, с лесной дороги дальше через кусты, пока не уперся в дерево. Ничего страшного не случилось – машина просто остановилась перед препятствием. Он положил руки на руль и уткнулся в них лбом. У него не возникло желания нападать на подругу. Он надеялся, что она объяснит ему, почему она так поступала, чтобы он мог понять. Чтобы мог как-то с этим примириться. Почему же Анна не дала ему все объяснить?
Он встал и пошел к пруду. Начинался дождь; он услышал, как первые капли зашлепали по воде, и, прежде чем ощутить их на себе, увидел, как подернулась рябью ее гладь. И тут же промок. Дождь зашелестел в платанах и на песке, полило так, что казалось, дождик хочет смыть все, что не заслуживает права на существование.
Он бы с радостью постоял с Анной под дождем, обнимая ее и ощущая под мокрым платьем ее тело. Где-то она сейчас? Может быть, тоже вышла на воздух? Радуется ли она дождю так же, как он, и понимает ли, что для него их дурацкая ссора несущественна? Или же она заказала такси, а сама в отеле укладывает вещи?
Нет, когда он вернулся в отель, ее вещи были на месте. Он снял с себя промокшую одежду и улегся в кровать. Он не собирался спать, а хотел дождаться ее, поговорить с ней. Но за окном шумел дождь, и он, усталый после долгого дня и обессиленный ссорой, заснул. Среди ночи он проснулся. В окно светила луна. Рядом лежала Анна. Закинув руки за голову, она лежала на спине с открытыми глазами. Приподнявшись на локте, он заглянул ей в лицо. Она на него не смотрела. Он тоже лег на спину.
– Это чувство, что женщине нельзя противоречить, ни в чем нельзя ей отказывать, что я должен вести себя с ней внимательно и предупредительно, должен с ней флиртовать, думаю, оно идет у меня от матери. Я постоянно с ним живу и автоматически веду себя так независимо от того, нравится или не нравится мне та или иная женщина, хочу я от нее чего-то добиться или нет. Из-за этого я пробуждаю в них несбыточные надежды, которые не в моей власти исполнить; некоторое время я все же пытаюсь, но потом вижу, что это меня тяготит, и потихоньку ускользаю, или женщина сама, разочаровавшись, отдаляется от меня. Это глупая игра, и мне бы пора от нее отстать. Поговорить, что ли, с психотерапевтом о моих отношениях с матерью? Как бы там ни было, для меня грань в этой игре пролегает раньше, чем дело дойдет до совместной постели, – где-то рядом с первыми проявлениями нежности. Пожалуй, я могу приобнять женщину или пожать ей руку, но и только. Может быть, и эта грань тоже как-то связана с моей матерью? Я не хочу ничем быть обязанным женщине, а если бы я с ней переспал, то был бы чем-то обязан. Всю свою жизнь я спал только с женщинами, которых любил, а если не по любви, то хотя бы по влюбленности. Терезу я не люблю и даже не влюблен в нее. Если бы у нас сложилось, нам с ней было бы, наверное, хорошо, в том смысле, что легко, просто, ненапряженно, совершенно непохоже на то, как сейчас у нас. Но я никогда не спрашивал себя, как бы это могло быть и не бросить ли мне тебя ради нее. Это первое, что я хотел тебе сказать. Второе же – это то, что…
Она перебила его:
– Что вы делали на следующий день?
– В Баден-Бадене мы сходили в художественную галерею, побывали у одного винодела, а в Гейдельберге осматривали замок.
– Зачем ты ей звонил отсюда?
– С чего ты взяла… – начал было он, но тут же вспомнил, что точно так же начинал, когда она его спрашивала о поездке с Терезой.
Она и тут перебила его точно так же, как тогда:
– Я увидела по твоему телефону. Ты звонил ей три дня назад.
– Она делала биопсию по подозрению на рак груди, и я спросил ее, как обстоят дела.
– Ее груди… – Она сказала это таким тоном, словно с сомнением покачала головой. – Она знает, что ты здесь со мной? Знает ли она вообще про нас с тобой? Что мы уже семь лет вместе? Что она обо мне знает?
Он не скрывал от Терезы, что у него есть Анна, но в подробности не вдавался. Уезжая к ней, говорил, что едет в Амстердам, или в Лондон, или в Торонто, или в Веллингтон, чтобы работать над пьесой. Он упоминал, что встречается там с Анной, не отрекался от того, что живет с ней, однако и не объявлял этого со всей определенностью. Он не обсуждал с Терезой трудности, которые возникали между ним и Анной, говоря себе, что это было бы предательством. Однако не говорил он и о том счастье, которое испытывает с Анной. Он говорил Терезе, что при всем хорошем отношении не любит ее, но не объявлял, что любит Анну. С другой стороны, он и от Анны не скрывал существования Терезы. Однако же не рассказывал, как часто он с ней встречается.
Конечно, это было неправильно, и он это сознавал. Порой он ощущал себя двоеженцем, у которого есть одна семья в Гамбурге, а другая в Мюнхене. Двоеженцем? Ну это, пожалуй, уж чересчур резко сказано! Он никому не изображал ложной картины. Вместо картины он предъявлял эскизы, а эскизы не бывают фальшивыми, на то они и эскизы. К счастью, он сказал Терезе, что Анна тоже едет в Прованс.
– Она знает, что мы с тобой уже несколько лет вместе и что тут мы живем вдвоем. А что еще ей известно… С друзьями и знакомыми я не особенно о тебе распространяюсь.
Анна ничего на это не ответила. Он не знал, добрый ли это знак или плохой, но через некоторое время его внутреннее напряжение спало. Он почувствовал, как сильно устал. Он с трудом удерживался, чтобы не заснуть и услышать, если Анна захочет что-то сказать. Веки сомкнулись сами собой, и сначала он подумал, что можно полежать с закрытыми глазами, но потом почувствовал, что засыпает, – нет, что уснул и снова проснулся. Что его разбудило? Может быть, Анна что-то сказала? Он снова приподнялся на локте; она лежала рядом с открытыми глазами, но опять не глядела на него. Луна уже не светила в окно.
Затем она заговорила. За окном занимался рассвет. Значит, он все-таки задремал.
– Не знаю, смогу ли я забыть то, что услышала. Но знаю, что не смогу забыть, если ты и дальше будешь меня обманывать, внушая, будто ничего не было. Я вижу утку, она крякает, как утка, а ты хочешь убедить меня, что передо мной лебедь? Мне надоело твое вранье, надоело, надоело! Если ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, я согласна только в том случае, если это будет жизнь по правде. – Откинув одеяло, она встала с постели. – Я считаю, что до вечера нам лучше всего будет расстаться. Комнату и Кюкюрон я бы хотела оставить за собой. А ты бери машину и уезжай!
Пока она была в ванной, он оделся и ушел. В воздухе еще стояла прохлада. Улицы были пусты, даже булочная и кафе еще не открылись. Он сел в машину и поехал.
Он направился в сторону гор Люберона[6], выбирая на поворотах и перекрестках ту дорогу, которая вела вверх. Когда дальше пути для машины не стало, он выключил мотор и пошел вдоль склона по наезженным, заросшим травой колеям.
Почему он не сказал просто, что спал с Терезой? Что такое не давало ему этого сделать? Потому что это была неправда? Обыкновенно он не затруднялся соврать, если ложь помогала избежать конфликта. Отчего же сейчас это не далось ему с привычной легкостью? Потому что тогда речь шла о том, чтобы представить мир в более приятном свете, а на этот раз он должен был представить себя в таком неприглядном виде, который не соответствовал истинному положению?
Ему вдруг вспомнилось, как в детстве, если он сделал что-то нехорошее, мать не отставала от него, пока он не признавался в дурных желаниях, которые привели его к дурному поступку. Позднее он прочел про принятый в коммунистической партии ритуал критики и самокритики, когда человека, отклонившегося от партийной линии, прорабатывали до тех пор, пока он не покается в своих буржуазных уклонах, – то же самое действо, которое производила над ним его мать, а сейчас произвела Анна. Неужели он всегда искал в Анне свою мать и вот нашел?
Итак, никаких ложных признаний! С Анной отрезано. Разве они и без того не слишком часто ссорились? Разве он не сыт по уши ее криками? Сколько можно терпеть, как она роется в его лэптопе и в телефоне, в его письменном столе и в шкафу? Сколько можно постоянно быть готовым мчаться к ней по первому зову, как только ей так захочется? Не сыт ли он ее душевными переживаниями? Как ни хорошо с ней спать, разве обязательно надо, чтобы это было так перенасыщено чувствами и значительностью? Может быть, с другой все было бы легче, проще, веселее, телеснее? И эти поездки! Поначалу в этом была своя прелесть: весной провести недели две-три в колледже на американском Западе, осенью – в каком-нибудь университете на побережье Австралии, а между этими поездками проводить по нескольку месяцев в Амстердаме. Сейчас это стало его уже тяготить. Булочки со свежей селедкой, продающиеся в Амстердаме на уличных лотках, были очень вкусными. А в остальном?
Наткнувшись на каменный фундамент какого-то коровника или амбара, он присел на камни. Как высоко он забрался в горы! Перед его глазами лежал спускающийся в плоскую долину, усаженный оливами склон, за ней возвышались невысокие горы, за ними расстилалась равнина с небольшими городками, один из которых, кажется, был Кюкюрон. Видно ли отсюда при ясной погоде море? Он слушал стрекотание цикад и блеяние овец и тщетно пытался обнаружить их взглядом. Солнце поднималось все выше, оно начало пригревать, вокруг разливался аромат розмарина.
Анна… Какие бы нелады ни возникали с нею, но, когда они под вечер любили друг друга, начав при дневном свете и потом еще раз в сумерках, они всякий раз не могли друг на друга наглядеться, нарадоваться своей близости, а когда потом лежали рядом обессиленные и счастливые, разговоры лились сами собой. А как нравилось ему смотреть на нее, когда она плавает на озере или в море, вся такая компактная, сильная и гибкая, словно морская выдра. Как нравилось смотреть на нее, играющую с детьми или с собаками, самозабвенно увлеченную этой игрой. Как счастлив бывал он, когда она, вникнув в его рассуждения, легко и уверенно находила, в чем он запутался. Как он гордился ею, когда в обществе друзей она блистала умом и остроумием. Как хорошо и покойно ему было, когда они держали друг друга в объятиях.
