Цезарь бесплатное чтение
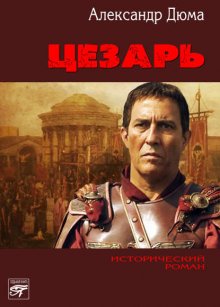
Глава 1
Цезарь родился 10 числа месяца июля, ровно за сто лет до Рождества Христова, – и позднее мы расскажем, как, по нашему мнению, он стал одним из провозвестников христианской религии.
Ни один из современных честолюбцев не смог бы сравниться своею, какой бы пышной она ни была, родословной с его: ни Мероды, притязающие на свое происхождение от Меровея, ни Леви, называющие себя родственниками Святой Девы[1].
Послушайте, как сам он говорит об этом в надгробной речи над своей усопшей теткой Юлией, женой Мария Старшего:
«Мой дед по матери, говорил он, ведет свое происхождение от Анка Марция, одного из первых царей Рима, а мой отец принадлежит к роду Юлии, начало которого восходит к Венере; так в моем роду соединились святость царей, которые правят людьми, и величие богов, которые правят царями.»
Может быть, мы, нынешнее поколение, с присущим нам скепсисом, и усомнимся в этой генеалогии; но за восемьдесят лет до Рождества Христова, иначе говоря, во времена, когда Цезарь произносил свою речь, она ни у кого не вызывала сомнений.
И в самом деле, Цезарь носил в себе многие передавшиеся ему через века качества этого четвертого царя Рима, который, по словам историков, присовокупил к доблести Ромула, своего предшественника, мудрость Нумы, своего деда; который расширил и простер до самого моря римские владения, основал колонию Остию, перебросил через Тибр первый постоянный мост, замкнул в Померий Марсов и Авентинский холм, и организовал, если это слово применимо к античности, эту знаменитую римскую коммуну, этот сельский плебс, который дал Республике величайших из ее людей.
Венера, со своей стороны, тоже была щедра к нему. Он имел высокое стройное тело, тонкую белую кожу; его стопа и кисть были вылеплены со стопы и кисти этой богини счастья и красоты; его черные глаза полны жизни, говорит Светоний; «глаза сокола», говорит Данте, и его нос с легкой горбинкой придает ему то особое сходство с этой птицей, и даже с орлом, которое имеют с поистине благородными животными поистине великие люди.
Что до его элегантности, то она вошла в поговорку. Он тщательно удаляет волоски со своей кожи; даже в молодости он имеет редкие волосы на голове, что приведет затем к ранней плеши; и он с величайшим искусством зачесывает эти волосы на лоб, так что Цицерон не принял всерьез этого столь хорошо причесанного юношу, который почесывал голову одним только пальцем, чтобы не потревожить старательно уложенную небогатую шевелюру. Но Сулла, который был куда большим политиком, чем адвокат из Тускула, и чьи глаза были куда проницательнее глаз друга Аттика[2], Сулла, увидев, как тот случайно наступил на полы своей тоги, Сулла указал на него пальцем и сказал: «Будьте поосторожнее с этим юношей с развязанным пояском!»
О ранней юности Цезаря известно немногое.
Занятый кровавыми спорами Мария и Суллы, Рим не обратил никакого внимания на этого ребенка, подраставшего в тени.
Цезарю было уже шестнадцать, когда диктатор стал замечать на Форуме, на Марсовом поле, на Аппиевой дороге красивого подростка, который ходит с высоко поднятой головой, улыбаясь, который редко пользуется носилками, – на носилках нельзя быть достаточно заметным, – который, в отличие от Сципиона Назики или Эмилия – мы не можем в точности припомнить, – спросившего однажды крестьянина с мозолистыми руками: «Друг мой, быть может, ты ходишь на руках?», который, в отличие от этого Сципиона, пожимает своей белой женственной рукой руки самые грубые; который знает по именам даже рабов; который надменно проходит, не опуская головы, перед самыми могущественными, но обхаживает и улещивает плебея в тунике; который весел в то время, когда все печальны, щедр в то время, когда все закапывают свои деньги, популярен в то время, когда популярность влечет за собой проскрипцию.
И ко всему прочему, он еще и племянник Мария!
Итак, диктатор, как мы уже сказали, обращает на него внимание; он хочет знать, чего от него можно ожидать, и объявляет ему свою волю: если Цезарь уступит этой воле, значит, Сулла ошибся; если же он откажется, значит, Сулла верно раскусил Цезаря.
Еще будучи ребенком, Цезарь был обручен с Коссутией, одной из самых богатых наследниц Рима, но родившейся, однако, в семье всадников, то есть аристократов средней руки; он не мог смириться с подобным союзом; всадники, и вообще вся эта знать недостойны его: ему нужны чистые патриции.
Он отказался от Коссутии и взял Корнелию.
В добрый час! Она вполне подходила ему; Цинна, ее отец, четырежды был консулом.
Однако Сулле вовсе не годилось, чтобы юный Цезарь опирался одновременно на влияние своей собственной семьи и на влияние родни своего тестя.
Цезарь получил приказ развестись с Корнелией.
Тому уже предшествовал подобный случай: Помпей получил от Суллы такой же приказ, и Помпей подчинился. Но Помпей – натура второстепенная; сильно преувеличенный человек, который злоупотребил своими несчастьями, чтобы показаться нам через века более великим, чем он был на самом деле; так вот Помпей, как мы уже сказали, подчинился.
Цезарь отказался.
Для начала Сулла лишил его жреческого сана, или, вернее, помешал ему получить его. – В Риме можно было преуспеть, только имея деньги; мы еще вернемся к этому.
Сулла, как сказал бы современный хроникер, лишил Цезаря средств к существованию.
Как так?
По закону Корнелия. Что это за закон Корнелия?
Это был закон, согласно которому имущество проскрипта подлежало конфискации, а его родственники – разорению. Отец Корнелии, Цинна, и кое-кто из родственников Цезаря уже были проскрибированы во время гражданских войн как сторонники Мария, так что часть состояния Цезаря уже была секвестирована при тщательнейшем соблюдении этого закона.
Цезарь не уступил.
Сулла отдал приказ арестовать Цезаря. В те времена донос еще не стал, как он станет позже, при Калигуле и Нероне, политической доблестью. Цезарь укрылся у крестьян Сабины, где популярность его имени открывала для него двери даже самых убогих хижин. Там он заболел.
Каждый вечер, с наступлением темноты, его переносили в другой дом, и он никогда не ночевал две ночи подряд на том же месте. Во время одного такого переселения его встретил и узнал один из легатов Суллы, по имени Корнелий; но за два золотых таланта, то есть за десять или одиннадцать тысяч современных франков, он позволил ему продолжать путь. В Риме подумали, что его схватили, и это вызвало почти революцию.
В то время, когда никто никогда не просил кроме как за себя, нашлось кому просить за него. Вся знать, и даже весталки пришли заступиться за него и умолять о помиловании.
– Что ж, получайте его, – сказал Сулла, пожимая плечами, – но берегитесь: в этом мальчишке сидит несколько Мариев.
С этой новостью бросились к Цезарю в Сабину.
Он собрался в путь. Куда, в какую страну? Никто не знал этого. Позже история и его собственные ветераны будут попрекать его этой ссылкой.
Он был в Вифинии, у Никомеда III. Сегодня уже почти неизвестно, ни где находилась Вифиния, ни кто был Никомед III. Скажем то, что знаем: как известно, мы намерены занять читателей скорее историями, чем историей.
Вифиния составляла северо-западную часть Анатолии. На севере она касалась Понта Эвксинского; на юге, граничила с Галатией и Фригией; на западе, с Пропонтидой; на востоке, с Пафлагонией; ее главными городами были Прусий, Никомедия, Гераклея. До Александра это было маленькое персидское царство, которым правил Зипетес. Александр мимоходом включил его в свою македонскую мантию, из которой он собирался потом кроить Александрию, и сделал ее одной из своих провинций. За двести восемьдесят один год до Рождества Христова Никомед I вернул ей свободу. Ганнибал скрывался в ней у Прусия II и отравился, чтобы не попасть в руки римлян. Всем известна трагедия Корнеля на этот сюжет.[3]
Никомед III был сыном Никомеда II. Он правил с 90 по 75 год до Рождества Христова; его дважды изгонял из его государства Митридат, и дважды возвращали на престол римляне; он умер, вверив свое царство Республике.
Что же до упреков в адрес Цезаря по поводу этого царственного завещателя, то они вкратце изложены, как мы уже говорили, в куплетах, которые позже будут распевать ему его собственные солдаты:
«Цезарь покорил галлов; Никомед покорил Цезаря; Цезарь празднует триумф над покоренными галлами; Никомед не празднует триумфа над покоренным Цезарем».
Цезарь рассердится на это. Он принесет клятву в свое оправдание; но солдаты рассмеются ему в лицо, и споют ему второй куплет:
«Граждане, берегите своих женщин; с нами идет плешивый распутник, который покупает женщин в Галлии на деньги, взятые у Рима».
Итак, Цезарь был у Никомеда III, когда он узнал о смерти Суллы. И действительно, Сулла умер тогда, отказавшись вдруг от всей своей власти. Это непредвиденное его отречение приводит в изумление потомков. Бедные потомки! Они никогда не пытались подсчитать, забавы ради, сколько людей в Риме было заинтересовано, чтобы с Суллой не приключилось никакого несчастья, и которые берегли его как частное лицо куда тщательнее, чем они берегли диктатора, который, будучи диктатором, не нуждался ни в какой охране, хотя у него и были телохранители.
Он ввел в сенат около трехсот своих людей. В одном только Риме число рабов тех, кто был внесен в проскрипции, – рабов, отпущенных им на свободу, и получивших прозвание корнелианцев, – в одном только Риме число освобожденных им рабов превышало десять тысяч.
Он сделал землевладельцами в Италии, выдав им доли из ager publicus, сто двадцать тысяч солдат, которые сражались под его командованием.
Да и в самом ли деле он сложил с себя полномочия, он, который на своей вилле в Кумах, накануне своей смерти узнав, что квестор Граний, в расчете на ожидаемое событие, медлит уплатить сумму, которую он задолжал казне, приказал схватить квестора Грания и удавить его прямо при нем, у его постели?
На следующий день после этой экзекуции он умер, мерзкой, по правде сказать, смертью для человека, который требовал называть его сыном Венеры и Фортуны, и который, согласно его заверением (которые, кстати, нашли подтверждение), был в наилучших отношениях со всеми красавицами Рима: сгнил прежде, чем умереть! Как те тела, о которых говорил могильщик в Гамлете: Rotten before he dies. Он испустил дух, пожираемый полчищами вшей, которые копошились в язвах, покрывавших все его тело, и которые, подобно колониям переселенцев, покидали одну язву для того, чтобы попасть в другую.
Это не помешало тому, чтобы его похороны стали, возможно, самым пышным из его триумфов. Его тело везли от Неаполя в Рим по Аппиевой дороге, с эскортом из ветеранов. Впереди этого нечистого трупа шагали двадцать четыре ликтора с фасциями; позади везли на колесницах две тысячи золотых венков, посланных городами, легионами и даже частными лицами; по обеим сторонам от гроба, охраняя его, шествовали жрецы.
Сулла, возродивший римскую аристократию, не был популярен, следует признать это; но, помимо жрецов, были также сенат, всадники и армия.
Поначалу опасались мятежа. Однако те, кто ничего не предпринимал против живого, дали мертвому спокойно проделать его последний путь. И мертвец прошествовал под весьма умеренный гул торжественных возгласов сената и под звонкие фанфары, оглашавшие эхом окрестности. По прибытии в Рим смердящий труп был препровожден к трибуне для торжественных речей, и установлен на ней. Наконец, его похоронили на Марсовом поле, где никого не хоронили после царей.
Потом женщины, чьей любовью он похвалялся, эти дочери Лукреции и Корнелии, принесли, помимо того, что содержалось в двухстах десяти корзинах, такое количество благовоний, что после сожжения тела Суллы их осталось достаточно, чтобы изготовить статую Суллы в натуральную величину и статую ликтора, несущего перед собой фасции.
Когда Сулла умер в Кумах, сожжен на трибуне для прощальных торжественных речей и похоронен на Марсовом поле, тогда Цезарь, как мы уже сказали, вернулся в Рим. Каким же был в это время Рим? Именно об этом мы и попытаемся рассказать.
Глава 2
В ту эпоху, до которой мы сейчас добрались, то есть в 80 году до Рождества Христова, Рим еще вовсе не был тем Римом, который Вергилий назовет прекраснейшей из вещей, ритор Аристид – столицей народов, Афеней – миром в миниатюре, а Полемон Софист – градом городов.
Лишь через восемьдесят лет, во времена рождения Христа, Август скажет о нем: «Взгляните на этот Рим; я взял его в кирпиче, и я оставлю его в мраморе». Действительно, работа Августа – до которого нам нет сейчас дела, но о котором, тем не менее, стоит сказать пару слов, – работа Августа сравнима с той, которая уже в наши дни изменяет облик той другой прекраснейшей из вещей, той другой столицы народов, того другого мира в миниатюре, того другого града городов, который зовется Парижем.
Но вернемся в Рим Суллы. Посмотрим, с чего он начинался; посмотрим, к чему он пришел. Постарайтесь отыскать среди этого перепутанного скопища домов, покрывающего все семь холмов, два бугра высотой примерно с ту горку, что мы называем горой Сен-Женевьев, и которые называются, или, вернее, назывались Сатурния и Палаций.
Сатурния – это крытая соломой деревня, основанная Эвандром; Палаций – это кратер потухшего вулкана. Между двух этих возвышенностей лежит узкая ложбина: раньше здесь была роща; теперь это Форум. Именно в этой самой роще были когда-то найдены исторические близнецы и вскормившая их волчица. Рим начался отсюда.
Через четыреста тридцать два года после падения Трои, двести пятьдесят лет спустя после смерти Соломона, в начале седьмой олимпиады, в первый год десятилетнего правления афинского архонта Херопса, когда Индия уже одряхлела, Египет склонялся к закату, Греция поднималась по первым ступеням своего величия, Этрурия достигла своего расцвета, а весь Запад и Север еще были скрыты в потемках, Нумитор, царь альбанов, дал своим внукам Ромулу и Рему, внебрачным детям своей дочери Реи Сильвии, место, где они были оставлены, а потом найдены.
Ромул и Рем были братья-близнецы, которых нашли в лесу, где их кормила молоком волчица; этот лес, где она вскормила их, и был той рощей в долине между Сатурнией и Палацием. Сегодня вы еще найдете родник, который некогда орошал эту рощу; он известен как фонтан Ютурна. Если верить Вергилию, это сестра Турна вечно льет слезы, оплакивая смерть своего брата.
Взглянем теперь на историю с точки зрения предания; у нас нет времени изучать ее как миф. На одном из этих двух холмов, который был повыше, Ромул провел круговую линию.
– Мой город будет зваться Рим, сказал он, и вот стены, окружающие его.
– Хороши твои стены! – сказал Рем, перепрыгнув через черту.
Вероятно, Ромул только и искал случая избавиться от своего брата. Одни говорят, что он убил его палкой, которую держал в руке; другие, что он пронзил его насквозь мечом. Когда Рем умер, Ромул пропахал плугом борозду вокруг своего будущего города.
Лемех плуга выворотил человеческую голову.
– Что ж, сказал он, я знал уже, что мой город будет зваться Рим; его цитадель отныне будет зваться Капитолий.
Ruma – млечный сосок; caput – голова. И действительно, Капитолий станет головой античного мира, Рим станет сосцом, из которого современные народы будут пить веру. Как мы видим, это название было вдвойне символично.
В этот миг мимо пролетели двенадцать коршунов.
– Я обещаю моему городу, – сказал Ромул, двенадцать веков царствования.
И от Ромула до Августула прошло двенадцать веков.
Затем Ромул пересчитал свою армию. Вокруг него было три тысячи воинов пехоты и триста всадников. Это было ядро римского народа.
Сто семьдесят лет спустя Сервий Туллий тоже произвел перепись населения. Он насчитал восемьдесят пять тысяч граждан, способных носить оружие, и окружил город новым поясом, за которым могли жить двести шестьдесят тысяч человек.
Этот пояс – Померий, священный предел, неприступная граница, которую может расширить только тот, кто завоюет варварскую провинцию. Сулла воспользовался разрешением в 671 году, Цезарь – в 708, Август – в 710. За этой границей простиралась священная земля, которую нельзя было ни возделывать, ни застраивать.
Но вскоре то, что было для Рима поясом свободным и болтающимся, как тот, что стягивал талию Цезаря, превратилось в тугой удушающий ошейник; по мере того, как он завоевывал Италию, Италия завоевывала его самого; по мере того, как он заполнял мир, мир заполнял его самого.
И, кроме того, следует заметить, что Рим обладает высшими привилегиями; звание гражданина влечет за собой великие почести и, главное, огромные права; римскому гражданину платят за голосование на Форуме, и он бесплатно ходит в цирк. Но все расширения мало что изменили.
«Граница города, – писал во времена Августа Денис Галикарнасский, – более не была расширена, местность не позволяла этого».
В самом деле, вокруг Рима располагался пояс городов-муниципий, наделенных избирательным правом. Каждый из этих городов являлся Римом в миниатюре; это старые сабинские поселения: Тускул, Лавиний, Ариция, Педум, Номент, Приверн, Кумы, Ацерры; к ним добавляются Фидены, Формии, Арпин.
Затем следуют муниципии без избирательного права, сорок семь колоний, основанных в центральной Италии перед Пуническими войнами, и еще двадцать других, более удаленных от города, – потому что никто уже не говорит «Рим», все говорят город, – все эти колонии имеют право гражданства, но не имеют избирательного права.
И наверху этой спирали, как статую на вершине колонны, находится Рим.
Внизу под Римом – муниципии, или города с правом гражданства и голосования; под муниципиями – колонии, обладающие только правом гражданства; наконец, ниже колоний – латиняне, италийцы, у которых правительство отобрало лучшие земли в пользу арендаторов.
Эти последние были освобождены от денежных податей, но с них взимался «налог кровью»: из них рекрутировалась римская армия; в дальнейшем они стали считаться как бы покоренными народами, они, которые сами служили для покорения народов.
В 172 году, в год разгрома персов, некий консул приказал жителям Пренесте выйти ему навстречу и приготовить ему жилье и лошадей. Другой приказал выпороть розгами магистратов одного города, которые не снабдили его продовольствием. Один цензор, строивший храм, для его завершения снял кровлю с храма Юноны Лацинийской, самого священного храма Италии. В Ференте некий претор, пожелавший помыться в общественных банях, выгнал оттуда всех остальных и приказал выпороть одного из квесторов города, вздумавшего противиться этой фантазии.
Один погонщик быков из Венузии, встретил на дороге римского гражданина, которого несли на носилках, – простого гражданина, слышите?
– Эй! сказал погонщик рабам, вы что, несете покойника?
Эти слова не понравилось путешественнику, и погонщик испустил дух под палками.
Наконец, в Теануме один претор приказал высечь розгами магистратов, потому что его жена, которой вздумалось пойти в бани в неурочное время, обнаружила эти бани занятыми, хотя час назад она объявила о своем желании.
Ничего подобного никогда не происходило в Риме.
На самом деле в провинциях Рим проявлял себя только через своих проконсулов. А как проконсулы обращались со своими провинциями? Мы только что видели несколько примеров.
То, о чем мы сейчас рассказали, просто пустяки; взгляните на Верреса на Сицилии, на Пизона в Македонии, на Габиния в Сирии. Почитайте Цицерона. Всем известна его обвинительная речь против Верреса.
Что же до Пизона, то он взимает с Ахеи налоги в свою собственную казну, принуждает самых знатных девушек становиться его наложницами; более двадцати из них бросились в колодцы, чтобы избежать проконсульского ложа.
Габиний больше тянется к деньгам, чем к женщинам. Он кричит во все горло, что все в Сирии принадлежит ему, и что он достаточно дорого заплатил за свою должность, чтобы иметь право продавать абсолютно все.
Наконец, снова откройте Цицерона, найдите его письма к Аттику, и вы увидите, в каком состоянии он нашел Вифинию, когда, став в свою очередь проконсулом, он сменил Аттика, и каково было изумление населения, когда он заявил, что ему довольно тех двух миллионов двести тысяч сестерциев, то есть четырехсот сорока тысяч франков, которые ему дает сенат, и что помимо этой суммы ему не нужно ни дерева для его шатра, ни хлеба для его свиты, ни сена для его лошадей.
В античном обществе столица – все, провинция – ничто.
Со взятием Нуманции вся Испания стала принадлежать римлянам.
Так было и с Карфагеном, вместе с которым пала вся Африка; и с Сиракузами, вместе с которыми пала Сицилия; и с Коринфом, с которым пала вся Греция.
Судите сами, что же такое был Рим, которому авгуры пророчили господство над миром, если он уже господин над другими столицами.
Все тянется к нему: богач, чтобы наслаждаться; бедняк, чтобы найти пропитание; новый гражданин, чтобы продать свой голос; ритор, чтобы открыть свою школу; халдей, чтобы предсказывать удачу. Рим – источник всего: хлеба, почестей, богатства, удовольствий; все можно найти в Риме.
И напрасно в 565 году сенат изгнал двенадцать тысяч латинских семей; в 581 году, шестнадцать тысяч жителей; в 626 году, всех чужестранцев… да разве все упомнишь? – Я позабыл еще закон Фанния, закон Муция Анциния, закон Папия, которые стоили населению столько крови. – Это вовсе не помешало Риму, который не мог уже расти вширь, устремиться вверх, так что Август – вы найдете это у Витрувия, – был вынужден издать закон, запрещающий строить дома более чем в шесть этажей.
Вспомним также, что незадолго до той эпохи, где мы сейчас находимся, Сулла чуточку отпустил тугой пояс Рима, который уже начал трещать.
Как Рим разрастался в хронологическом отношении? Сейчас мы расскажем об этом.
После первой революции, когда Брут и Коллатин стали консулами, Рим прежде всего позаботился об изгнании за его пределы этрусков, подобно тому, как Франция времен Гуго Капета исторгла из себя каролингов. Затем он перешел к завоеванию прилежащих территорий.
Приняв в себя латинян и герников, он подчинил себе вольсков, подмял вейсов, швырнул галлов к подножию Капитолия, и вверил Папирию Курсору ведение войны с самнитами, которая охватит всю Италию, от Этрурии до самой оконечности Регия.
Затем он оглянулся вокруг, увидел, что вся Италия покорена, и перешел к завоеванию чужестранцев. Дуилий подчинил ему Сардинию, Корсику и Сицилию; Сципион – Испанию; Павел Эмилий – Македонию; Сестий – Трансальпинскую Галлию.
Здесь наступает пауза; Рим остановился.
С этих альпийских вершин, которые он разглядел сквозь снега, спустился Ганнибал; он нанес три удара, и каждый из этих ударов стал для Рима почти смертельной раной. Эти раны называются Треббия, Транзимена и Канны.
К счастью для Рима, Ганнибала покинуло сословие торговцев; его бросили в Италии без денег, без людей, без укреплений.
Сципион же, со своей стороны, прошел в Африку; Ганнибал упустил возможность взять Рим, Сципион возьмет Карфаген.
Ганнибал встал между ним и городом, и проиграл битву при Заме; он укрылся у Прусия и отравился там, чтобы не попасть в руки римлян. Когда этот крупный противник был повержен, завоевание началось вновь.
Антиох сдал Сирию; Филипп V – Грецию; Югурта – Нумидию.
Итак, Риму остается только захватить Египет, и он станет хозяином этого большого озера под названием Средиземное море – чудесного водоема, вырытого для цивилизаций всех времен, который некогда пересекли египтяне, намереваясь заселить Грецию, финикийцы, собираясь основать Карфаген, фокейцы, отправляясь строить Марсель; просторного зеркала, в котором отражались по очереди Троя, Каноб, Тир, Карфаген, Александрия, Афины, Тарент, Сибарис, Регий, Сиракузы, Селинунт и Нуманция, и в которое глядится сам Рим – величественный, могучий, непобедимый.
Разлегшись на северном берегу этого озера, он простирает одну руку к Остии, а другую – к Брундизию, и под рукой у него три известных части света: Европа, Азия и Африка.
Благодаря этому озеру, по прошествии шестидесяти лет он проникнет везде и всюду: по Роне, в сердце Галлии; по Эридану, в сердце Италии; по Тахо, в сердце Испании; по Гардирскому проливу – в Океан и к Касситеридским островам, то есть в Англию; по проливу Сест – в Понт Эвксинский, то есть в Тартарию; по Красному морю – в Индию, в Тибет, в Тихий океан, то есть в бесконечность; наконец, по Нилу – в Мемфис, в Элефантину, в Эфиопию, в пустыню, то есть в неизвестность.
Вот что такое Рим, из-за которого спорили Марий и Сулла, из-за которого будут спорить Цезарь и Помпей, и который унаследует Август.
Глава 3
Что воплощали эти два человека, которые боролись не на жизнь, а на смерть: Марий и Сулла? Марий воплощал Италию, Сулла воплощал Рим.
Победа Суллы над Марием была триумфом Рима над Италией; триумфом аристократии над богачами, людей, носящих копья, над людьми, носящими кольца, квиритов над всадниками.
Шестнадцать сотен всадников и сорок сенаторов из той же партии были подвергнуты проскрипциям. В данном случае проскрипции не означают изгнание: они означают убийство, истребление, резню.
Их имущество перешло к солдатам, полководцам, сенаторам.
Марий убивал грубо, как истинный арпинский мужлан. Сулла убивал как аристократ, методично, регулярно. Каждое утро он публиковал список; каждый вечер он подводил итоги. Бывали такие головы, которые стоили двести талантов, двенадцать сотен тысяч ливров. Бывали и такие, которые стоили только свой вес серебром. Вспоминается тот убийца, который залил в череп принесенной им головы свинец, чтобы она весила больше.
Богатство было достаточной причиной для проскрипции; один попадал в список из-за своего дворца, другой – из-за своих садов. Один человек, который никогда не становился ни на сторону Мария, ни на сторону Суллы, прочел однажды свое имя в только что вывешенном списке.
– Горе мне! – воскликнул он, это моя вилла в Альбе убивает меня!
Проскрипции не ограничивались Римом, они охватывали всю Италию.
Преданы смерти, изгнаны, ограблены были не только подозрительные, но также и их родственники, друзья и даже те, кто, встретив их во время их бегства, обменялись с ними одним-единственным словом.
Целые поселения подвергались проскрипциям, как люди; и тогда их разграбляли, опустошали, сносили до основания. Этрурия была почти стерта с лица земли, и на месте нее в долине Арна был основан город, получивший священное имя Рима – Флора.
Рим имел три имени: гражданское имя – Roma; тайное имя – Eros, или Amor; священное имя – Flora, или Anthusa. Сегодня Флора зовется Флоренцией; на этот раз выяснить этимологию оказывается несложно.
Сулла истребил древнюю италийскую расу под предлогом упрочения Рима. По мнению Суллы, опасность для Рима исходила от союзников; они подали знак варварам, что те могут приходить, и все эти халдеи, фригийцы и сирийцы тут же примчались.
Когда Сулла умер, Рим населяли уже не римляне; это уже не был даже народ, это было сборище вольноотпущенных рабов, чьи отцы и деды, да и они сами, были проданы когда-то на невольничьих рынках. Как мы уже говорили, сам Сулла отпустил на свободу более десяти тысяч.
Уже во времена Гракхов, то есть за сто тридцать лет до Рождества Христова, примерно за пятьдесят лет до смерти Суллы, Форум был полон этого сброда. Однажды, когда он сильно шумел, мешая Сципиону Эмилию говорить:
– Замолчите, ублюдки Италии! – крикнул он.
Затем, поскольку они стали угрожать, он пошел прямо на тех, кто показывал ему кулак и сказал им:
– Да полно вам, те, кого я привел в Рим в кандалах и ошейниках, не напугают меня, даже если сейчас они развязаны.
И действительно, они умолкли перед Сципионом Эмилием.
Именно в этот Рим и к этому народу после смерти Суллы возвращался Цезарь, наследник и племянник Мария.
Потому ли, что он не счел это время подходящим, чтобы показать себя, или потому, что, как Бонапарт, просящийся после осады Тулона на службу в Турцию, он еще не разглядел своей удачи, Цезарь лишь прикоснулся к Риму, и отправился в Азию, где он впервые сражался в войсках претора Терма. Возможно, он ждал, пока улягутся волнения, вызванные неким Лепидом. Не следует путать его с Лепидом из триумвирата. Этот был авантюрист, выскочка, который, будучи разбит Катулом, умер от горя.
Когда в Риме стало поспокойнее, Цезарь вернулся, чтобы обвинить во взяточничестве Долабеллу. Это был превосходный способ не только заявить о себе, но и быстро приобрести популярность; нужно было только одержать победу – или удалиться в изгнание. Цезарь потерпел поражение.
Тогда он решил найти себе убежище на Родосе, как для того, чтобы избавиться от новых врагов, которых он только что приобрел, так и для того, чтобы обучаться красноречию. Видимо, он недостаточно изучал его, раз Долабелла взял над ним верх.
В самом деле, в Риме все были в большей или меньшей степени адвокатами; спорили редко, но защищались постоянно. Речи в чью-либо защиту произносили, декламировали, даже пели. Часто позади ораторов стоял флейтист, который задавал им нужное «ля» и возвращал их в нужную тональность, если во время речи они начинали фальшивить.
Право обвинять имели все.
Если обвиняемый был римским гражданином, он оставался на свободе, только любой из друзей должен был поручиться за него; в большинстве случаев, судья принимал его в собственном доме.
Если обвиняемый был всадником, квиритом или патрицием, обвинение ставило весь Рим с ног на голову; это становилось новостью дня. Сенат принимал сторону за или против обвинения; в ожидании великого дня друзья истца или ответчика поднимались на трибуны и распаляли народ, восстанавливая его за или против; каждый искал доказательства, подкупал свидетелей, переворачивал все вокруг в поисках правды, а за неимением правды – лжи. На все это давалось тридцать дней.
– Богатый человек не может быть приговорен! – громко кричал Цицерон.
А Лентул, оправданный большинством в два голоса, восклицал:
– Я выбросил на ветер пятьдесят тысяч сестерциев!
Это была цена, которую он заплатил за один из двух голосов, который оказался лишним, поскольку для оправдательного договора хватило бы и одного. Но, правда, иметь в запасе всего один было бы опасно.
В ожидании дня суда обвиняемый метался по улицам Рима в лохмотьях; он бросался от двери к двери, взывая к справедливости и даже милосердию своих сограждан, падая перед судьями на колени, прося, умоляя и плача.
Эти судьи, кто они были?
То одни, то другие. Их меняли, чтобы новые не были продажны, как прежние, – и новые продавались дороже. В 630 году Гракхи законом Семпрония отобрали эту привилегию у сенаторов, и отдали ее всадникам. В 671 году Сулла законом Корнелия поделил эту власть между трибунами, всадниками и представителями казначейства.
Во время, когда правил закон Корнелия, Цезарь вел одно дело с сенатом. Дебаты продолжались день, два, иногда три.
Под жарким небом Италии, на этом Форуме, где стороны сталкивались, как волны в штормовом море, ревела буря страстей, и вспышки ненависти полыхали, как языки пламени, над головами слушателей. Затем судьи, которые даже не пытались согнать со своих лиц выражения симпатии или антипатии, проходили перед урной.
Иногда их было двадцать четыре, иногда – сто и даже больше; голос каждого из них оправдывал или позволял виновному отправиться в ссылку. Именно таким образом в 72 году было разрешено изгнание Верресу, которого обвинил Цицерон. Буква А, которая означала absolvo, оказалась в большинстве в суде над Долабеллой, и Долабелла был оправдан.
Как мы уже сказали, Цезарь тогда покинул Рим; это значит: был вынужден бежать из Рима на Родос.
На Родосе он рассчитывал на одного известного ритора по имени Молон; но в свой расчет Цезарь не принял пиратов. Цезарь еще не носил с собой свою удачу: он попал в руки пиратов, которые наводняли в те времена Средиземное море.
Скажем пару слов об этих пиратах, которые в 80-х годах до Рождества Христова в морях Сицилии и Греции играли почти ту же роль, какую в XVI веке играли корсары Алжира, Триполи и Туниса.
Глава 4
Когда-то эти пираты были, в общем, пособниками Митридата; но когда Сулла в 94 году до Рождества Христова разбил его, отняв у него Ионию, Лидию, Мизию, истребив двести тысяч его солдат, уничтожив его флот и вернув его государство в те границы, которое оно имело при его отце, моряки царя Понта оказались выброшенными на улицу, и, лишившись возможности воевать для отца Фарнака, они решили воевать для себя самих.
К ним присоединились все те, кого вывели из терпения грабежи направленных на Восток римских проконсулов: это были киликийцы, сирийцы, киприоты, памфилийцы.
Рим, занятый войнами между Марием и Суллой, оставил море без защиты; пираты завладели им. Но они не ограничивались тем, что нападали на лодки, галеры и даже большие суда; «они разоряли, говорит Плутарх, целые острова и приморские города».
Вскоре к этой толпе авантюристов и людей без имени присоединились проскрипты Суллы, аристократия, всадники. Подобно тому, как слово бандит пришло к нам от bandito, так и пиратство превратилось в реакцию Востока против Запада, в своего рода если не почетное, то живописное и поэтическое ремесло, которое могло подарить Байронам и Шарлям Нодье того времени типажи вроде Конрада и Жана Сбогара.[4]
У них были арсеналы, порты, сторожевые башни, великолепно укрепленные крепости; они обменивались с земли и с моря понятными только им условными сигналами на значительные расстояния.
Их флот был богат отменными гребцами, превосходными лоцманами, опытными матросами; их суда выстроили под их надзором лучшие строители в Греции или на Сицилии. Некоторые из их кораблей пугали своим великолепием: корма флагманов была позолочена; внутреннее убранство было отделано пурпурными коврами; они пенили море посеребренными веслами; наконец, они возводили свой разбой в доблесть.
По вечерам в приморских городах слышалась музыка, сплетавшаяся с песней; можно было видеть; как мимо движется плавучий дворец, сияющий, как город в день большого праздника. Это пираты давали концерт и бал. Часто на следующий день город отвечал вчерашним песням криками отчаяния, и праздник музыки и ароматов сменялся праздником слез и крови.
Таких кораблей, бороздящих внутренние моря от Гадеса до Тира и от Александрии до пролива у острова Лесбос, насчитывалось более тысячи.
Более четырехсот городов были захвачены и принуждены заплатить выкуп. Даже храмы, до тех пор священные, были захвачены, осквернены, разорены: храмы кларийский, дидимский, самофракийский, храм Цереры в Гермионе, храм Эскулапа в Эпидавре, храм Юноны на Самосе, храмы Аполлона в Актии и на Левкаде, храмы Нептуна на перешейке, на Тенаре и в Калабрии.
Взамен этого разбойники приносили жертвы своим богам и справляли свои тайные мистерии, в частности, посвященные Митре, который приобрел известность благодаря им.
Иногда они сходили на землю и разбойничали на больших дорогах, производя опустошения на торговых путях и разоряя загородные дома, расположенные вблизи от моря.
Однажды они похитили двух преторов, одетых в пурпурные одежды, и увели их с собой, вместе с ликторами, которые несли впереди них фасции. В другой раз была похищена дочь магистрата Антония, удостоенного триумфа; ей пришлось заплатить огромный выкуп.
Случалось, что пленник, не знавший, в чьи руки он попал, кричал, чтобы внушить им почтение:
– Берегитесь! Я римский гражданин.
Тогда они тут же восклицали:
– Римский гражданин! почему же вы не сказали этого сразу, господин? Скорее! верните римскому гражданину его платье, его сандалии, его тогу, чтобы никто вторично не мог ошибиться на его счет.
Затем, когда гражданин был полностью облачен в его одежду, корабль становился на якорь, за борт спускали лестницу, конец которой уходил в воду, и говорили надменному пленнику:
– Пожалуйста, римский гражданин, путь свободен, возвращайтесь в Рим.
И если он не спускался в море по доброй воле, его сбрасывали туда силой.
Вот каковы были люди, в руки которых попал Цезарь.
Сначала они потребовали с него выкуп в двадцать талантов.
– Да вы что! – сказал Цезарь, насмехаясь над ними, – похоже, вы не знаете, кого вы схватили; двадцать талантов выкупа за Цезаря! Цезарь даст вам пятьдесят. Но только берегитесь! едва освободившись, Цезарь всех вас распнет на кресте.
Пятьдесят талантов – это что-то около двухсот пятидесяти тысяч франков. Бандиты со смехом согласились на сделку. Цезарь тут же отправил всю свою свиту за этой суммой, оставив при себе только врача и двух слуг.
Он провел с этими киликийцами, «людьми, отличавшимися особой кровожадностью», по словам Плутарха, тридцать восемь дней, и обращался с ними с таким презрением, что каждый раз, когда ему хотелось спать, посылал сказать им, чтобы они не шумели; потом, когда он просыпался, он играл с ними, сочинял стихи и произносил речи, используя их в качестве слушателей и называя их невеждами и дикарями, если они не аплодировали ему тогда, когда, по мнению Цезаря, его стихи или речи заслуживали аплодисментов.
Затем, в конце каждой игры, речи или декламации:
– Все равно, – говорил Цезарь, покидая их, – все это вовсе не помешает мне когда-нибудь казнить вас всех на кресте, как я вам обещал.
Они смеялись над этими обещаниями, называли его веселым малым и аплодировали его остроумию. Наконец, из Милета пришли деньги. Пираты, верные своему слову, отпустили Цезаря, который с лодки, отвозившей его в порт, прокричал им в последний раз:
– Вы помните, что я обещал вам всех вас распять?
– Да! да! – кричали в ответ пираты.
Раскаты их хохота провожали его до самого берега. Цезарь был человеком слова. Едва ступив на землю, он вооружил корабли, нагнал то судно, которое захватило его в плен, захватил его на этот раз сам, разделил добычу на две части, одну из денег, другую из людей; деньги взял себе, а людей бросил в тюрьму в Пергаме; после чего сам отправился к правителю Азии Юнию, ни в коем случае не желая лишить его привилегий претора, и потребовал от него наказать пиратов. Но последний, увидев огромное количество отнятых у них денег, заявил, что такое дело не терпит спешного рассмотрения.
На старой доброй латыни это означало, что Юний хочет дать им время удвоить эту сумму, а потом, когда эта сумма будет удвоена, он отпустит пленников на свободу.
Цезарь хотел вовсе не этого; продажность претора вынуждала его отказаться от своего слова. Тогда он вернулся в Пергам, забрал пленников из тюрьмы, и его собственные матросы в его присутствии приколотили их к крестам. Когда он произвел эту экзекуцию, ему не было еще и двадцати. Примерно через год Цезарь вернулся в Рим.
На Родосе он учился вместе с Цицероном, но не у Молона, который за это время умер, а у Аполлония, его сына.
Однако вскоре он почувствовал, что изучение красноречия плохо гармонирует со снедавшей его жаждой деятельности, и отправился в Азию, где собрал под свое собственное командование войска, изгнал из этой провинции некоего вошедшего в нее легата Митридата, и удержал в рамках долга всех колеблющихся и неуверенных. Затем он вновь появился на Форуме.
Его приключение с пиратами наделало шуму; его экспедиция в Азию тоже не осталась незамеченной: он был то, что в наши дни англичане назвали бы эксцентричным человеком, а французы – героем романа.
Все в нем, вплоть до слухов про него и Никомеда, которые веселили мужчин, вызывало любопытство у женщин.
Если заботу о чьей-либо известности берут на себя женщины, его репутацию можно считать готовой. Молодой, красивый, благородный, щедрый, Цезарь очень скоро вошел в моду. Он принялся сразу за дела сердечные и государственные, за любовь и за политику.
Именно к этому времени следует отнести слова Цицерона:
– Он, этот выскочка! этот красавчик, который чешет голову одним пальцем, чтобы не нарушить прическу? Нет, я не думаю, чтобы он когда-нибудь погубил Республику.
Тем временем Цезарь добился назначения его солдатским трибуном, превзойдя своего конкурента Гая Попилия. На этом посту он возобновил свою борьбу против Суллы.
Сулла сильно урезал права трибунов. Цезарь добился приведения в действие закона Плавтия[5] и призвал обратно в Рим своего тестя Луция Цинну и сторонников того Лепида, о котором мы говорили, перешедших после его смерти к Серторию.
Позже мы еще займемся этим другим отважным полководцем, который, вопреки всему, сохранил верность Марию и нашел свою удачу. А пока вернемся к Цезарю.
Он продолжал свой путь; элегантный, благородный, страстный с женщинами, вежливый на улице, приветливый со всеми на свете, он, как мы уже говорили, протягивал свою белую руку к ладоням самым грубым, и время от времени, когда кого-нибудь удивляло это его снисхождение к народу, ронял такие слова:
– Разве, прежде всего я не племянник Мария?
Да, а где же Цезарь брал деньги, которые он тратил?
Это была тайна; но всякая тайна возбуждает любопытство, а когда таинственный человек еще и симпатичен, его популярность за счет тайн возрастает еще больше.
Так что, в итоге, в двадцать один год Цезарь имел лучший стол во всем Риме; кошелек, подвешенный к этому незатянутому поясу, за который его упрекнул Сулла, был всегда полон золота; и что было тем, кому это золото доставалось, до того, откуда оно бралось!
Впрочем, его дебет и кредит были ясны как день.
Перед его трибунатом все уже знали, что его долги составляют тринадцать сотен талантов; это значит семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч франков нашими деньгами.
– Что ж! – говорили его недоброжелатели, – не мешайте ему: банкротство само расправится с этим безумцем.
– Не мешайте мне, – говорил Цезарь, – и первая же революция уничтожит мои долги.
После трибуната он был пожалован в квесторы.
Как раз когда он состоял на этой службе, он и потерял Юлию, свою тетку, и Корнелию, свою жену, и произнес над ними обеими надгробную речь.
Мы уже отмечали, что именно в речи над телом своей усопшей тетки он, прославляя их общее происхождение, сказал эти слова: «Мы ведем свой род, с одной стороны, от Анка Марция, одного из первых царей Рима, и с другой стороны, от богини Венеры; так что в моей семье соединились святость царей, которые правят людьми, и величие богов, которые правят царями.»
Речь произвела большое впечатление.
«Цезарь, – говорит Плутарх, – стал бы первым оратором своего времени, если бы он не предпочел стать первым его полководцем».
Представившийся в связи с этим случай дал Цезарю возможность оценить свое растущее влияние.
Глава 5
В Риме действовал старинный обычай произносить речи над усопшими пожилыми женщинами. Тетка Цезаря была как раз такой: ей было больше шестидесяти лет; но этих речей никогда не произносили над гробом молодых женщин. Жене Цезаря, которой он посвятил свое надгробное слово, едва исполнилось двадцать лет.
Поэтому, когда он начал свою речь над телом Корнелии, в адрес оратора раздалось несколько возмущенных выкриков; но толпившийся вокруг народ заставил протестующих умолкнуть, и Цезарь смог продолжать под одобрительные возгласы толпы.
Его возвращение к себе домой на улицу в Субуре стало настоящим триумфом.
Для этого праздного скучающего народа Цезарь только что изобрел новое развлечение: надгробные речи над молодыми усопшими.
В связи с этим триумфом возникла мысль отослать его куда-нибудь; стало понятно, что человек, с такой легкостью манипулирующий народом, может стать опасным.
Ему было поручено управление Испанией Дальней и вменено в обязанность провести собрания римских негоциантов, как это было принято в провинциях; но он остановился в Гадесе.
Там, увидев в одном из храмов Геркулеса статую Александра, он подошел к ней и долго молча смотрел на нее, застыв в неподвижности.
Один из его друзей заметил вдруг крупные слезы, которые лились из его глаз.
– Что с тобой, Цезарь? – спросил его этот друг; почему ты плачешь?
– Я плачу потому, – ответил Цезарь, – что я подумал, что в моем возрасте Александр уже покорил большую часть мира.
В ту же ночь он увидел сон. Древние питали к снам большое уважение. Сны бывали двух сортов: одни выходили из дворца Ночи через дверь из слоновой кости, и это были пустые сны, которым не следовало придавать большого значения; другие выходили через дверь из рога, и это были вещие сны, которые посылали боги.
Как все великие люди, как Александр, как Наполеон, Цезарь был суеверен. Вот каков был его сон: ему снилось, что он силой овладевает своей матерью. Он велел привести к нему толкователей снов, – обычно ими были халдеи, – и спросил у них, что означает этот сон.
Они ответили:
– Этот сон, Цезарь, означает, что однажды вся мировая империя будет принадлежать тебе; потому что эта мать, которой ты овладел, и которая, следовательно, покорилась тебе, не что иное, как земля, наша общая мать, господином которой тебе суждено стать.
Это ли толкование определило решение Цезаря вернуться в Рим?
Возможно.
Во всяком случае, он покинул Испанию раньше назначенного срока, и встретил по пути бунтующие латинские колонии; – они грабили богатых горожан.
Одно мгновение он колебался, не возглавить ли ему их, настолько он жаждал хоть какой-нибудь славы! но легионы, готовые к походу в Киликию, стояли под стенами Рима; момент был неблагоприятный; он вернулся без шума.
Разве что, мимоходом, он бросил колониям свое имя, и они поняли, что в один прекрасный миг, в какой-нибудь благоприятный час, недовольные смогут объединиться вокруг Цезаря.
С тех пор у имени Цезаря появился синоним; теперь оно означало оппозицию.
На следующий день стало известно, что он вернулся, и что он готовится стать эдилом.
В ожидании этого он добился назначения смотрителем Аппиевой дороги. Для него это был способ плодотворно потратить свои деньги, или, вернее, деньги других на глазах у всего Рима.
Эта via Appia была одной из крупнейших римских артерий, которая связывала город с морем; по пути она касалась Неаполя, и затем тянулась через Калабрию до самого Брундизия. Она служила также кладбищем и местом для прогулок.
Богатых граждан, которые имели дома вдоль этой дороги, по их просьбам хоронили прямо у порога, на обочинах. Вокруг их могил сажали деревья, к ним прислоняли скамейки, стулья, кресла; и по вечерам, когда в воздухе уже чувствовались первые дуновения ночного бриза, и становилось легче дышать, в свежести сумерек люди приходили посидеть на них под сенью деревьев и посмотреть на щеголей, проезжающих мимо на лошадях, на куртизанок, которых несли на носилках, на матрон в их повозках и на проходящих мимо пеших ремесленников и рабов.
Это был своего рода воскресный бульвар Рима; только он был таким каждый день.
Цезарь заново вымостил дорогу, посадил новые деревья взамен поваленных и засохших, подправил запущенные могилы, выбил заново стершиеся эпитафии.
Обычное место для обычных прогулок превратилось в настоящий Corso. Время его особой популярности начинается с того ремонта, который произвел Цезарь. Все это чудесным образом способствовало подготовке его кандидатуры к эдилату.
Тем временем, в Риме готовились два заговора. Все кричали, что Цезарь тоже участвует в них, и что он в числе заговорщиков вместе с Крассом, Публием Суллой и Луцием Автронием.
Целью одного заговора было перерезать часть сената и сделать Красса диктатором, а Цезаря – командующим конницей; затем вернуть Сулле и Автронию консулат, который был у них отнят.
В другом он, говорят, действует вместе с молодым Пизоном, и именно поэтому молодому человеку двадцати четырех лет в качестве особого поручения вверяют командование Испанией. Пизон должен поднять народы, живущие по ту сторону По и по берегам Амбра, пока Цезарь будет сеять смуту в Риме.
Как уверяют, только смерть Пизона разрушила второй план. Первый был более состоятелен.
Танузий Геминий в своей истории, Бибул в своих эдиктах, Курион-отец в своих речах удостоверяют существование этого заговора.
Курион намекает на него в письме к Аксию.
Если верить Танузию, на попятную пошел Красс. Крас-миллионщик боялся одновременно и за свою жизнь, и за свои деньги. Он отступил, и Цезарь не подал условного сигнала.
По словам Куриона, этим сигналом должно было стать спавшее с одного плеча платье Цезаря.
Но все эти обвинение – лишь слухи, которые уносит ветер популярности Цезаря.
В 687 году от основания Рима он становится эдилом, то есть мэром Рима; он устраивает роскошные игры, он выводит на арену триста двадцать пар гладиаторов и застраивает Форум и Капитолий деревянными галереями. Его популярность переходит в восторг. Его упрекают только в одном: но чтобы понять суть этого упрека, следует встать на точку зрения античности.
Цезарь слишком человечен! Почитайте Светония, если не верите; он приводит доказательства, и эти доказательства вызывают изумление у всего Рима и заставляют пожимать плечами истинных римлян, – и особенно Катона.
Так, например, путешествуя со своим заболевшим другом, Гаем Оппием, он уступил ему единственную на постоялом дворе кровать, и сам улегся спать под открытым небом. Хозяин одной харчевни подал ему негодное масло; он не только не пожаловался на это, но даже попросил еще, чтобы хозяин не заметил своей ошибки. Однажды за столом его пекарю вздумалось дать ему более свежий хлеб, чем его сотрапезникам; он наказал пекаря.
Более того: он склонен прощать. Это очень странно! прощение – христианская добродетель; но, как мы уже сказали, на наш взгляд Цезарь является провозвестником христианства.
Меммий позорит его в своих речах, говоря, что он прислуживал Никомеду за столом вместе с евнухами и рабами этого царя. – Известно, что ремесло виночерпия имело двойной смысл; по этому поводу существовал миф: это история Ганимеда. – Он голосует за консулат Меммия.
Катулл сочиняет на него эпиграммы, потому что Цезарь похитил у него любовницу – сестру Клодия, жену Метелла Целера. Он приглашает Катулла к себе на ужин.
Иногда он мстит, но только если его вынуждают к этому, и мстит мягко: in ulciscendo natura lenissimus.[6]
Так, один раб, который собирался отравить его, просто предан смерти, non gravis quam simplice morte puniit.[7]
А что же еще можно было с ним сделать? – спросят некоторые.
Боже мой! он мог отдать его на пытки, мог заставить его умереть под розгами, скормить его рыбам.
Но он не сделал ничего этого, потому что Цезарь никогда не отваживается делать зло: nunquam nocere sustinuit.[8]
Есть лишь одна вещь, которую обожающий его народ не может ему простить: он заставляет уносить с арены и лечить раненых гладиаторов, как раз в тот момент, когда зрители уже готовы объявить им смертный приговор; gladiatores notos sicubi infestis spectatoribus dimicarent vi rapiendos reservandosque mandabat.[9]
Но подождите, можно сделать так, что тебе простят все.
Однажды утром над Капитолием и над Форумом поднялся великий шум.
За ночь в Капитолий были возвращены статуи Мария и трофеи его побед. Те самые, которые, быть может, и сегодня еще зовутся трофеями Мария, были возвращены на место и вновь украшены кимврскими надписями, которые сенат когда-то приказал стереть.
Разве Цезарь не был племянником Мария! разве он не хвастался этим по любому поводу, и разве Сулла не сказал тем, кто просил о его помиловании: «Я отдаю его вам, безрассудные; но берегитесь, в этом юноше много Мариев!»
Этот поступок Цезаря был великим делом. Тень Мария, попирающего руины Карфагена, выросла до невероятных размеров, как это было с Наполеоном, заточенным на Святой Елене; это его призрак, покинув могилу, явился вдруг римлянам.
Вообразите себе статую Наполеона, вознесенную в 1834 году на вершину колонны, в этой его шляпе и сером рединготе.
Старые солдаты плакали. Седовласые рубаки рассказывали о том, как когда-то входил в Рим победитель тевтонов. Простой и грубоватый арпинский крестьянин, он так никогда и не пожелал, несмотря на принадлежность к всадническому сословию, выучить греческий, который стал вторым или даже первым языком римской аристократии, подобно тому, как французский стал вторым или даже первым языком аристократии русской. Во время осады Нуманции Сципион Эмилий разглядел его военный гений, и как-то, когда его спросили, кто станет однажды его преемником:
– Может быть, вот этот! – ответил он, хлопнув Мария по плечу.
Глава 6
Вспоминали, как Марий, будучи простым трибуном, к великому изумлению аристократии и не посоветовавшись с сенатом, предложил закон, который должен был пресечь интриги в комициях и трибуналах. Один из Метеллов стал нападать на этот закон и на трибуна, и предложил вызвать Мария в суд, чтобы тот отчитался за свое поведение; после чего Марий явился в сенат и приказал ликторам препроводить Метелла в тюрьму. Ликторы подчинились.
Югуртинская война затягивалась. Марий обвинил Метелла в том, что он нарочно тянет ее до бесконечности, и вызвался сам, если его сделают консулом, взять Югурту или убить его собственными руками. Он получил должность консула и командование войной и разбил Бокха и Югурту; Бокх не захотел погибать вместе со своим зятем, и оставил Югурту. Молодой Сулла получил его из рук царя мавров, и передал его в руки Мария. Но на своем перстне Сулла велел выгравировать сцену экстрадиции нумидийского царя, и именно этим перстнем – чего Марий никогда не мог ему простить – он запечатывал свои письма, причем не только личные, но и предназначенные для обнародования.
Вспоминали, как именитого пленника привели в Рим с оторванными ушами; ликторы так торопились завладеть его золотыми кольцами, что оторвали эти кольца прямо с мясом! повторяли, как он пошутил, когда его бросили голым в мамертинские застенки: «Холодны же в Риме парилки!»; вспоминали его шестидневную агонию, в течение которой он ни на минуту не изменил себе; наконец, его смерть на седьмой день.
Он умер от голода!
Югурта был Абд аль-Кадером своего времени.[10]
Зависть к Марию в Риме была безмерна, и он, несомненно, заплатил бы за свои победы обычным образом, как заплатили Аристид и Фемистокл, когда вдруг боевой клич, брошенный галлами, притянул все взоры на Запад.
Триста тысяч варваров, спасаясь от вышедшего из берегов Океана, двинулись на юг! Они обошли Альпы через Гельвецию, проникли к галлам и объединились с кимврскими племенами, признав в них братьев. Это была гибельная новость.
Варвары атаковали консула Гая Сервилия Сципиона, и их двадцати четырех тысяч солдат и сорока тысяч рабов спаслись только десять человек. Консул был в числе этих десяти.
Только Марий, сам почти такой же варвар, как эти, мог спасти Рим. Он выступил в поход, приучил свои войска к виду этих свирепых врагов, уничтожил сто тысяч их под Эксом, перегородил Рону их трупами и на целые века удобрил всю ее долину этим человеческим навозом.
Так было с тевтонами. Затем он нагнал кимвров, которые были уже в Италии. Депутаты от кимвров пришли к нему.
– Дайте нам, – сказали они, – землю для нас и наших братьев тевтонов, и мы сохраним вам жизнь.
– Ваши братья тевтоны, – ответил Марий, – уже получили землю, которая будет принадлежать им вечно, и вам мы уступим ее по той же цене.
И действительно, он всех их уложил на поле сражения в Верцеллах.
Ужасное нашествие с севера растаяло, как дым, и из всех этих варваров Рим увидел только их царя Тевтобоха, который одним махом перепрыгивал шесть лошадей, поставленных в ряд, и который, войдя пленником в Рим, на целую голову превосходил самые высокие из трофеев.
Марий был назван тогда третьим основателем Рима. – Первым был Ромул; вторым – Камилл.
В честь Мария совершались возлияния, как в честь Вакха и Юпитера. А сам он, опьяненный своей двойной победой, пил теперь только из кубка с двумя ушками, из какого, как гласило предание, пил Вакх после завоевания Индии.
Было позабыто о смерти Сатурнина, которого забросали камнями на глазах, а некоторые говорили, что и по приказу Мария, в тот же год, когда родился Цезарь; было позабыто о Марии, который избегал сражения с италийцами и упускал самые благоприятные случаи для победы; было позабыто о Марии, сложившего с себя командование под предлогом нервного расстройства в надежде, что Рим падет так низко, что будет вынужден броситься в его объятия. Помнили только о том, что за его голову была назначена цена, о его бегстве в болота под Минтурнами, о его тюрьме, где некий кимвр не посмел зарезать его.
Его смерть, как и смерть Ромула, была покрыта облаком, и никто не заметил, что это облако состояло из испарений вина и крови.
Прошло всего двенадцать лет с тех пор, как Марий умер; но Сулла, переживший его, сделал из него бога. Вот к этим-то еще живым страстям и воззвал Цезарь, воскрешая Мария.
Под крики народа, доносившиеся с Форума и Капитолия, сенат собрался на заседание. От одного только имени Мария патриции начинали трястись в своих курульных креслах.
С места поднялся Катул Лутаций; «это был, – говорит Плутарх, – человек, пользовавшийся у римлян большим уважением»; он поднялся и обвинил Цезаря.
– Цезарь, сказал он, – уже не угрожает правительству тайными кознями; он открыто выдвигает против него свои боевые машины.
Но Цезарь выступил вперед, улыбаясь, взял слово, приласкал каждое тщеславие, успокоил все страхи, заставил простить себя и, выйдя из сената, оказался перед толпой своих поклонников, которые кричали ему:
– Да здравствует Цезарь! браво, Цезарь! оставайся гордым, не склоняйся ни перед кем. Народ за тебя; народ поддержит тебя, и с помощью народа ты одержишь верх над всеми твоими соперниками.
Таким был один из первых, один из самых больших триумфов Цезаря.
Но даже для какого-нибудь Цезаря не каждый день представляется случай заставить говорить о себе; – это подтверждает и Бонапарт, похороненный вместе с Жюно в его маленькой комнатке на улице Мэй.[11] – Цезарь только что закончил строительство своей виллы в Ариции. Это был самый красивый загородный дом в окрестностях Рима. Он вложил в нее миллионы.
– Она мне не нравится, – сказал Цезарь; – я ошибся.
И он приказал снести ее.
Алкивиад отрезал своей собаке уши и хвост, это стоило не так дорого; но нужно сказать, что греки были куда большими ротозеями, чем римляне. – Впрочем, позже мы еще поговорим об этом Алкивиаде, который не единожды послужит образцом для Цезаря; он был так же красив, так же богат, так же благороден, так же распутен, так же отважен, и убит был так же!
Эта вилла в Ариции занимала Рим три месяца. Что еще мог сделать Цезарь? Его воображение иссякло, кошелек опустел. К счастью, тем временем скончался Метелл, великий понтифик. Ему нужен этот понтификат, и берегитесь, вы, аристократы!
Положение, однако, было серьезным: два сенатора, Исаврик и Катул, известные и влиятельные люди, спорили за эту должность.
Цезарь вышел на улицу и во всеуслышание объявил себя их соперником. Катул, который боялся этого соперничества, послал предложить ему четыре миллиона, чтобы тот отступился.
Цезарь пожал плечами.
– Что он хочет, чтобы я делал с этими четырьмя миллионами? – сказал он. – Мне не хватает пятидесяти, чтобы мой баланс стал равен нулю.
Итак, по заявлению самого Цезаря, в тридцать шесть лет он был должен пятьдесят миллионов!
Мы склонны думать, что долг Цезаря выражался в миллионах сестерциев, а не франков. В таком случае получается, что он был должен каких-нибудь двенадцать-тринадцать миллионов в нашей монете. Это слишком мало для Цезаря. Я думаю, нужно найти некое среднее значение.
Катул послал предложить ему шесть миллионов.
– Скажите Катулу, – ответил Цезарь, – что я рассчитываю потратить двенадцать, чтобы победить его.
Он использовал все свои возможности, опустошил кошельки всех своих друзей и отправился на выборы с двумя или тремя миллионами.
Это был ва-банк; к счастью, оставалась еще его популярность.
Великий день наступил. Его мать со слезами проводила его до дверей.
На пороге он поцеловал ее на прощанье.
– О матушка! – сказал он ей, – сегодня ты увидишь своего сына великим понтификом или изгнанником!
Битва была долгой и жаркой.
В конце концов, она завершилась полным триумфом Цезаря: у него было больше голосов в одних только трибах его соперников, Исаврика и Катула, чем у них двоих во всех остальных трибах вместе взятых. Аристократическая партия была разбита. При такой поддержке народа, которой он пользовался, чего только Цезарь не мог добиться!
Тогда Пизон, Катул и их окружение упрекнули Цицерона в том, что он не нанес Цезарю сокрушительного удара в связи с заговором Катилины.
Действительно, пока Цезарь переживал все эти затруднения, лопнул заговор Катилины – одна из величайших катастроф в истории Рима, одно из важнейших событий в жизни Цезаря. – Посмотрим же, что творилось в Риме, когда Катилина сказал Цицерону свою знаменитую фразу, которая так верно отразила ситуацию:
– Я вижу в Республике голову без тела и тело без головы; этой головой стану я.
Тремя наиболее значительными людьми того времени, помимо Цезаря, были Помпей, Красс и Цицерон.
Помпей, столь незаслуженно названый Великим, был сыном Помпея Страбона; он родился за сто шесть лет до Рождества Христова; выходит, он был на шесть лет старше Цезаря.
Он начал делать себе имя и свою военную карьеру в гражданских войнах. Будучи легатом Суллы, он разбил легатов Мария, вернул Цизальпинскую Галлию, покорил Сицилию, разгромил Домиция Агенобарба, убил Карбона в Косире.
В двадцать три года он набрал три легиона, разбил трех генералов и вернулся к Сулле. Сулле нужно было сделать его своим другом, и он при его появлении встал и приветствовал его именем Великий.
Имя закрепилось за ним.
«Удача – это женщина, говорил Людовик XIV г-ну де Вильрою, который только что потерпел поражение в Италии; – она любит молодых и терпеть не может стариков». Удача любила Помпея, пока он был молод.
Когда Сулла умер, Рим принял сторону Помпея. Речь шла о том, чтобы закончить три начатые войны: войну Лепида, войну Сертория и войну Спартака.
Война Лепида была просто игрушкой; Лепид не имел никакого веса. Но с Серторием все было иначе; старый легат Мария, он был одним из четырех античных знаменитостей, кривых на один глаз; тремя другими, как известно, были Филипп, Антигон и Аннибал. В молодости Серторий сражался против кимвров в войске Цепиона, и когда тот был разбит, Серторий пересек Рону вплавь – Rhodanus celer – со своей кирасой и своим щитом. Затем, когда Марий снова принял командование армией, Серторий переоделся в кельтскую одежду, смешался с варварами, провел среди них три дня и вернулся рассказать Марию все, что видел. Он предвидел приход к власти Суллы и ушел в Испанию; варвары очень уважали его. – За семьдесят лет до Рождества Христова римляне называли варваром всякого, кто не был римлянином, точно так же, как за четыреста лет до этого греки называли варваром всякого, кто не был греком. – В Африке он нашел могилу ливийца Антея, задушенного Гераклом; единственный из всех людей, он измерил кости великана и насчитал в них шестьдесят локтей; затем он вернул кости в могилу и объявил ее священной. Все в нем было таинственно: он общался с богами при помощи белой лани; он был столь же хитер, сколь и смел, и любой маскарад давался ему без труда; он прошел, ни разу не выдав себя, через легионы своего врага Метелла, которого он вызывал на поединок, а тот не принял вызова. Ловкий и неутомимый охотник, он взбирался, преследуя серн, на самые крутые вершины Альп и Пиренеев, а потом возвращался на эти тропы, убегая от врага или нападая на него. Мало-помалу он стал хозяином всей Нарбоннской Галлии, и в один прекрасный день Треббия увидела бы, как к ней сходит с гор новый Ганнибал. Помпей пришел на помощь Метеллу; общими силами они вынудили Сертория отступить в Испанию; но во время этого отступления он разбил Метелла в Италике, Помпея – в Лозанне и Сукро, отверг все предложения Митридата и в конце концов был предательски убит своим легатом Перпенной.
Со смертью Сертория война в Испании закончилась. Помпей приговорил Перпенну к смерти, казнил его и сжег, не читая, все его бумаги, из страха, что они могут скомпрометировать кого-нибудь из знатных римлян.
Оставалась война Спартака.
Глава 7
Припомните человека, который стоит, скрестив руки, в саду Тюильри, сжимая рукоять обнаженного меча, а с его запястья свисает разбитая цепь. Это Спартак. Вот в нескольких строках история этого героя.
В ту эпоху, где мы с вами находимся, уже было большой роскошью иметь собственных гладиаторов. Некий Лентул Батиат держал в Капуе школу гладиаторов. Двести из них решились на побег. К несчастью, заговор был раскрыт; но семьдесят, вовремя предупрежденные, ворвались в лавку торговца жареным мясом, вооружились ножами, тесаками и вертелами и вышли в город. По дороге им попалась повозка, доверху нагруженная оружием из цирка. Это было то самое оружие, с которым они привыкли иметь дело; они завладели им, захватили одну крепость и выбрали себе трех командиров: генерала и двух легатов.
Генералом был Спартак.
Взглянем теперь, был ли он достоин этой опасной чести. Фракиец по рождению, но принадлежащий к нумидийской расе, он был силен, как Геркулес, отважен, как Тесей, и к этим высшим его качествам добавлялись осторожность и мягкосердечие истинного грека.
Когда его вели в Рим на продажу, на одном из привалов он заснул, и змея, не разбудив и не ужалив его, обвилась вокруг его лица. Его жена обладала даром ясновидения; она увидела в этом происшествие знак судьбы: по ее мнению, этот знак обещал Спартаку власть, сколь великую, столь и грозную, но которая будет иметь печальный конец.
Она подговорила его на побег и бежала вместе с ним, решив разделить с ним все его удачи и бедствия.
Когда о бунте гладиаторов стало известно, против них послали несколько отрядов. Гладиаторы приняли бой, разбили солдат и завладели их оружием – то есть оружием военным, почетным, а не позорным, как их собственное, которое они отшвырнули подальше.
Дело принимало серьезный оборот. Рим послал новые войска: ими командовал Публий Клодий, принадлежавший к ветви Пульхеров семьи Клавдиев. Pulcher, как известно, означает прекрасный. Клодий нимало не порочил славы своего рода. Мы еще расскажем позднее, как он был прекрасен как любовник; мы не будем заниматься им как генералом.
Как генералу, ему не посчастливилось. У него было войско в три тысячи человек. Он окружил гладиаторов в их цитадели, карауля единственный проход, через который они могли покинуть ее. Повсюду вокруг были только острые скалы, поросшие диким виноградом. Гладиаторы нарезали его побегов; как известно, узловатая и волокнистая виноградная лоза обладает прочностью каната. Они сделали из нее лестницы и все спустились по ним, за исключением одного, который остался, чтобы сбросить им сверху оружие. И в то время, как римляне думали, что надежно заперли своих врагов, они внезапно напали на них с яростными криками. Римляне бросились бежать: их чувства были обострены, и их легко было напугать неожиданным нападением, – как истинные итальянцы, они были люди впечатлительные и нервные.
Все поле боя оказалось во власти гладиаторов. Их победа наделала шуму. Мы, современные, прекрасно знаем, что ничто так не привлекает, как успех. Со всех окрестностей к мятежникам сбежались пастухи и погонщики скота, и присоединились к ним. Это было славное подкрепление из крепких и проворных простаков; их вооружили и сделали из них лазутчиков и легкую пехоту.
Против них послали второго генерала, Публия Вариния, который своими успехами отнюдь не превзошел первого. Спартак разбил сначала его легата, потом его помощника Коссиния, а потом и его самого, и захватил его ликторов и его боевого коня.
После этого победа следовала за победой. План Спартака был очень мудр: следовало добраться до Альп, перевалить в Галлию и всем возвратиться по домам. Против него были посланы Геллий и Лентул.
Геллий разбил корпус германцев, который держался особняком; но Спартак, со своей стороны, разбил легатов Лентула и захватил все их снаряжение; затем он продолжил свой поход к Альпам.
Кассий вышел ему навстречу с десятью тысячами человек; бой был долгим и тяжелым; но Спартак растоптал его и снова двинулся в путь, все в том же направлении. Негодующий сенат сместил обоих консулов и отправил против этого непобедимого фракийца Красса. Красс встал лагерем в Пицене, чтобы дождаться там Спартака, приказав при этом Муммию с двумя его легионами сделать большой крюк и следовать за гладиаторами, ни в коем случае не вступая с ними в бой.
Естественно, первое, что сделал Муммий, это дал Спартаку бой. Как и в случае с нашим Абд аль-Кадером, каждый считал, что честь схватить его уготована именно для него.
Спартак раздавил Муммия и оба его легиона. Три или четыре тысячи человек были убиты; остальные спаслись, побросав оружие, чтобы было легче бежать.
Красс децимировал бежавших. Он взял пятьсот человек, которые первыми закричали спасайся кто может; поделил их на пятьдесят десятков, заставил тянуть жребий и в каждом десятке казнил того человека, на которого этот жребий пал.
Спартак пересек Луканию и отошел к морю. В Мессенском проливе ему встретились пресловутые пираты, которые были повсюду, и о которых мы уже рассказывали в связи с приключениями Цезаря. Спартак решил, что пираты и гладиаторы смогут договориться. И он, в самом деле, заключил с ними договор, что они перевезут две тысячи человек на Сицилию. Речь шла о том, чтобы снова разжечь там войну рабов, которая недавно угасла. Но пираты, взяв деньги Спартака, бросили его на берегу моря; тогда он отправился на полуостров Регий и встал там лагерем.
Красс последовал за ним. Он провел линию длиной в триста стадиев, что соответствовало всей ширине полуострова, и превратил ее в ров; затем по краю этого рва он высокую и толстую стену.
Спартак сначала смеялся над этими его работами, но под конец испугался. Он даже не дал ему закончить. Однажды ночью, когда шел снег, он завалил ров хворостом, сучьями и землей, и перевел через него треть своей армии.
Красс сначала подумал, что Спартак двинулся к Риму; но вскоре он успокоился, увидев, что его враги разделяются. Спартак расставался со своими легатами. Красс напал на них и гнал их перед собой, пока вдруг снова не появился Спартак и не ослабил его хватку.
Напуганный разгромом Муммия, Красс написал, чтобы Лукулла отозвали из Фракии, а Помпея – из Испании, и чтобы они пришли к нему на помощь. Едва сделав это, он понял, как он был неосторожен. Тот из них, кто явится на этот зов, будет считаться истинным победителем и отнимет у него награду за победу.
Тогда он решил разбить его в одиночку. Карминий и Каст, два легата Спартака, отделились от своего командира. Красс решил разбить для начала их. Он послал вперед шесть тысяч человек с приказом занять выгодную позицию. Чтобы не обнаружить себя, они сделали так, как потом сделают солдаты Дункана: покрыли свои шлемы ветками деревьев. К несчастью для них, две женщины, которые совершали для гладиаторов жертвоприношение при входе в лагерь, заметили движущийся лес и забили тревогу. Карминий и Каст набросились на римлян, и те пропали бы, если бы Красс не послал остальную свою армию к ним на выручку.
Двадцать тысяч гладиаторов остались лежать на поле боя. – Их сосчитали, их раны осмотрели. – Только десяти из них удар был нанесен в спину.
После подобной бойни у Спартака больше не было возможности продолжать кампанию. Он попытался отступить к Петелийским горам. Красс отправил по его следам Скрофу, своего квестора, и Квинта, своего легата. Подобно раненому кабану, который бросается на собак, Спартак развернулся к ним и обратил их в бегство.
Эта победа погубила его: его солдаты заявили, что хотят сражаться. Они окружили своих командиров и снова повели их против римлян. Именно этого и хотел Красс: покончить с ними любой ценой. Он только что узнал о приближении Помпея. Он подошел к своему врагу так близко, как только мог.
Однажды, когда его солдаты по его приказу рыли траншею, гладиаторы затеяли с ними перебранку; взыграло задетое самолюбие: обе стороны покинули лагерь; развязалась схватка; каждое мгновение число сражающихся росло. Спартак понял, что ему ничего не остается, как начать бой.
Это было именно то, чего он хотел избежать.
Вынужденный действовать вопреки своей воле, он велел привести своего коня, обнажил меч и вонзил ему в горло.
Животное рухнуло.
– Что ты делаешь? – спросили у него.
– Если я окажусь победителем, сказал он, у меня не будет недостатка в добрых конях; если же я окажусь побежденным, он мне больше не понадобится.
И он тут же бросился в самую гущу римлян, разыскивая Красса, но не находя его. Два центуриона схватились с ним; он убил их обоих. Наконец, когда все его воины бросились бежать, он остался на месте и, как и обещал, погиб, не отступив ни на шаг. В это время подошел Помпей. Остатки армии Спартака были готовы столкнуться с ним; он истребил их.
После чего, как и предвидел Красс, вся честь победы над гладиаторами досталась Помпею, хотя он прибыл уже после разгрома.
Что же до Красса, то напрасно он раздал народу десятую часть своего состояния, напрасно он накрыл на Форуме десять тысяч столов, напрасно он наделил каждого гражданина хлебом на целых три месяца; Помпею пришлось поддержать его, чтобы он получил консулат одновременно с ним, и все равно он был назначен лишь вторым консулом.
И потом, Помпей получил триумф, а Красс – только овацию.
Как мы уже говорили, удача была благосклонна к Помпею. Метелл подготовил ему победу над Серторием. Красс сделал еще лучше: он победил для него Спартака. И в приветственных возгласах народа во время триумфа не было ни слова ни о Метелле, ни о Крассе; только о Помпее.
Потом случилась война с пиратами. Мы уже говорили, какой мощи они тогда достигли. Их следовало уничтожить до основания. Сделать это поручили Помпею.
Тройная победа над Лепидом, Серторием и Спартаком сделали его «мечом Республики». Красса не сочли достойным даже быть его легатом. Бедняга Красс! Он был слишком богат, чтобы с ним обходились справедливо.
От оккупации моря пиратами больше всего страдали всадники. Вся торговля Италии была в их руках. Как только торговля была прервана, всадники разорились. Вся надежда была на Помпея.
Они сделали его – вопреки сенату – полным хозяином моря, от Киликии до Геркулесовых Столпов, и дали ему полную власть над его берегами на двадцать лье вглубь материка. На этих двадцати лье он имел право казнить и миловать.
Кроме того, он мог брать у квесторов и откупщиков деньги на строительство пятисот кораблей – столько, сколько захочет.
Он мог по своей воле, по своему желанию, просто по своему капризу набирать солдат, матросов и гребцов; только вот все эти полномочия были даны ему с тем условием, что сверх всего оговоренного он расправится с Митридатом.
Это происходило за семьдесят лет до Рождества Христова. Цезарю было тридцать два года.
За три месяца, благодаря тем невероятным ресурсам, которые были ему предоставлены, Помпей справился с пиратами. Впрочем, уничтожение этого грозного морского разбойничества проводилось скорее силой убеждения, чем силой оружия.
Оставался Митридат. Митридат оказал ему услугу, убив себя по приказу собственного сына Фарнака, в то самое время, когда Помпей, подчинив себе Иудею, предпринял чрезвычайно неосторожную войну против арабов.
Вот что такое был Помпей. Перейдем теперь к Крассу.
Глава 8
Марк Лициний Красс носил прозвище Dives, что значит Богач; в наши дни не один богач носит прозвище Красс, поскольку именно римская античность подарила нам это воплощение современной алчности.
Он родился за сто пятнадцать лет до Рождества Христова; значит, он был старше Цезаря на пятнадцать лет.
В восемьдесят пятом году до Рождества Христова, уже одним своим богатством привлекая внимание мятежников Мария, он спасся в Испании; потом, через два года, когда Марий умер, а Сулла отпраздновал триумф, Красс вернулся в Рим.
Под давлением Цинны и молодого Мария Сулла решил использовать Красса, отправив его набирать новые войска среди марсов. – Марсами назывались античные швейцарцы. – «Кто может победить марсов или без марсов?» – говорили сами римляне.
Итак, Сулла послал Красса набирать рекрутов среди марсов.
– Но, – сказал Красс, – чтобы пройти через вражеские земли, мне нужно сопровождение.
– В качестве сопровождения, – ответил Сулла, – я дам тебе тени твоего отца, твоего брата, твоих родственников и твоих друзей, убитых Марием.
Красс прошел.
Но, поскольку он прошел туда один, он решил, что и плодами своих трудов тоже может пользоваться один: он собрал армию и с этой армией захватил и разграбил один город в Умбрии.
В результате этой экспедиции его состояние, и без того уже внушительное, выросло еще на семь или восемь миллионов. Кстати, сам Красс, не называя размеров своего состояния, обозначил тот его размер, к которому он стремился.
– Никто не может похвастаться, что он богат, говорил он, если он недостаточно богат, чтобы содержать армию.
Слухи об этом грабеже докатились до Суллы, который, впрочем, не отличался в этом смысле большой щепетильностью; он стал относиться к Крассу с предубеждением, и отныне предпочитал ему Помпея.
С этой минуты Помпей и Красс стали врагами.
Тем временем Красс оказал Сулле огромную услугу, большую, чем все те, которые ему когда-либо оказывал Помпей.
Самниты, под предводительством их вождя Телезина, подступили к самым воротам Рима; весь их путь через Италию был одной длинной кровавой и огненной отметиной. Сулла устремился им навстречу со своей армией; но при столкновении с этими ужасными скотопасами его левое крыло было уничтожено, и он был вынужден отступить к Пренесту. Он сидел в своей палатке примерно в том же состоянии, что и Эдуард III накануне Креси[12], считая свое дело пропащим и раздумывая, как ему удастся спасти свою жизнь, когда ему сообщили о прибытии гонца от Красса.
Он рассеянно попросил ввести его.
Но при первых же словах гонца его рассеянность уступила место глубочайшему вниманию.
Красс набросился на армию самнитов и привел ее в полное смятение; он убил Телезина, взял в плен его легатов Эдукта и Цензорина и преследовал беспорядочно бегущую армию до Антемна.
Вот каковы были услуги, забытые Суллой; Красс сумел извлечь из них пользу в Риме.
Обнаружив к тому же некоторое красноречие – мы уже говорили, что римляне ценили ораторов, он стал претором, а затем был отправлен на войну со Спартаком; мы рассказали вам, как она закончилась.
Такая развязка отнюдь не улучшила его отношений с Помпеем.
Помпей позволил себе по этому поводу высказывание, которое сильно задело Красса.
– Красс победил мятежников, – сказал он; – я же победил сам мятеж.
Потом случилась эта история с триумфом Помпея и овацией Красса.
С ним обошлись несправедливо, с этим грабителем, этим мытарем, с этим миллионщиком, и, сказать по правде, это было почти справедливостью.
К тому же его жадность раздражала. Все рассказывали друг другу некий анекдот про соломенную шляпу, – и Плутарх, великий собиратель анекдотов, пересказал его нам; так вот, все рассказывали друг другу некий анекдот про соломенную шляпу, и над этим анекдотом хохотал весь Рим.
У Красса была соломенная шляпа, висевшая на гвозде в прихожей, а поскольку он очень любил беседовать с греком Александром, то когда он уводил его с собой в какой-нибудь поход, он одалживал ему эту шляпу, а по возвращении забирал ее обратно.
В связи с этим анекдотом Цицерон сказал тогда о Крассе, кстати, с куда большей правотой, чем о Цезаре:
– Такой человек никогда не станет властелином мира.
Перейдем теперь к Цицерону, который однажды был властелином мира, поскольку однажды он был властелином Рима.
Его происхождение более чем неясно; все вполне согласны, что его мать, Гельвия, была знатной женщиной; но что касается его отца, никто не знает, чем он занимался. Наиболее принятым является мнение, что великий оратор, родившийся в Арпине, на родине Мария, был сыном валяльщика; другие полагают, что огородника. У некоторых была мысль, а возможно, он и сам имел ее, занести в число своих предков Туллия Аттика, который правил вольсками; но, по-видимому, ни друзья Цицерона, ни он сам на этом особенно не настаивали.
Он носил имя Марк Туллий Цицеро. – «Марк» было его собственное имя: имя, которое римляне давали детям обычно на седьмой день после рождения; «Туллий» было его фамильным именем, которое на старом романском языке означало «ручей»; наконец, «Цицеро» было прозвищем одного из его предков, который имел на носу бородавку в форме горошины – cicer, а уж потом из Цицеро мы сделали Цицерона.
«Возможно также, говорит Мидлтон, что это имя – Цицеро – происходит от какого-нибудь предка – огородника, который прославился своим умением выращивать горох».[13]
Это мнение не согласуется с мнением Плутарха, который говорит:
«Должно быть, основатель этого рода, носивший прозвище Цицеро, был выдающимся человеком, раз потомки пожелали сохранить его имя».
Во всяком случае, Цицерон ни за что не хотел менять его, а своим друзьям, которые настаивали на этом из-за его нелепости, он ответил:
– Нет! я сохраню свое имя Цицерона, и я надеюсь, что сделаю его более прославленным, чем имена Скавров и Катулов.
Он сдержал слово.
Попробуйте неожиданно спросить человека средней образованности, кто такие были Скавры и Катулы, – он наверняка поколеблется с ответом. Спросите у него, кто такой был Цицерон; и он ответит, не колеблясь: «Величайший оратор Древнего Рима, прозванный Цицероном, потому что у него была горошина на носу».
Насчет его таланта он будет прав; но он ошибется насчет горошины, потому что это нос не самого Цицерона, а его предка был украшен этим мясистым наростом.
Но Цицерон крепко держался за свою горошину.
В бытность свою квестором на Сицилии он принес в дар богам серебряную вазу, на которой были написаны два его первых имени, Marcus и Tullius; но вместо третьего имени он велел выгравировать горошину.
Возможно, это самый первый из известных ребусов.
Цицерон родился за сто шесть лет до Рождества Христова, в третий день месяца января; он был одногодком Помпея и был, как и он, на шесть лет старше Цезаря.
Рассказывали, что однажды его кормилице явился призрак и поведал ей, что однажды этот ребенок станет оплотом Рима.
Возможно, именно это явление придало ему такую уверенность в себе.
Еще совсем ребенком он сочинил небольшую поэму: Pontius Glaucus; но, как почти все великие прозаики, он был очень посредственным поэтом, в противоположность великим поэтам, которые почти всегда оказываются великолепными прозаиками.
Он изучал красноречие у Филона, а право – у Муция Сцеволы, ловкого юрисконсульта и первого среди сенаторов; затем, завершив свое образование, он отправился, хотя и не отличался особой воинственностью, служить под командованием Суллы на войне с марсами.
Тем не менее, он дебютировал весьма отважным поступком, хотя это было проявлением скорее гражданской смелости; не следует путать гражданскую смелость со смелостью военной.
Один из вольноотпущенников Суллы по имени Хрисогон выставил на продажу имущество одного гражданина, убитого диктатором, и сам купил это имущество за две тысячи драхм. Росций, сын и наследник покойного, доказал, что его наследство стоило двести пятьдесят талантов, то есть больше миллиона.
Сулла оказался уличен в преступлении, в склонности к которому он обвинял Красса; но Сулла так легко не сдавался. Он обвинил в свою очередь юношу в отцеубийстве, и заявил, что отец был убит по наущению сына. Обвиненный самим Суллой, Росций оказался покинут всеми.
Тогда друзья Цицерона стали подталкивать его; если он сумеет защитить Росция, если он выиграет процесс, он приобретет имя и создаст себе репутацию. Цицерон вступил в эту тяжбу и выиграл ее.
Не следует путать этого Росция с его современником – Росцием-актером, которого Цицерон тоже защищал в суде против Фанния Херея. Тот, о ком идет речь, звался Росций Америн, и мы имеем эту защитительную речь Цицерона: Pro Roscio Amerino.
В тот же день, когда он выиграл процесс, Цицерон отправился в Грецию под предлогом поправки здоровья. Он и в самом деле был так худ, что походил на тот призрак, явившийся его кормилице; у него был слабый желудок, и он мог есть только очень поздно и совсем немного. Но его голос, хотя и был грубоват и негибок, отличался полнотой и звучностью; и поскольку его голос поднимался до самых высоких тонов, он всегда, по крайней мере, в молодости, чувствовал смертельную усталость после своих речей.
Прибыв в Афины, он пошел в обучение к Антиоху Аскалониту, а потом перебрался на Родос, где, как мы уже видели, повстречался с Цезарем.
Наконец, после смерти Суллы его положение улучшилось, и по настойчивым просьбам своих друзей он вернулся в Рим, посетив перед тем Азию, где он брал уроки у Ксенокла из Адрамитта, Дения из Магнесии и Мениппа из Кариена.
На Родосе он имел успех столь же большой, сколь и неожиданный.
Аполлоний Молон, у которого он учился, совсем не говорил по-латыни, тогда как Цицерон, напротив, говорил по-гречески. Пожелав на первый взгляд оценить, на что способен его будущий ученик, Молон дал ему текст и попросил его сымпровизировать речь по-гречески. Цицерон охотно согласился; это была возможность углубить познания в языке, который не был ему родным. Он приступил к заданию, предварительно попросив Молона и остальных присутствующих отметить его возможные ошибки, чтобы затем, узнав об этих ошибках, он смог их исправить.
Когда он закончил, слушатели разразились рукоплесканиями. Только Аполлоний Молон, который за все то время, пока Цицерон говорил, не подал ни единого знака одобрения или неудовольствия, остался в задумчивости. Потом, когда обеспокоенный Цицерон стал понуждать его высказать свое мнение:
– Я хвалю тебя и восхищаюсь тобой, юноша, сказал он; но я сокрушаюсь о судьбе Греции, видя, что ты унесешь с собой в Рим последнее, что у нас осталось: красноречие и знание!
После своего возвращения в Рим Цицерон брал уроки у Росция-актера и Эзопа-трагика; каждый из них держал в своей руке царский скипетр своего ремесла.
Именно эти два мастера довели до полного совершенства его речь, которая стала его главной силой.
После избрания его квестором он был послан на Сицилию. Это случилось во времена неурожая и голода, а с тех пор, как вся Италие была превращена в пастбище, – вскоре нам представится случай поговорить об этом превращении, – Сицилия стала житницей Рима; тогда Цицерон заставил сицилийцев отправить их хлеб в Италию, и тем самым вызвал неудовольствие своих клиентов; но когда они увидели, как он деятелен, справедлив, человечен, а главное – бескорыстен, – большая редкость во времена Верреса – они вновь вернулись к нему, и окружили его не только уважением, но и любовью.
Так что он возвращался с Сицилии весьма довольный собой, сделав все что только мог хорошего, и успев в трех или четырех случаях выступить с блестящими защитительными речами. Он пребывал в полной уверенности, что слава, которой он добился на Сицилии, разнеслась по всему миру, и что сенат будет встречать его у ворот Рима, когда, пересекая Кампанию, он встретил одного из своих друзей. Тот, узнав его, подошел к нему с улыбкой и протянул руку.
После первых же приветствий Цицерон спросил:
– Ну, так что же говорят в Риме по поводу моего красноречия, и что там думают о моей деятельности в течение этих двух лет моего отсутствия?
– А где ты был? – спросил его друг; – я и не знал, что тебя не было в Риме.
Этот ответ излечил бы Цицерона от его тщеславия, если бы тщеславие было излечимой болезнью. Впрочем, вскоре ему представился случай, который подстегнул его тщеславие.
Сначала он выступил в суде против Верреса и добился для него приговора к штрафу в семьсот пятьдесят тысяч драхм и изгнанию. Штраф был пустяком, но изгнание было делом серьезным; – это и назидание другим, и бесчестье, и стыд. Это верно, что у мерзавцев стыда нет.
Этот успех принес Цицерону известность. «У него была, говорит Плутарх, такая же многочисленная свита из-за его таланта, как у Красса из-за его миллионов и у Помпея из-за его власти».
Именно в это время Рим начал заниматься заговором Катилины. Выяснив, что такое были Помпей, Красс и Цицерон, посмотрим, что такое был Катилина. – Мы уже знаем, что такое был Цезарь.
Глава 9
Луций Сергий Катилина принадлежал к старейшей аристократии Рима.
И по этой причине он не намеревался уступать его никому, даже Цезарю, и он имел право на такие притязания, если и впрямь, как он говорил, его род происходил от Сергеста, товарища Энея.
Что было достоверно известно, так это то, что среди его предков был некий Сергий Сил, который, получив в Пунических войнах двадцать три раны, в конце концов, приспособил к своей культе руку из железа, и с ней продолжал сражаться.
Это напоминает о Геце фон Берлихингене; другом знатном господине, который, подобно Катилине, встал во главе мятежа нищих оборванцев.[14]
«Что же до него (Катилины), пишет Саллюстий – законник-демократ, оставивший после себя такие прекрасные сады, что они и сегодня еще носят его имя, – что до него, то он был наделен тем редким телосложением, которое позволяет легко переносить голод, холод, жажду, бессонные ночи; дух он имел дерзкий и неукротимый, ум – хитрый и изворотливый; лживый притворщик, он был скрытен и непостоянен, жаден до чужого, расточителен в своем; красноречием он обладал в большой степени, благоразумием и рассудительностью – ни в малейшей; и в своем воображении он бесконечно строил несбыточные, невозможные, невероятные планы!»
Мораль: Саллюстий, как видно, не слишком жалует этого человека.
Что касается его внешности, то лицо он имел бледное и беспокойное; белки глаз налиты кровью, походка то медленная, то скорая; наконец, в линиях его лба виделось что-то от той фатальности, которую в античные времена Эсхил приписывал своему Оресту, а в современности – Байрон своему Манфреду.
Точная дата его рождения неизвестна, но он должен был быть на пять или шесть лет старше Цезаря.
Во времена правления Суллы он просто купался в крови; про него рассказывали неслыханные вещи, в которые мы, с нашими современными воззрениями, можем верить только с оглядкой; его обвиняли в том, что он был любовником своей дочери и убийцей своего брата; уверяли, что для того, чтобы скрыть это последнее убийство, он вписал имя своего мертвого брата, как если бы он был еще жив, в проскрипцию.
У него были причины ненавидеть Марка Гратидиана. Он заманил его – так говорит предание, а не мы, – он заманил его на могилу Лутация, там сначала выколол ему глаза, потом отрезал ему язык, кисти и ступни, и, наконец, отрубил ему голову и нес ее в окровавленной руке на глазах у всего народа от Яникульского холма до Карментальских ворот, где тогда находился Сулла.
Затем, как если бы он один должен был собрать на себя все возможные обвинения, говорили еще, что он убил своего сына, чтобы ничто не препятствовало его женитьбе на одной куртизанке, которая не хотела иметь пасынка; что он отыскал серебряного орла Мария и приносил ему человеческие жертвы; что, как глава того кровавого общества, которое пятнадцать лет назад было раскрыто в Ливурне, он приказывал совершать бесцельные убийства, чтобы не потерять привычки убивать; что его заговорщики пускали по кругу чашу с кровью зарезанного ими человека и пили из нее; что они намеревались умертвить сенаторов; наконец, – и это в гораздо большей мере касалось обычных людей, – что он намеревался подпалить город с четырех сторон.
Все это не очень-то правдоподобно! Как мне кажется, бедняга Катилина оказался выбран козлом отпущения своего времени.
Так, впрочем, думал и Наполеон. Откроем Дневник на о. Святой Елены на дате 22 марта 1816 года:
«Сегодня император читал в римской истории о заговоре Катилины; в этом изложении он был ему непонятен. «Злодеяния, сотворенные Катилиной, говорил он, должны были иметь какую-то цель; этой целью не могло быть просто его воцарение в Риме, раз его упрекают в намерении поджечь его с четырех углов.» Император полагал, что это скорее какие-нибудь новые мятежники, подобно Марию и Сулле, когда их замысел провалился, обрушили на своего главаря все обвинения, которые всегда сыплются на заговорщиков в подобных случаях.»
Возможно, орлиный взор императора так же ясно видел сквозь тьму времен, как он видел сквозь дымы сражений.
Впрочем, момент благоприятствовал революции.
Рим разделился на богатых и бедных, на обладателей миллионов и на разорившихся в пух и прах, на кредиторов и должников; ростовщичество было в порядке вещей, легальная ставка составляла четыре процента в месяц. Покупалось все, от голоса Куриона до любви Сервилии. Старый римский плебс, раса солдат и земледельцев, самая сущность Рима, был разорен. В городе – три или четыре тысячи сенаторов, на каждом шагу – всадники, ростовщики, барышники, главари мятежей, возмутители спокойствия; за пределами Рима нет больше земледельцев – одни рабы; нет больше засеянных полей – одни пастбища; – обнаружилось, что кормить свиней выгоднее, чем людей: Порций Катон сделал себе на этом огромное состояние. – Повсюду фракийцы, африканцы, испанцы, в кандалах, с рубцами от бичей на спинах и с клеймом рабства на лбах. Рим растратил свое население на завоевание мира; он разменял золото нации на медную монету рабства.
Принято иметь виллу в Неаполе, ради морского бриза; в Тиволи, ради брызг водопадов; в Албано, ради тени деревьев. Фермы, или, вернее, одна общая ферма находится на Сицилии.
Катон имеет три тысячи рабов; что же говорить о других!
Размеры состояний абсурдны.
Красс имеет, помимо земель, двести миллионов сестерциев, это более сорока миллионов франков. Веррес за три года пребывания в должности претора нагреб на Сицилии двенадцать миллионов; Цецилий Исидор разорился в гражданских войнах – у него осталось лишь несколько жалких миллионов, которые тают один за другим, и при этом, умирая, он завещает своим наследникам четыре тысячи сто шестнадцать рабов, три тысячи шестьсот пар быков, двадцать семь тысяч пятьсот голов скота и шестьдесят миллионов сестерциев серебром (около пятнадцати миллионов франков). Один центурион имеет десять миллионов сестерциев. Помпей заставляет одного только Ариобарзана платить ему тридцать три таланта в месяц, что-то около ста восьмидесяти тысяч франков. Цари разоряются в пользу генералов, легатов и проконсулов Республики; Дейотар низведен до положения нищего; Саламин не может выплатить долг Бруту, своему кредитору; тогда Брут запирает сенат в здании и осаждает его: пять сенаторов умерли от голода, остальные заплатили.
Долги соответствуют состояниям; все очень просто: равновесие должно быть соблюдено.
Цезарь, отправляясь в качестве претора в Испанию, занимает у Красса пять миллионов, и должен ему еще пятьдесят; Милон, ко времени вынесения ему приговора, был должен четырнадцать миллионов; Антоний – восемь миллионов.
Следовательно, по нашему мнению, заговор Катилины неверно назван заговором; это не сговор, это факт. Это великая и вечная война богача против бедняка, борьба того, кто не имеет ничего, против того, кто имеет все; это глубинная суть всех политических событий, с которыми мы столкнулись в 1792 и 1848 годах.
Бабеф и Прудон – это Катилины в теории.[15]
А теперь взгляните, кто же поддерживает Катилину, кто составляет его свиту, кто служит ему охраной: все щеголи, все распутники, вся разорившаяся знать, все красавчики в пурпурных туниках, все, кто играет, пьет, танцует, содержит женщин; – мы уже говорили, что и Цезарь был в их числе; – и, помимо этого, горячие головы, гладиаторы, бывшие рубаки Мария или Суллы и, кто знает? быть может, народ.
Всадники, ростовщики, возмутители спокойствия, барышники так обеспокоены этим, что даже назначают консулом Цицерона – выскочку.
Цицерон взял на себя обязательство: он раздавит Катилину; потому что для того, чтобы обладатели вилл, дворцов, стад, пастбищ, денег могли спать спокойно, Катилина должен быть раздавлен.
Он пошел в наступление, представив сенату, – а Катилина сенатор, помните об этом, – представив сенату закон, который к наказанию, предусмотренному за участие в заговоре, добавлял десятилетнюю ссылку.
Катилина почувствовал удар. Он попытался оспорить закон; он позволил себе какое-то высказывание в пользу должников; Цицерон только этого и ждал.
– На что ты надеешься? – сказал он ему; – на новые таблицы? на отмену долгов? что ж, я готов обнародовать новые таблицы! о выставлении на продажу.
Катилина вспылил.
– Да кто ты такой, сказал он, чтобы говорить так, ты, ничтожный мещанин из Арпина, спутавший Рим со своей харчевней?
При этих словах весь сенат зароптал и принял сторону Цицерона.
– А! – вскричал Катилина, – вы разжигаете против меня пожар! Пусть; я задушу его под руинами.
Эти слова погубили Катилину. Депутаты от аллоброгов, избранные Катилиной в качестве доверенных лиц, передали адвокату от аристократии план заговора. Кассий должен поджечь Рим; Цетег, перерезать сенат; Катилина и его легаты будут находиться у дверей и убьют всякого, кто попытается сбежать. Костры для поджогов уже готовятся. Водопровод, быть может, уже завтра будет заткнут!
Все это отнюдь не привлекло народ на сторону сената.
Катон произнес длинную речь: он понимал, что прошли те времена, когда следовало взывать к патриотизму. Патриотизм! они просто рассмеялись бы в лицо Катону, они назвали бы его античным словом, которое соответствует современному слову шовинист.
Нет, Катон был сыном своего времени.
– Именем бессмертных богов, – сказал он, – я заклинаю вас; вас, для кого ваши дома, статуи, земли, картины всегда были дороже Республики; все это добро, каким бы оно ни было, этот предмет вашей самой нежной привязанности, если вы хотите сохранить его, если вы хотите иметь необходимую свободу для ваших наслаждений, сбросьте ваше оцепенение и возьмите государство в свои руки!
Речь Катона тронула богатых; но этого было недостаточно. Богатые, как известно, всегда на стороне богатых; следовало увлечь за собой бедняков, живущих своим трудом, народ.
Катон заставил сенат раздать народу хлеба на семь миллионов, и народ встал на сторону сената. И, тем не менее, если бы Катилина остался в Риме, его присутствие могло бы перевесить эту замечательную раздачу.
Но народ редко принимает сторону того, кто покидает отечество; по этому поводу существует пословица.
Катилина покинул Рим.
Народ отверг Катилину.
Глава 10
Катилина отправился в Апеннины к своему легату Маллию; у него было там два легиона, от десяти до двенадцати тысяч человек. Он выждал один месяц.
Каждое утро он надеялся получить весть, что заговорщики осуществили свой план. Весть, которую он получил, гласила, что Цицерон велел удавить Лентула и Цетега, его друзей, а заодно и основных руководителей заговора.
– Удавить! – воскликнул он; – разве они не были римскими гражданами, и разве закон Семпрония не гарантировал им сохранение жизни?
Несомненно; но вот аргумент, которым воспользовался Цицерон: «Закон Семпрония защищает, это верно, жизнь граждан; но враг отечества не может считаться гражданином». Аргумент, конечно, несколько субтильный; но недаром же он был адвокатом.
Войска сената приближались. Катилина понял, что ему ничего не остается, кроме как умереть; он решил умереть мужественно.
Он спустился с гор и встретил консерваторов, как мы назвали бы их сегодня, в районе Пистории. Бой был свирепым, схватка – ожесточенной. Катилина сражался не для того, чтобы победить, а для того, чтобы достойно умереть. Он плохо жил, но умер хорошо. Его нашли впереди всех его солдат, среди трупов убитых им римлян. Каждый из его людей пал на том самом месте, где сражался. Разве воры, убийцы и поджигатели умирают так?
Я думаю, что Наполеон на Святой Елене был прав, и что за всем этим кроется нечто, чего мы не знаем, о чем нам было неясно рассказано и о чем, следовательно, нужно догадаться.
Вот манифест мятежников, который передает нам Саллюстий; возможно, он прольет какой-то свет на эту загадку. Он подписан предводителем мятежников и адресован главе сената; глава сената был Кавеньяком своего времени.[16]
«Император,
Мы призываем в свидетели богов и людей в том, что если мы взяли в руки оружие, то вовсе не для того, чтобы угрожать нашему отечеству или нашим согражданам; мы хотим лишь уберечь самих себя. Мы нищи и разорены, алчность и жестокость наших кредиторов почти лишили нас отечества, честного имени и богатства. Нам отказывают в соблюдении древних законов; нам не позволяют отказаться от нашего имущества ради сохранения нашей свободы: так безмерна черствость ростовщика и заимодавца! В прошлом сенат часто испытывал сострадание к несчастьям народа и своими указами облегчал участь бедняков; уже в наше время родовые поместья были освобождены от применения к ним крайних мер, а всем честным людям было позволено заплатить медью то, что они задолжали серебром[17]; часто случалось и так, что народ plebs), обуреваемый честолюбивыми желаниями, или возмущенный оскорблениями со стороны магистратов, отходил от воли сената; но мы не просим ни власти, ни богатства, – этих главных причин вражды между людьми. Нет, мы просим только свободы, которую гражданин согласен потерять только вместе с жизнью. Мы молим тебя и сенат снизойти к бедам наших сограждан. Верните нам право воспользоваться законом, право, в котором нам отказывает заимодавец; не вынуждайте нас предпочесть смерть жизни, которую мы влачим, потому что наша смерть не останется неотомщенной».
Взвесьте этот манифест, философы всех времен; он имеет свой вес на весах истории; не напоминает ли он вам девиз несчастных ткачей из Лиона: Жить работая и умереть сражаясь?[18]
Мы уже говорили вам совсем недавно, что заговор Катилины на самом деле вовсе не был заговором; и вот почему его опасность, что бы ни говорил Дион, была реальной, серьезной, огромной; настолько реальной, серьезной и огромной, что она толкнула несмелого Цицерона на отважный поступок и на беззаконие.
Должно быть, в тот день Цицерону было очень страшно быть таким храбрым!
Разве Цицерон не бежал, когда можно было бежать? Разве он не бежал во время мятежа, поднятого против него Клодием, семь или восемь лет спустя? А ведь Клодий не был человеком масштаба Катилины.
Вернувшись из Фессалоники, Цицерон рассказывал, что на Форуме произошло столкновение. Противники осыпали друг друга оскорблениями, плевали друг другу в лицо. «Клодианцы стали плевать в нас (clodiani nostros constupare cœperunt); мы потеряли терпение», добавляет Цицерон. И было от чего! «Наши набросились на них и обратили их в бегство. Клодия стащили с трибуны; я улизнул, боясь пострадать в свалке (AC NOS QUOQUE TUM FUGIMUS, NE QUID IN TURBA)». Это не мои слова, а его собственные; он сам рассказывает об этом в письме к своему брату Квинту от 15 февраля (Q. II, 3).
Впрочем, если вы сомневаетесь, почитайте речь Катона. Он далеко не трус, но ему страшно, очень страшно; и больше всего ему страшно оттого (и он сам говорит об этом), и другим, должно быть, тоже страшно оттого, что Цезарь – Цезарь спокоен!
Цезарь спокоен, потому что если Катилина одержит верх, он достаточно воздал должное демократии, чтобы получить свою часть пирога; Цезарь спокоен, потому что если Катилина потерпит поражение, против него нет достаточно веских улик, чтобы обвинить его. Да и кто посмеет выдвинуть против него обвинение? Катон очень хотел бы это сделать, но он отступает.
Как раз во время этого столь бурного заседания, когда Катон выступал за суровость по отношению к заговорщикам, а Цезарь – за снисходительность, Цезарю принесли записку. Катон подумал, что это политическое послание, вырвал записку из рук гонца и прочел ее. Это было любовное письмо от его сестры Сервилии к Цезарю. Катон швырнул его ему в лицо.
– Держи, пропойца! – сказал он.
Цезарь поднял его, прочитал и ничего не ответил. Положение в самом деле было опасным, и не стоило усугублять его частной ссорой.
Но если Цезаря и не обвиняли публично, никто не огорчился бы, если бы какой-нибудь несчастный случай не избавил от него всех честных людей.
Когда он вышел, на ступенях сената его осадила толпа всадников, сыновей денежных мешков, ростовщиков, откупщиков, которые непременно хотели убить его.
Один из них, Клодий Пульхер – тот самый, который был разбит гладиаторами, – приставил свой меч к его горлу, ожидая только, чтобы Цицерон подал ему знак убить его. Но Цицерон подал ему знак отпустить Цезаря, и Клодий вернул меч в ножны.
Как! тот самый Клодий, который впоследствии, преданный всей душой Цезарю, станет любовником Помпеи и захочет убить Цицерона, этот же самый Клодий оказывается другом Цицерона и хочет убить Цезаря?
– Черт возьми! да, вот так и бывает в жизни.
Это кажется вам непонятным. Но мы все объясним вам, дорогие читатели, будьте спокойны; возможно, это окажется не очень нравственно, но, по крайней мере, понятно.
Счастливый человек, гордый человек, человек ростом в сто локтей во всей этой истории с Катилиной – это Цицерон.
В Цицероне было много от господина Дюпена, хотя в Дюпене было не так уж много от Цицерона.
Вы видели господина Дюпена на следующий день после восшествия на престол короля Луи-Филиппа?[19] Если бы он писал стихи на латыни, он написал бы те же, что и Цицерон; если бы он писал стихи по-французски, он просто перевел бы их.
Вы ведь знаете стихи Цицерона, не правда ли?
- O fortunalam nalam, me consule, Romam!..
- О счастливый Рим, рожденный под моим консулатом!..
Так вот, а уже через восемь дней Цицерон – тот самый, который требовал ужесточить наказание для заговорщиков десятилетней ссылкой, – защищал Мурену, обвиненного в участии в заговоре; затем он защищал Суллу, сообщника Катилины; защищал его, он, Цицерон, который заставил удавить других его сообщников!
На мгновение, как мы уже сказали, он стал царем Рима.
Помпей отсутствовал, Цезарь стушевался, Красс молчал.
– Это уже третий иноземный царь над нами, – говорили римляне.
Двумя другими были Таций и Нума. Таций и Нума были из Кура; Цицерон был из Арпина.
Выходит, все трое действительно были чужеземцами для Рима!
Глава 11
Когда заговор Суллы[20] был раскрыт, Цетег и Лентул удавлены, а труп Катилины найден на поле боя в Пистории, все решили, что Рим спасен. Точно так же было в 1793 году, когда после раскрытия каждого нового заговора Франция бывала спасена таким образом одиннадцать раз за месяц.
«Еще одна такая победа, – говорил Пирр после битвы при Гераклее, гда он потерял половину своих солдат, половину лошадей, половину слонов, – еще одна такая победа, и я погиб!»
Больше всех в то, что он спас Рим, верил сам Цицерон. Его победа ослепила его; он верил в этот союз сената и всадников, аристократов по рождению и аристократов по деньгам, в союз, о котором он мечтал; но даже и сам он не замедлил усомниться в продолжительности этого студенистого мира… – как еще можно передать его слова «concordia conglutinate»? – этого непрочного примирения, примерно так.[21]
Что же до Цезаря, то, как мы уже сказали, он был очень рад остаться незамеченным в этих обстоятельствах.
Когда он выходил из сената, в тот самый момент, когда Цицерон, пересекая Форум, кричал, имея в виду сообщников Катилины: «Их время кончилось!», несколько составлявших охрану Цицерона всадников ринулись на Цезаря, обнажив мечи; но Цицерон, как мы уже сказали, покрыл его своей тогой.
На вопросительные взгляды, которые бросали на него молодые люди, Цицерон ответил жестом снисхождения, – так поступал иногда народ с гладиаторами, которые доблестно сражались. И в самом деле, хотя Цезарь был всего лишь еще одним негодяем, погрязшим в долгах, Цезаря нельзя было убить, как убили какого-нибудь Лентула или Цетега; и доказательством этому служит то, что его могли бы убить, будь то на ступенях сената, будь то на Форуме или на Марсовом поле, но не убили; и еще одно доказательство, это что Катилину тоже могли убить, но никто не посмел этого сделать.
Вот только, – хотя этот факт доносит да нас Плутарх, – нас не раз посещала мысль усомниться в достоверности рассказа историка из Херонеи.[22] Светоний ограничивается словами, что всадники из охраны выхватили мечи и направили их острием к Цезарю. Цицерон, этот великий хвастун, не упомянул об этом эпизоде в истории своего консулата, которая не дошла до нас, но которую знал Плутарх, и он удивляется этому.
Как могло случиться, что Цицерон, который подчас похвалялся вещами, которых вовсе не делал, не похвастался столь значительным и столь похвальным для него поступком? Впрочем, впоследствии знать упрекнет Цицерона в том, что он не ухватился за этот случай избавиться от Цезаря, и что он чересчур предвосхитил любовь народа к нему.
Эта любовь действительно была большой, очень большой; об этом свидетельствует то, что произошло через несколько дней.
Цезарь, утомленный приглушенными обвинениями, которые преследовали его, явился в сенат, чтобы оправдаться; и, войдя, объявил, для чего он пришел сюда. Между сенаторами тут же вспыхнула яростная ссора по поводу виновности или невиновности Цезаря, и поскольку заседание затягивалось, народ, опасаясь, как бы с Цезарем не случилось какого-нибудь несчастья, с громкими криками окружил зал заседаний и потребовал вернуть Цезаря ему.
По этой же самой причине Катон, опасаясь волнений со стороны бедняков, – скажем больше, со стороны тех, кто был голоден, и кто, по словам Плутарха, возложил все надежды на Цезаря, – здесь все ясно, – добился от сената той знаменитой ежемесячной раздачи хлеба, которая каждый раз должна была обходиться примерно в десять или двенадцать миллионов.
Цезарь понял, что ему нужна новая опора; он приготовился стать претором.
Мы уже рассказывали, как делалась карьера в Риме. Каждый юноша из хорошей семьи обучался праву у юрисконсульта и ораторскому искусству у ритора. Жизнь в Риме была публичной; она принадлежала отечеству; правительство защищали или нападали на него при помощи меча и слова. Там подписывались, как в Америке: Адвокат и генерал.
Чтобы приобрести известность, доносили на проконсула; в этом было определенное величие: принять сторону народа против человека.
Так поступил и Цезарь.
Сначала он затеял тяжбу с Долабеллой, потом с Публием Антонием. В первом случае он потерпел поражение и был вынужден покинуть Рим. Но уже в Греции, перед лицом Марка Лукулла, претора Мекедонии, он выступил в суде против второго, и имел такой успех, что Публий Антоний, страшась приговора, воззвал к народным трибунам под тем предлогом, что он не может добиться справедливости от греков в самой Греции.
«В Риме, говорит Плутарх, его красноречие, блиставшее среди адвокатов, снискало ему огромную любовь».
Затем, добившись известности, начинали добиваться эдилата. Быть эдилом тогда значило примерно то же, что быть сейчас мэром.
Взгляните на английские выборы с их hustings, с их meetings, с их boxings, с их обвинениями в bribery; это в миниатюре повторяет то, что представляли собой выборы в Риме. Впрочем, в Риме было то, чего еще не решились создать ни во Франции, ни в Англии: НАСТАВЛЕНИЕ О СОИСКАНИИ. Оно относится к 688 году от основания Рима и подписано: Q. Cicero. – Не путайте его с Марком Туллием; Квинт всего лишь брат этого великого человека.
Итак, когда приходило время, кандидат облачался в белые одежды, которые символизировали чистоту его души, – candidatus, это значит белее белого; – затем он наносил визиты сначала сенаторам и магистратам, затем богатым людям, затем знатным и, наконец, отправлялся к народу.
Народ собирался на Марсовом поле; три или четыре тысячи избирателей находились там, поджидая кандидатов. Кандидаты появлялись в сопровождении свиты своих друзей. Пока кандидат пытался привлечь к себе внимание со своей стороны, его друзья делали это со своей.
Кандидат имел при себе номенклатора, который потихоньку подсказывал ему имена и род занятий тех, к кому он обращался с речью.
Вы помните все те нежности, которыми осыпал Диманш Дон Жуан, когда хотел выпросить денег? Вообразите себе эту сцену, повторяемую сто раз на дню: формы различны, основа та же.
Кандидат начинал обрабатывать народ еще за два года до этого; он устраивал игры; он арендовал сам или с помощью своих друзей места в амфитеатрах и цирках и бесплатно раздавал их народу; он посылал туда целые трибы, и в первую очередь собственную трибу; наконец, он давал публичные пиры, причем не только перед своей дверью, не только в своей трибе, не только в некоторых кварталах, но часто и во всех остальных трибах.
Цицерон рассказывает как о небывалом случае, что Луций Филипп добился своих почестей, не применяя этих средств.
Но, с другой стороны, Туберону, внуку Павла Эмилия, было отказано в должности претора, которой он домогался, потому что, устраивая народу публичную трапезу, он застелил ложа обычным способом, и покрыл их козьими шкурами, а не дорогими тканями.
Теперь вы видите, каким сибаритом был римский народ, который желал, не только вкусно есть, но и возлежать на пиршестве, на богатом ложе.
Многие кандидаты предпринимали путешествия в провинции, чтобы набрать голоса в муниципиях, обладавшим избирательным правом.
Патеркул упоминает об одном гражданине, который, домогаясь должности эдила, каждый раз, когда в Риме или его окрестностях случался пожар, посылал своих рабов тушить его. Этот способ был так нов, что его изобретатель был назначен не только эдилом, но и претором; к сожалению, Патеркул забыл назвать имя этого филантропа.
Как правило, выборы стоили дороже: должность эдила нельзя было получить больше чем за миллион, должность квестора – меньше чем за полтора или два миллиона; но чтобы получить должность претора, на карту ставилось все.
По сути дела, претор был вице-королем какой-либо провинции. Заметьте, что тогдашняя провинция представляла собой сегодняшнее царство. И этим царством правили по четыре или пять лет, его занимали своей армией, его деньгами распоряжались как своими, его жителей имели право казнить и миловать по своему усмотрению; там назначали свидание своим кредиторам; там избавлялись от самых запущенных долгов, там обзаводились библиотеками, коллекциями картин, галереями статуй; туда созывали, наконец, своих оценщиков и казначеев, и почти всегда улаживали дела к удовлетворению обеих сторон.
Иногда же, если провинция была разорена, если новый претор отправлялся на смену какому-нибудь Долабелле или Верресу, или если возникали сомнения в нравственных качествах должника, кредиторы противились его отъезду.
Цезарь, назначенный претором в Испанию, обнаружил на выходе такую толпу кредиторов, собравшихся под дверью, что был вынужден послать к Крассу. Красс, который видел труп Катилины и который понимал, что Цицерон не продержится долго, который не мог простить Помпею случая с гладиаторами, понял, что будущее поделено между Цезарем и Помпеем. Он решил, что вложение в Цезаря принесет ему большую прибыль. Он ответил Цезарю пятью миллионами, и Цезарь смог отбыть в Испанию.
Скажем, помимо прочего, – а сам факт, что такой скупец ссудил кому-то деньги, уже вызывает удивление, – скажем, что Цезарь был любовником его жены, Тертулии. С современной точки зрения это, возможно, несколько принижает Цезаря, но Цезарь не был в этом смысле слишком требователен.
Именно по пути в Испанию, проезжая через небольшую деревушку в Цизальпинской Галлии, Цезарь произнес эти знаменитые слова: «Я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме».
В самом деле, в Риме, кроме реальной власти, завоеванной мечом или красноречием, кроме Помпея и Цезаря, было еще и те, кого называли «семью тиранами»: это были откупщики, ростовщики, заимодавцы; это были оба Лукулла, Метелл, Гортензий, Филипп, Катулл и, наконец, Красс.
Последний спешил стать чем-то большим, чем одним из семи; он спешил стать одним из трех. В своем воображении он видел уже триумвират будущего: Помпей, победа; Цезарь, удача; он сам, деньги. Как будет видно дальше, Красс не так уж плохо прозревал будущее.
По прошествии одного года Цезарь вернулся из Испании. Что он там делал? Об этом ничего не известно. Никто не посмел выдвинуть против него обвинения; но по возвращении он роздал все свои долги, и на этот раз никому не пришлось ссужать ему деньги.
Вот разве только Светоний говорит:
«Его собственные памятники, оставленные им, доказывают, что в Испании он получил деньги, которые настойчиво выпрашивал у проконсула и его приближенных в качестве помощи, чтобы рассчитаться с долгами».
Но это не значит одалживать; это значит брать, потому что эти деньги никто никогда не отдавал. Светоний еще добавляет:
«Он разграбил несколько деревень в Лузитании, хотя они не оказали ему никакого сопротивления, и встретили его с открытыми воротами».
Вернувшись в Рим, Цезарь встретился с Помпеем. Итак, два великих соперника оказались лицом к лицу. Посмотрим же, что сталось с Помпеем с тех пор, как мы оставили его после триумфа над гладиаторами.
Глава 12
Победителю Митридата исполнилось тридцать девять лет, хотя его друзья, то есть льстецы, дают ему только тридцать четыре – возраст Александра; – и он достиг вершины своего успеха. В дальнейшем он будет только спускаться вниз, тогда, как Цезарь будет только подниматься вверх.
Если Помпею тридцать девять лет, – а Плутарх называет его возраст вполне определенно, – значит, Цезарю тридцать три.
«Похоже, что римский народ, – говорит Плутарх, – с самого начала относился к Помпею так, как Прометей Эсхила относился к Гераклу, который пришел освободить его: «Насколько я люблю сына, настолько я ненавижу отца».
Почему же римский народ так ненавидел Страбона, отца Помпея? Плутарх сообщает нам об этом одной строчкой: «Потому что он не мог простить ему его скупости».
Это означает, что отец Помпея не устраивал для римлян игр, не давал им публичных пиров, не раздавал им билеты на зрелища – непростительное преступление в глазах всех этих властителей мира, которые проводили время, возлежа в тени портиков, болтая о политике в банях или попивая подогретое вино в харчевнях.
Эта ненависть действительно была велика, потому что когда Страбон был убит молнией, народ стащил его тело с погребального костра, на который оно уже было возложено, и бросили на всеобщее поругание. Но, повторяем, сына просто обожали.
Вот что говорит об этом Плутарх на своем дивном греческом языке:
«Никто не пользовался большей благосклонностью, никто не обретал ее так рано, и ни у кого она не расцветала так сильно в счастии и не оказывалась более верной в беде».
Возможно также, что римлян, народ в высшей степени чувственный, покорила в Помпее его красота.
Помпей имел мягкие черты, которые прекрасно гармонировали с его мелодичной речью; серьезный взгляд его был смягчен выражением большой доброты; он отличался благородными манерами, удивительной воздержанностью в частной жизни, большой ловкостью в телесных упражнениях, почти неотразимое красноречие; он с необыкновенной легкостью выполнял все просьбы, и проявлял при этом почти божественную обходительность, которая умела щадить самолюбие просителя. Его слегка откинутые назад волосы и полный обаяния взгляд придавали ему сходство с Александром, или, вернее, со статуями знаменитого завоевателя Индии, и это сходство очень льстило юноше, и было так заметно и так всеми признано, что однажды консул Филипп, выступая в его защиту, сказал с улыбкой:
– Пусть вас не удивляет такая моя пристрастность к моему клиенту: просто-напросто, будучи Филиппом, я люблю Александра.
Мы упомянули о его воздержанности; приведем один пример. Он поправлялся после довольно тяжелой болезни, и ему предписали диету; когда он снова начал есть, врач велел приготовить ему жаркое из дрозда.
К несчастью, дрозды – перелетные птицы, и к тому времени сезон их пролета уже прошел; так что, хотя слуги Помпея обежали все рынки Рима, им не удалось найти ни одного.
– Я вижу, ты в затруднении, – сказал ему один из друзей; – но ты можешь послать за ними к Лукуллу, он кормит их круглый год.
– Нет, ни за что, – ответил Помпей; – я не хочу никакой услуги от этого человека.
– Но постой, – настаивал друг, – разве врач предписал тебе съесть непременно дрозда, а ни что иное?
– Послушай, – ответил Помпей, – неужели ты хочешь уверить меня, будто в приговоре Судьбы записано, что Помпей умрет, если Лукулл не будет таким гурманом, чтобы сохранить у себя в клетке несколько дроздов!
И он послал врача подальше! – Я думаю, примерно это означают три греческих слова: καì έασας χαιρεΐν
Мы упомянули, что он обладал большим красноречием. Докажем это.
После смерти Страбона ему пришлось опровергать обвинение в растрате, которое было выдвинуто против его отца, и в которое пытались втянуть и его; он защищался так ловко и так стойко, что претор Антистий, председательствовавший в суде, решил после этого отдать ему в жены свою дочь, и велел привести ее к нему в сопровождении их общих друзей. Помпей согласился.
Народ так быстро узнал об этой будущей помолвке, и она так пришлась ему по вкусу, что в тот момент, когда Помпей был оправдан, ожидавшая его толпа хором вскричала, словно повинуясь чьему-то приказу:
– К Таласию! к Таласию!
Что означали эти два слова, которые римляне обычно выкрикивали, когда желали счастливой свадьбы? Сейчас мы расскажем.
Они связаны с одним старым римским преданием, которое восходит к истории похищения сабинянок.
Когда произошло это великое событие, толкнувшее зарождающуюся империю Ромула на самый край гибели, некие простые пастухи и поденщики захватили юную сабинянку столь совершенной красоты, что они испугались, как бы им не пришлось на каждом шагу сражаться, чтобы сохранить ее; тогда им пришла в голову мысль отдать ее под защиту одного из самых уважаемых имен в молодом Риме; и они стали кричать на бегу: «К Таласию! к Таласию!»
Как будто бы, они похитили эту прекрасную сабинянку для Таласия. Под защитой этого имени они могли донести ее в целости и сохранности куда угодно; и юная сабинянка действительно стала женой Таласия, и поскольку их брак был очень счастливым, в Риме сохранился обычай кричать во время сколько-нибудь значительных свадеб эти слова, как пожелание счастья: «К Таласию! к Таласию!»
Помпей и в самом деле женился на Антистии. Но он не был так же счастлив в браке, как Таласий; потому что Сулла, как мы уже говорили, принудил его развестись с Антистией и жениться на Эмилии, дочери Метеллы и Скавра и невестке Суллы.
Этот приказ был еще тем более деспотичным из-за того, что Эмилия была замужем и беременна; для Помпея же было тем более позорно подчиниться этому приказу, что его тесть Антистий был только что убит в сенате под тем предлогом, что раз Помпей на стороне Суллы, то и он должен принадлежать к ней же, как тесть Помпея.
Вдобавок мать Антистии, увидев, что ее дочь отвергнута, не смогла вынести оскорбления, нанесенного ее семье Помпеем; она покончила с собой. Наконец, за этой смертью последовала смерть Эмилии, которая умерла при родах.
Но эта ужасная семейная трагедия, которая наделала бы столько шума в другое время, потонула в трагедии всего населения Рима. Она как раз разворачивалась тогда, и главные роли в ней играли Марий и Сулла.
Мы уже рассказывали, что Цезарь, оказавшись в подобном положении, предпочел принять на себя гнев Суллы, нежели подчиниться его приказу. Дух этих двоих людей во всей полноте проявился в этом различии: в аналогичных обстоятельствах один уступает, другой сопротивляется.
Теперь мы опять вернемся к Помпею; пусть нам простят, что мы так подробно рассказываем о нем; человек, который спорил с Цезарем за власть над миром, достоин того, чтобы мы занялись им подольше.
И потом, мы признаемся, что были бы очень горды, сделать для Античности то, что мы сделали для современных эпох; для истории греков и римлян – то, что мы сделали для истории Англии, Италии и Франции, то есть сделать ее доступной всем. А что для этого нужно? Сделать ее занимательной.
Когда нам показывают, какими были греки и римляне, нам показывают слишком много статуй и слишком мало людей. Мы сами люди; и мы, прежде всего, интересуемся существами, которые явственно принадлежат к человеческому роду. Ведь, распахнув тунику Алкивиада и тогу Цезаря, что увидим мы? Людей. И нужно распахнуть тунику и тогу; нужно, наконец, сделать то, к чему мы стремимся: показать этих героев и этих полубогов из школьного курса в домашнем платье.
Помните ли вы времена, когда нам говорили, что история так трудна для постижения потому, что она скучна? Конечно, она скучна у отца Даниеля, у Мезерэ, у Анкетила; но она занимательна в хрониках, в воспоминаниях, в легендах. Почему господин де Барант со своими «Герцогами Бургундскими» пользуется таким успехом? Потому что он одним из первых заменил стиль хроники стилем повести, или того, что тогда называли повестью.
Разве мы не больше рассказали читателю об эпохе Людовика XIII и Людовика XIV в «Трех мушкетерах», «Двадцать лет спустя» и «Виконте де Бражелоне», чем Левассер в своих двадцати или двадцати пяти томах?
Кто знает Левассера? Гийемо и Тешнер, потому что они продают его двадцать пять томов по двадцать пять франков, не публике, а тем, кто, подобно мне, вынужден их покупать.
Глава 13
Вернемся же к Помпею, который к двадцати четырем годам уже дважды овдовел, и которого Сулла только что приветствовал титулом imperator, признавая оказанные им услуги.
Встал, это вполне понятно; но обнажил голову! Признайтесь, читатели, что вам, всегда видевшим римлян с непокрытыми головами, это кажется труднообъяснимым.
Римляне, за неимением шляп, – которые они, впрочем, иногда использовали, о чем свидетельствует знаменитая шляпа, которую Красс давал поносить греку Александру, – так вот, римляне, за неимением шляп, покрывали голову полой своей тоги, и эта одежда, обычно белая, замечательно защищала их от лучей италийского солнца. И так же, как мы снимаем шляпу в знак почтения к людям, которых встречаем, так же и римляне снимали с головы край тоги и обнажали голову.
Несмотря на величайшую кротость Помпея, его обвиняли в двух или трех убийствах, на какие Цезарь, его соперник во всем, и особенно в добросердечии, был бы неспособен.
Карбон, как известно, был одним из соперников Суллы. Помпей разбил его и захватил в плен. Если бы он убил его в тот же момент, когда тот был схвачен, никто не сказал бы ни слова и, возможно, все даже нашли бы это вполне естественным; но он заставил привести его – человека, трижды удостоенного звания консула! – закованным в цепи; он судил его с высоты своего трона, под ропот и одобрительные возгласы толпы, и велел казнить, не дав ему иной отсрочки, как только чтобы справить естественные надобности.
Он сделал то же самое с Квинтом Валерием, выдающимся ученым, которого он схватил, заставил побеседовать с ним, а потом хладнокровно отправил на казнь, вытянув из него все, что он хотел знать. Что же до титула Великий, то его тоже дал ему Сулла, когда приветствовал его по возвращении из Африки, точно так же, как за четыре или пять лет до того он пожаловал ему титул imperator.
Помпей, надо отдать ему должное, поначалу побоялся присовокупить этот эпитет к своему имени. Поспешим оговориться, что причиной этого была отнюдь не его скромность, а боязнь задеть обидчивый народ Рима.
Затем, позднее, после смерти Сертория и испанской кампании, он решил, что этим титулом другие называют его уже достаточно давно, чтобы и он сам обрел право называться им. И он взял его, и в своих письмах и указах стал именовать себя ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ.
Это правда, что над тем, кого Сулла назвал Magnus, то есть Великий, было еще два человека, каждому из которых народ дал прозвание Величайший, Maximus; одним из них был Валерий, примиривший народ с сенатом; другим – Фабий Рулл, изгнавший из этого сената нескольких сыновей вольноотпущенников, которые добились избрания в сенаторы за счет своего богатства.
Впрочем, Сулла вскоре испугался этого величия, которое он сам сотворил, и этого успеха, который он сам взлелеял.
Возвратившись в Рим после той большой войны в Африке, Помпей попросил о триумфе; но Сулла воспротивился этому. Право на триумф предоставлялось только консулам или преторам.
Даже первый Сципион не посмел просить о нем после своих испанских побед над карфагенянами, поскольку он не был ни претором, ни консулом. Сулла уверял его, что он опасается, как бы весь Рим не осудил его, если он пожалует триумф молодому безбородому юноше, и как бы ему не сказали, что он не уважает никаких законов, если ему хочется потакать капризам своих любимцев. Но Помпей разглядел истинную причину отказа под покрывающей его золоченой оболочкой.
Мысль о том, что Сулла противится его триумфу только потому, что начинает его побаиваться, удвоила его упрямое желание его получить. И когда Сулла заявил ему, что если он будет упорствовать в своем желании получить триумф, то он, Сулла, выступит против этого триумфа, он сказал Сулле прямо в лицо:
– Берегись, Сулла, ведь больше людей любит восходящее солнце, чем солнце заходящее.
Сулла, как и Цезарь, был туговат на ухо: он не разобрал ответа Помпея.
– Что он говорит? – спросил диктатор у своих соседей.
Те, кто сидел рядом с ним, передали ему его слова.
– О! что ж, если он так хочет этого, – ответил Сулла, – пусть получит свой триумф!
Но Сулла был отнюдь не единственным, кто возражал против этого потворства гордыне победителя Карбона, Домиция и Сертория. И в сенате, и среди всадников прошел ропот. Помпей услышал его.
– А! раз так, – сказал он, – я прошествую с триумфом не так, как мои предшественники, – на колеснице с впряженными в нее лошадьми, а на колеснице, которую повлекут слоны!
В самом деле, во время своей кампании в Африке Помпей сказал:
– Раз мы пришли сюда, мы должны победить не только людей, но и здешних свирепых животных.
После чего он начал охоту на них и добыл изрядное количество львов и слонов; кроме того, он получил более сорока слонов от покоренных им царей; так что для него не было ничего проще, чем впрячь четверых из этих зверей в свою триумфальную колесницу.
Их впрягли; но когда они уже были готовы войти в Рим, оказалось, что ворота чересчур узки. Помпею пришлось отказаться от слонов и вернуться к лошадям.
Разумеется, несмотря на свой возраст, – ему скоро исполнялось сорок лет, – Помпей, если бы он стал добиваться принятия его в сенат, был бы избран.
Римляне, если закон противостоял какому-либо из их желаний, и если они были достаточно влиятельны, чтобы осуществить это желание несмотря на закон, обладали одним из самых гениальных способов действовать несмотря на этот закон: они отменяли его на год. Это называлось сном закона. Пока закон спал, честолюбие бодрствовало и делало все, что ему было угодно.
Помпей же нашел большее удовлетворение своей гордыне в том, чтобы получить триумф, оставаясь простым генералом, чем сделаться сенатором. Он отпраздновал свой триумф, оставаясь в рядах всадников.
Но Сулла не забыл, что Помпей получил свой триумф вопреки его воле. Когда затем Помпей сделал для другого то, что он не пожелал сделать для себя, то есть добился для Лепида консулата, Сулла встретил его однажды на площади и остановил его.
– Юноша, – сказал он, – я вижу, ты горд своей победой; не правда ли, очень почетно и лестно добиться своими интригами среди народа того, что Катул, один из самых доблестных граждан Рима, был назначен консулом лишь после Лепида, злейшего из людей?… Впрочем, – добавил он с жестом угрозы, – я предупреждаю тебя, чтобы то не почивал, но бдительно следил за своими делами, потому что ты сотворил себе соперника, который сильнее тебя!
С этого дня Сулла действительно совершенно сбросил Помпея со счетов, настолько, что когда Сулла умер, и его завещание было вскрыто, там не только не нашлось ничего для Помпея, но не было даже ни одного упоминания о том, кому завещатель некогда пожаловал титул imperator и прозвание Magnus.
Но Помпей, будучи настоящим государственным мужем, не выказал ни малейшего огорчения по поводу такой забывчивости, и когда Лепид и некоторые другие захотели помешать не только захоронению Суллы на Марсовом поле, но и тому, чтобы его похороны были публичными, Помпей сам взялся за управление похоронной церемонией и воздал Сулле последние почести.
Более того: предсказание Суллы сбылось вскоре после его смерти, и когда Лепид воспользовался положением, которое создал ему Помпей, для разжигания в Риме волнений, Помпей встал рядом с Катулом, который представлял честную часть сената и народа, но которому было ближе скорее гражданское руководство, чем командование армией; Помпей пришел к нему на помощь со своим мечом.
Эта помощь была очень значительной. Лепид при помощи Брута – отца того Брута, который потом вместе с Кассием должен будет убить Цезаря, – захватил основную часть Италии и кусок Цизальпинской Галлии.
Помпей выступил против него, отобрал у него большую часть городов, взял Брута в плен и так же, как когда-то Карбона и Квинта Валерия, убил его руками Геминия, не потрудившись даже произвести над ним суд.
За этой победой последовали победы над Серторием, Спартаком и пиратами. В этой последней войне Помпей был облечен такой властью, какой никто до него не обладал, и сделался настоящим царем над морем.
Здесь мы покинули его и, выходит, сюда же нам следует вернуться, чтобы следовать за ним до момента возвращения Цезаря из Испании.
Глава 14
Среди всех этих событий пресловутая борода Помпея наконец проросла, и на этот раз он без всякого сопротивления получил свой триумф и консулат.
Его власть в Риме в это время была так велика, что Красс, который дулся на него после истории с гладиаторами, был вынужден просить у Помпея что-то вроде разрешения, чтобы домогаться консулата.
Помпей понял, как возвеличивает его это самоуничижение человека, презиравшего по причине своего богатства и ораторского таланта всех остальных людей. Он забыл свою вину перед Крассом, – что было, конечно, гораздо легче, чем забыть вину Красса, если бы Красс был перед ним виноват, – итак, он забыл свою вину перед Крассом и добился назначения его консулом одновременно с собой.
Поскольку Цезарь отсутствовал, Красс и Помпей поделили власть между собой; Красс имел большее влияние на сенат, а Помпей пользовался большим доверием у народа. К тому же Помпей отчасти был то, что в наши дни назвали бы шарлатаном; он знал своих римлян и знал, чем их можно взять.
Так, по обычаю всадники, завершив предписанную законом военную службу, являлись вместе со своим боевым конем на площадь народных собраний, и там, в присутствии двух цензоров, отчитывались в своих военных кампаниях, называли имена генералов и капитанов, под чьим началом они служили, и перед лицом народа выслушивали похвалу или порицание, которых заслуживали.
И вот, когда цензоры Геллий и Лентул заняли свои кресла, народ увидел, как вдалеке показался Помпей. В одеждах консула, он пешком спускался к Форуму вслед за шествующими впереди него ликторами, ведя за собой в поводу своего коня, как какой-нибудь простой всадник; затем он приказал ликторам расступиться и предстал вместе с конем перед трибуналом.
При виде этого зрелища народ проникся к Помпею таким глубоким уважением, что ни один возглас не нарушил торжественной тишины, хотя было прекрасно видно, что этот поступок восхитил всех.
Цензоры, напротив, испытывая величайшую гордость от такого знака почтения к ним, ответили Помпею приветственным жестом, и старший из них поднялся со своего кресла:
– Помпей Великий, – обратился он к нему, – я спрашиваю вас, принимали ли вы участие во всех походах, предписанных законом?
– Да, – громко ответил Помпей, – я участвовал в них, и никогда надо мной не было другого капитана и другого генерала, кроме меня самого.
При этих словах народ разразился громкими криками, и цензоры оставили свои кресла и проводили Помпея до дома вместе с остальной толпой, чтобы воздать ему те же почести, которые воздал им он.
Но величайшим триумфом Помпея стал тот, которого он удостоился в день наделения его особыми полномочиями для ведения войны с пиратами; мы уже говорили о них.
Закон, облекавший его этой властью, был принят отнюдь не без сопротивления; с обретением указанных в нем полномочий он получал под свое командование двести кораблей и пятнадцать легатов из числа сенаторов, отданных ему в беспрекословное подчинение; он получал также власть над всеми квесторами и сборщиками общественных средств, и становился фактически абсолютным монархом над всем побережьем на расстоянии четырехсот стадиев от моря, то есть надо всей римской империей; после этого никакая человеческая сила не смогла бы помешать Помпею стать царем, если бы царский венец показался ему привлекательным.
Так что при чтении проекта закона, который был встречен ликующими возгласами народа и который охотно поддержал Цезарь, некоторое число сенаторов выступило против него.
Один из консулов даже воскликнул:
– Берегись, Помпей! Желая последовать по стопам Ромула, ты можешь, как и он, сгинуть в какой-нибудь буре.
Катул, за которого Помпей сражался когда-то, тоже не был благосклонен к этому закону, и, тем не менее, выступая против него, он отозвался о Помпее с величайшей похвалой.
– Но, сказал он, не подвергайте же непрестанно первейшего из граждан и величайшего из людей Рима опасностям войны; ведь если вы однажды потеряете его, кто сможет его заменить?
– Ты, ты сам! – раздались со всех сторон крики.
Тогда вперед выступил Росций и подал знак, что он хочет говорить; но поскольку среди гомона толпы держать речь было невозможно, он поднял два пальца, подавая тем самым знак, что Помпею нужно дать напарника.
Но в ответ на это злосчастное предложение нетерпеливый народ издал такой крик, что ворон, пролетавший в это время над Форумом, закружился и упал, оглушенный, прямо в толпу.
«Что доказывает, со всей серьезностью – пишет Плутарх, – что птицы падают на землю не из-за разрежения воздуха, вследствие чего образуется пустота, а из-за того, что их сбивают громкие звуки, которые, несясь со страшной силой, производят в воздухе сильное сотрясение и круговые вихри».
Мы уже говорили, что эта война закончилась к вящей славе Помпея; но о чем мы не сказали, так это о снисходительности, которую Помпей, столь жестоким образом казнивший Карбона, Квинта Валерия и Брута, выказал по отношению к морским разбойникам.
Он не только миролюбиво встретил их, сохранил им жизнь, оставил им часть их имущества. Более того; Метелл, – родственник того Метелла, с которым он служил в Испании, – еще до того, как Помпей был назначен главнокомандующим этой войной, был послан на Крит, чтобы преследовать пиратов на этом острове, который после Киликии был самым укрепленным их логовом; и поскольку Метелл беспощадно преследовал этих разбойников и, едва схватив, распинал их на крестах, эти последние, наслышавшись о том, как мягко обходился Помпей с их товарищами, попросили у него помощи против Метелла.
Просьба была весьма странной; но еще более странным было то, что она была удовлетворена.
Помпей написал Метеллу, что он запрещает ему продолжать войну. Он приказал городам не подчиняться больше Метеллу и заслал своего легата Луция Октавия в осажденный город, где тот вместе с пиратами сражался против солдат Метелла.
Все это вызвало бы полное недоумение, если бы не были известны привычки Помпея и его манера действовать; он ни за что не хотел уступать Метеллу часть своей победы над пиратами, как он не захотел уступить часть своей славы от победы над гладиаторами Крассу. Когда в Риме узнали, что ужасные пираты были полностью уничтожены или покорены меньше чем за три месяца, Помпей был встречен с таким восторгом, что народный трибун Манлий предложил закон, который наделял Помпея правом управления всеми провинциями и всеми войсками, находившимися под командованием Лукулла, присовокупив к ним Вифинию, занятую Глабрионом.
Этот закон позволял ему сохранить за собой все морские силы и всю власть, которую он имел при ведении последней войны, и, наконец, он предоставлял ему в полное подчинение всю остальную римскую империю, поскольку помимо Фригии, Ликаонии, Галатии, Каппадокии, Киликии, северной Колхиды и Армении он отдавал ему армию – армию, с которой Лукулл победил Митридата и Тиграна.
Поначалу все сенаторы и все значительные люди Рима объединились, чтобы отвергнуть этот закон; они обменялись самыми священными обетами, они поклялись друг другу никогда не предавать дело свободы, предав по собственной воле в руки одного-единственного человека власть, равную той, которой Сулла добился жестокостью и насилием. Но в назначенный день случилось то, что иногда случается при парламентском режиме: из всех ораторов, записавшихся в очередь на трибуну, решился выступить только один.
Это был Катул.
Но он говорил как порядочный человек, со своей обычной прямотой обращаясь к сенату с восклицанием:
– Сенаторы, осталась ли еще хоть одна гора или скала, где мы могли бы укрыться и умереть свободными?
Но Рим пришел в то состояние, когда он нуждался в хозяине, каким бы тот ни был. Ни один голос не ответил Катулу. Закон был принят.
– Увы мне! – сказал Помпей, получив письмо с этим указом, – моим трудам не будет конца! Неужели, я вечно буду переходить от одной войны к другой и никогда не смогу вести тихую безмятежную жизнь с моей женой и детьми где-нибудь в деревне!
И он возводил глаза к небу, хлопал себя ладонью по бедру и делал все остальные жесты, свойственные человеку, впавшему в отчаяние. Бедный Помпей! он вел бы себя иначе, если бы закон не прошел! только тогда он делал бы эти жесты в одиночестве, и его отчаяние было бы неподдельным.
С Цезарем все было иначе; получив право властвовать над Галлией, он вскричал с радостью, которую не боялся обнаружить:
– Я наконец достиг предела своих желаний, и с этого дня я буду шагать по головам моих сограждан!
Глава 15
Мы надеемся, что читатель, который вместе с нами продвигается в этом исследовании, получает все большее представление о характерах этих двух людей; так что когда эти соперники встретятся лицом к лицу, их поступки уже не будут нуждаться в комментариях.
Итак, если Помпей и колебался, принять ли ему на себя это командование, его колебания были недолгими. Он собрал свои корабли и своих солдат, призвал к себе царей и князей, правивших в его пространных владениях, вошел в Азию и начал, как всегда, с разрушения всего того, что сделал его предшественник; – не забывайте при этом, что его предшественником был Лукулл, то есть один из самых влиятельных людей Республики.
Лукулл вскоре услышал, что Помпей не оставил камня на камне от его деяний; он отменял наказания, отбирал награды, говоря и доказывая своими действиями, что Лукулл теперь ничто, а он один – все.
Но Лукулл был не тот человек, который согласился бы смиренно пить из горькой чаши унижения. Через общих друзей он направил Помпею свои жалобы, и получил уведомление, что оба генерала встретятся на совещании, которое будет иметь место в Галатии.
Встреча состоялась, соперники предстали друг перед другом; их ликторы несли фасции, и поскольку оба полководца были триумфаторами, их фасции были увиты ветвями лавра.
И тут произошло следующее: поскольку Лукулл прибыл из плодородного края, а Помпей, напротив, из края засушливого и безлесного, лавры ликторов Лукулла были свежи и зелены, а лавры ликторов Помпея засохли и пожелтели; увидев это, ликторы Лукулла отдали ликторам Помпея половину своих свежесорванных лавров. При виде этих любезностей некоторые улыбнулись.
– Вот! – сказали они, – вот опять Помпей венчает себя лаврами, которых он не срывал.
Встреча, которая проходила сначала в духе взаимной любезности и с полным соблюдением приличий, постепенно превратилась в спор, а спор – в ссору. Помпей упрекнул Лукулла в корыстолюбии; Лукулл упрекнул Помпея в честолюбии. Последний, позабыв все похвалы, которыми он только что осыпал своего соперника, тут же принялся хулить его победы.
– Хороши победы, – говорил Помпей, – которые добыты оружием двух царей, которые, увидев, что золото ни на что не годно, прибегли наконец к мечу и щиту: Лукулл победил золото, а мне он предоставил победу над железом.
– На этот раз опять, – говорил со своей стороны Лукулл, – ловкий и осторожный Помпей действует по своей старой привычке; он приходит, когда остается победить лишь призрак; в войне с Митридатом он поступает так же, как поступил в войнах с Лепидом, Серторием и Спартаком; он присвоил себе победу над ними, хотя эта победа была делом рук Метелла, Катула и Красса. Не похож ли Помпей по большому счету на трусливую птицу вроде стервятника, которая имеет обыкновение кормиться трупами тех, кого убила не она; не подобен ли он гиене и волку, которые терзают останки павших?
Лишенный какой-либо власти, сохранив лишь восемнадцать сотен человек, согласных ему подчиняться, Лукулл вернулся в Рим. А Помпей пустился в погоню за Митридатом.
Стоит почитать у Плутарха об этом долгом и жестоком походе, во время которого Митридат, запертый в стенах, выстроенных вокруг него Помпеем, убил всех оставшихся в лагере больных и бесполезных и исчез, так что никто не узнал, какие птицы одолжили его солдатам свои крылья, чтобы они смогли перелететь через стены.
Помпей последовал за ним. Он настиг его у Евфрата, в ту самую минуту, когда Митридату снился сон, будто он плывет по Понту Эвксинскому, и ветер благоприятствует ему, и уже виден вдали Босфор, как вдруг корабль разбился у него под ногами, оставив ему лишь обломок мачты, чтобы удержаться на волнах.
И тут в палатку вбежали его перепуганные генералы и закричали, прервав его сон:
– Римляне!
Ему пришлось решиться дать сражение. Его солдаты бросились к оружию и выстроились в боевом порядке; но весь мир был против злосчастного царя Понта.
Луна светила солдатам Помпея в спину, из-за чего их тени необычайно выросли. Люди Митридата приняли эти надвигающиеся на них тени за первые ряды римлян; они выпустили свои стрелы и дротики, которые поразили пустоту.
Помпей заметил ошибку варваров и приказал атаковать их с громким кличем; те не отважились даже дождаться их; он убил и утопил в реке десять тысяч человек, и захватил неприятельский лагерь. А где же был Митридат?
В самом начале боя Митридат, взяв с собой восемьсот рабов, пустил лошадей в галоп и пробился сквозь римскую армию; правда, когда он появился на той стороне, из восьмисот всадников осталось только три.
Двумя из этих выживших были сам Митридат и Гипсикратия, одна из его наложниц, столь храбрая, доблестная и мужественная, что царь называл ее не Гипсикратией, а Гипсикратом.
В этот день, одетая в персидские одежды, верхом на персидском коне, с персидским оружием в руках, она ни на миг не покинула царя и защищала его, в то время как он сам защищал ее.
Три дня они бежали через всю страну; в течение всех этих трех дней доблестная амазонка прислуживала царю, стерегла его сон, ухаживала за его конем. На исходе трех дней, когда Митридат спал, они достигли крепости Синоры, где хранилась его казна и его самое ценное имущество.
Они были спасены, по крайней мере, на время.
Но Митридат понимал, что это его последняя остановка на пути к могиле. Он проявил высшую щедрость, разделив между теми, кто остался верен ему, сначала деньги, затем одежду, и наконец, яд.
Каждый покинул его богатым, как сатрап; каждый отныне был уверен в своей жизни, если доведется пожить, и в своей смерти, если захочется умереть. Потом побежденный царь направился в Армению. Он рассчитывал на своего союзника Тиграна.
Тигран не только запретил ему войти в свою страну, но и назначил за его голову награду в сто талантов. Митридат поднялся вдоль Евфрата до самых его истоков и углубился в Колхиду.
В это время, то есть когда Тигран закрывал ворота своего царства перед Митридатом, его сын открывал их перед римлянами. Вместе с Помпеем они занимали города, которые им сдавались. И тут Тигран, которого совсем недавно разбил Лукулл, узнав о разладе между двумя римскими генералами, увидел надежду в том, что ему рассказали о сговорчивом характере Помпея, и возник однажды со своими родственниками и друзьями перед римским лагерем.
Он приблизился к его воротам; но на входе его встретили два ликтора Помпея, которые приказали ему сойти с коня и продолжить свой путь пешком, потому что ни один вражеский полководец не должен вступать в римский лагерь верхом.
Тигран сделал больше: в знак покорности он снял свой меч и отдал его ликторам; затем, представ перед Помпеем, он снял свою царскую диадему и хотел положить ее к его ногам. Но Помпей опередил его: он взял Тиграна за руку, привел его в свою палатку и усадил справа от себя; его сына он усадил слева.
– Тигран, – сказал он тогда, – это Лукуллу вы обязаны всеми потерями, которые вы несли до сих пор; это он отнял у вас Сирию, Финикию, Галатию и Софену. Я же оставляю вам все, чем вы владели, когда я вошел в вашу страну, при условии, что вы выплатите римлянам шесть тысяч талантов в возмещение ущерба, который они понесли от вас. Ваш сын будет царствовать в Софене.
Тигран пришел в полный восторг и пообещал вдобавок по полмины каждому солдату, по десять мин каждому центуриону и по одному таланту каждому трибуну.
Но его сын, который рассчитывал получить наследство от преданного им отца, не был так обрадован этим разделом; и посланцам, которые пришли пригласить его от имени Помпея на ужин, он ответил так:
– Премного благодарен вашему генералу за честь, которую он мне оказывает; но мне известен некто, кто примет меня лучше, чем он.
Через десять минут молодой Тигран был схвачен, закован в цепи и оставлен для триумфа.
Глава 16
Вот так Цезарь и Помпей возвратились в Рим, один с востока, другой с запада. Красс притворился, что очень боится армии Помпея, и ждал их там. Цезарь письмом предупредил его о своем прибытии и заодно сообщил ему, что если сам Красс захочет приложить некоторые усилия, он берется помирить его с Помпеем.
Цицерон больших опасений не вызывал. Помпей завидовал его успехам в сенате: Помпей завидовал всему. Поссорить этих двух друзей не составит никакого труда.
Цицерон жаловался на него Аттику.
«Ваш друг, говорит он в письме к Аттику от 25 января 693 года от основания Рима (шестьдесят первый год до Рождества Христова), ваш друг – вы знаете, о ком я говорю, – этот друг, о ком вы написали мне, что он хвалит меня, не смея меня порицать, этот самый друг, судя по его обращению, испытывает ко мне самую нежную привязанность, глубокое почтение и любовь; на публике он меня превозносит; но втайне он относится ко мне недоброжелательно и вредит мне, причем это уже ни для кого не секрет. Никакого прямодушия, никакой искренности, ни единого достойного побуждения в государственных делах, ничего возвышенного, сильного, благородного. Я напишу вам глубже обо всем этом в следующий раз».
Глубже!.. Как вы понимаете, ему оставалось не так уж много добавить; в этих немногих строчках знаменитый оратор, победитель Катилины, изобразил очень схожий портрет победителя Митридата – по крайней мере, с его точки зрения. Но за это время вперед выдвинулся еще один человек, которому никто из троих не уделял особого внимания, но который, тем не менее, стоил того, чтобы им заняться: этим человеком был Катон Младший.
Скажем же пару слов о том, кто имел в Риме репутацию человека столь сурового, что в театре римляне дожидались его ухода, чтобы велеть танцовщикам станцевать какой-нибудь канкан того времени.
Он родился в девяносто пятом году до Рождества Христова и был на пять лет моложе Цезаря и на одиннадцать моложе Помпея; ему исполнялось тридцать три года. Он был правнуком Катона Цензора, которого, как гласила эпиграмма, Прозерпина отказывалась принять в подземное царство, даже когда он умер.
«Этот рыжий с пронзительными глазами, этот язвительный Порций, которого Прозерпина отказывается принять в свое царство, даже когда он умер!»
Такова эпиграмма; как видите, она ясно указывает, что Катон Старший был рыж, что он имел глаза Минервы и что при жизни он был таким неуживчивым человеком, что даже когда он умер, никто не стремился получить его себе в соседи.
Помимо этого, он был человеком хитрым; его имя Катон подтверждает это. На самом деле его звали Приск; его прозвали Катоном от catus – умный, ловкий, проницательный.
В семнадцать лет он служил на войне с Ганнибалом; в бою у него были быстрые руки и крепкие ноги, и он приводил врага в трепет своим грубым боевым кличем, когда приставлял меч к его груди или лицу. – И в наши дни еще есть бойцы, которые действуют подобным образом. – Он не пил ничего, кроме воды; только иногда в долгих переходах или в сильную жару он добавлял в нее немного уксуса, а в праздники позволял себе некоторый разврат и пил пикет.
Он родился в те героические времена – за двести тридцать лет до Рождества Христова – когда в Италии еще были земли, и были люди, чтобы возделывать эти земли. Подобно Фабиям, Фабрициям и Цинциннатам, он оставлял плуг ради меча, а потом снова менял меч на плуг; он сражался, не щадя себя, как простой солдат, а потом возделывал землю, как простой поденщик с фермы; вот только разве что зимой он работал в тунике; летом – совсем нагой.
В своей деревне он соседствовал с тем самым Манием Курием, который трижды удостаивался триумфа; он победил самнитов, объединившихся с сабинянами, изгнал из Италии Пирра, и после трех своих триумфов продолжал жить в своем бедном домишке, где явившиеся к нему однажды послы от самнитов обнаружили его запекающим на огне репу.
Депутаты пришли, чтобы вручить ему не знаю сколько золота.
– Вы видите, какова моя пища, сказал он им.
– Да, мы видим.
– Так вот, когда умеешь обходиться такой пищей, золото не нужно.
Такой человек, безусловно, должен был нравиться Катону, так же как и Катон должен был нравиться ему. И юноша стал другом старика.
Катон Младший был прямым потомком этого грубого цензора, который поссорился со Сципионом, поскольку не одобрял его излишней расточительности и любви к роскоши. Он имел много общего со своим предком, хотя их разделяло пять поколений и представитель одного из них, Гай Порций Катон, внук Катона Старшего, был обвинен и осужден за взяточничество, после чего он был отправлен умирать в Тарракон.
Наш Катон, Катон Младший или же Утический, как вам будет угодно, остался круглым сиротой с одним братом и тремя сестрами. Этого брата звали Цепион.
Одну из сестер – она была ему сестрой только по матери, – звали Сервилия; мы уже называли это имя в связи с запиской, посланной Цезарю в день раскрытия заговора Катилины.
Она, надо сказать, довольно долго упиралась; но Цезарь, узнав, что она страстно желала получить одну очень красивую жемчужину, купил ее и подарил Сервилии. Взамен Сервилия дала ему то, чего желал он.
Жемчужина стоила около одиннадцати сотен тысяч франков.
Катон имел лицо суровое и всегда нахмуренное и был очень неулыбчивым человеком; его сердце с трудом поддавалось гневу, но, однажды рассердив, его можно было усмирить только ценой больших усилий. Медленно обучаясь, он всегда помнил то, что выучил. К счастью, его воспитателем был человек умный и всегда рассудительный, который никогда не грозил ему. Этого человека звали так же, как сына Юпитера и Европы, – Сарпедон.
С самого детства Катон уже проявлял признаки того упрямства, которое в дальнейшем определит его репутацию. Где-то в девяностом году до Рождества Христова, – ему было тогда четыре или пять лет, – союзники Рима стали добиваться для себя права гражданства.
Мы уже говорили обо всех преимуществах, которые вытекали из этого права.
Один из депутатов от союзников разместился у Друза, его друга. Друз, дядя Катона по матери, воспитывал детей своей сестры и питал к ним большую слабость. Этот депутат – его звали Помпедий Силон, – всячески баловал детей, чтобы они заступились за него перед своим дядей.
Цепион, который был на два или три года старше Катона, позволил подкупить себя этими ласками и пообещал.
С Катоном вышло иначе. Хотя в возрасте четырех или пяти лет он должен был плохо разбираться в таких сложных вопросах, как право гражданства, он в ответ на все настойчивые просьбы и заискивания депутатов только молча смотрел на них суровым взглядом.
– Так что же, малыш, спросил его Помпедий, не сделаешь ли ты так же, как твой брат?
Ребенок ничего не ответил.
– Не замолвишь ли ты за нас словечко своему дяде? ну же, давай-ка.
Катон продолжал хранить молчание.
– Какой нехороший мальчик, – сказал Помпедий.
И потом, повернувшись к присутствующим, тихонько сказал им:
– Сейчас посмотрим, насколько ему хватит упорства.
И он взял его за пояс и вывесил за окно, как будто собирался сбросить его на землю с высоты тридцати футов.
Но ребенок даже рта не раскрыл.
– Сейчас же обещай мне, сказал Помпедий, или я брошу тебя!
Ребенок продолжал молчать, не выказывая никаких признаков удивления или страха.
Попидий, рука которого начала, наконец, уставать, поставил ребенка на пол.
– Во имя Юпитера! – сказал он, счастье еще, что этот маленький плут всего лишь ребенок, а не взрослый мужчина; потому что если бы он был взрослым мужчиной, мы запросто могли бы не получить у народа ни единого голоса.
Сулла был личным другом отца Катона, Луция Порция, который был убит недалеко от Фуцинского озера при нападении на мятежных тосканцев. Возможно, молодой Марий имел некоторое касательство к этой смерти. По крайней мере, Орозий приписывает ее именно ему; а ведь вы знаете поговорку: «Ссужают только богатым».
Итак, Сулла, будучи другом отца, время от времени звал детей к себе домой и развлекался болтовней с ними.
«Дом Суллы, – говорит Плутарх, – являл собою подлинную картину подземного ада из-за большого числа проскриптов, которых каждый день притаскивали туда, чтобы подвергнуть их пыткам».
Это был 80-й год до Рождества Христова, и Катону должно было исполниться тринадцать или четырнадцать лет.
Время от времени он видел, как из этого дома выносили тела, истерзанные пытками, а еще чаще – отрубленные головы; до него доносились приглушенные стоны пытаемых. Все это заставило его крепко задуматься о Сулле, который был с ним так дружелюбен.
Однажды он не смог сдержаться и спросил своего воспитателя:
– Почему так случилось, что не нашлось никого, кто бы убил этого человека?
– Потому что его боятся еще больше, чем ненавидят, – ответил воспитатель.
– Тогда дайте мне меч, – сказал Катон; – и я избавлю, убив его, свое отечество от рабства.
Воспитатель сохранил эти слова для истории, но удержался от того, чтобы дать своему воспитаннику меч, который тот потребовал.
В двадцать лет Катон никогда не приступал к ужину без своего старшего брата, которого он обожал.
– Кого ты больше всех любишь? – спросили его однажды, когда он был совсем ребенком.
– Моего брата, – ответил он.
– А потом?
– Моего брата.
– Ну а еще потом?
– Моего брата.
И сколько бы раз ему не задавали этот вопрос, он всегда давал один и тот же ответ.
Глава 17
Катон был богат. Назначенный жрецом Аполлона[23], он завел собственный дом и забрал свою часть отцовского состояния, доходившую до ста двадцати талантов (примерно шестьсот шестьдесят тысяч франков нашей монетой). Позже он унаследовал от своего двоюродного брата еще сто талантов; после этого его состояние возросло до более чем двенадцати сотен тысяч франков.
Катон был весьма скуп. «Едва, – говорит Плутарх, – он унаследовал все это богатство, он стал жить скромнее».
И это при том, что он должен был унаследовать еще полмиллиона от своего брата, когда его брат умер в Эне. – Вскоре мы доберемся до этой смерти и узнаем, что скажет Цезарь о скупости Катона.
Катон еще не пользовался известностью, когда ему представился случай выступить на публике. Он взял слово не для того, чтобы обвинить или защитить какого-нибудь богатого расхитителя, какого-нибудь Долабеллу или Верреса; вовсе нет. Катон Старший, тот самый прадед, которого так почитал его правнук, Катон Старший – Катон delenda Carthago, – будучи цензором, посвятил городу базилику Порция. – Да, кстати, мы говорили вам, что его прозвище Porcius происходило от porcus – свиней, которых он пас, так же как его имя Катон произошло от его умения вести дела? Если еще не сказали, то говорим сейчас.
Итак, базалика Порция была построена Катоном; но оказалось, что одна из колонн базилики мешала размещать кресла трибунов, которые проводили здесь собрания. Они хотели убрать ее или, по крайней мере, переместить; но Катон явился к ним и выступил в защиту неприкосновенности колонны. Колонну оставили на месте.
В речи Катона была отмечена ее сжатость и осмысленность; но при этом, наряду с глубочайшей серьезностью, она была не лишена некоторого изящества; главным же ее достоинством была лаконичность. С этого момента он был признан как оратор.
Но в Риме, как мы уже говорили, недостаточно было быть солдатом – следовало к тому же быть оратором; и недостаточно было быть оратором – следовало к тому же быть солдатом. Катон начал готовиться к этому тяжкому ремеслу.
В Риме Катон не мог последовать примеру своего деда, который пахал землю нагим; но он, по крайней мере, приучил себя переносить самый лютый холод с непокрытой головой и помногу ходить пешком, предпринимая иногда очень далекие путешествия. Однако его друзей такие способы закалки не привлекали: они путешествовали верхом либо на носилках, но с какой бы скоростью они не двигались, Катон всегда шагал вровень с ними, подходя к тому, с кем ему хотелось сейчас поговорить, и в качестве отдыха опираясь иногда на холку лошади.
Вначале он отличался крайней воздержанностью: оставался за столом всего по несколько минут, пил только один раз после еды и поднимался из-за стола сразу после того, как поел и попил.
Позже он переменился: этот суровый стоик стал помногу пить и не раз проводил за столом всю ночь напролет.
– Катон только и делает, что пьянствует, – говорил Меммий.
– Ты бы еще сказал, – ответил Цицерон, – что он с утра до ночи играет в кости.
Быть может, Катон был пьян, когда в сенате назвал пропойцей Цезаря, который почти ничего не пил, кроме воды.
«Что касается вина, – говорит Светоний о Цезаре, – то даже его враги признают, что он употреблял его очень умеренно: Vini parcissimum ne inimici quidem negaverunt».
И Катон сам прибегает к слову «пьяница», когда говорит:
«Из всех тех, кто ниспровергал Республику, Цезарь единственный не был пьян: Unum ex omnibus ad evertendam Rempublicam sobrium accessive».
До своего вступления в брак Катон оставался целомудренным; вначале он хотел взять в жены Лепиду, которая была женой Сципиона Метелла. Все считали, что их помолвка разладилась; но притязания Катона оживили любовь Метелла, и он взял Лепиду в жены в ту самую минуту, когда Катон уже протягивал к ней руку.
На этот раз стоик совершенно утратил власть над собой. Он хотел преследовать Сципиона Метелла по закону, но друзья убедили его, что все будут потешаться над ним, и что он понесет расходы в связи с судебными издержками. Он отозвал свой иск, как сказали бы в наши дни; но потом взялся за перо и сочинил несколько ямбов против Сципиона, – к несчастью, эти ямбы утеряны.
Потом он взял в жены Аттилию, которую через некоторое время выгнал из дома за распутство. Наконец, он женился во второй раз: на Марции, дочери Филиппа.
Расскажем сразу же, как наш стоик – стоик, который, влюбившись в Лепиду, писал ямбы против Сципиона, и который, женившись на Аттилии, выгнал ее из дома за распутство, – расскажем, как он понимал ревность.
Эта вторая жена Катона была очень красива и считалась умной женщиной; что вовсе не мешало ей иметь большое количество поклонников. В числе этих поклонников был Квинт Гортензий, один из самых чтимых и уважаемых людей в Риме; вот только он имел одну-единственную манию: Квинт Гортензий ценил только ту женщину, которая ему не принадлежала. Поскольку развод в Риме был разрешен, он захотел после развода взять в жены дочь Катона, которая была замужем за Бибулом, или жену самого Катона.
Гортензий открылся сначала жене Бибула; но она, любя своего мужа и имея от него двоих детей, нашла предложение Гортензия очень почетным, конечно, но совершенно неуместным.
Чтобы отказ Порции был воспринят Гортензием серьезнее, он услышал его затем из уст самого Бибула. Но Гортензий отнюдь не счел себя побежденным и стал настаивать. Бибул призвал своего тестя. Катон вмешался.
Тогда Гортензий объяснился с Катоном, с которым он был уже долгие годы связан дружбой, еще более категорично, чем он объяснялся с Бибулом. Гортензий вовсе не стремился к скандалу и совершенно не желал чужого добра; все, что ему было нужно, это порядочная женщина.
К несчастью, несмотря на все поиски, он нашел их в Риме всего две, и обе они, были несвободны. Одной из них, как мы уже сказали, была Порция, жена Бибула; другой – Марция, жена Катона.
Так вот, он просил, чтобы Бибул или Катон – ему неважно кто – простер свое самопожертвование вплоть до того, чтобы развестись со своей женой и отдать ее ему. По его мнению, это была вещь, в которой Пифий и Дамон не отказали бы друг другу, а он утверждал, что любит Катона, по меньшей мере, так же, как Пифий.
Наконец, Гортензий сделал предложение, которое доказывало всю чистоту его намерений: он обязывался вернуть Порцию Бибулу или Марцию Катону сразу после того, как заимеет от нее двоих детей.
Он опирался при этом на один из законов Нумы, который вышел из употребления, но не был отменен. Этот закон, который читатель сможет найти у Плутарха в Сравнении Ликурга с Нумой, гласил, что если муж сочтет, что у него достаточно детей, он может уступить свою жену другому, будь то на время или навсегда.
Катон заметил Гортензию, что для него, Катона, тем более невозможно пойти на эту уступку, что Марция беременна.
Гортензий ответил, что поскольку его намерения честны и разумны, он подождет, пока Марция родит.
Подобная решимость тронула Катона, но, тем не менее, он попросил у Гортензия разрешения посоветоваться с Филиппом, отцом Марции.
Филипп был человеком добродушным.
– Если вы, сказал он своему зятю, не возражаете против того, чтобы пойти на эту уступку, то я тоже не стану возражать; но при этом я настаиваю, чтобы вы подписали брачный договор Гортензия и Марции.
Катон согласился на это.
Дождались, пока Марция родит и оправится от родов, и затем она в присутствии отца и мужа, который поставил свою подпись и печать на брачном договоре, вышла замуж за Гортензия.
Скоро мы объясним, почему подобное соглашение воспринималось проще в 695 году от основания Рима, нежели в 1850 году после Рождества Христова.
Завершим же рассказ о Марции и Гортензии. Их супружество было совершенно счастливо; Марция полностью удовлетворила желания Гортензия, подарив ему двух детей, и поскольку Катон не требовал ее обратно, она осталась с ним до той самой минуты, когда он, Гортензий, умер, и умирая, оставил ей все свое имущество: возможно, двадцать или двадцать пять миллионов.
Тогда Катон снова женился на ней, как это явствует из сочинения Аппиана «О гражданской войне» и из «Фарсалии» Лукана, книга II, стих 328; но поскольку близился уже тот момент, когда он ушел с Помпеем, получилось, что Катон вернул не жену для себя, а мать для своих дочерей.
Эта история породила в Риме некоторые сплетни. Об этом говорили, но этому не особенно удивлялись; все происшедшее соответствовало законам.
Скажем же пару слов об этих законах, чтобы только одна-единственная вещь осталась непонятной для наших читательниц: почему Марция так безропотно переходила от одного мужа к другому; а быть может, мы сумеем объяснить и эту безропотность.
Как видите, мы намерены объяснять абсолютно все.
Глава 18
Расскажем сначала, как браки заключались; условия их расторжения мы изложим потом.
В Риме существовало два рода браков: брак патрицианский и брак плебейский; брак путем confarreatio и брак путем coemptio.
Не беспокойтесь, дорогой читатель: все это сейчас станет ясно, как день.
Сначала, как и у нас, заключался брачный договор. Юрисконсульт, который выполнял обязанности нотариуса, прочитывал текст договора, и прежде, чем представить его к печатям, то есть на подпись заключившим его, он произносил эти сакраментальные слова:
«Помолвки, равно как и свадьбы, заключаются только по добровольному согласию сторон, и девица может воспротивиться отцовской воле, если гражданин, которого предлагают ей в женихи, был замечен в бесчестных поступках, или если его поведение было предосудительно».
Если ничего такого не было, и если стороны были согласны, муж в подтверждение своих намерений, отраженных в договоре, дарил своей жене железное колечко, цельное и без всяких камней. Жена надевала его на предпоследний палец левой руки, потому что, согласно римскому поверью, там проходил нерв, который связывал этот палец с сердцем.
– Не на этом ли пальце, мои прекрасные читательницы, вы и по сей день носите его, часто и не подозревая об этой связи?
После этой помолвки назначался день свадьбы. – Обычно, поскольку девушки обручались в тринадцать или четырнадцать лет, отсрочка составляла примерно год.
Выбор этого дня был очень непростым делом. Браки не полагалось заключать в мае, так как этот месяц неблагоприятен для свадеб из-за лемуралий (Овидий, Фасты, V, ст. 487).
Браки не полагалось заключать в дни, предшествующие июньским идам, то есть с 1 по 16 число этого месяца, потому что эти пятнадцать дней, равно как и предыдущие тридцать один, неблагоприятны для свадеб. (Опять смотрите Овидия, Фасты, VI, ст.219).
Не следовало также жениться в квинтильские календы, то есть 1 июля, по той причине, что 1 июля был праздничным днем, и в этот день никто не имел права совершать насилие; а считается, что муж всегда совершает насилие над своей женой, если только он не женится на вдове. (Смотрите у Макробия, Сатурналии, I, 15).[24]
Другими негодными для заключения брака днями являлись следующие дни после календ, ид и нон, поскольку они были религиозными днями, в которые позволялось делать только совершенно необходимые вещи. (Смотрите… смотрите об этом у многих авторов, с учетом того, что в Риме заключение брака никогда не считалось необходимостью. Итак, смотрите: Макробий, Saturn., 15 и 16; Плутарх, Quæs. rom., стр. 92; Тит Ливий, VI, I; Авл Геллий, Т. 17, Fest. relig.)
На заре Республики девица со своей матерью и несколькими близкими родственницами отправлялась провести ночь в храме, чтобы послушать, не подаст ли голос какой-нибудь оракул; но позднее было достаточно просто слова жреца, что никакого неблагоприятного знамения не было, и все шло как нельзя лучше.
Религиозный брак заключался в домашнем святилище. В ожидании его невесту облачали в белую цельную тунику; ее талию стягивали пояском из овечьей шерсти; ее волосы разделяли на шесть прядей и укладывали на макушке в виде башни, увенчанной венком из цветущего майорана; ее покрывали прозрачной фатой цвета пламени. Именно от этой фаты – nubere, окутывать покрывалом, – произошло слово nuptiœ, свадьба.
Башмаки тоже были цвета пламени, как и фата.
Фата была заимствована из одеяния жриц, для которых развод был запрещен, а прическа – у весталок. Соответственно, эта прическа была символом непорочности молодой супруги.
У нас майоран заменила веточка флердоранжа; но этот флердоранж, как и колечко на пальце, связанным с сердцем, является античной традицией. Невесту покрывали фатой только на патрицианских свадьбах. Чтобы узаконить такой брак, требовалось десять свидетелей. Оба супруга усаживались на парные кресла, покрытые шкурой жертвенной овцы с сохраненной на ней шерстью. Жрица вкладывала правую руку девушки в правую руку юноши и произносила определенную предписанную таинством формулу, которая гласила, что жена должна разделять имущество своего мужа и все его начинания. Затем в честь Юноны, покровительницы брака, совершались возлияния из вина с медом и молока, и в этих возлияниях использовалась пшеничная лепешка, называемая far, которую приносил и подавал муж: от этой лепешки и произошло слово confarreatio.
Во время брачных жертвоприношений желчь животного выбрасывалась за жертвенник, в знак того, что всякая горечь изгоняется из этого союза.
Другой род бракосочетания был плебейским, и носил название coemptio – от глагола emere, покупать; при таком браке муж покупал себе жену, а жена становилась рабыней своего мужа. Ее продавал отец или опекун, в присутствие магистрата и пяти римских граждан, достигших совершеннолетия.
Весовщик денег, без которого обычно не обходилась ни одна продажа с торгов, также непременно присутствовал на подобном бракосочетании.
Впрочем, акт продажи был совершенно символическим; продажная цена выражалась всего одним медным асом, то есть самой тяжелой, но самой мелкой римской монетой. Один ас стоил что-то около шести сантимов и три четверти. Ас делился на семиссы, половины аса; на триенсы, трети аса; на квадранты, четверти аса; на секстаны, шестые части аса; на стипы, двенадцатые части.
Странность такого рода свадеб заключалась в том, что ас, за который ее покупали, приносила сама женщина; так что на самом деле это не муж покупал себе жену, а жена покупала себе мужа.
В этом случае вопросы в трибунале претора задавали сами муж и жена, а не юрисконсульт.
– Женщина, говорил будущий супруг, желаешь ли ты стать матерью моей семьи?
– Желаю, – отвечала женщина.
– Мужчина, говорила она, желаешь ли ты стать отцом моей семьи?
И мужчина в свою очередь отвечал:
– Желаю.
Знатной девице такого вопроса не задавали. Девица благородного происхождения становилась матроной; девушка из народа становилась матерью семьи. – Само слово семья напоминало о рабстве; раб составлял часть семьи. В знак зависимости, в которую отныне попадала молодая супруга, один из участников обряда разделял ей волосы на пряди при помощи дротика, проводя острием по ее голове шесть раз.
Затем юноши хватали новобрачную, поднимали ее на плечи и несли от трибунала претора до супружеского дома, громко крича: «К Таласию! к Таласию!» Мы уже объясняли значение этого клича. По пути к дому процессия останавливалась перед одним из тех небольших жертвенников богов домашнего очага (ларов) – ларариев, которые можно было увидеть на каждом перекрестке. Новобрачная доставала из кармана второй ас и отдавала его ларам. Войдя в дом, она шла прямо к пенатам, и отдавала им третий ас, достав его из своего башмака или сандалии.
Итак, брак у римлян имел две разновидности, пользовавшиеся почти одинаковым почтением: брак священный, confarreatio; брак путем купли-продажи, coemptio.
И, тем не менее, римляне считали брак союзом, который должен сохраняться только до тех пор, пока заключившие его пребывают в добром согласии. С той минуты, как это согласие нарушается, брак должен быть расторгнут.
Ромул издал закон, который позволял мужу отказаться от своей жены, если она отравила его детей, подделала его ключи, допустила супружескую неверность или выпила перебродившего вина. Отсюда в Риме пошел обычай целовать женщин в губы. Это право – поскольку это был не просто обычай, это было право, – это право распространилось с мужа на остальную родню. Таким образом, удостоверялись, что женщины не пили вина.
В 520 году от основания Рима Спурий Карвилий Руга воспользовался законами Ромула и Нумы и отказался от своей жены, потому что она была бесплодной. Это был единственный случай развода на протяжении пяти веков.
Если было доказано, что муж отказался от своей жены без какого-либо законного основания, одна половина его имущества отходила к жене, другая жертвовалась храму Цереры, а муж должен был принести жертву подземным богам. Сурово; но прочтите об этом у Плутарха: Жизнь Ромула.
Вот что такое был отказ.
Существовал еще развод. Спурий Карвилий Руга отказался от своей жены. Катон со своей развелся. Развод назывался diffarreatio, в противоположность confarreatio, заключению брака. Точно так же, как было два разных обряда для заключения этого союза, было и два разных обряда для его расторжения.
Одна церемония происходила перед лицом претора в присутствии семи римских граждан, достигших совершеннолетия; вольноотпущенник приносил таблицы, на которых была сделана запись о заключении брака, и их публично разбивали. Потом, по возвращении в супружеский дом, муж требовал у жены обратно ключи и говорил ей:
– Женщина, забирай свое имущество и уходи; прощай!
Если брак был заключен по религиозному обряду, то когда в распаде союза был виновен муж, женщина уходила, забрав все свое приданое; но если виновна была жена, муж имел право удержать часть приданого: например, по одной шестой его части на каждого ребенка, вплоть до половины всего приданого; дети же всегда оставались собственностью отца.
Однако в определенном случае женщина теряла все свое приданое: если она совершила супружескую измену. В этом случае, прежде чем выставить жену из дома, муж срывал с нее столу и надевал на нее тогу куртизанки.
Если же брак заключался путем купли-продажи, то происходило просто расторжение сделки; выкуп обратно был такой же фиктивной операцией, как и первая покупка.
Итак, в Риме существовало три способа разорвать брачные узы: отказ мужа от жены, который был бесчестьем для женщины; развод, который, если ни одна из сторон не была повинна в преступлении, был расставанием полюбовным, и в нем не было ничего позорного; наконец, возвращение жены ее родителям было ни чем иным, как возвращение ставшей ненужной рабыни ее прежним хозяевам.
Ближе к концу существования Республики отказ, возвращение и развод почти утратили различия между собой. Вы ведь знаете эту историю, как Цезарь отказался от своей жены единственно потому, что она навлекла на себя подозрения.
Иногда муж и вовсе не указывал никаких причин.
– Почему ты отказался от своей жены? – спросил один римский гражданин у своего друга.
– У меня были причины, – ответил тот.
– Какие же? Разве она не была порядочной, верной, молодой и красивой, разве она не рожала тебе здоровых детей?
В ответ на это разведенный вытянул ногу и показал любопытствующему свой башмак.
– Разве этот башмак не хорош, спросил он, разве он не красив и не нов?
– Это так, – ответил друг.
– Так вот, – продолжал тот, разуваясь, – его придется вернуть сапожнику, потому что он жмет мне, и только я один точно знаю, в каком именно месте.
История умалчивает, оказались ли новые башмаки, присланные сапожником вместо возвращенных ему, больше по ноге этому столь требовательному к своей обуви человеку.
Вернемся к Катону, от которого нас отвлекло это небольшое исследование на тему брака. Мы оставили его в то время, когда ему было двадцать лет.
Глава 19
Катон был то, что в наши дни назвали бы оригинал. В Риме было принято носить башмаки и тунику; он выходил на улицу без башмаков и без туники. В моде тогда был пурпур самого яркого и насыщенного оттенка; он носил пурпур темный, почти ржавого цвета.
Все ссужали деньги под двенадцать процентов в год, это была законная ставка; когда мы говорим «все», мы имеем в виду «порядочные люди»; остальные, как и у нас, ссужали под сто и двести процентов; – он ссужал просто так, и иногда, когда ему не хватало денег, он отдавал, чтобы оказать услугу другу или даже чужаку, которого он считал порядочным человеком, землю или дом под залог.
Разразилась война рабов: его брат Цепион командовал у Геллия войском в тысячу человек; Катон пошел простым солдатом и присоединился к своему брату. Геллий пожаловал ему награду за храбрость и требовал оказания ему высоких почестей; Катон отказался, заявив, что не сделал ничего такого, за что его следовало бы отличить.
Был принят закон, запрещающий кандидатам иметь при себе номенклаторов; Катон домогался тогда должности солдатского трибуна: он подчинился закону и, как говорит Плутарх, он был единственным.
С присущей ему наивностью Плутарх добавляет:
«Усилиями своей памяти он добился того, что приветствовал любого гражданина, называя его по имени. И он перестал нравиться тем, кто прежде им восхищался; чем больше они вынуждены были признавать благородство его поведения, тем больше он раздражал их тем, что они не могли ему подражать».
Мы уже говорили, что он всегда ходил пешком.
Вот какова была его манера путешествовать: еще с утра он посылал своего повара и пекаря на место ночной стоянки; если в том городе или деревне у Катона был друг или знакомый, они отправлялись к этому человеку; если же нет, то на постоялый двор, где они готовили ему ужин; если в том месте не было постоялого двора, они обращались к магистратам, которые по особым указанием определяли Катона на жительство. Часто магистраты не хотели верить тому, что говорили посланцы Катона, и обращались с ними презрительно, поскольку те говорили с ними вежливо и не прибегали ни к крику, ни к угрозам.
Тогда Катон, прибыв туда к вечеру, обнаруживал, что ничего не готово. Он без единой жалобы усаживался на тюк со своими пожитками и говорил:
– Пусть ко мне приведут магистратов.
Из-за чего его продолжали считать человеком робким или из низкого сословия.
Тем временем появлялись магистраты, и он обычно обращал к ним следующую тираду:
– Несчастные! оставьте эту привычку грубо обращаться с чужестранцами, потому что не всегда вам придется принимать у себя только Катонов, и постарайтесь притупить вашей предупредительностью низкие устремления людей, которые только и ищут предлога силой отнять у вас то, что вы не хотите дать им по-доброму.
Вообразите себе, каковы были эти магистраты, если они удивлялись, что повар и пекарь разговаривают с ними без крика и угроз, и которые смиренно выслушивали выговор от их хозяина, сидевшего на своей дорожной клади.
А все дело в том, что эти магистраты были провинциалами, то есть инородцами, а этот человек, сидящий перед ними на своей клади, был римским гражданином.
А теперь взгляните, как встречали простого вольноотпущенника. Этот анекдот очень любопытен, и напоминает происшествие с Цицероном, который возвращался с Сицилии, полагая, что весь Рим занят только им.
Однажды Катон входил в Сирию, шагая, по своему обыкновению, среди своих друзей и даже слуг, ехавших верхом. Он уже был недалеко от Антиохии, как вдруг увидел большое число людей, выстроившихся двумя рядами по обочинам дороги: с одной стороны стояли юноши в длинных одеяниях, с другой – богато наряженные дети. Во главе их находились одетые в белое мужчины с венками в руках.
При виде всего этого Катон ни на миг не усомнился, что мероприятие затеяно ради него, и что это Антиох, зная, что Катон намеревался остановиться в стенах его города, приготовил ему такую встречу.
Он остановился, велел своим друзьям и слугам спешиться, поворчал на повара и пекаря, что они выдали его инкогнито, и приготовился принять уготованные ему почести, говоря про себя, что он ничего не сделал для того, чтобы ему их оказывали, и направился навстречу этой группе.
Тогда из рядов жителей города выступил человек с жезлом в руках и в венке и, представ перед Катоном, который уже приготовился выслушать его речь и ответить на нее, спросил:
– Добрый человек, скажи, не встретил ли ты по пути господина Деметрия, и не укажешь ли нам, как далеко он отсюда?
– Что это за господин Деметрий? – спросил Катон, несколько сбитый с толку.
– Как! – воскликнул человек с жезлом, – ты не знаешь, кто такой господин Деметрий?
– Нет, во имя Юпитера! – ответил Катон.
– Это же вольноотпущенник Помпея Великого!
Катон опустил голову и отошел, безмерно презираемый депутатами Антиоха. Он не знал, кто такой Деметрий!
Тем временем его ожидало большое горе, и душа этого стоика вскоре должна была вынести жестокое испытание. Катон был в Фессалонике, когда он узнал, что его брат Цепион тяжело заболел в Эне, фракийском городе в устье реки Эбро. Катон бросился в порт: вы помните, что этот брат был единственным человеком, которого Катон любил в жизни. На море бушевал свирепый шторм; в порту не было ни единого корабля, который смог бы удержаться на поверхности моря в такую погоду.
Катон в сопровождении двух друзей и трех рабов кинулся на маленькое торговое суденышко; ему сопутствовала сверхъестественная удача, и, избежав, раз двадцать верной гибели в пучине, он прибыл в Эн в ту самую минуту, когда его брат скончался. Когда он узнал эту новость и увидел бездыханное тело своего брата, то, надо отдать Катону справедливость, философ тут же исчез и уступил место брату; безутешному брату, впавшему в отчаяние.
Он бросился к дорогому телу и сжал его в объятиях, выказывая самое сильное горе.
«Но это не все, – говорит Плутарх, – как если бы по-настоящему боль и скорбь Катона проявились в том, что сейчас последует, он пошел в связи с похоронами своего брата на необычайные расходы, потратил огромные средства на благовония, возложил на погребальный костер драгоценнейшие ткани и воздвиг ему на площади собраний в Эне надгробие из фасосского мрамора, которое обошлось ему в восемь талантов (сорок четыре тысячи франков в переводе на наши деньги)».
Правда, Цезарь уверял, что потом Катон просеял через сито пепел своего брата, чтобы извлечь из него золото из тех драгоценных тканей, которые он возложил на его погребальный костер; но всем известно, что Цезарь не любил Катона; и потом, Цезарь был очень зол на язык!
Впрочем, Помпей отомстил Катону с помощью той маленькой неприятности, случившейся с ним при входе в Антиохию в день, когда у него спросили вестей о Деметрии.
Помпей был в Эфесе, когда ему сообщили о прибытии Катона. Как только он его увидел, он поднялся со своего кресла и пошел ему навстречу, как он поступил бы по отношению к самым значительным людям в Риме. Он взял его за руку, обнял его и осыпал похвалами, которые стали еще более пышными, когда тот отправился восвояси.
В самом деле, когда Катон сообщил Помпею о своем намерении уйти, тот, имевший обыкновение удерживать своих гостей при помощи самых настойчивых уговоров, не сказал ни единого слова, которое могло бы повлиять на решение путешественника покинуть его.
«И даже, – добавляет Плутарх, – он следил за его уходом с радостью».
Бедняга Катон! Вернувшись в Рим, он стал домогаться должности квестора, и получил ее. Деятельность квестора имела основной своей задачей установить, на что были потрачены государственные средства, и следить за руками и карманами тех, кто ими занимался.
Обычно бывало так:
Новые квесторы, разумеется, не имели ни малейшего понятия о том, чем им предстояло заниматься; за всеми сведениями они обращались к низшим чинам, которые были постоянными и, подолгу занимаясь этой деятельностью, они разбирались в ней гораздо лучше них; но они, понятно, были заинтересованы в том, чтобы все оставалось по-прежнему, и злоупотребления продолжались.
С Катоном все было иначе: он стал готовиться к соисканию этой должности только после того, как досконально изучил квесториальное законодательство. И с момента его вступления в должность всем стало ясно, что теперь им придется иметь дело с настоящим квестором.
Он сократил число переписчиков, на которых через восемьдесят лет так ужасно будет гневаться Иисус за то, что они были лишь теми, кем они были на самом деле – подневольными слугами.
После чего все эти люди дружно ополчились на Катона; но Катон прогнал с должности первого же, кто был обвинен в мошенничестве при разделе наследства. Другого, который совершил подлог завещания, он отдал в руки правосудия; это был один из друзей Катула – вы понимаете, того самого Катула, которого все считали таким порядочным человеком. – Катул умолял Катона проявить милосердие. Катон был непоколебим. Когда же Катул стал проявлять настойчивость:
– Выйди вон, – сказал Катон, или мои ликторы прогонят тебя!
Катул ушел.
Но – настолько глубоко проникла безнравственность! – Катул по-прежнему защищал виновного, и, видя, что при нехватке одного голоса его клиент будет осужден, он послал носилки за Марком Лоллием, одним из коллег Катона, который не смог прийти сам из-за болезни. Голос Марка Лоллия спас обвиняемого.
Но Катон не пожелал больше пользоваться услугами этого человека в качестве переписчика, и категорически отказался выплатить ему жалованье.
Примеры подобной строгости сбили спесь со всех этих мошенников и мздоимцев; они почувствовали тяжесть придавившей их руки и стали настолько же смирными, насколько раньше были мятежными, и передали ведение всех дел в руки Катона.
Глава 20
Начиная с этого момента, государственный долг уже не составлял тайны. Катон заставил вернуть все долги Республике; но он и выплатил все то, что сама Республика задолжала своим гражданам.
Это наделало шуму и вызвало великое удивление у всего римского населения, привыкшего к нечистоплотности денежных людей; оно увидело, как все барышники, полагавшие, что им никогда не придется возвращать свои долги Казне, были принуждены вернуть все сполна; и как всем гражданам, имевшим верительные грамоты Казны, но считавшим эти деньги потерянными и не надеявшимся продать их больше, чем за полцены, все долги были выплачены.
Все эти изменения к лучшему были справедливо поставлены в заслугу Катону, и народ, видевший в нем единственного честного человека в Риме, начал проникаться к нему огромным уважением.
Но это было не все. Оставались еще головорезы Суллы.
После пятнадцати лет безнаказанного существования эти убийцы считали себя вне досягаемости и спокойно наслаждались своим кровавым богатством, которое досталось им так легко, – ведь за многие головы давали цену до двенадцати тысяч драхм, то есть до шести тысяч франков нашей монетой. Все показывали на них пальцем, но никто не смел их тронуть.
Катон вызвал их одного за другим в трибуналы как укрывателей общественных средств, и этим негодяям пришлось вернуть разом и деньги, и кровь.
Потом случился заговор Катилины. Мы уже рассказывали, какую роль сыграл в нем каждый; мы рассказали, что после того, как Силан высказался за высшую меру наказания, то есть за смертную казнь, Цезарь так ловко произнес речь о необходимости проявить милосердие и снисхождение, что Силан, противореча сам себе, заявил, что под высшей мерой наказания он имел в виду ссылку, поскольку римский гражданин не может быть осужден на смерть.
Подобное малодушие заставило Катона подскочить. Он поднялся со своего места и принялся опровергать Цезаря. Его речь есть у Саллюстия, записанная стенографами Цицерона. – Скажем походя, что стенографию изобрел именно Цицерон, и его секретарь Туллий систематизировал ее. После этой речи Катона Цицерону хватило смелости казнить сообщников Катилины, а Цезарь, опасаясь, что его снисходительность навлечет на него обвинения в сообщничестве с главой заговора, бросился на улицу под защиту народа.
Тогда на выходе он едва не был убит дружественными Цицерону всадниками.
Мы уже рассказали, как Катон уравнялся в популярности с Цезарем, добившись от сената раздачи хлеба, цена которого составляла ежемесячно семь миллионов нашей монетой. Несмотря на все предосторожности, Цезарь все же не избежал обвинений. Против него раздались три голоса: голос квестора Новия Нигра, голос трибуна Веттия и голос сенатора Курия. Курий был тем, кто первый сообщил о заговоре, и в числе других заговорщиков он назвал Цезаря. Веттий пошел еще дальше: он утверждал причастность Цезаря к заговору не только в своих речах, но и письменно.
Цезарь натравил на своих обвинителей народ. Новий был брошен в тюрьму за то, что взялся судить магистрата более высокого, чем он, ранга; у Веттия захватили и разграбили дом: его мебель выбросили в окно, а его самого едва не растерзали на куски. Все эти конфликты сильно взбудоражили Рим.
Метелл, только что назначенный трибуном, предложил призвать обратно в Рим Помпея, чтобы поручить ему руководство всеми делами. Это означало потребовать нового диктатора.
Цезарь, сознававший несостоятельность Помпея как политика, присоединился к Метеллу. Возможно, он был не против, создать прецедент.
Только Катон мог сопротивляться подобному альянсу. Он пошел к Метеллу; но вместо того, чтобы приступить к делу со своей обычной прямотой и резкостью, он начал издалека, потихоньку, скорее упрашивая, нежели требуя, перемежая свои мольбы с восхвалениями дома Метелла и напоминая ему, что он всегда считался одним из столпов аристократии.
Метелл решил, что Катон боится, и заупрямился. Несколько мгновений Катон сдерживался; но терпение не было в числе его добродетелей: внезапно он взорвался и разразился угрозами в адрес Метелла. Метелл понял, что, возможно, придется прибегнуть к силе. Он вызвал в Рим своих рабов и сказал Цезарю, чтобы тот тоже назначил сбор своим гладиаторам.
Как вы помните, Цезарь, будучи эдилом, вывел на арены Рима шестьсот сорок гладиаторов; он оставил некоторый их запас в Капуе. – Всякий знатный римлянин того времени имел собственных гладиаторов, подобно тому, как в Средние века всякий граф, герцог или принц имел собственных удальцов. Мы уже видели, как эти гладиаторы в одиночку произвели революцию, которая привела в ряды Спартака двадцать тысяч человек. После этого был принят закон, согласно которому никто не имел права держать в Риме более ста двадцати гладиаторов.
Сопротивление Катону готовилось принародно.
Накануне того дня, когда закон должен был быть вынесен на обсуждение, Катон, хотя он прекрасно знал, что завтра ему может грозить гибель, поужинал как обычно и, поужинав, крепко уснул. Минуций Терм, один из его коллег по трибуналу, разбудил его. Они отправились вдвоем на Форум в сопровождении всего лишь дюжины человек.
По дороге они встретили пять или шесть друзей, которые отправились вперед них, чтобы предупредить их о том, что творится на площади, и в случае чего подать сигнал тревоги.
Когда они прибыли на площадь, опасность стала явной: Форум был заполнен вооруженными палками рабами и гладиаторами с их боевыми саблями; на вершине лестницы храма Кастора и Поллукса сидели Метелл с Цезарем; все ступеньки были заняты рабами и гладиаторами.
Тогда Катон крикнул, обращаясь к Метеллу и Цезарю:
– Вы, разом наглые и трусливые! Вы, кто против человека нагого и безоружного, собрали столько людей в доспехах и с оружием!
И затем, пожав плечами в знак презрения к опасности, которой его думали напугать, он двинулся вперед, приказывая толпе расступиться перед ним и теми, кто следует за ним, и начал подниматься по ступеням.
Его и в самом деле пропустили, но только его одного. Он продолжал подниматься. Терма он тащил за руку, но при подходе к преддверию храма был вынужден отпустить его. Наконец он предстал перед Метеллом и Цезарем и сел в кресло между ними двумя.
Они могли использовать своих сбиров сейчас или никогда. Возможно, они бы так и сделали; но тут те, у кого храбрость всегда вызывает восхищение, стали кричать Катону:
– Держись, Катон! не поддавайся! мы здесь, мы поддержим тебя.
Цезарь и Метелл подали знак секретарю прочесть текст закона. Секретарь поднялся и потребовал тишины; но когда он уже был готов начать чтение, Катон вырвал закон у него из рук. Метелл, в свою очередь, вырвал его из рук Катона. Катон снова вырвал его из рук Метелла и разорвал его.
Метелл знал закон наизусть; он приготовился произнести его, вместо того, чтобы прочитать; но Терм, успевший вновь присоединиться к Катону, незаметно зашел ему за спину, накрыл его рот ладонью и не дал говорить. Тогда Цезарь и Метелл позвали своих гладиаторов и рабов. Рабы подняли палки, гладиаторы выхватили мечи. Граждане с громкими криками рассеялись.
Цезарь и Метелл отступили от Катона, который превратился в открытую мишень: в него полетели камни снизу, со ступенек, и сверху, с крыши храма. Мурена бросился к нему, накрыл его своей тогой, схватил в охапку и потащил внутрь храма, несмотря на его усилия остаться снаружи.
Тогда Метелл перестал сомневаться в успехе. Он подал знак гладиаторам убрать мечи в ножны, рабам – опустить палки; потом, пользуясь тем, что на Форуме остались только его сторонники, он попытался изложить закон. Но едва он произнес первые слова, его прервали крики:
– Долой Метелла! долой трибуна!
Друзья Катона снова взялись за дело; сам Катон вышел из храма; наконец сенат, устыдившись своего молчания, собрался и решил прийти на помощь Катону. Началось противодействие. Цезарь предусмотрительно исчез. Метелл бежал, покинул Рим, отправился в Азию и доложил Помпею о том, что произошло на Форуме.
Помпей подумал о том суровом молодом человеке, который посетил его в Эфесе, и пробормотал:
– Я не ошибся; он действительно таков, как я о нем подумал.
Сенат, обрадованный победой Катона над Метеллом, хотел объявить Метелла бесчестным человеком. Катон воспротивился этому и добился, чтобы это оскорбление не было нанесено столь видному гражданину.
Тогда Цезарь, видя, что ему больше нечего делать в Риме, получил должность претора и отправился в Испанию.
Мы видели, как он вернулся оттуда, чтобы выступить соискателем должности консула.
Глава 21
Итак, в Риме встретились лицом к лицу действительно серьезные соперники. Великая борьба должна была начаться между Помпеем, который представлял аристократию; Цезарем, который представлял демократию; Крассом, который представлял собственность; Катоном, который представлял закон; – и Цицероном, который представлял слово.
Каждый, как видите, был по-своему силен.
Для начала следовало узнать, станет Цезарь консулом или нет. К выборам в консулат были представлены три человека, имеющие серьезные шансы: Луций, Бибул и Цезарь. Цезарь выплатил свои долги, но сам вернулся практически с пустыми руками; должность консула не стоило рассчитывать получить меньше чем за два или три миллиона.
Красс ссудил ему пять миллионов перед его отъездом. Он подумал, что ему нет нужды смущаться перед ним: он их ему не вернул; значит, обращаться следовало не к нему. О! как только он будет назначен консулом, все сами придут к нему.
Красс осмотрительно выжидал. Но при этом Красс и другой влиятельный человек – Помпей – не противостояли ему. Цезарь воспользовался своим влиянием на них, чтобы искусно провернуть свое дело. После истории с гладиаторами Красс и Помпей были в ссоре. Усилиями Цезаря они помирились, если и не искренне, то надежно: за счет общих интересов. Потом Цезарь отправился к Луцию.
– У вас есть деньги, сказал он ему; у меня есть влияние. Дайте мне два миллиона, и я добьюсь вашего назначения.
– Вы уверены в этом?
– Ручаюсь.
– Пришлите забрать у меня два миллиона.
Цезарю очень хотелось послать за ними немедленно; он боялся, что Луций передумает. Но из осторожности он дождался ночи; когда стемнело, он послал забрать корзины с деньгами.
Как только деньги оказались у Цезаря, он послал за посредниками. Посредники были агентами подкупа, в чью обязанность входило договориться о цене с предводителями толпы.
– Принимайтесь за дело, – сказал он им, пнув ногой корзины, которые отозвались металлическим звоном; – я богат, и хочу быть щедрым.
Посредники ушли.
Между тем, Катон не спускал с Цезаря глаз. Он узнал, каким образом тот добыл деньги, и как именно и на каких условиях был заключен пакт. Он отправился к Бибулу и оказался там в обществе всех всех тех, кто составлял оппозицию к демагогии и ее представителю – Цезарю.
Назовем же имена главных консерваторов того времени. Это были Гортензий, Цицерон, Пизон, Понтий Аквила, Эпидий, Марцелл, Цестий Флавий, старый Консидий, Варрон, Сульпиций, из-за которого Цезарь в первый раз упустил должность консула, и, наконец, Лукулл.
Обсуждался успех, который Цезарь имел на Форуме и в базилике Фульвия.
Он явился туда в белой тоге и без туники.
– Почему ты не надел тунику? – спросил один из друзей, встретив его на улице Регия.
– Разве не следует мне, – ответил Цезарь, – показать народу мои раны?
Через четырнадцать лет раны Цезаря покажет народу Антоний.
Новость, которую принес Катон, уже была известна. Его слова: «У Цезаря есть деньги» тяжело пали на собравшихся. Их уже уведомил об этом Понтий Аквила, узнавший все от человека из своей трибы. Варрон, со своей стороны, сообщил им, что между Крассом и Помпеем достигнуто согласие. Это двойное известие потрясло собрание.
С той минуты, как Цезарь получил деньги, противиться его избранию было невозможно; но можно было помешать избранию Луция. Бибул же, тот Бибул, который был зятем Катона, при назначении на место Луция нейтрализовал бы влияние демагога.
Заметив вошедшего Катона, все окружили его.
– Что же теперь? – спрашивали его со всех сторон.
– А вот что, – сказал Катон, – предсказание Суллы начало сбываться: в этом молодом человеке с незатянутым поясом действительно сидит несколько Мариев.
– Что же делать?
– Положение тяжелое, – сказал Катон; – если мы позволим этому бывшему сообщнику Катилины прийти к власти, Республика погибла.
И затем, поскольку он сомневался, что гибель Республики явится достаточно веской причиной для некоторых из присутствующих, он добавил:
– И тогда погибнет не только Республика, ваши интересы тоже окажутся в опасности; все ваши виллы, ваши статуи, ваши картины, ваши пруды и ваши рыбы, которых вы так старательно откармливаете, ваши деньги, ваши сокровища, вся эта ваша роскошь, с которой придется проститься, – все это обещано в награду тем, кто проголосует за него.
Тогда некий Фавоний, друг Катона, предложил выдвинуть против него обвинение в подкупе избирателей. На их стороне было три закона: закон Авфидия, согласно которому покупатель голосов должен был выплачивать каждый год по три тысячи сестерциев каждой трибе; закон Цицерона, который к этим трем тысячам штрафа, помноженным на число всех триб Рима, добавлял десять лет ссылки; наконец, закон Кальпурния, который привлекал к наказанию тех, кто позволил себя подкупить.
Но Катон выступил против этого предложения.
– Обвинять своего соперника, – сказал он, – это значит признать свое поражение.
Вопрос что делать? снова повис над ассамблеей.
– Именем Юпитера! – воскликнул вдруг Цицерон, – нужно сделать то же, что и он! Если это средство хорошо для него, значит, и мы можем использовать его для наших целей!
– А что скажет Катон? – раздались одновременно три или четыре голоса.
Катон размышлял.
– Сделаем так, как предложил Цицерон, – сказал он. – Филипп Македонский не знал такой крепости, которую нельзя было бы взять, если только была лазейка, через какую в нее можно было бы ввести маленького ослика, нагруженного золотом. Цезарь и Луций покупают трибы; надбавим цену, и они станут нашими.
– Но, – вскричал Бибул, – я не настолько богат, чтобы потратить пятнадцать или двадцать миллионов на одни выборы; такие средства хороши для Цезаря, у которого нет ни драхмы, но к услугам которого кошельки всех ростовщиков Рима.
– Это так, – сказал Катон; – но все вместе мы богаче его. И потом, если нам не хватит частных средств, мы почерпнем их из Казны. Давайте же, пусть каждый назовет свою цену.
Каждый назвал свою цену. – Ни Плиний, ни Веллей не называют суммы, которую удалось добыть в ходе этого сбора пожертвований; но, по-видимому, она была довольно существенной, поскольку Луций провалился, а Бибул был назначен консулом вместе с Цезарем.
Едва придя к власти, Цезарь тут же взялся за земельный закон. Каждый по очереди принимался за него, чтобы оживить свою популярность, и находил в нем свою погибель.
Попробуем рассказать покороче, что представлял собой земельный закон у римлян. Вы увидите, что он не походил ни на что из того, что мы себе воображаем.
Глава 22
Античное военное право, особенно в ранние времена существования Рима, не оставляло побежденным никакой собственности. Завоеванная территория разделялась на три части: одна часть посвящалась богам, другая часть отходила к Республике, а третья отдавалась завоевателям.
Эту последнюю часть распределяли между ветеранами, и на ней обосновывались колонии.
Часть, предназначенная богам, присваивалась храмами; ею заведовали жрецы.
Оставалась часть, предназначенная Республике, ager publicus.
Судите сами, – когда вся Италия, а после Италии Греция, Сицилия, Испания, Африка и Азия были завоеваны, – судите сами, что такое была эта часть, принадлежащая Республике, этот ager publicus.
Повсюду это были огромные владения, которые оставались невозделанными; владения ненарушимые, которые Республика не могла продавать, а могла только сдавать внаем.
Какова же была суть закона, по которому эти земли сдавались?
Его цель заключалась в том, чтобы создать небольшие фермы, на которых трудились бы семьи земледельцев, снимая с богатой италийской земли по два-три урожая в год; то есть сделать так, как было сделано во Франции после дробления земельной собственности: чтобы три или четыре югера могли прокормить семью.
Этого не случилось. Это, как вы понимаете, было слишком тяжело для чиновников Республики. А как же возможность потребовать взятку за аренду двух или трех югеров? Землю стали сдавать внаем на пять и на десять лет.
Фермеры, со своей стороны, обнаружили, что существует вещь, которая требовала меньше труда и издержек, а приносила больше, чем земледелие, – это было разведение скота. Земли были пущены под луга, и на них стали выпасать овец и быков. Были и такие хозяйства, где земли даже не потрудились превратить в пастбища, а разместили на них свиней.
В этом была и другая выгода: для того, чтобы вспахать, засеять и убрать поле в четыреста югеров, требовалось десять лошадей и двадцать помощников; для того, чтобы держать три, четыре, пять, шесть стад, достаточно было трех, четырех, пяти, шести рабов.
Арендная плата, впрочем, выплачивалась Республике, – как и по сию пору она выплачивается в Италии, – натуральным продуктом. Эта плата составляла: для земель, пригодных для засевания, одна десятая часть; для лесов, одна пятая; для пастбищ, определенное число голов скота в зависимости от общего поголовья, которое на них выпасалось.
Эта арендная плата вносилась, как и было обусловлено; вот только когда стало очевидно, что доход от разведения скота выше, чем от земледелия, хлеб, овес и дерево стали покупать; и платили купленным хлебом, овсом и деревом, а вместо зерна выращивали скот.
Понемногу пятилетняя аренда сменилась десятилетней, десятилетняя – двадцатилетней, и так, из десятилетия в десятилетие, аренда стала долгосрочной.
Народные трибуны, видя, к каким злоупотреблениям может привести существующее положение вещей, добились принятия закона, который запрещал арендовать более пятисот югеров земли и иметь стадо более чем в сто голов крупного скота и пятьсот мелкого.
Тот же закон предписывал фермерам брать на службу определенное число свободных людей для проверки их собственности и надзора за ней.
Ни одно из этих положений не соблюдалось. Квесторы получили свои взятки и закрыли на все глаза.
Вместо пятисот югеров земли арендаторы, переписывая путем мошеннических операций излишки на своих друзей, имели тысячу, две тысячи, десять тысяч; вместо ста голов крупного скота и пятисот мелкого они имели пятьсот, тысячу, полторы тысячи.
Независимые надзиратели были устранены под предлогом военной службы: каким плохим гражданином должен быть квестор, чтобы не оправдать подобное дезертирство благом отечества? На отсутствие надзирателей глаза закрыли точно так же, как и на все остальное.
Рабы, которых никогда не призывали к военной службе, свободно плодились, тогда как свободное население, напротив, постепенно редело и исчезало, и, в конце концов, самые богатые и почтенные граждане, фермеры из поколения в поколение на протяжении ста пятидесяти лет, стали считать себя собственниками этой земли, которая на самом деле, как гласит ее название, принадлежала нации.
Так что вы можете вообразить себе, какой крик подняли эти псевдо-собственники, когда стали выдвигаться предложения, чтобы ради общественного блага, то есть ради неких высших соображений, были расторгнуты эти арендные договора, на которых зиждилось их благополучие… и какое благополучие!
Оба Гракха лишились из-за этого жизни.
По возвращении из Азии Помпей уже пригрозил Риму новым земельным законом; народ его не пугал; Помпея, представителя аристократии, народ заботил мало: он думал, прежде всего, об армии и о том, как обеспечить своих солдат.
Но, разумеется, он натолкнулся на противника в лице Цицерона.
Цицерон, человек среднего сословия, этот Одилон Барро своего времени[25], предложил купить земли, а не отбирать их; он отпускал на эту покупку новые доходы Республики за последние пять лет.
Скажем заодно, что Помпей увеличил доходы государства более чем в два раза; он поднял их с пятидесяти до ста тридцати миллионов драхм, иначе говоря, с сорока миллионов до ста восьми миллионов в год. Так что эта разница за последние пять лет составляла от трехсот сорока до трехсот пятидесяти миллионов. Сенат отверг предложение Помпея и, как говорили во времена конституционного правления, перешел к очередным задачам.
Следующим за это дело взялся Цезарь, приступив к нему с того самого места, где оно застряло; только он соединил интересы народа с интересами армии. Это его новое предприятие наделало много шума.
Земельного закона, конечно, боялись: столько интересов было связано с теми злоупотреблениями долгосрочной арендой, о которых мы дали вам некоторое представление! но чего боялись больше всего, – и Катон сказал об этом вслух, – так это огромной популярности, которую завоюет тот, кому удастся претворить его в жизнь… А надо сказать, что шансы Цезаря были очень велики.
Похоже, что земельный закон Цезаря был лучшим из всех, которые были предложены до него.
Перед нами лежит История консулата Цезаря, написанная Дионом Кассием[26], и вот что мы читаем в ней:
«Земельный закон, предложенный Цезарем, был совершенно безупречен. С одной стороны, народ голодал и бездействовал, и его очень важно было занять сельским трудом; с другой стороны, Италия становилась все более пустынной, и ее следовало вновь заселить.
Цезарь достигал этого, не нанося Республике ни малейшего вреда: он разделял земли ager publicus, в частности, Кампанию, между теми, у кого было трое и более детей; Капуя становилась римской колонией.
Но поскольку одного ager publicus было недостаточно, дополнительная земля покупалась у частных владельцев по стоимости ценза за деньги, добытые Помпеем в войне с Митридатом, двадцать тысяч талантов (сто сорок миллионов); эти деньги предполагалось пустить на основание колоний, где разместятся солдаты, завоевавшие Азию».
И в самом деле, как видите, трудно было что-либо исправить в этом законе, который устраивал почти всех, за исключением сената, который страшился популярности Цезаря.
Он устраивал народ, для которого он предполагал создать великолепную колонию в самой красивой местности и на самых плодородных землях Италии. Он устраивал Помпея, который видел в нем воплощение своего главного желания – наградить свою армию. Он почти устраивал Цицерона, у которого, можно сказать, похитили его идею.
Но только вспомним, что коллегой Цезаря был назначен Бибул, с тем, чтобы сенат имел в его лице воплощение постоянной оппозиции. И Бибул постоянно выступал против этого закона.
Сначала Цезарь вовсе не хотел применять силу. Он заставил народ упрашивать Бибула. Бибул упирался. Цезарь решил взять быка за рога; это современная поговорка, но, должно быть, в античные времена тоже говорили что-нибудь в этом роде. Он зачитал свой закон в сенате; потом, после чтения, он по очереди обратился ко всем сенаторам.
Все одобрили закон кивком, и все отвергли его голосованием. Тогда Цезарь вышел из сената и обратился к Помпею:
– Помпей, спросил он, ты знаешь мой закон и ты одобряешь его; но согласен ли ты его поддержать?
– Да, – громко ответил Помпей.
– Но каким образом? – спросил Цезарь.
– О! тебе нет нужды беспокоиться, – ответил Помпей; – потому что если кто-то нападет на него с мечом, у меня найдутся против него мечи и щиты.
Цезарь протянул Помпею руку; Помпей подал ему свою.
Народ разразился рукоплесканиями, видя, как два победителя заключают между собой союз для дела, в котором он, народ, кровно заинтересован.
В этот миг Красс вышел из сената. Он подошел к Помпею, с которым, как мы уже знаем, Цезарь помирил его.
– Если вы заключаете союз, – сказал он, – то я тоже в нем.
– Тогда, – сказал Цезарь, присоедините вашу руку к нашим.
Сенат был повержен. Против него была популярность, то есть Помпей; гений, то есть Цезарь; деньги, то есть Красс. С этого часа начала свой отсчет эра первого триумвирата. Голос этих троих, объединившихся между собой, стоил голосов миллиона избирателей!
Глава 23
Скрепив союз клятвой, Помпей, Цезарь и Красс начали расчищать для себя место.
Весь сенат целиком был им враждебен. Эту враждебность воплощали Катон, Бибул и Цицерон, который уже решительно объявил себя противником Помпея; прежде очень преданный ему, он счел себя плохо вознагражденным за эту преданность, и сделался его врагом.
Для начала они занялись скреплением союза политического союзами брачными. Как мы помним, Помпей развелся со своей женой, заподозренной и даже уличенной в любовной связи с Цезарем. Помпей женился на дочери Цезаря.
Цезарь развелся со своей женой, дочерью Помпея, под тем предлогом, что жена Цезаря должна быть даже вне подозрений. Цезарь женился на дочери Пизона.
Пизон на следующий год станет консулом.
Цепион, – который был обручен с дочерью Цезаря, ставшей теперь женой Помпея, – Цепион женился на дочери Помпея и удовольствовался тем, что стал не зятем Цезаря, а его свояком.
– О Республика! – вскричал Катон, ты превратилась в сводню, и отныне провинции и консулаты станут просто-напросто свадебными подарками.
А почему жена Цезаря оказалась под подозрением? Расскажем об этом.
Человек, который ее скомпрометировал, сыграет довольно любопытную роль в событиях 693, 694 и 695 годов от основания Рима, так что мы ненадолго займемся им.
В Риме существовал один очень почитаемый праздник – праздник в честь Доброй Богини. Местом проведения торжества всегда был дом одного из высших магистратов, претора или консула. В январе 693 года празднования проходили в доме Цезаря; а на них запрещено было появляться мужчинам, причем запрет был так строг, что не допускалось не только присутствие мужчин, но и мужских особей животных и даже статуй с признаками мужественности.
Кто была эта Добрая Богиня?
Ответ на этот вопрос очень сложен, и основан он исключительно на догадках.
По всей вероятности, Добрая Богиня воплощала собой некую пассивную сущность – мать-родоначальницу, или, если можно так выразиться, форму, из которой было отлито человечество. Для одних это была Фауна, жена Фавна, – это было обычное мнение; для других это была либо Опс, жена Сатурна, либо Майя, жена Вулкана; для знатоков это была Земля – земля, родящая хлеб.
Откуда она пришла, эта Добрая Богиня? Возможно, из Индии; об этом мы сейчас скажем пару слов; вот только ее символическое изображение находилось в Пессинунте, городе в Галатии[27].
Камень, напоминавший своими бесформенными очертаниями статую, упал с неба, и был у галатов предметом великого поклонения.
Один из расчетов римлян заключался в том, чтобы свести всех богов в свой пантеон. Таким образом, Рим становился средоточием не только всей Италии, но и всего Мироздания. Они отправили к Аттале торжественное посольство, чтобы заполучить это изваяние. Аттала отдал посланцам священный камень: одни полагали, что это метеорит; другие, что это глыба магнитного железняка.
Хотите узнать, какой путь преодолел корабль, пока добрался от берегов Фригии до Рима? Прочтите Овидия. Вы последуете за этим кораблем через Эгейское море, затем через Мессенский пролив в Тирренское море, и наконец до священного острова на Тибре, посвященного Эскулапу.[28]
