Боги жаждут бесплатное чтение
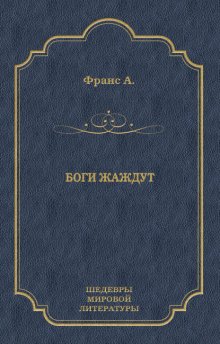
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
Глава I
Эварист Гамлен, художник, ученик Давида{2}, член секции{3} Нового моста, прежде – секции Генриха IV, ранним утром отправился в бывшую церковь варнавитов, которая уже в течение трех лет, с 21 мая 1790 года, служила местом общих собраний секции. Церковь эта находилась на тесной, мрачной площади, близ решетки Дворца правосудия. На фасаде, составленном из двух классических ордеров, украшенном плошками и опрокинутыми консолями, пострадавшем от времени, потерпевшем от людей, религиозные эмблемы были сбиты, и на их месте, над главным входом, черными буквами вывели республиканский девиз: Свобода, Равенство и Братство – или Смерть. Эварист Гамлен вошел внутрь: своды, некогда внимавшие богослужениям клириков конгрегации апостола Павла, облаченных в стихари, теперь взирали на патриотов в красных колпаках, которые сходились сюда для выборов муниципальных чиновников и для обсуждения дел секции. Святых вытащили из ниш и заменили бюстами Брута, Жан-Жака и Лепелетье{4}. На разоренном алтаре высилась доска с Декларацией прав человека{5}.
Здесь-то дважды в неделю, от пяти до одиннадцати вечера, и происходили публичные собрания. Церковная кафедра, убранная национальными флагами, служила ораторам трибуной. Против нее, направо, соорудили из грубо отесанных досок помост для женщин и детей, которые охотно посещали эти собрания. В то утро за столом у самого подножия кафедры сидел в красном колпаке и карманьоле{6} столяр с Тионвильской площади, гражданин Дюпон-старший, один из двенадцати членов Наблюдательного комитета. На столе стояли бутылка, стаканы, чернильница и лежала тетрадка с текстом петиции, предлагавшей Конвенту изъятие из его лона двадцати двух недостойных членов.
Эварист Гамлен взял перо и поставил свою подпись.
– Я был уверен, что ты присоединишь свой голос, гражданин Гамлен, – сказал член комитета. – Ты настоящий патриот. Но в секции мало пыла; ей не хватает доблести. Я предложил Наблюдательному комитету не выдавать свидетельства о гражданской благонадежности тем, кто не подпишет петицию.
– Я готов своей кровью подписать приговор предателям-федералистам, – сказал Гамлен. – Они хотели смерти Марата – пусть погибнут сами.
– Равнодушие – вот что нас губит, – ответил Дюпон-старший. – В секции, насчитывающей девятьсот полноправных членов, не наберется и полсотни посещающих собрания. Вчера нас было двадцать восемь человек.
– Что ж, – заметил Гамлен, – надо под угрозою штрафа обязать граждан приходить на собрания.
– Ну нет, – возразил столяр, хмуря брови, – если явятся все, то патриоты окажутся в меньшинстве… Гражданин Гамлен, хочешь выпить стаканчик вина за здоровье славных санкюлотов?..{7}
На церковной стене, налево от алтаря, рядом с надписями Гражданский комитет, Наблюдательный комитет, Комитет призрения, красовалась черная рука с вытянутым указательным пальцем, направленным в сторону коридора, соединявшего церковь с монастырем. Немного дальше, над входом в бывшую ризницу, была выведена надпись: Военный комитет. Войдя в эту дверь, Гамлен увидел секретаря комитета за большим столом, заваленным книгами, бумагами, стальными болванками, патронами и образцами селитроносных пород.
– Привет, гражданин Трюбер. Как поживаешь?
– Я?.. Великолепно.
Секретарь Военного комитета Фортюне Трюбер неизменно отвечал так всем, кто справлялся о его здоровье, и делал это не столько с целью удовлетворить их любопытство, сколько из желания прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Ему было только двадцать восемь лет, но он уже начинал лысеть и сильно горбился; кожа у него была сухая, на щеках играл лихорадочный румянец. Владелец оптической мастерской на набережной Ювелиров, он продал в девяносто первом году старинную отцовскую фирму одному из своих старых приказчиков, чтобы всецело отдаться общественным обязанностям. От матери – прелестной женщины, которая скончалась в возрасте двадцати лет и о которой местные старожилы вспоминали с умилением, – он унаследовал красивые глаза, мечтательные и страстные, бледность и застенчивость. Отца, ученого оптика, придворного поставщика, умершего, не достигнув тридцати лет, от того же недуга, он напоминал прилежанием и точным умом.
– А ты, гражданин, как поживаешь? – спросил он, продолжая писать.
– Прекрасно. Что нового?
– Ровно ничего. Как видишь, здесь все спокойно.
– Каково положение?
– Положение по-прежнему без перемен.
Положение было ужасно. Лучшая армия Республики была блокирована на Майнце; Валансьен – осажден, Фонтене – захвачен вандейцами, Лион восстал, Севенны – тоже, испанская граница обнажена; две трети департаментов были объяты возмущением или находились в руках неприятеля. Париж – без денег, без хлеба, под угрозой австрийских пушек.
Фортюне Трюбер продолжал спокойно писать. Постановлением Коммуны{8} секциям было предложено произвести набор двенадцати тысяч человек для отправки в Вандею, и он был занят составлением инструкций по вопросу о вербовке и снабжении оружием солдат, которых была обязана выставить от себя секция Нового моста, бывшая секция Генриха IV. Все ружья военного образца должны были быть сданы вновь сформированным отрядам. Национальная же гвардия оставляла себе только охотничьи ружья и пики.
– Я принес тебе список колоколов, которые надлежит отправить в Люксембург для переливки в пушки, – сказал Гамлен.
Эварист Гамлен, при всей своей бедности, был полноправным членом секции. По закону избирателем мог быть лишь гражданин, уплачивавший налог в размере трехдневного заработка; а правом быть избранным пользовались лишь те, кто уплатил налог в сумме десятидневного заработка. Однако секция Нового моста, увлеченная идеей равенства и ревностно оберегающая свою автономию, предоставляла и активное и пассивное право всякому гражданину, приобретшему на собственные средства полное обмундирование национального гвардейца. Именно так обстояло дело с Гамленом, который был полноправным членом секции и членом Военного комитета.
Фортюне Трюбер отложил в сторону перо.
– Гражданин Эварист, ступай в Конвент и потребуй присылки инструкций для обследования почвы в погребах, выщелачивания земли и камней в них и добычи селитры. Пушки – еще не всё: нужен также и порох.
В бывшую ризницу вошел маленький горбун с пером за ухом и бумагами в руке. Это был гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета.
– Граждане, – сказал он, – мы получили дурные вести: Кюстин{9} вывел войска из Ландау.
– Кюстин – изменник! – воскликнул Гамлен.
– Он будет гильотинирован, – сказал Бовизаж.
Трюбер своим слегка запинающимся голосом проговорил с присущим ему спокойствием:
– Конвент недаром учредил Комитет общественного спасения. Там расследуют вопрос о поведении Кюстина. Независимо от того, изменник ли Кюстин или просто человек неспособный, на его место назначат полководца, твердо решившего победить, и Са ira![1]
Он перебрал несколько бумаг, скользнув по ним усталым взором.
– Чтобы наши солдаты без смущения и колебаний выполняли свой долг, им необходимо знать, что судьба тех, кого они оставили дома, обеспечена. Если ты, гражданин Гамлен, согласен с этим, то на ближайшем собрании потребуй вместе со мной, чтобы Комитет призрения сообща с Военным комитетом установили выдачу пособий неимущим семьям, родственники которых в армии.
Он улыбнулся и стал напевать:
– Са ira! Са ira!
Просиживая по двенадцать, по четырнадцать часов в день за своим некрашеным столом, на страже отечества, находящегося в опасности, скромный секретарь комитета секции не замечал несоответствия между огромностью задачи и ничтожностью средств, бывших в его распоряжении, – настолько чувствовал он себя слитым в едином порыве со всеми патриотами, настолько был он нераздельной частью нации, настолько его жизнь растворилась в жизни великого народа. Он принадлежал к числу тех терпеливых энтузиастов, которые после каждого поражения подготовляли немыслимый и вместе с тем верный триумф. Ведь им следовало победить во что бы то ни стало. Эта голь перекатная, уничтожившая королевскую власть, опрокинувшая старый мир, этот незначительный оптик Трюбер, этот безвестный художник Эварист Гамлен не ждали пощады от врагов. Победа или смерть – другого выбора для них не было. Отсюда их пыл и спокойствие духа.
Глава II
Выйдя из церкви варнавитов, Эварист Гамлен направился на площадь Дофина, переименованную в Тионвильскую в честь города, стойко выдержавшего осаду.
Расположенная в одном из наиболее людных кварталов Парижа, площадь эта уже около века назад утратила свою красивую внешность: особняки, все, как один, из красного кирпича с подпорками из белого камня, сооруженные по трем сторонам ее в царствование Генриха IV для видных магистратов, теперь либо сменили благородные аспидные крыши на жалкие оштукатуренные надстройки в два-три этажа, либо были срыты до основания, бесславно уступив место домам с неправильными, плохо выбеленными фасадами, убогими, грязными, прорезанными множеством узких, неодинакового размера окон, в которых пестрели цветочные горшки, клетки с птицами и сушившееся белье. Дома были густо населены ремесленным людом: золотых дел мастерами, чеканщиками, часовщиками, оптиками, типографами, белошвейками, модистками, прачками и несколькими старыми стряпчими, пощаженными шквалом, который смёл представителей королевской юстиции.
Было утро. Была весна. Юные солнечные лучи, пьянящие, как молодое вино, смеялись на стенах и весело пробирались в мансарды. Опускающиеся, как гильотина, оконные рамы все были подняты, и под ними виднелись нечесаные головы хозяек. Секретарь Революционного трибунала, направляясь на службу, мимоходом трепал по щекам детей, игравших под деревьями. На Новом мосту кричали об измене негодяя Дюмурье{10}.
Эварист Гамлен жил на набережной Башенных Часов, в здании, сооруженном при Генрихе IV, которое и по сие время сохранило бы довольно привлекательный вид, если бы не маленький чердак, крытый черепицей, надстроенный при предпоследнем тиране. С целью приспособить особняк какого-то старого члена парламента{11} к укладу семей мещан и ремесленников, населявших этот дом, в нем, где только можно было, понастроили перегородок и антресолей. В одной из таких каморок, сильно уменьшенных в вышину и в ширину, проживал гражданин Ремакль, консьерж и в то же время портной. Сквозь стеклянную дверь с улицы было видно, как он сидел на столе, поджав под себя ноги и упершись затылком в потолок, за шитьем мундира национального гвардейца, между тем как гражданка Ремакль, плита которой не имела другой тяги, кроме лестницы, отравляла жильцов чадом своей стряпни, а на пороге Жозефина, их дочурка, перепачканная патокой, но прелестная, как ясный день, играла с Мутоном, собакой столяра. По слухам, любвеобильная гражданка Ремакль, пышногрудая и пышнобедрая женщина, дарила благосклонностью гражданина Дюпона-старшего, одного из двенадцати членов Наблюдательного комитета. Во всяком случае, муж сильно подозревал ее в этом, и супруги Ремакль оглашали дом бурными ссорами, чередовавшимися с не менее бурными примирениями. Верхние этажи занимали гражданин Шапрон, ювелир, державший лавку на набережной Башенных Часов, военный лекарь, стряпчий, золотобит и несколько судейских служащих.
Эварист Гамлен поднялся по старинной лестнице на пятый, и последний, этаж, где у него была мастерская с комнаткой для матери. Тут уже кончались деревянные, выложенные изразцами ступени, сменившие широкие каменные ступени нижних этажей. Приставленная к стене лесенка вела в чердачное помещение, откуда в эту минуту как раз спускался пожилой толстяк. Румяное лицо его дышало здоровьем. С трудом прижимая к груди огромный сверток, он все же напевал: «Я потерял, увы, слугу…»
Прекратив пение, он учтиво пожелал Гамлену доброго утра. Эварист дружески поздоровался с ним и помог снести вниз пакет, за что старик был ему очень признателен.
– Это – картонные плясуны, – пояснил он, снова беря свою ношу, – я несу их торговцу игрушками на улице Закона. Здесь целый народ, все – мои создания, я даровал им бренное тело, не знающее ни радостей, ни страданий. Но я не наделил их способностью мыслить, ибо я – бог благостный.
Это был гражданин Морис Бротто, бывший откупщик и дворянин: его отец, нажившись на делах, купил себе дворянство. В доброе старое время Морис Бротто именовался господином дез Илетт и в своем особняке на улице Лашез задавал изысканные ужины, которые освещала своим присутствием прелестная госпожа де Рошмор, жена прокурора, превосходная женщина, честно сохранявшая неизменную верность Морису Бротто дез Илетт, пока революция не лишила его должностей, доходов, особняка, поместий, титула. Революция отняла у него все. Ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, рисуя в воротах портреты прохожих, продавая на Сыромятной набережной блины и оладьи собственного изготовления, сочиняя речи для народных представителей, обучая танцам юных гражданок. В настоящее время у себя на чердаке, куда надо было карабкаться по приставной лесенке и где нельзя было выпрямиться во весь рост, Морис Бротто, запасшись горшком с клеем, клубком веревки, ящиком акварельных красок, обрезками картона, мастерил картонных плясунов и сбывал свои изделия оптовикам, а те перепродавали их бродячим торговцам игрушками, которые носили их по Елисейским Полям на длинных жердях, вызывая вожделение ребятишек. В водовороте общественных событий, невзирая на бедствия, постигшие его лично, Бротто сохранял безмятежную ясность духа и читал для развлечения Лукреция, которого всюду таскал с собою в оттопыренном кармане коричневого сюртука.
Эварист Гамлен толкнул входную дверь в свое жилище. Она сразу подалась. Бедность позволяла ему не заводить замка, и, когда мать по привычке задвигала засов, он говорил: «К чему? Никто не станет воровать паутину, а мои картины – тем паче». Покрытые толстым слоем пыли или прислоненные к стене, грудами были свалены в мастерской его первые работы, когда он писал, следуя моде, любовные сцены, робкой, зализанной кистью выводил колчаны без стрел, спугнутых птиц, опасные забавы, мечты о счастье, приподымал юбки у птичниц и расцвечивал розами перси пастушек.
Но эта манера отнюдь не соответствовала его темпераменту. Холодно трактованные игривые сцены обличали неисправимое целомудрие живописца. Знатоки не ошибались на его счет, и Гамлен никогда не слыл у них мастером эротического жанра. Теперь, хотя он еще не достиг тридцати лет, ему казалось, что сюжеты эти относятся к незапамятным временам. Он видел в них растление нравов, неизбежное при монархическом строе, и развращенность двора. Он раскаивался в том, что сам увлекался столь презренным жанром и под влиянием рабства дошел до нравственного падения. Теперь, гражданин свободной нации, он мощными штрихами набрасывал фигуры Свобод, Прав Человека, французских Конституций, республиканских Добродетелей, народных Гераклов, повергающих наземь гидру Тирании, и вкладывал в эти произведения весь свой патриотический пыл. Увы, эти картины тоже не давали ему средств к существованию. Времена для художников были тяжелые. И, разумеется, не по вине Конвента, рассылавшего во все стороны свои армии против королей; гордого, неустрашимого Конвента, не отступившего перед сплоченной Европой, вероломного и безжалостного по отношению к самому себе; Конвента, раздиравшего себя собственными руками, провозгласившего очередной задачей террор, учредившего для наказания заговорщиков беспощадный Трибунал, с тем чтобы вскоре отдать ему на съедение собственных членов, и в то же время спокойного, вдумчивого друга наук и всего прекрасного; Конвента, реформировавшего календарь, основывавшего специальные школы, объявлявшего конкурсы живописи и ваяния, учредившего премии для поощрения художников, устраивавшего ежегодные выставки, открывшего Музей и по примеру Афин и Рима придававшего торжественный характер общественным празднествам и дням народного траура. Но французское искусство, когда-то пользовавшееся таким успехом в Англии, в Германии, в России и в Польше, не находило теперь сбыта за границей. Любители живописи, ценители искусства, вельможи и финансисты были разорены, эмигрировали или скрывались. Люди же, которых революция обогатила, – крестьяне, скупавшие национализированные поместья, спекулянты, поставщики армий, содержатели игорных домов в Пале-Рояле – еще не отваживались выставить напоказ свое богатство да к тому же совсем не интересовались живописью. Чтобы продать картину, нужно было обладать известностью Реньо{12} или ловкостью молодого Жерара{13}. Грёз{14}, Фрагонар{15}, Гуэн{16} дошли до нищеты. Прюдону{17} с трудом удавалось прокормить жену и детей, делая рисунки, которые Копиа гравировал пунктиром. Художники-патриоты, Эннекен, Викар, Топино-Лебрен{18}, голодали. Гамлен, у которого не было средств ни на оплату натурщика, ни на покупку красок, поневоле оставил, едва приступив к работе, огромное полотно, изображавшее «Тирана, преследуемого фуриями в аду». Оно занимало половину мастерской своими незаконченными страшными фигурами больше натуральной величины и множеством зеленых змей с изогнутыми раздвоенными жалами. На переднем плане, слева, стоял в лодке худой, свирепого вида Харон – мощный, прекрасно прорисованный кусок, в котором, однако, чувствовалось ученичество. Гораздо больше даровитости и естественности было в другой картине, меньших размеров, тоже незаконченной и висевшей в самом светлом углу мастерской. Она изображала Ореста, которого сестра его Электра приподымает на ложе скорби{19}. Девушка трогательным жестом поправляла брату спутанные волосы, падающие ему на глаза. Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом художника.
Гамлен часто с грустью смотрел на эту композицию. Порою его руки, дрожавшие от желания схватить кисть, тянулись к смело набросанной фигуре Электры, но сразу же беспомощно опускались. Художник горел воодушевлением и был полон великих замыслов. Но ему приходилось тратить силы на выполнение заказов, которые удавались ему весьма посредственно, потому что он должен был удовлетворять пошлым вкусам толпы, а также и потому, что не умел сообщать отпечаток таланта всяким пустякам. Он рисовал маленькие аллегорические картинки, которые его товарищ Демаи довольно искусно гравировал в одну или несколько красок и которые за бесценок скупал гражданин Блез, торговец эстампами на улице Оноре. Но продажа эстампов шла изо дня в день хуже и хуже, как уверял Блез, с некоторого времени уже не желавший ничего приобретать.
На этот раз, однако, Гамлену, которого нужда делала изобретательным, пришла в голову счастливая и – так, по крайней мере, казалось ему – новая мысль, осуществление которой должно было обогатить торговца эстампами, гравера и его самого. Речь шла о колоде патриотических карт, в которой короли, дамы и валеты старого режима были бы заменены Гениями, Свободами и Равенствами. Он сделал наброски всех фигур, большинство закончил совсем и торопился сдать Демаи те, которые уже можно было гравировать. Фигура, казавшаяся ему наиболее удачной, представляла собой волонтера в треуголке, синем мундире, с красными отворотами, желтых штанах и черных гетрах; он сидел на барабане, зажав ружье меж колен и упершись ногами в кучу ядер. Это был «гражданин червей», явившийся на смену валету червей. Уже больше полугода рисовал Гамлен волонтеров, и все с тем же увлечением. В дни всеобщего подъема он продал несколько рисунков. Остальные висели на стенах в мастерской. Пять-шесть набросков, исполненных акварелью, гуашью, двухцветным карандашом, валялись на столе и на стульях. В июле девяносто второго года, когда на всех парижских площадях были воздвигнуты помосты для вербовки солдат, когда из всех кабачков, украшенных гирляндами, неслись крики: «Да здравствует нация! Жить свободно или умереть!» – Гамлен, проходя по Новому мосту или мимо ратуши, всем существом рвался туда, к убранному национальными флагами шатру, где магистраты в трехцветных повязках под звуки Марсельезы производили запись добровольцев. Но, поступив в армию, он оставил бы мать без куска хлеба.
Тяжело дыша, так что ее было слышно еще за дверью, вся красная, взволнованная, обливаясь потом, вошла в мастерскую гражданка вдова Гамлен. Национальная кокарда, небрежно приколотая ею к чепцу, могла упасть каждую минуту. Поставив на стул корзинку, она остановилась, чтобы передохнуть, и стала жаловаться на дороговизну продовольствия.
При жизни мужа гражданка Гамлен торговала ножевыми изделиями на улице Гренель-Сен-Жермен, под вывеской «Город Шательро», а теперь, находясь на иждивении сына-художника, вела его скромное хозяйство. Эварист был старший из двоих ее детей. О дочери Жюли, бывшей модистке с улицы Оноре, лучше было и не спрашивать: она бежала за границу с аристократом.
– Господи боже мой, – вздохнула гражданка, показывая сыну серую, плохо пропеченную ковригу, – хлеб все дорожает, да он теперь и не чистый пшеничный. На рынке не найти ни яиц, ни овощей, ни сыру. А питаясь каштанами, сам станешь каштановым.
Помолчав, она продолжала:
– Я видела на улице женщин, которым нечем кормить младенцев. Для бедняков наступили тяжелые времена. И так будет до тех пор, пока не восстановится порядок.
– В недостатке съестных припасов, от которого все мы страдаем, матушка, виноваты скупщики и спекулянты, – сказал Гамлен, нахмурившись, – они морят голодом народ и вступают в соглашение с внешними врагами, стараясь вызвать у граждан ненависть к Республике и уничтожить свободу. Вот к чему приводят заговоры приверженцев Бриссо{20}, предательство Петионов{21} и Роланов!{22} Хорошо еще, что федералисты с оружием в руках не явятся в Париж и не перебьют патриотов, не успевших погибнуть от голода. Нельзя терпеть ни минуты: необходимо установить твердые цены на муку и гильотинировать всех, кто спекулирует съестными припасами, сеет в народе смуту или завязывает преступные сношения с заграницей. Конвент только что учредил Чрезвычайный трибунал для дел о заговорах. В него входят одни лишь патриоты, но хватит ли у них энергии, чтобы защищать отечество от всех его врагов? Будем надеяться на Робеспьера: он добродетелен. В особенности будем надеяться на Марата: он любит народ, понимает его подлинные нужды и служит им. Он первый всегда разоблачал изменников, раскрывал заговоры. Он неподкупен и неустрашим. Он один может спасти Республику, которой угрожает гибель.
Гражданка Гамлен покачала головой, и кокарда упала с ее чепца.
– Полно, Эварист: твой Марат такой же человек, как и все, и ничем не лучше других. Ты молод, ты увлекаешься. То, что ты сейчас говоришь о Марате, ты говорил прежде о Мирабо{23}, о Лафайете{24}, Петионе, Бриссо.
– Никогда этого не было! – запротестовал Гамлен, искренне позабыв о недавнем прошлом.
Очистив местечко на некрашеном деревянном столе, заваленном бумагами, книгами, кистями и карандашами, гражданка Гамлен поставила фаянсовый супник, две оловянные миски и кружку дешевого вина, затем положила две железные вилки и пеклеванный хлеб.
Сын и мать молча съели суп и завершили трапезу кусочком свиного сала. Мать степенно подносила к беззубому рту на кончике карманного ножа ломтики хлеба с салом и с уважением прожевывала пищу, стоившую так дорого.
Большую часть она оставила сыну, но тот глубоко о чем-то задумался и казался рассеянным.
– Ешь, Эварист, – говорила она ему время от времени, – ешь.
И эти слова звучали в ее устах торжественно, как заповедь.
Она снова принялась жаловаться на дороговизну жизни. Гамлен еще раз заявил, что твердые цены – единственный выход из положения.
– Ни у кого уже нет денег, – возражала она. – Эмигранты все забрали. И верить больше некому. Есть от чего прийти в отчаяние.
– Перестаньте, матушка, перестаньте! – накинулся на нее Гамлен. – Разве можно придавать значение временным лишениям и невзгодам? Революция навсегда осчастливит человечество!
Старушка обмакнула ломтик хлеба в вино; на душе у нее отлегло, и она с улыбкой стала вспоминать времена своей молодости, когда в день рождения короля она плясала на открытом воздухе. Ей пришел на память день, когда Жозеф Гамлен, ножовщик по профессии, посватался к ней. И она обстоятельно стала излагать, как это произошло. Мать сказала ей: «Приоденься. Мы сейчас отправимся на Гревскую площадь в магазин господина Бьенасси, ювелира, и посмотрим, как будут четвертовать Дамьена»{25}. Им с трудом удалось пробраться сквозь толпу любопытных. У господина Бьенасси девушка встретила Жозефа Гамлена в прекрасном розовом полукафтане и сразу догадалась, к чему идет дело. Все время, пока она смотрела в окно, как цареубийцу терзали щипцами, обливали расплавленным свинцом, разрывали на части, привязав к четырем лошадям, и, наконец, бросили в огонь, Жозеф Гамлен, стоя сзади, не переставал восхищаться цветом ее лица, прической, стройностью ее фигуры.
Осушив до дна стакан, она продолжала мысленно переживать свою жизнь.
– Я родила тебя, Эварист, раньше, чем ожидала… потому что я испугалась, когда меня, беременную, чуть не сбили с ног на Новом мосту любопытные, торопившиеся на казнь господина де Лалли{26}. Ты появился на свет совсем крохотным, и лекарь не думал, что ты выживешь. Но я-то не сомневалась, что Господь по милости Своей сохранит мне тебя. Я воспитывала тебя, как только могла, не жалея ни трудов, ни затрат. Что и говорить, Эварист, ты всегда выказывал мне признательность и уже с детских лет старался отплатить мне за заботы чем только мог. Ты от рождения был кроток и ласков. У твоей сестры тоже незлое сердце, но она отличалась себялюбием и вспыльчивостью. Ты был жалостливее ее ко всем несчастным. Когда соседские мальчишки разоряли птичьи гнезда, ты старался вырвать у них птенцов, чтобы вернуть их матерям, и нередко случалось так, что ты уступал лишь после того, как тебя валили наземь и нещадно избивали. Семилетним ребенком, никогда не вступая в драку с сорванцами, ты спокойно шел по улице, повторяя про себя катехизис; всех нищих, попадавшихся тебе навстречу, ты приводил домой, чтобы я помогла им; мне даже пришлось высечь тебя, чтобы отучить от этой привычки. Ты не мог смотреть без слез на чьи-либо страдания. Когда ты вырос, ты стал очень хорош собою. К великому моему удивлению, ты как будто не догадывался об этом, в отличие от большинства смазливых молодых людей, которые щеголяют и чванятся своей наружностью.
Старушка говорила правду. В двадцать лет у Эвариста было очаровательное и вместе с тем серьезное лицо; это была женственно-строгая красота, черты Минервы. Теперь его темные глаза и бледные щеки свидетельствовали о глубокой печали и затаенных страстях. Но взгляд его, когда он посмотрел на мать, принял на мгновение то кроткое выражение, которое ему было свойственно в ранней юности.
Она продолжала:
– Ты мог бы воспользоваться своей привлекательностью и ухаживать за девушками, но ты предпочитал оставаться со мною в лавке, так что иногда я сама предлагала тебе не держаться за мою юбку, а развлечься с товарищами. И на смертном одре я повторю, Эварист, что ты хороший сын. После кончины отца ты не побоялся взять на себя заботы обо мне, хотя твоя профессия не приносит почти ничего; я благодаря тебе не знала, что такое нужда, и если теперь мы с тобою разорены и обнищали, я тебя не упрекаю: виною всему революция.
У него вырвался жест протеста, но она, пожав плечами, продолжала:
– Я не дворянка. Я знавала аристократов, когда сила была на их стороне, и могу сказать, что они злоупотребляли своими привилегиями. На моих глазах слуги герцога Каналея избили палками твоего отца за то, что он недостаточно быстро посторонился, чтобы уступить дорогу их господину. Я не любила Австриячку{27}, она была слишком высокомерна и расточительна. Короля, правда, я считала неплохим человеком и только после его процесса и осуждения переменила мнение о нем. Словом, я не жалею о старом режиме, хотя и при нем я знавала кой-какую радость. Но не говори мне, что революция установит равенство: люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы вы всё здесь перевернули вверх дном: всегда будут люди знатные и безвестные, жирные и тощие.
Говоря, она убирала посуду. Художник уже не слушал ее. Он набрасывал силуэт санкюлота в красном колпаке и карманьоле, который должен был в его колоде заменить упраздненного валета пик.
Кто-то постучался в дверь, и на пороге показалась молодая крестьянка, коренастая, занимавшая больше места в ширину, чем в высоту, рыжая, кривоногая, с бельмом на левом глазу; правый глаз, бледно-голубого цвета, казался совсем белым; непомерно толстые губы были оттопырены торчащими вперед зубами.
Обратившись к Гамлену, она осведомилась, не он ли живописец и не согласится ли он написать портрет ее жениха, Феррана (Жюля), волонтера Арденнской армии.
Гамлен ответил, что охотно сделает портрет, когда доблестный воин вернется в Париж.
Девушка кротко, но вместе с тем настойчиво продолжала упрашивать, чтобы он сделал это тут же.
Художник, невольно улыбнувшись, возразил, что без оригинала это совершенно невозможно.
Бедняжка ничего не ответила: она не предвидела такого затруднения. Склонив голову на левое плечо, скрестив руки на животе, она не трогалась с места и молчала, по-видимому сильно огорченная. Ее простодушие и трогало и забавляло Гамлена; чтобы утешить незадачливую влюбленную, он сунул ей акварельный рисунок, изображавший волонтера, и спросил, не напоминает ли он ей жениха, находящегося в Арденнах.
Она устремила на бумагу тусклый взор; мало-помалу ее зрячий глаз оживился, потом разгорелся, просиял; широкое лицо расплылось в счастливую улыбку.
– Да это он и есть, – выговорила она наконец. – Это Ферран Жюль как живой, вылитый Ферран Жюль.
Прежде чем художник успел взять у нее рисунок, она толстыми красными пальцами бережно сложила его, так что он превратился в небольшой квадратик, и, сунув его себе за пазуху между рубахой и корсажем, вручила Гамлену ассигнацию в пять ливров, пожелала присутствующим счастливо оставаться и вперевалку радостно вышла из комнаты.
Глава III
В тот же день, после обеда, Эварист отправился к гражданину Жану Блезу, торговавшему под вывеской «Амур-живописец» не только эстампами, но также ларцами, картонажами и всякого рода играми на улице Оноре, напротив Оратории, неподалеку от почтовой конторы. Лавка помещалась в нижнем этаже старого дома, построенного лет шестьдесят тому назад. Над сводчатым пролетом входной двери находилось лепное украшение в виде рогатой головы человекоподобного чудовища, а самая фрамуга была заполнена картиной, писанной маслом и изображавшей «Сицилийца, или Амура-живописца», – копией с картины Буше{28}; она была повешена отцом Жана Блеза еще в 1770 году и с тех пор сильно пострадала от солнца и дождей. По обе стороны двери оконные проемы были украшены наверху головами нимф, а в окнах, за самыми большими стеклами, какие только нашлись в Париже, были выставлены модные эстампы и последние новинки в области цветной гравюры. В тот день там можно было увидеть любовные сцены, грациозно, но, пожалуй, с излишней сухостью изображенные Буайи{29}: «Уроки супружеской любви» и «Кроткое сопротивление», возмущавшие якобинцев и служившие поводом к доносам, которые наиболее ревностные из них делали в Общество искусств; «Народное гулянье» Дебюкура, с щеголем в панталонах канареечного цвета, рассевшимся на трех стульях; коней работы молодого Карла Берне, аэростаты{30}, «Купанье Виргинии» и копии с произведений античной скульптуры.
Из числа граждан, беспрерывным потоком движущихся мимо лавки, дольше всех простаивали перед соблазнительными витринами самые оборванные: наиболее впечатлительные, падкие на всякие зрелища, они старались хотя бы только глазами завладеть своей долей наслаждения в этом мире; раскрыв от восхищения рот, они замирали на месте, между тем как аристократы, скользнув небрежным взором, хмурили брови и проходили мимо.
Издалека еще, едва завидев дом, Эварист устремил взгляд на одно из окон второго этажа, на то, что было налево от входа и в котором за узорной железной решеткой стоял горшок красной гвоздики. Это окно освещало комнату Элоди, дочери Жана Блеза. Торговец эстампами занимал со своей единственной дочерью весь этаж над лавкой.
Задержавшись перед входом как будто для того, чтобы перевести дух, Эварист повернул дверную ручку. Гражданка Элоди только что продала две гравюры Фрагонара-сына и Нежона, которые покупатель тщательно отобрал среди других; прежде чем спрятать в ящик полученные ассигнации, она поочередно подносила их к своим красивым глазам, внимательно рассматривая на свет водяные знаки, полосы и сетку, так как в то время в обращении находилось столько же фальшивых денежных знаков, сколько и настоящих, что наносило большой ущерб торговле. Фальшивомонетчики карались смертной казнью, как некогда преступники, подделывавшие королевскую подпись; тем не менее доски для печатания ассигнаций находили в каждом погребе; швейцарцы миллионами ввозили фальшивые ассигнации во Францию, их разбрасывали пачками в харчевнях; англичане ежедневно выгружали на нашем берегу целые тюки поддельных билетов, чтобы дискредитировать Республику и повергнуть патриотов в нищету. Элоди боялась, что ей всучат фальшивую бумажку, но еще больше боялась, как бы самой не сбыть поддельную ассигнацию и не прослыть таким образом сообщницей Питта{31}. Однако она полагалась на свою счастливую звезду и была уверена, что всегда сумеет выкрутиться.
Эварист посмотрел на нее с тем мрачным видом, который лучше всяких улыбок говорит о любви. Она взглянула на него с чуть-чуть насмешливой гримаской, слегка прищурив черные глаза; придала же она своему лицу такое выражение, во-первых, потому, что сознавала себя любимой, причем это вовсе не было ей неприятно; во-вторых, потому, что такое выражение лица подзадоривает влюбленного, побуждает его изливаться в жалобах, приводит к объяснению, если он этого еще не сделал, – а в данном случае так оно и было.
Спрятав ассигнации в ящик, она достала из рабочей корзинки белый шарф, который вышивала, и принялась за рукоделие.
Она была трудолюбива и кокетлива и так как, сидя над иглой, инстинктивно преследовала две цели одновременно: понравиться мужчине и изготовить себе наряд, то вышивала различно, в зависимости от того, кто смотрел на нее: она вышивала небрежно при тех, кого ей хотелось истомить сладостным ожиданием, и вышивала капризно при тех, кого ей было приятно довести до отчаяния. Теперь она притворилась, будто вся ушла в работу, так как в Эваристе она желала пробудить серьезное чувство.
Элоди была не так уж молода и не так уж хороша собою. С первого взгляда она могла показаться некрасивой. Брюнетка с оливковым цветом лица, она небрежно повязывала голову белой косынкой, из-под которой выбивались иссиня-черные локоны и сверкали, как угли, темно-карие глаза. В ее круглом веселом лице, немного курносом, с выступающими скулами, грубоватом и страстном, художник находил сходство с головою фавна Боргезе{32}, слепок с которой приводил его в восторг своей божественно-шаловливой улыбкой. Усики оттеняли страстность ее рта. Под косынкой, по моде того года повязанной накрест, вздымалась, словно от преизбытка нежности, высокая грудь. Ее гибкий стан, проворные ноги, все ее сильное тело двигалось с очаровательно дикой грацией. Взгляд, дыхание, трепет плоти – все в ней говорило сердцу и сулило любовь. За прилавком она казалась нимфой танца, оперной вакханкой, у которой отняли рысью шкуру, тирс и венок из плюща, чтобы чудесным образом превратить ее в скромную хозяйку в духе Шардена.
– Отца нет дома, – сказала она художнику. – Подождите немного: он скоро вернется.
Смуглые маленькие ручки быстро продевали иглу сквозь тонкий батист.
– Нравится вам этот рисунок, господин Гамлен?
Гамлен не умел притворяться. Да и любовь, придавая смелость, побуждала его быть откровенным.
– Вы вышиваете очень искусно, гражданка, но, если вам угодно знать мое мнение, узор, который вам сделали, недостаточно прост, недостаточно строг и отзывается вычурным вкусом, слишком долго господствовавшим во Франции в искусстве отделки тканей, мебели, панелей. Эти банты, эти гирлянды напоминают бессодержательный, пошловатый стиль, пользовавшийся успехом при последнем тиране. Теперь вкус возрождается. Увы! До хорошего вкуса нам еще далеко. В эпоху гнусного Людовика Пятнадцатого в декоративное искусство проникли китайские влияния. Комоды делали пузатыми, с изогнутыми, нелепыми ручками, и годны они лишь на то, чтобы топить ими печи патриотов. Прекрасна только простота. Необходимо вернуться к древности. Давид делает рисунки кроватей и кресел, заимствуя мотивы с этрусских ваз и фресок Геркуланума{33}.
– Я видела эти кровати и кресла, – подхватила Элоди, – они восхитительны! Скоро на другую мебель никто и смотреть не захочет. Как и вы, я обожаю древность.
– Ну так вот, гражданка, – продолжал Эварист, – если бы вы украсили свой шарф греческим орнаментом, листьями плюща, змеями или скрещенными стрелами, он был бы достоин спартанки… и вас. Вы, впрочем, могли бы сохранить и этот узор, упростив его и сделав более прямолинейным.
Она спросила, что, по его мнению, следует отбросить.
Он наклонился над шарфом – локоны Элоди коснулись его щеки. Руки их встречались, перебирая батист, их дыхание смешивалось. Эварист испытывал в эту минуту бесконечную радость, но, чувствуя губы Элоди так близко от своих губ, он побоялся оскорбить девушку и быстро отстранился.
Гражданка Блез была влюблена в Эвариста Гамлена. Она находила великолепными его большие горящие глаза, его красивое продолговатое лицо, его бледность, густые черные волосы, причесанные на пробор и волнами падавшие на плечи, его важную осанку, холодный вид, суровость его обращения, уверенную речь, свободную от всякой лести. А так как она была в него влюблена, ей казалось, что он обладает талантом великого художника, который рано или поздно проявится в чудесных произведениях искусства и прославит его имя. Мысль об этом усиливала ее любовь. Гражданка Блез не была поклонницей мужской скромности: ее нравственное чувство нисколько не было бы задето, если бы мужчина, уступив голосу страсти, удовлетворил свои желания. Она любила целомудренного Эвариста; она любила его вовсе не за целомудрие, но тем не менее видела в этом известное преимущество: с ним она никогда не узнает ни ревности, ни подозрений, и ей не придется опасаться соперниц.
Однако в эту минуту она находила, что он слишком сдержан. Расинова Арикия, влюбленная в Ипполита, восхищалась суровой добродетелью юного героя, но она не теряла надежды восторжествовать и пришла бы в отчаяние от строгости нравов, окажись Ипполит более стойким. И как только представился случай, она почти призналась ему в любви, чтобы вырвать ответное признание. Подобно нежной Арикии, гражданка Блез была недалека от мысли, что в любви женщина должна брать на себя почин. «Самые любящие, – думала она, – вместе с тем и самые робкие: они нуждаются в поддержке и поощрении. Их наивность так велика, что женщина может пойти очень далеко навстречу мужчине, а он и не заметит этого, если только ему оставить иллюзию, будто он смело повел атаку и одержал славную победу». В конечном исходе дела она нисколько не сомневалась, с тех пор как узнала наверняка (на этот счет у нее не было никаких сомнений), что, пока революция не превратила Эвариста в героя, он любил, как любят все смертные, одну женщину, убогое создание, привратницу Академии.
Элоди, которую никак нельзя было назвать простушкой, различала несколько видов любви. Чувство, внушенное ей Эваристом, было достаточно глубоко, чтобы серьезно задуматься над вопросом о браке. Она охотно вышла бы за него замуж, но опасалась, что отец не согласится на союз единственной дочери с бедным и безвестным художником. У Гамлена не было ничего, торговец же эстампами был крупным денежным воротилой. «Амур-живописец» приносил ему немало дохода, биржевая игра – еще больше, а в последнее время он вступил в компанию с подрядчиком, поставлявшим в кавалерийские части камыш вместо сена и подмоченный овес. Словом, сын ножовщика с улицы Святого Доминика был совсем незначительным человеком по сравнению с издателем эстампов, известным всей Европе, находившимся в родстве с Блезо, Базанами, Дидо{34}, бывавшим запросто у граждан Сен-Пьера и Флориана{35}. Не то чтобы Элоди как послушной дочери представлялось необходимым, устраивая свою судьбу, считаться с волею отца, – Жан Блез, человек алчный, легкомысленный, большой волокита и большой делец, рано овдовев, никогда не уделял дочери особенного внимания; с детства он предоставил ей полную свободу, не навязывая своих советов, дружбы, и не только не наблюдал за ее поведением, а, напротив, старался ничего не замечать, хотя в качестве знатока женщин высоко ценил ее пылкий темперамент и умение пленять сердца – в своем роде более могущественное орудие, чем миловидное лицо. Слишком любвеобильная натура, чтобы беречь себя, слишком рассудительная, чтобы себя погубить, благоразумная даже в своих безумствах, она, принося дань страсти, никогда не забывала требований приличия. Отец был ей чрезвычайно благодарен за эту осторожность, а так как она унаследовала от него коммерческие способности и дух предприимчивости, он не интересовался таинственными причинами, удерживавшими от брака вполне созревшую девушку, и ничего не имел против того, что Элоди остается дома, где она стоит экономки и четырех приказчиков. В двадцать семь лет она сознавала себя достаточно взрослой и опытной, чтобы самой устраивать свою жизнь, и не видела никакой нужды спрашивать совета или следовать воле отца – молодого, легкомысленного и рассеянного. Однако стать женой Гамлена она могла бы лишь в том случае, если бы господин Блез устроил судьбу своего бедного зятя, сделал его участником фирмы, обеспечил работой, как обеспечивал уже многих художников, – словом, дал бы ему тем или иным способом средства к существованию; но она считала невозможным, чтобы отец предложил молодому человеку такую поддержку и чтобы тот согласился принять ее: слишком уж мало симпатии питали они друг к другу.
Обстоятельство это ставило в крайне затруднительное положение нежную и умную Элоди. Ее ничуть не пугала мысль соединиться со своим возлюбленным тайными узами, призвав Творца природы в качестве единственного свидетеля их взаимной верности. Она, со своими взглядами на жизнь, не находила ничего предосудительного в таком союзе, вполне осуществимом при той свободе, которой она пользовалась: с честным и добродетельным Эваристом он был бы вполне прочен; но Гамлен с трудом добывал себе средства к существованию и должен был еще содержать старуху мать; при такой бедности в сердце у него, по-видимому, не оставалось места для любви, даже самой простой. К тому же Эварист еще не объяснился ей, ни словом не обмолвился о своих намерениях. Гражданка Блез, однако, надеялась, что ей скоро удастся вызвать его на признание.
– Гражданин Эварист, – сказала Элоди, разом прервав ход своих мыслей и работу, – этот шарф придется мне по вкусу только в том случае, если он придется по вкусу и вам. Нарисуйте мне, прошу вас, узор. А пока я, как Пенелопа, распорю то, что вышила без вас.
– Хорошо, гражданка, – ответил он с мрачным одушевлением. – Я нарисую вам меч Гармодия{36}: шпагу, перевитую гирляндой.
Достав карандаш, он принялся набрасывать орнамент из мечей и цветов в строгом, суровом стиле, который он так любил. И в то же время он излагал свои взгляды на искусство.
– Духовно переродившиеся французы, – говорил он, – должны отказаться от рабского наследия: от дурного вкуса, дурной формы, дурного рисунка. Ватто, Буше, Фрагонар работали на тиранов и на рабов. В их произведениях нет чувства подлинного стиля, чистоты линий, нет ни естественности, ни правды. Все только маски, куклы, тряпки, кривлянье! Потомство с презрением отнесется к их легкомысленной мазне. Через сто лет картины Ватто, всеми забытые, истлеют на чердаках, в тысяча восемьсот девяносто третьем году ученики художественных школ покроют своими набросками полотна Буше. Давид указал нам новые пути; он приближается к искусству древности, но он еще недостаточно прост, недостаточно велик, недостаточно строг. Нашим живописцам надо еще многому учиться на фресках Геркуланума, на римских барельефах, на этрусских вазах.
Он долго еще говорил об античной красоте, затем возвратился к Фрагонару, которого ненавидел всей душой.
– Вы его знаете, гражданка?
Элоди утвердительно кивнула головой.
– Вы, конечно, знаете и старичка Грёза: он довольно смешон в своем пунцовом полукафтанье и со шпагой на боку. Однако по сравнению с Фрагонаром он производит впечатление древнегреческого мудреца. Недавно я встретил его под арками Пале-Эгалите: он семенил куда-то, напудренный, галантный, вертлявый, игривый, омерзительный. При виде жалкого старика я пожелал, чтобы, за отсутствием Аполлона, какой-нибудь рьяный ревнитель искусства повесил его на дереве, предварительно содрав с него кожу, как с Марсия{37}, в вечное назидание плохим живописцам.
Элоди пристально посмотрела на него веселым и страстным взглядом.
– Вы умеете ненавидеть, господин Гамлен… Значит ли это, что вы умеете и лю…
– Это вы, Гамлен? – послышался тенор, голос гражданина Блеза, который вошел в лавку, скрипя сапогами, звеня брелоками; полы его сюртука развевались, на голове у него была огромная черная треуголка, загнутые края которой доходили ему до плеч.
Элоди, взяв рабочую корзинку, поднялась к себе в комнату.
– Ну что, Гамлен, – спросил гражданин Блез, – принесли что-нибудь новенькое?
– Пожалуй, – ответил художник. И изложил свою идею: – Наши игральные карты находятся в вопиющем противоречии с современными нравами. Названия «валет» и «король» оскорбляют слух патриота. Я придумал и сделал рисунки для новой колоды революционных карт, в которой короли, дамы, валеты заменены Свободами, Равенствами, Братствами, тузы, окруженные ликторскими связками, называются Законами… Вы объявляете Свободу треф, Равенство пик, Братство бубен, Закон червей… Мне кажется, карты нарисованы довольно хорошо. Я намерен поручить Демаи выгравировать их на меди, а там возьму патент.
Достав из папки несколько акварельных рисунков, художник протянул их торговцу эстампами.
Но гражданин Блез, даже не взглянув, отказался принять их:
– Отнесите это, мой друг, в Конвент: там это вызовет гром рукоплесканий. Но не надейтесь извлечь хотя бы грош из вашего нового изобретения, тем более что оно не ново. Вы немного опоздали. Ваша революционная колода – третья по счету, которую мне приносят. Ваш товарищ Дюгур на прошлой неделе предложил мне колоду для игры в пикет с четырьмя Гениями, четырьмя Свободами, четырьмя Равенствами. Меня пытались соблазнить еще другой колодой, где были мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал – всех не упомнишь… Все эти карты, мой друг, имели перед вашими одно преимущество: они были грубо нарисованы и вырезаны на дереве перочинным ножом. Мало же вы знаете людей, если воображаете, что игроки станут употреблять карты с рисунками в стиле Давида, гравированными в манере Бартолоцци! Да и вообще странно предполагать, будто нужно столько церемоний, чтобы приспособить старую колоду к современным идеям. Добрые санкюлоты сами отлично исправляют ее непатриотичность, провозглашая: «Тиран!» или просто «Толстый боров!» Они довольствуются своими старыми замусоленными картами и не покупают новых. В притонах Пале-Эгалите идет игра чуть ли не круглые сутки; советую вам – отправляйтесь туда и предложите крупье и понтерам ваши Свободы, ваши Равенства, ваши… как вы называете их… ваши Законы червей, а потом расскажите мне, как вас там приняли.
Гражданин Блез сел на прилавок, несколькими щелчками стряхнул с нанковых панталон просыпавшийся на них табак и ласково, с сожалением посмотрел на Гамлена:
– Позвольте дать вам один совет, гражданин художник: если вы хотите заработать себе на жизнь, оставьте ваши патриотические карты, оставьте революционные символы, оставьте ваших Гераклов, гидр, фурий, терзающих преступника, гениев Свободы и пишите красивых девушек. Гражданский пыл у всех с течением времени остывает, но мужчинам всегда будут нравиться женщины. Рисуйте же румяных красоток с маленькими ножками, с маленькими ручками и поймите, что никто уже не интересуется революцией и что о ней больше и слышать не хотят.
Эварист вскочил как ужаленный.
– Что? О революции и слышать не хотят?.. Но ведь упрочение свободы, победы наших армий, наказание тиранов – все это события, которые будут вызывать изумление у самых отдаленных потомков! Как же мы можем не поражаться им?. Секта санкюлота Христа просуществовала около восемнадцати веков, а культ свободы будет уничтожен, не продержавшись и четырех лет?
– Вы живете мечтами, – с видом явного превосходства возразил Жан Блез, – я же реальной жизнью. Поверьте, друг мой, революция уже надоела: она слишком затянулась. Пять лет энтузиазма, пять лет братских объятий, убийств, разглагольствований, Марсельезы, набата, аристократов на фонарях, голов на пиках, женщин верхом на пушках, деревьев Свободы, увенчанных красными колпаками, девушек и старцев в белых одеяниях на колесницах, разубранных цветами, пять лет заточений в тюрьмах, гильотины, пайков, афиш, кокард, султанов, бряцания оружием, карманьол… хватит! В конце концов никто уже ничего не понимает. Насмотрелись мы на великих людей, которых вы лишь затем вводили в Капитолий, чтобы сбросить их потом с Тарпейской скалы!{38} Видели мы всех этих Неккеров{39}, Мирабо, Лафайетов, Байи{40}, Петионов, Манюэлей{41} и стольких других. Кто поручится, что вы не готовите той же участи вашим новым героям?.. Теперь ничему уже нельзя верить!
– Назовите, гражданин Блез, назовите мне героев, которых мы собираемся принести в жертву! – воскликнул Гамлен тоном, напомнившим торговцу эстампами, что надо быть осторожнее.
– Я республиканец и патриот, – возразил он, прижимая руку к сердцу. – Я такой же республиканец, как вы, такой же патриот, как вы, гражданин Эварист Гамлен. Я не сомневаюсь в вашей преданности Республике и не думаю обвинять вас в непостоянстве. Но знайте, что и моя благонамеренность и преданность общему делу неоднократно доказаны мною на деле. Вот мои политические убеждения: я отношусь с доверием к каждому, кто способен служить нации. Я преклоняюсь перед людьми, которых, как Марата, как Робеспьера, глас народа облек опасной честью, возложив на них бремя законодательной власти; в меру отпущенных мне слабых сил я готов помогать им как добропорядочный гражданин, посильно оказывая мое скромное содействие. Комитеты могут засвидетельствовать мое рвение и мою преданность. Сообща с несколькими настоящими патриотами я поставлял нашей доблестной кавалерии овес и прочий фураж, снабжал обувью наших солдат. Только сегодня я отправил из Вернона в южную армию шестьдесят голов рогатого скота, а ведь их придется гнать через местность, наводненную разбойниками, кишащую эмиссарами Питта и Конде{42}. Я не разговариваю – я действую.
Гамлен спокойно сложил акварели в папку, завязал тесемки и взял ее под мышку.
– Странное противоречие, – процедил он сквозь зубы. – С одной стороны, помогать нашим солдатам водружать во всем мире знамя свободы, а с другой – у себя дома предавать эту же свободу, сея смятение и тревогу в сердцах ее защитников… Прощайте, гражданин Блез!
Прежде чем направиться в переулок, идущий вдоль Оратории, Гамлен, с сердцем, исполненным любви и гнева, обернулся, чтобы взглянуть на красные гвоздики в окне второго этажа.
Он нисколько не отчаивался в спасении родины. Непатриотическим речам Жана Блеза он противопоставлял свою веру в революцию. Но все-таки он вынужден был признать, что в словах продавца эстампов заключалась, по-видимому, известная доля правды: население Парижа уже не проявляло прежнего интереса к событиям. К сожалению, было слишком несомненно, что на смену одушевлению первых дней пришло всеобщее равнодушие, что в прошлое канули охваченные общим порывом огромные толпы восемьдесят девятого года, что в прошлое канули миллионы людей-единомышленников, сплотившихся в девяностом году вокруг алтаря федератов. Ну что ж! Доблестные граждане удвоят рвение и смелость, разбудят уснувший народ, предложив ему выбор между свободой и смертью.
Так думал Гамлен, и мысль об Элоди придавала ему мужества.
Очутившись на набережной, он увидел, что солнце садится за тяжелые тучи, похожие на горы добела раскаленной лавы; крыши купались в золотом свете; оконные стекла ослепительно сверкали. И Гамлен представил себе, что это титаны сооружают из пылающих обломков старых миров медные твердыни Дике{43}.
Не зная, где достать хлеба для себя с матерью, Гамлен мечтал о бесконечных столах и всемирной трапезе, в которой он примет участие вместе со всем возрожденным человечеством. А пока он убеждал себя, что родина, как добрая мать, накормит своего верного сына. Возмущенный пренебрежением, с которым торговец эстампами отнесся к его предложению, он старался уверить себя, что идея революционной колоды – идея новая и плодотворная и что у него под мышкой, в папке с прекрасно выполненными акварельными рисунками, заключено целое богатство. «Демаи выгравирует их, – думал он. – Мы сами выпустим в свет патриотические карты и в какой-нибудь месяц наверняка распродадим десять тысяч колод, по двадцать су каждая».
Сгорая от нетерпения поскорее осуществить свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демаи.
Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демаи нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демаи гравирует так много и так искусно. Гамлен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.
Смеркалось. Отказавшись от мысли дождаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал, – какого-то бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки у него были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки. Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и равнодушно смотрели на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демаи: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демаи обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время в Академии говорили, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его «Барбару»{44} – за сходство с этим народным представителем.
– Пойдем, – обратился к нему Гамлен, – мне надо поговорить с тобой о важном деле.
– Оставь меня в покое! – раздраженно ответил Демаи.
Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:
– Я шел следом за божественной женщиной… Соломенная шляпка… золотистые волосы, распущенные вдоль плеч… Вероятно, какая-нибудь модистка… Проклятая телега разъединила нас… Она успела пройти вперед… Она уже в конце моста!
Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.
Но Демаи уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами вслед за своей модисткой.
Глава IV
Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре-живописце». Целую неделю гордый стоицизм и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.
Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, как бы вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвильскую площадь. Но, зная, что он отличается хмурым нравом и, судя по письму, сильно раздражен, а также опасаясь, как бы он не перенес на нее злобу, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романическое свидание, от которого он никак не может уклониться и которое даст возможность переубедить и пленить его, ибо уединение поможет ей его очаровать и покорить.
В ту пору во всех английских парках, во всех модных местах гуляний по чертежам искусных архитекторов были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина «Лилльская красавица», арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью: «Клеониса своему верному Азору». Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо они тоже были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, тоже обладали чувствительными, мечтательными сердцами.
Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Минут через десять женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на старорежимных щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим, будто у людей есть такие свойства, которые не в состоянии изменить никакая революция.
Спустя еще несколько минут старуха с цилиндрической, ярко размалеванной коробкой в руках, пришедшая из Рюэля или Сен-Клу, уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена рулеткой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала детишкам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде «облатками», а теперь переименованным в «утехи». Потому ли, что традиционный термин «облатка» наводил на докучливую мысль об евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но «облатки» стали называть тогда «утехами».
Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя Бога в несправедливости за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским Полям со своей трещоткой, выкликая: «Утех, кому утех, сударыни!» И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет.
Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих невзгод. Виной всему Республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэле молния ударила в церковь и расплавила крест на колокольне; в Шавильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляют источники и разбрасывают порошки, распространяющие заразу…
Эварист увидел Элоди, выходившую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и открывало ноги в туфельках без каблуков. Бедра не были стянуты, так как революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, еще вздувавшаяся на боках, скрывала формы, преувеличивая их и пряча под своей пышностью подлинные очертания фигуры.
Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло – и она сочла это хорошим признаком, – что галстук у него повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.
– Я хотела повидать вас, побеседовать с вами, – сказала она. – На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно более естественно, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы поверила, что вы в самом деле не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами существует большая симпатия, но он незлопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком интересуется ни вами… ни мной. Он поглощен своими делами и развлечениями.
Она направилась к деревьям, окружавшим хижину, куда он последовал за нею не без некоторого отвращения, так как знал, что это – место свиданий с продажными женщинами и приют мимолетной любви. Она выбрала столик в самом укромном уголке.
– Как много должна я вам сказать, Эварист! Дружба имеет свои права; вы позволите мне воспользоваться ими? Я хочу поговорить с вами – главным образом о вас… и немножко о себе, если вы ничего не имеете против.
Продавец лимонада принес графин и стаканы, и Элоди сама, как хорошая хозяйка, наполнила их; затем она рассказала Эваристу про свое детство, про мать, красоту которой она охотно превозносила и как любящая дочь, и потому, что считала ее источником собственной красоты. Она с уважением говорила о том, какие крепкие люди были ее предки, – ибо она гордилась своей буржуазной кровью! Она рассказала также, как, потеряв в шестнадцатилетнем возрасте обожаемую мать, она с тех пор жила без ласки, без поддержки. Обрисовала себя, какой была и в самом деле: живой, чувствительной, смелой женщиной, и прибавила:
– Эварист, я провела слишком печальную и одинокую юность, чтобы не оценить такого сердца, как ваше, и, предупреждаю вас, не откажусь по собственной воле и без борьбы от чувства симпатии, на которое, мне казалось, я могу рассчитывать и которое мне дорого.
Эварист с нежностью посмотрел на нее:
– Неужели, Элоди, я вам не безразличен? Смею ли я этому верить?..
Он замолчал из боязни сказать лишнее и, следовательно, злоупотребить столь доверчиво предложенной дружбой.
Она с открытым видом протянула ему свою маленькую руку, выглядывавшую наполовину из длинного, узкого, отделанного кружевом рукава. Грудь ее вздымалась от глубоких вздохов.
– Припишите мне, Эварист, все чувства, которые вы хотели бы, чтобы я к вам питала, и вы не ошибетесь.
– Элоди, Элоди, повторите ли вы это, когда узнаете… – Он запнулся.
Она опустила глаза.
Он шепотом докончил:
– …что я люблю вас?
При этих словах она покраснела от удовольствия. В ее глазах он мог бы прочитать нежную страсть, но в то же время, против воли, насмешливая улыбка приподымала уголки ее рта.
Она думала: «И он воображает, будто объяснился первым!.. А может быть, он даже боится, что рассердил меня!..»
Она ласково сказала ему:
– Вы, значит, не заметили, друг мой, что я вас люблю?
Им казалось, что они одни во всем мире. В порыве восторга Эварист устремил взор к залитому солнцем лазурному небосводу.
– Глядите: небо смотрит на нас! Оно так же восхитительно, так же благосклонно, как и вы, моя любимая: оно, подобно вам, ослепляет своим блеском, подобно вам, кротко улыбается…
Он чувствовал себя слившимся со всей природой, он приобщил ее к своей радости, к своему торжеству. Ему представлялось, что, празднуя его обручение, канделябрами загорались цветы каштанов и вспыхивали исполинские факелы тополей.
Он наслаждался своей силой и величием. Она, более нежная и тонкая, более гибкая и податливая, уже считала себя вправе воспользоваться преимуществами слабого пола и, покорив Эвариста, подчинялась его воле; завладев им, она теперь видела в нем господина, героя, бога, сгорала от желания восхищаться им, повиноваться, отдаваться ему. В тени деревьев он запечатлел на ее устах долгий пламенный поцелуй; она запрокинула голову и в объятиях юноши почувствовала, что тело ее становится мягким, как воск.
Они еще долго разговаривали о самих себе, позабыв обо всем на свете. Эварист высказывал мысли, преимущественно неопределенные и возвышенные, от которых молодая женщина приходила в восторг. Элоди вела речь о вещах приятных, практических и касавшихся только их. Потом, когда она сочла, что дольше оставаться нельзя, она поднялась с решительным видом, дала своему возлюбленному три пунцовых гвоздики, взращенные ею на окне, и впорхнула в кабриолет, в котором приехала. Это была наемная коляска на очень высоких колесах, выкрашенная в желтый цвет; ни в ней, ни в кучере не было решительно ничего примечательного, но Гамлен никогда не пользовался наемными колясками и все окружавшие его тоже. Когда он увидел Элоди в кабриолете на огромных, быстро катящихся колесах, у него сжалось сердце от печального предчувствия: он мучительно ясно, как это бывает только при галлюцинации, представил себе, что лошадь увозит Элоди прочь от действительности, за пределы настоящего, в какой-то роскошный, веселый город, к пышным чертогам, на лоно наслаждений, куда он не вступит никогда.
Кабриолет скрылся из виду. Смятение Эвариста улеглось, но осталась глухая тоска: он чувствовал, что пережитых здесь часов нежности и забвения ему уже больше не испытать.
Он направился домой Елисейскими Полями, где женщины в светлых платьях шили или вышивали, сидя на деревянных стульях, между тем как дети их играли под деревьями. Увидев торговку «утехами» с коробкой в форме барабана, он вспомнил торговку «утехами» во Вдовьей аллее, и ему показалось, будто между этими двумя встречами прошла целая полоса его жизни. Он пересек площадь Революции. В Тюильрийском саду он издали услыхал мощный гул великих дней революции, единодушный голос людских толп, который, по мнению врагов Республики, умолк навсегда. Ускорив шаги навстречу все возраставшему шуму, он очутился на улице Оноре, сплошь усеянной мужчинами и женщинами, кричавшими: «Да здравствует Республика! Да здравствует свобода!» Стены садов, окна, балконы, крыши были унизаны зрителями, махавшими шляпами и носовыми платками. Предшествуемый сапером, который расчищал дорогу кортежу, окруженный муниципальными властями, национальными гвардейцами, артиллеристами, жандармами, гусарами, медленно плыл над головами граждан человек с желчным цветом лица; на лбу у него красовался венок из дубовых листьев, на плечи был накинут ветхий зеленый плащ с горностаевым воротником. Женщины осыпали его цветами. Он смотрел вокруг желтыми, пронизывающими насквозь глазами, как будто в этой охваченной энтузиазмом толпе выискивал врагов народа, которых надлежало разоблачить, изменников, которых надлежало покарать. Поравнявшись с ним, Гамлен обнажил голову и, присоединяя свой голос к сотням тысяч других голосов, крикнул:
– Да здравствует Марат!
Триумфатор вступил, как рок, в залу Конвента. Между тем как толпа медленно расходилась, Гамлен, сидя на тумбе, сдерживал рукою биение сердца. Зрелище, очевидцем которого он только что был, наполнило все его существо возвышенным волнением и пламенным восторгом.
Он чтил и любил Марата, который, страдая воспалением вен, больной, мучимый язвами, отдавал остаток своих сил на служение Республике и в своем бедном, для всех открытом доме принимал его с распростертыми объятиями, говорил ему с увлечением об общем благе, порою расспрашивал о происках злодеев. Теперь Эварист был в восхищении, увидав, что враги Марата, замышлявшие его гибель, уготовили ему триумф; он благословлял Революционный трибунал, который, оправдав Друга народа{45}, вернул Конвенту самого ревностного и самого безупречного из законодателей. Он еще видел перед собою лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом, высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: «Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски!»
Улица уже опустела, ночь покрыла ее мраком; с фонарем в руке прошел мимо ламповщик, а Гамлен все еще повторял про себя:
– До гробовой доски!..
Глава V
В девять часов утра Эварист уже застал в Люксембургском саду Элоди, ожидавшую его на скамье.
Прошел месяц с тех пор, как они объяснились в любви, и теперь они ежедневно встречались то в «Амуре-живописце», то в мастерской на Тионвильской площади. Свидания эти были очень нежны, но все же носили на себе печать известной сдержанности, которую налагал на них добродетельный и степенный характер Гамлена: деист и безупречный гражданин, он готов был соединить свою судьбу с судьбою любимой женщины, смотря по обстоятельствам, – перед лицом закона или перед лицом одного лишь Господа, но соглашался сделать это лишь открыто, не таясь от людей. Элоди отдавала должное столь благородному решению, но, отчаявшись вступить в брак, невозможный по многим причинам, и отказываясь вместе с тем кинуть вызов общественным приличиям, она в глубине души лелеяла мысль о тайной связи, которая, не бросаясь в глаза, с течением времени приобрела бы уважение окружающих. Она надеялась, что в один прекрасный день ей удастся преодолеть щепетильность своего слишком почтительного возлюбленного, и, не желая дольше откладывать необходимых признаний, она назначила ему свидание в безлюдном саду, близ монастыря картезианцев.
Взглянув на Эвариста с неподдельной нежностью, она взяла его за руку, усадила рядом с собой и заговорила, тщательно выбирая каждое слово:
– Я слишком уважаю вас, Эварист, чтобы таиться от вас. Я считаю себя достойной вас: я не была бы такой, если бы не сказала вам всего. Выслушайте меня и будьте моим судьей. Я не могу упрекнуть себя в подлом, низком или хотя бы корыстном поступке. Я была лишь слишком слаба и легковерна… Не упускайте из виду, мой друг, тяжелых обстоятельств, в которых я находилась. Вы знаете, я рано потеряла мать; отец, еще молодой человек, думал только о развлечениях и уделял мне мало внимания. Я выросла чувствительной девушкой: природа наделила меня нежным, любвеобильным сердцем, и, хотя она не отказала мне в здравом смысле, в ту пору чувство брало во мне верх над рассудком. Увы, оно и сейчас оказалось бы сильнее, если бы они оба – чувство и рассудок – не советовали мне, Эварист, отдаться вам безраздельно и навсегда!
Она выражалась сдержанно и вместе с тем энергично. Каждое слово ее было обдумано заранее; она уже давно решилась на эту исповедь: во-первых, потому, что обладала открытым характером, во-вторых, потому, что ей нравилось подражать Жан-Жаку, и, наконец, потому, что она благоразумно убеждала самое себя: «Рано или поздно Эваристу откроется тайна, которая принадлежит не мне одной; добровольное признание возвысит меня в его глазах и избавит от позора разоблачений со стороны». Влюбчивая, покорная голосу природы, она считала себя не очень виновной, и потому эта исповедь не слишком тяготила ее; кроме того, она собиралась рассказать Эваристу лишь самое необходимое.
– Ах, дорогой Эварист, – вздохнула она, – почему мы с вами не встретились в то время, когда я была одна, покинутая?
Гамлен понял буквально просьбу Элоди быть ей судьей. Предрасположенный от природы и подготовленный литературным воспитанием к роли доморощенного блюстителя справедливости, он собирался выслушать признание Элоди.
Видя, что она колеблется, он знаком предложил ей говорить.
И она сказала совсем просто:
– Один молодой человек, обладавший помимо дурных качеств также и хорошими и выставлявший напоказ только хорошие, нашел меня довольно привлекательной и стал ухаживать за мной с настойчивостью, которая в нем могла показаться даже странной: он был во цвете лет, изящен и имел несколько любовниц, прелестных женщин, откровенно обожавших его. Не красотой и даже не умом пленил он меня… Ему удалось тронуть меня своей любовью, и я думаю, что он действительно меня любил. Он был нежен, предупредителен. Я не требовала от него ничего, кроме сердца, а сердце его было непостоянно… Я виню только себя: это – моя исповедь, а не его. Я не жалуюсь на него: ведь он стал мне чужим. О, клянусь вам, Эварист, его как будто и не существовало!
Она умолкла. Гамлен ничего не ответил; он скрестил руки на груди, мрачным взором он уставился на подругу. Он думал о ней и о своей сестре Жюли. Жюли тоже вняла уговорам любовника. Но, в отличие от несчастной Элоди, она дала себя увезти не потому, что по неопытности послушалась голоса сердца, а потому, что хотела найти вдали от своих роскошь и наслаждения. Со свойственной ему суровостью Гамлен осудил сестру и склонен был осудить свою возлюбленную.
Элоди кротким голосом продолжала:
– Начитавшись философских книг, я верила, что все люди по самой природе своей честны{46}. К несчастью, судьба толкнула меня в объятия человека, который не был воспитан в школе природы и нравственности и которого общественные предрассудки, тщеславие, самолюбие и ложное понятое о чести сделали вероломным эгоистом.
Эти заранее заготовленные слова произвели желаемое впечатление. Взор Гамлена смягчился.
– Кто ваш соблазнитель? – спросил он. – Знаю ли я его?
– Вы его не знаете.
– Назовите его имя.
Она предвидела этот вопрос и твердо решила не отвечать на него.
– Избавьте меня от этого, прошу вас, – убеждала она его. – И без того я слишком много сказала вам, слишком много – и для себя, и для вас.
Так как он продолжал настаивать, она прибавила:
– В интересах священной для нас любви я не скажу ничего, что позволило бы вам представить себе облик этого… чужого мне человека. Я не хочу давать пищу вашей ревности, не хочу ставить между вами и мной назойливый призрак. К чему теперь, когда я позабыла об этом человеке, вам о нем знать?
Гамлен все-таки добивался, чтобы она назвала имя соблазнителя: он упорно употреблял это слово, ибо не сомневался, что Элоди была соблазнена, обманута, пала жертвой своей доверчивости. Он даже не допускал мысли, что дело могло обстоять иначе, что Элоди уступила своему влечению, влечению непреодолимому, вняла тайному голосу плоти и крови; он не допускал мысли, что это сладострастное и нежное создание, эта очаровательная жертва любви отдалась добровольно; ему, в соответствии с его взглядами, надо было верить, что ею овладели силой или хитростью, что ее принудили к этому, что она попалась в одну из ловушек, расставленных на каждом шагу. Он задавал ей вопросы, внешне сдержанные, но точные, сжатые и смущавшие ее. Он допытывался, как возникла эта связь, сколько она продолжалась, была ли она спокойной или бурной и как прекратилась. Без конца он осведомлялся, к каким средствам обольщения прибег этот человек, как будто это должны были быть какие-то необыкновенные, неслыханные приемы. Все эти вопросы он задавал напрасно. Молча взывая о пощаде, она смотрела на него кроткими, полными слез глазами и не проронила ни звука.
Но когда он пожелал узнать, где в настоящее время находится этот человек, она ответила:
– Он покинул королевство… – И сразу же поправилась: – Францию.
– Эмигрант! – вскричал Гамлен.
Она безмолвно взглянула на него, успокоенная и в то же время опечаленная тем, что он создал себе домысел, соответствовавший его политическим убеждениям, и, не имея на то никаких оснований, сообщил своей ревности якобинскую окраску.
В действительности же любовник Элоди был писец прокурора, очень красивый юноша, мелкий клерк с головой херувима, в которого она без памяти была влюблена, так что даже теперь, по прошествии трех лет, мысль о нем вызвала жар у нее в груди. Он искал близости с женщинами немолодыми, но богатыми и оставил Элоди ради дамы, искушенной в науке страсти и щедро вознаграждавшей его заслуги. После упразднения старых учреждений он поступил на службу в Парижскую мэрию, а в настоящее время был драгуном-санкюлотом и находился на содержании у бывшей дворянки.
– Аристократ! Эмигрант! – повторял Гамлен, а она не разуверяла его, так как совсем не хотела, чтобы он знал всю правду. – И он подло бросил тебя?
Она наклонила голову. Он прижал ее к сердцу.
– Дорогая жертва безнравственного самовластья! Я отомщу этому гнусному развратнику! Только бы небо помогло мне встретить его! Я узнаю его!
Она отвернулась, улыбаясь, но в то же время огорченная и разочарованная. Ей хотелось, чтобы он был смышленее в делах любви, проще, грубее. Она сознавала, что он простил ее так скоро только потому, что обладал недостаточно пылким воображением, что ее исповедь не пробудила в нем ни одной из тех картин, которые так мучительны для людей чувственных, и, наконец, потому, что он увидел в ее обольщении лишь факт морального и социального значения.
Они поднялись и пошли по зеленым аллеям сада. Он говорил ей, что еще больше уважает ее за пережитые страдания. Элоди этого и не требовала. Она любила его, каков он есть, и восхищалась его талантливостью, которую считала бесспорной.
По выходе из Люксембургского сада они увидели на улице Равенства и вокруг Национального театра большое скопление народа, что не было для них неожиданностью, – уже несколько дней в наиболее патриотически настроенных секциях царило сильное возбуждение: там раскрыли заговор орлеанистов{47} и сообщников Бриссо, которые, по слухам, поставили себе целью погубить Париж и перебить всех республиканцев. Гамлен сам еще недавно подписал петицию Коммуны, требовавшую исключения из Конвента группы «Двадцати одного»{48}.
Прежде чем пройти под аркой, соединявшей театр с соседним домом, им пришлось пробраться сквозь толпу граждан в карманьолах, к которым, стоя на галерее, обращался с речью молодой военный в шлеме, обтянутом шкурой пантеры. Этот красавец, который мог бы поспорить наружностью с «Эротом» Праксителя, обвинял Друга народа в беспечности.
– Ты спишь, Марат, – восклицал он, – а федералисты меж тем куют для нас оковы!
Как только Элоди заметила его, она взволнованно обратилась к Гамлену:
– Уйдем отсюда, Эварист!
Толпа, говорила она, пугает ее: она боится упасть в обморок в этой давке.
Они расстались на Национальной площади, обменявшись клятвами в вечной любви.
В тот же день, рано утром, гражданин Бротто принес в подарок гражданке Гамлен великолепного каплуна. С его стороны было бы крайней неосторожностью рассказать, каким образом он раздобыл его, ибо он получил его от рыночной торговки, которой иногда писал письма, примостившись у одного из выступов церкви Святого Евстафия, а ни для кого не было тайной, что рыночные торговки питают роялистские чувства и поддерживают сношения с эмигрантами. Гражданка Гамлен с признательностью приняла каплуна. Такой птицы давно уже никто не видывал: съестные припасы дорожали с каждым днем. Народ опасался голода; аристократы, по слухам, желали, а спекулянты всеми способами подготовляли его.
Гражданин Бротто, которого пригласили полакомиться каплуном, явившись в полдень, пришел в восхищение от приятного запаха стряпни и высказал это хозяйке. В самом деле, мастерская художника была полна благоуханием жирного бульона.
– Вы очень любезны, сударь, – ответила старушка. – Чтобы подготовить желудки к восприятию вашего каплуна, я сварила суп из зелени, положив туда корочку свиного сала и толстую говяжью кость. Ничто не придает такого аромата супу, как мозговая кость.
– Весьма похвальное суждение, гражданка, – заметил старик Бротто. – Вы поступите вполне благоразумно, если завтра, послезавтра и до конца недели будете класть драгоценную кость в кастрюлю, – она придаст супу аромат. Сивилла из Панзуста{49} поступала именно таким образом: она варила похлебку из свежей капусты с корочкой пожелтевшего свиного сала и с уже бывшим в употреблении саворадо. Саворадо у нее на родине – кстати сказать, это и моя родина – называют мозговую кость, которая так вкусна и питательна.
– А не находи те ли вы, сударь, что дама, о которой вы говорите, была слишком уж расчетлива, варя так долго одну и ту же кость? – заметила гражданка Гамлен.
– Она жила очень скромно, – ответил Бротто. – Она очень нуждалась, хотя и была прорицательницей.
В эту минуту вошел Эварист Гамлен. Глубоко взволнованный только что сделанными ему признаниями, он дал себе слово выяснить, кто соблазнитель Элоди, чтобы отомстить одновременно и за Республику, и за любимую женщину.
Обменявшись с Эваристом обычными приветствиями, гражданин Бротто продолжал:
– Лишь в самых редких случаях люди, занимающиеся предсказанием судьбы, наживают себе состояние. Их проделки очень скоро всплывают наружу. Их начинают ненавидеть за обман. Но их следовало бы ненавидеть еще больше, если бы они действительно предрекали будущее. Ведь жизнь человека стала бы невыносима, если бы он знал, что с ним должно приключиться. Его взору предстали бы все грядущие несчастия, и он страдал бы от них заранее и уже не мог бы наслаждаться благами, отпущенными ему судьбой, так как предвидел бы их конец. Неведение – условие, необходимое для человеческого счастья, и надо признать, что чаще всего люди вполне удовлетворяют этому требованию. О самих себе мы не знаем почти ничего, о наших ближних – ничего. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь – счастье.
Гражданка Гамлен поставила миску с супом на стол, прочла Benedicite, усадила сына и гостя, а сама принялась есть стоя, отказавшись от предложения Бротто сесть рядом с ним, так как, объяснила она, ей известно, к чему ее обязывает учтивость.
Глава VI
Десять часов утра. Ни ветерка. Такого жаркого июля еще не помнили. На узкой Иерусалимской улице около сотни граждан местной секции стояло в очереди перед дверьми булочной; четыре национальных гвардейца, опустив ружья и покуривая трубки, наблюдали за порядком.
Национальный конвент установил твердые цены – тотчас же исчезли зерно и мука. Подобно израильтянам в пустыне, парижане, не желавшие голодать, подымались до света. Все эти люди – мужчины, женщины, дети – напирали на соседей, толкались, перекликались, смотрели друг на друга со всеми чувствами, какие только может испытывать человек к своему ближнему, с ненавистью, отвращением, любопытством, вожделением, равнодушием, а раскаленное небо нагревало гниющие отбросы в канавах и обостряло запах пота и грязи. На основании горького опыта было известно, что хлеба на всех не хватит, поэтому опоздавшие старались пролезть вперед; те, кого оттесняли, разражались жалобами, возмущались, тщетно ссылались на свое попранное право. Женщины с ожесточением работали локтями и бедрами, чтобы сохранить за собой место или пробраться ближе. Когда давка увеличивалась, подымались крики: «Не толкайтесь!» И каждый оправдывался, утверждая, что его толкают.
Дабы избежать этих ежедневных беспорядков, комиссары, уполномоченные секцией, распорядились протянуть от дверей булочной до конца очереди веревку, за которую все должны были держаться. Однако руки стоявших рядом то и дело сталкивались и вступали в борьбу. Выпустивший веревку уже не имел возможности снова ухватиться за нее. Недовольные или просто озорники перерезали ее, и от этой меры пришлось отказаться.
В очереди задыхались, теряли сознание, обменивались остротами, вольными замечаниями, ругали аристократов и федералистов, виновников всех бед. Когда мимо пробегала собака, шутники называли ее Питтом. Порой раздавалась звонкая пощечина, отпущенная какому-нибудь нахалу одной из оскорбленных им гражданок, между тем как молоденькая служанка, прижатая соседом, томно вздыхала, потупив взор, полураскрыв рот. На каждое слово, на каждый жест, на каждое положение, способные привести веселых французов в игривое настроение, кучка юных озорников затягивала «Са ira», не обращая внимания на протесты старого якобинца, возмущенного тем, что опошляют грязными намеками припев, выражавший республиканскую веру в грядущую справедливость и всеобщее счастье.
С лестницей под мышкой подошел расклейщик афиш и налепил на стене против булочной объявление Коммуны о введении мясного пайка. Прохожие останавливались и читали еще не успевшую просохнуть бумагу. Торговка капустой, с плетенкой за плечами, заворчала сиплым, надтреснутым голосом:
– Ну, теперь поминай как звали наших бычков! Теперь ветер загуляет у нас в кишках!
Вдруг из сточной канавы потянуло такой чудовищной вонью, что многих стошнило; одной женщине стало дурно, и ее без чувств сдали на руки двум национальным гвардейцам, которые оттащили ее в сторону, к насосу. Люди затыкали себе нос; поднялся ропот, обменивались отрывистыми замечаниями, в которых сквозило беспокойство и страх. Допытывались, не закопана ли здесь дохлятина, не положили ли сюда злоумышленники отраву, или – это казалось правдоподобнее всего – не разлагается ли забытое поблизости в одном из погребов тело какого-нибудь дворянина или священника, убитого в сентябрьские дни{50}.
– Разве их сваливали здесь?
– Их сваливали повсюду!
– Это, должно быть, один из тех, с которыми расправились в Шатле. Второго числа я видел триста трупов, нагроможденных в кучу на мосту Менял.
Парижане боялись, как бы мертвые аристократы из мести не отравили их.
Эварист Гамлен стал в очередь: он решил избавить старуху мать от утомительного стояния. Вместе с ним пришел его сосед, гражданин Бротто, спокойный, улыбающийся, с Лукрецием в оттопыренном кармане коричневого сюртука.
Славный старик восхищался этой сценой: она представлялась ему сюжетом из простонародной жизни, достойным кисти современного Тенирса.
– Эти грузчики и кумушки занимательнее греков и римлян, так полюбившихся в настоящее время нашим художникам, – сказал он. – Что касается меня, я всегда питал пристрасгие к фламандскому жанру.
Из благоразумия и из чувства такта он не упомянул о том, что в свое время у него была целая галерея голландских картин, с которой по числу и подбору полотен могло сравниться только собрание господина де Шуазеля.
– Прекрасна только древность и то, что ею вдохновлено, – возразил художник, – тем не менее я готов согласиться, что простонародные сюжеты Тенирса, Стена, Остаде гораздо выше ничего не стоящей мазни Ватто, Буше или Ван-Лоо: людские существа у них изображены уродливыми, но они не опошлены, как у какого-нибудь Бодуэна или Фрагонара.
Мимо прошел продавец газет, выкликая:
– Бюллетень Революционного трибунала! Список осужденных!
– Одного Революционного трибунала недостаточно, – заметил Гамлен. – Надо учредить трибунал в каждом городе… Да что я! В каждой коммуне, в каждом кантоне. Необходимо, чтобы все отцы семейств, все граждане сделались судьями. Когда нации угрожают пушки неприятеля и кинжалы изменников, милосердие – тягчайшее преступление. Подумать только, Лион, Марсель, Бордо восстали, Корсика охвачена возмущением, Вандея в огне, Майнц и Валансьен во власти коалиции, измена – всюду: в городах, в деревнях, в лагерях; измена заседает на скамьях Национального конвента, измена с картою в руке принимает участие в военных советах наших полководцев!.. Пусть же гильотина спасет отечество!
– У меня нет существенных возражений против гильотины, – ответил старик Бротто. – Природа, моя единственная наставница и учительница, в самом деле не даст мне никаких указаний на то, что жизнь человеческая представляет собою какую-либо ценность; напротив, она всячески учит, что человеческая жизнь ничего не стоит. По-видимому, единственное назначение всякого живого существа – стать пищей другого существа, предназначенного в свою очередь для той же цели. Убийство не противоречит естественному праву, – следовательно, смертная казнь вполне законна, если только к ней прибегают не ради добродетели и справедливости, а из необходимости или ради выгоды. Должен, однако, признаться, что у меня, вероятно, извращенный инстинкт, так как я не выношу зрелища крови, и эту противоестественную черту не в состоянии побороть вся моя философия.
– Республиканцы – люди гуманные и чувствительные, – снова заговорил Эварист. – Одни только деспоты утверждают, будто смертная казнь – необходимый атрибут власти. Державный народ со временем отменит ее. Робеспьер выступил против нее, и все патриоты были на его стороне; чем скорее будет издан декрет о ее отмене, тем лучше. Однако в действие его можно будет ввести не раньше, чем последний враг Республики погибнет, сраженный мечом закона.
За Гамленом и Бротто уже стали в ряд запоздавшие, по преимуществу женщины из этой секции; среди них обращали на себя внимание рослая красивая «вязальщица» в косынке и деревянных башмаках, опоясанная саблей, хорошенькая блондинка, растрепанная, в измятом платке, и молодая мать, худая и бледная, кормившая грудью хилого ребенка.
Младенец, которому не хватало молока, кричал, но крик был слабый, и ребенок захлебывался от рыданий. Он был жалкий и маленький, с прозрачным сморщенным личиком, с воспаленными глазами; мать с нежностью и скорбью смотрела на него.
– Да он совсем крохотный, – сказал Гамлен, оборачиваясь к несчастному стонущему младенцу, прижатому к его спине напиравшей толпой.
– Ему полгодика, моему сокровищу!.. Отец в армии: он из тех, что отбросили австрийцев в Конде. Зовут его Мишель Дюмонтей; по профессии он приказчик в суконной лавке. Записался на подмостках, которые соорудили перед ратушей. Бедняжка, он хотел защищать родину, а заодно повидать свет… Он пишет, что надо запастись терпением. Но как же мне кормить Поля – моего сыночка зовут Полем, – когда мне самой нечего есть?
– Да мы тут еще час протолчемся, а вечером предстоит та же церемония у дверей бакалейщицы! – воскликнула хорошенькая блондинка. – Ради трех яиц и кусочка масла рискуешь жизнью!
– Масла! – вздохнула гражданка Дюмонтей. – Я его уже месяца три как не видала!
И женщины хором стали жаловаться на недостаток и дороговизну продовольствия, проклинать эмигрантов, возмущаться, что не отправляют на гильотину комиссаров секции, раздающих всяким потаскухам, в награду за их презренные ласки, четырехфунтовые хлебы и откормленных кур. Передавали тревожные слухи о коровах, потопленных в Сене, о мешках муки, высыпанных в сточные канавы, о хлебе, брошенном в отхожие места… Все это дела роялистов, роландистов, бриссотинцев – они поставили себе целью уморить голодом население Парижа.
Вдруг хорошенькая блондинка в измятом платке подняла такие вопли, как будто на ней загорелась юбка; она трясла ее изо всех сил, выворачивала карманы, заявляя, что у нее вытащили кошелек.
При вести о краже эта толпа простонародья, громившая особняки Сен-Жерменского предместья и врывавшаяся в Тюильри, но не польстившаяся на чужое добро, загорелась негодованием; все эти ремесленники и хозяйки с легким сердцем сожгли бы Версальский дворец, но сочли бы для себя величайшим позором унести оттуда хотя бы булавку. Молодые озорники попробовали было отпустить несколько колких замечаний, издеваясь над потерпевшей красоткой, но общий ропот заглушил их остроты. Уже поговаривали о том, что надо вздернуть вора на фонарь. Шумно и пристрастно стали доискиваться виновника. Рослая «вязальщица», указывая пальцем на старика, смахивающего на расстриженного монаха, клялась, что это дело рук «капуцина». Толпа, без колебаний поверив ее словам, потребовала немедленной расправы.
Старик, на которого так неожиданно обрушилось обвинение, все время скромно стоял впереди гражданина Бротто. Правду сказать, он сильно походил на бывшего монаха. Держался он с большим достоинством, хотя и был испуган неистовством толпы, пробудившим в нем еще свежее воспоминание о сентябрьских днях. Страх, написанный у него на лице, подтверждал подозрения, ибо простой народ убежден, что только виновные боятся его суда, как будто поспешность, с которой он выносит свои необдуманные приговоры, не может напугать и ни в чем не повинного.
Бротто поставил себе правилом никогда не идти наперекор чувствам толпы, особенно когда они принимают нелепые и жестокие формы, «ибо в этих случаях, – говаривал он, – глас народа – глас Божий». Но Бротто был непоследователен: он заявил, что этот человек, капуцин ли он или нет, не мог украсть кошелек у гражданки, так как ни на одно мгновение не подходил к ней.
Толпа решила, что тот, кто защищает вора, – его сообщник, и теперь речь шла уже о расправе с двумя злоумышленниками; когда же Гамлен поручился за Бротто, то наиболее благоразумные стали поговаривать, что и его вместе с обоими надо отправить в секцию.
Вдруг хорошенькая блондинка радостно закричала, что нашла кошелек. Тотчас же на нее заулюлюкали и даже пригрозили высечь ее на глазах у всех присутствующих, как пороли монахинь.
– Позвольте поблагодарить вас за ваше заступничество, сударь, – обратился монах к Бротто. – Мое имя ничего не скажет вам, но все же разрешите представиться: меня зовут Луи де Лонгмар. Я действительно монах, но не капуцин, как утверждали эти женщины. Это глубоко неверно: я принадлежу к ордену варнавитов, которому церковь обязана столькими учеными и святыми. Те, которые ведут происхождение ордена от святого Карла Борромео, ошибаются: подлинным его учредителем следует считать святого апостола Павла; недаром его имя значится на гербе ордена. Мне пришлось покинуть монастырь, когда в нем обосновалась секция Нового моста, и одеться мирянином.
– Ваша внешность, отец мой, в достаточной мере свидетельствует, что вы не отреклись от своего звания, – заметил Бротто, рассматривая долгополую хламиду Лонгмара. – Глядя на вас, можно скорее подумать, что вы реформировали свой орден, а не вышли из него совсем. В этом строгом одеянии вы добровольно подвергаете себя поношениям нечестивой черни.
– Не могу же я щеголять в голубом фраке, словно какой-нибудь танцор, – возразил монах.
– Отец мой, я позволил себе сделать замечание по поводу вашего платья только потому, что мне хотелось воздать должное вашему мужеству и обратить ваше внимание на опасности, которые вам угрожают.
– Было бы лучше, сударь, если бы вы, наоборот, поддержали во мне стремление исповедовать мою веру, ибо я и так склонен бояться опасностей. Я перестал носить монашеское одеяние, а это уже некоторое отступничество; я хотел, по крайней мере, не покидать крова, под которым, по милости Божьей, прожил столько лет вдали от мирской суеты. Мне разрешили остаться в своей келье, между тем как церковь и монастырь превратили в маленькую ратушу, которую они называют секцией. У меня на глазах, сударь, у меня на глазах сбивали со стен эмблемы святой истины; у меня на глазах, на том самом месте, где красовалось имя апостола Павла, водрузили колпак каторжника. Иногда я даже присутствовал на совещаниях секции и слышал, как там высказывались глубоко ошибочные суждения. В конце концов я покинул этот оскверненный кров и на пенсию в сто пистолей, которую мне назначило Учредительное собрание, поселился в конюшне, откуда всех лошадей забрали для нужд армии. Там я служу обедню для нескольких верующих, которые своим присутствием утверждают непреходящую жизнь Церкви Христовой.
– Меня, отец мой, – ответил его собеседник, – зовут, если вам угодно знать, Бротто, и в прежнее время я был мытарем{51}.
– Сударь, – возразил отец Лонгмар, – пример апостола Матфея показывает, что и от мытаря можно услышать слово истины.
– Вы слишком любезны, отец мой.
– Гражданин Бротто, – обратился к нему Гамлен, – неужели вас не приводит в восхищение этот народ, алчущий справедливости больше, чем хлеба? Ведь каждый здесь был готов потерять свое место, лишь бы наказать вора. Эти мужчины и женщины, бедняки, испытывающие нужду в самом необходимом, безукоризненно честны и не могут примириться с бессовестным поступком.
– Надо признаться, – ответил Бротто, – что, стремясь во что бы то ни стало повесить вора, эти люди могли оказать плохую услугу почтенному монаху, его защитнику и защитнику его защитника. В данном случае они руководились любостяжанием и эгоистической привязанностью к собственности: вор, обокрав одного из них, угрожал всем; наказывая его, они предохраняли себя… Впрочем, вполне возможно, что большинство этих ремесленников и хозяек честны и относятся с уважением к чужому добру. Чувства эти с детства были внушены им отцами и матерями, которые не жалели розог, внедряя добродетель через то место, откуда растут ноги.
Гамлен не скрыл от старика, что подобная речь представляется ему недостойной философа.
– Добродетель свойственна человеку от рождения, – сказал он, – семена ее заложены Богом в сердце каждого смертного.
Старик Бротто был атеист, и атеизм являлся для него неисчерпаемым источником наслаждений.
– Я вижу, гражданин Гамлен, что вы революционер, лишь поскольку речь идет о делах земных; что же касается дел небесных – вы консерватор и даже реакционер. Робеспьер и Марат – такие же ретрограды, как вы. Мне кажется странным, что французы, уже не признающие над собою власти смертного самодержца, упорно цепляются за самодержца бессмертного, куда более деспотического и свирепого. Ибо что такое Бастилия и даже чрезвычайный суд с его приговорами к сожжению по сравнению с адом? Человечество создает себе богов по образцу своих тиранов, а вы, отвергая оригинал, сохраняете копию!
– О! Гражданин! И вам не стыдно вести такие речи? – воскликнул Гамлен. – Как можете вы смешивать мрачные божества, порожденные невежеством и страхом, с Творцом природы; Вера в благостного Бога – необходимое условие нравственности. Верховное существо – источник всех добродетелей: нельзя быть республиканцем, не веруя в Бога. Робеспьер отлично сознавал это, когда распорядился убрать из залы заседаний якобинцев бюст философа Гельвеция, ибо Гельвеций, внушая французам идеи безбожия, тем самым предрасполагал их к рабству… Надеюсь, по крайней мере, гражданин Бротто, что, когда республика установит культ разума, вы не откажетесь стать последователем столь мудрой религии.
– Я люблю разум, но я не фанатический его поклонник, – ответил Бротто. – Разум руководит нами и служит нам светочем; когда вы сделаете из него божество, он ослепит вас и будет толкать на преступления.
И Бротто продолжал рассуждать, стоя в канаве, точно так же как делал это прежде, сидя в одном из тех позолоченных кресел барона Гольбаха{52}, которые, по его выражению, служили основой философии природы.
– Жан-Жак Руссо, человек не совсем бездарный, особенно в области музыки, был пустомеля, – говорил Бротто, – он воображал, будто выводит свою философию из природы, а на самом деле заимствовал ее у Кальвина{53}. Природа учит нас пожирать друг друга и являет нам пример всех преступлений и пороков, которые общественный строй исправляет или облекает покровом приличия. Надо любить добродетель, но не мешает знать, что это всего лишь средство, придуманное людьми ради удобства совместной жизни. То, что мы называем нравственностью, есть безнадежное посягательство нам подобных на мировой порядок, сущность которого – борьба, взаимоистребление и слепая игра враждебных сил. Нравственность сама себя уничтожает, и чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что весь мир одержим бешенством. Богословы и философы, объявляющие Бога творцом природы и зодчим вселенной, изображают Его нелепым и злым. Они говорят о Его благости, потому что боятся Его, но вынуждены признать, что дела Его крайне жестоки. Они приписывают Ему злобу, редкую даже у человека. Именно этим способом они внушают к Нему благоговение. Ибо жалкий род людской не создал бы культа справедливых и милосердных божеств, которых ему нечего было бы бояться, и не питал бы к ним ненужной признательности за их благодеяния. Без чистилища и без ада Господь Бог был бы ничтожнейшим из всех существ.
– Сударь, – вмешался отец Лонгмар, – не говорите о природе: вы ее не знаете.
– Смею вас уверить, что знаю ее так же хорошо, как и вы, отец мой!
– Вы не можете знать ее, ибо вы человек неверующий, а только вера учит нас тому, что представляет собою природа, что в ней добро и каким образом ее извратили. Впрочем, не думайте, что я собираюсь возражать вам: Господь не одарил меня ни пламенным красноречием, ни достаточной силой ума, чтобы я мог опровергнуть ваши заблуждения. Боюсь, как бы по неумению своему я не подал вам лишнего повода к богохульству и еще большему ожесточению, так что, несмотря на мое горячее желание быть вам полезным, единственным плодом моего навязчивого благожелательства могло бы оказаться…
Речь его прервал громкий гул голосов, прокатившийся от начала до конца очереди и возвестивший голодным людям, что двери булочной отпирают. Все стали подвигаться вперед, но чрезвычайно медленно. Национальный гвардеец впускал покупателей по одному. Булочнику, стоявшему за прилавком вместе с женой и подмастерьем, помогали два гражданских комиссара с трехцветной повязкой на левой руке, проверявшие, принадлежит ли потребитель к этой секции, и следившие за тем, чтобы он получил лишь то количество хлеба, какое полагалось ему по числу ртов в семье.
Гражданин Бротто видел конечную цель жизни в поисках наслаждений: он полагал, что разум и чувства, за отсутствием богов, единственные судьи человека, не могут иметь иной цели. Поэтому, найдя, что речи художника слишком фанатичны, а речи монаха слишком просты, чтобы доставить какое бы то ни было удовольствие, этот мудрый человек, стремясь согласовать при данных обстоятельствах свое поведение со своими философскими убеждениями и скрасить томительное ожидание, вытащил из оттопыренного кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция, бывший для него источником самых драгоценных утех и подлинного удовлетворения. Красный сафьяновый переплет был сильно потрепан от постоянного употребления; кроме того, гражданин Бротто благоразумно соскреб с него три тисненных золотом островка{54} – герб, за который его отец, откупщик, в свое время заплатил немалые деньги. Он раскрыл книгу на той странице, где поэт-философ, желая исцелить мужчин от напрасных мук любви, рассказывает о женщине, которую он застал в объятиях ее служанок в позе, способной оскорбить чувства любовника. Гражданин Бротто, перечитывая эти стихи, в то же время поглядывал на золотистый затылок своей хорошенькой соседки и сладострастно вдыхал запах влажной кожи этой замарашки. Поэт Лукреций признавал только мудрость; его ученик Бротто был многостороннее.
Он читал, подвигаясь каждые четверть часа на два шага. Тщетно в его слух, наслаждавшийся величавым и разнообразным ритмом латинской музы, пытались вторгнуться крикливые жалобы кумушек на дороговизну хлеба, сахара, кофе, свечей и мыла. Так, невозмутимо спокойный, дошел он до двери булочной. Стоя за ним, Эварист Гамлен видел у него над головой золоченый сноп на железной решетке дверной фрамуги.
Художник в свою очередь вошел в булочную; корзины и полки были пусты. Булочник отпустил ему последний кусок хлеба, в котором не было и двух фунтов. Эварист заплатил, и за ним тотчас же закрыли решетку из опасения, как бы возмущенный народ не ворвался в булочную. Но страхи эти были напрасны: бедные люди, приученные к подчинению своими прежними угнетателями и нынешними освободителями, поплелись прочь, понурив головы.
Дойдя до угла, Гамлен увидел гражданку Дюмонтей. Бледная, без кровинки в лице, сидела она на тумбе с младенцем на руках. Она не двигалась, не плакала, не глядела. Ребенок жадно сосал ее палец. Гамлен на мгновение задержался перед ней, растерявшись, не зная, что делать. Она, казалось, не замечала его.
