Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти бесплатное чтение
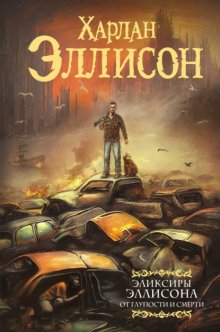
Harlan Ellison
THE ESSENTIAL ELLISON: A 50-YEAR RETROSPECTIVE
© The Kilimanjaro Corporation, 1991
© Перевод. М. Вершовский, 2019
© Перевод. Н. Виленская, 2020
© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2022
© Перевод. М. Кондратьев, наследники, 2022
© Перевод. М. Левин, 2020
© Перевод. Н. Нестерова, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
IX. Кровь сердца
«Поиск не менее важен, чем открытие».
«Интрижка с троллем».
Новое предисловие к сборнику рассказов Эллисона «Любовь – всего лишь секс с бо́льшим количеством букв», изд-во «Пирамида», 1976.
Вполне очевидно, что во многих своих работах Харлан раскрывает себя. Иногда это замаскировано – хотя и тонко – под выдумку, иногда под воспоминания. В нашей коллекции вы найдете множество примеров тому. В других случаях Харлан отбрасывает маски и, насколько это возможно, показывает нам свою истинную сущность. Делая это, он дает читателю возможность всмотреться в самого себя, понять себя, обрести смелость в следовании его примеру. Потому что Харлан имел мужество говорить громко и открыто.
В своих книгах Харлан сочетает ребенка и взрослого человека. Он неутомимый комментатор доли человеческой, твердый и действенный голос – хотя сам он и возражает против столь выспренних определений. Но если он и настаивал на том, что он обычный закоренелый бузотёр, обычный брюзга, обычный вольнодумец, человек, движимый более гневом, чем заранее избранной моральной целью, – в его литературе все же трудно не увидеть современный аналог Бэкона и Босуэлла, Обри и Дефо, человека читающего и трактующего собственную эпоху так, как он ее видит. Но это голос нашего времени, голос человека, живущего в нем, а не просто становящегося в позу, потому что ему нравится эта роль.
Записки и хроники Харлана – это не академические тексты, написанные для того, чтобы побудить вас принять преподанные в них факты. Они вспыльчивы, человечны, непочтительны, решительны, вдумчивы и печальны. Они выстроены так, чтобы добиться главной цели: поведать читателю о мире то, что Харлан считал необходимым. Ясно и отчетливо. Потому-то они столь многих приводили в ярость.
Конечно, легко сказать, что эти эссе – просто ряд его мнений по тому или иному поводу, не более и не менее. Но факт остается фактом: мнения Харлана обретают силу и мощь проповеди, становясь морализаторской интерпретацией этих фактов. Как мы уже видели в его эссе «Валери», он, ничем не ограничивая себя, методично использует в качестве материала собственную жизнь, чтобы поведать нам, как оно было и, возможно, как оно будет всегда, пользуясь пережитым и прожитым, чтобы с тем большей силой донести свою главную мысль, погрузиться в универсальное, реагируя на что-то в собственном микрокосме, проблему здесь, мысль там. Он заставляет нашу кровь закипать, когда его мнения идут вразрез с нашим, или когда его манера подачи заставляет нас идти туда, куда нам идти не хотелось бы. Когда Харлан диктует нам условия, называет вещи своими именами и побуждает нас видеть мир таким, каким он видит его, от его слов невозможно отмахнуться.
Первое эссе, «Из Алабамы с ненавистью» (1965) появилось в одном из неприличных журналов для мужчин, которых в 1960-е расплодилось великое множество. Тогда оно было озаглавлено «Марш на Монтгомери». После убийства одного из Кеннеди Америка пришла в такое замешательство и погрузилась в такой хаос, который вскоре поглотил Мартина Лютера Кинга и второго из братьев Кеннеди. Харлановское осуждение ненависти и предрассудков – это острая журналистика в сочетании со здравым смыслом, но «девятый вал истории», о котором он говорит, накатывался неумолимо.
Он не пытался предсказать, какой станет душа Америки через тридцать лет, но не думаю, что она стала настолько здоровой, насколько надеялся он.
В 1972–1973-м «Букварь» Харлана Эллисона регулярно печатался в газете «Свободная пресса Лос-Анджелеса», выдающемся образце тогдашней прессы «андеграунда». Газета вспыхивала и гасла в такт с меняющимися временами. Это было своеобразным продолжением предыдущей колонки Харлана, посвященной анализу телевидения. Она выходила под названием «Стеклянная сиська». Материал обеих колонок сохранился в двух солидных томах. «Букварь» был чем-то вроде открытого дневника, заполненного событиями харлановской повседневной жизни – и его реакции на эти события. Две подборки в настоящей коллекции, «Мой отец» (1972) и «Моя мать» (1976) – последняя появлялась в журнале «Saint Louis Literary Supplement», где колонки время от времени печатались. Обе они представляют собой рискованные и откровенные эссе, но в то же время они были и мягче, и добрее, чем можно было ожидать в условиях тогдашних социальных кризисов.
Кажется, из самой глубины души вопиет очерк «Усталый старик» (1975), который явился результатом встречи Харлана с Корнеллом Вулричем на вечеринке нью-йоркских писателей. Однако никто кроме Харлана не помнит, чтобы Вулрич там был. Это откровенный и эмоциональный портрет одного из любимых писателей Харлана, а финал его позволяет нам разделить его чувство преклонения перед своим героем.
«Подай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале» (1982) – воспоминания Харлана о трех месяцах работы на третьесортной разъездной ярмарке и о трех днях, которые он провел в тюрьме в штате Миссури, откуда следовал еще один урок, известный нам, но так нами и не усвоенный.
А в «Странном вине» (1976) автор без обиняков рассказывает о том, что этот мир – лучший из всех возможных миров.
Во всех этих эссе вы не найдете ни пустот, ни тщательного отбора слов, которые должны были бы усыпить наше внимание своей монотонностью. Нет, здесь наличествует страсть: кипящая и яростная, отчаявшаяся, но ищущая, всегда пребывающая в поиске истины. И если поиск приводит к ярости – что ж, быть по сему.
«Я тявкающая собачка с маленькими острыми зубами. Часто я так же неправ, как и вы, часто глуп, как и вы, часто самодоволен, как и вы. Но я в рабочем состоянии. Как и вы».
«Зловещие заметки для вечернего отдыха», предисловие к сборнику «Мой голос дрожит от гнева», изд-во «Доннинг», 1985.
Из Алабамы с ненавистью. Еще одна заметка из чистилища
25 марта 1965 года, четверг. Марш по стране слепых. Город Монтгомери, штат Алабама, в жару смердящий разложением, задыхающийся от злобы двух столетий расизма, убийств и морального убожества, оснащенный скрытыми от посторонних глаз реликвиями аристократов Юга: веревки для линчевания, ружья 12-го калибра, паскудные туалеты типа «сегрегированные, но равные», электрошокеры, отряды убийц ночью и расчетные чеки днем.
Да, оснащенный всем этим – и ждущий прибытия чужаков.
25 марта. Пятьдесят тысяч человек, идущих по красным глинистым дорогам Алабамы и поющих на марше. Чужаки, пришедшие объяснить сумасшедшим расистам, что Гражданская война давно закончилась, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит, что обители зла, в которую превратилась Алабама, никто в Соединенных Штатах уже не потерпит.
Марш свободы в Монтгомери, штат Алабама.
Тенденциозные сообщения в печати.
И если ты не шел с нами в марше, то можешь пойти на ***. Возможно, тобой двигали какие-то благородные мотивы. Не знаю, я их не обнаружил. Просто наступило время расчета, время отказа от салонного либерализма, время прекратить кудахтанье об ужасающих преступлениях и не менее ужасных условиях жизни. Время действовать. Время платить по счетам. Время mea culpa, когда виноват каждый. Потому и я пошел в марше.
Вместе с тысячами других – со всей страны, со всего мира. Был представлен каждый штат: Нью-Мексико, Индиана, Нью-Йорк, Флорида, Огайо. Порядочные мужчины и женщины из Парижа и Лондона. С Гавайев и Аляски. Слепой мужчина, пришедший пешком из штата Джорджия. Богатая дама в мехах из Беверли-Хиллз. Одноногий герой, участвовавший еще в первом марше Трехсот, проделавший путь от Сельмы, где люди гибли еще несколько дней назад, до Монтгомери, где какой-то подлый расист вывесил флаг Конфедерации, как жест сопротивления, и спрятался за дверями, закрытыми на все замки.
И даже после марша, даже после всех бесконечных речей, женщину из Детройта буквально расстреляли на той же самой дороге между Сельмой и Монтгомери. Виола Лиуццо стала еще одним занумерованным трупом.
Черт подери их всех! Черт подери их вывихнутые, изуродованные мозги, их гнилые убеждения, всех этих двойников гитлеровских головорезов. Даже после того, как они видели пятьдесят тысяч человек, собравшихся в выгребной яме, называемой штатом Алабама, чтобы словом, телом и делом заявить: «Освободи этих людей!» – даже и после этого, при всех произнесенных словах, негодяи убивали снова.
И снова. Похоже на то, что это никогда не прекратится, пока не наступит время и человечество не исчезнет, погрузившись в океан забвения, когда не станет ни черных, ни белых – ни Человека вообще! Все эти разговоры о Человеке, а на марше разговоры о Боге… Но где был Бог для маленьких девочек в Бирмингеме? Где был Бог для преподобного Риба? Для миссис Лиуццо? Для всех безымянных чернокожих, которых сжигали и вешали, калечили бритвой и ножом, расстреливали из ружей? Я не могу говорить о Боге. Я могу говорить только о Человеке.
Самолеты вылетали из Бербанка. Три самолета – из аэропорта Локхид, где Богарт прощался с Ингрид Бергман в «Касабланке». Триста священнослужителей, студентов, актеров, домохозяек, клерков, писателей, водителей грузовиков, поэтов. Сначала все думали, что хватит одного самолета, но за два дня до нашего вылета пришлось подрядить еще один, а ранним утром в четверг – и третий. И все равно людям продолжали отказывать. Зал ожидания превратился в сумасшедший дом, люди толпились у стойки регистрации, крича: «Дайте мне улететь!» Почему они так яростно за это сражались? Почему было не воспользоваться удобным предлогом и не лезть в пасть зверю?
Потому что все, что я видел во время марша на Монтгомери, это Человек во всем своем благородстве – и во всей своей мерзости. Если вам нужны детали, если вам нужны строгие цифры, если вам нужна история, все это было зафиксировано и записано. А я пишу, черт бы их всех побрал, о своих личных впечатлениях. Мужчины и женщины, которые, конечно же, предпочли бы залечь дома в теплую кроватку или отправиться на дискотеку. Они сражались и толкали друг друга, чтобы выложить свои деньги за билет. Я был в самой гуще толпы. И у меня нет ответа на вопрос «почему».
Но в самолете, забитом абсолютно незнакомыми мне людьми, – несмотря на то, что нас объединяло общее дело, – меня внезапно одолели странные и пугающие мысли. Все люди на этом рейсе, летящие по направлению к всеобщему братству – что, если мы потерпим катастрофу и окажемся вдали от цивилизации, и у нас не будет никакой еды кроме той, что мы везли с собой в рюкзаках? Разве мы не набросились бы на этого хорошо одетого чернокожего джентльмена с сумкой фруктов в руках? И куда бы подевалось тогда наше братство? И до меня дошло: вся истерия у стойки регистрации, вся толкотня, все эти стадные эмоции…
Это было взаправду! Это были реальные люди.
А то, куда мы летели, то трудноопределимое, то во что мы верили и что собирались делать… Это была всего лишь идея. Просто мысль.
И она, пугающим и неизбежным образом, не была реальностью. И я знал: эти люди не обязаны нравиться друг другу, не обязаны любить друг друга, они друг другу абсолютно чужие существа, летящие к мечте.
Но мечту невозможно заселить людьми. Только суровая реальность позволяет ощутить присутствие других. Я почувствовал себя очень одиноким.
Потому что там, внизу, был Монтгомери, штат Алабама. Это была реальность.
А здесь, в самолете, была мечта. И мысль о том, что мечта эта не была частью реальности, пугала меня. Люди, живущие в этом штате, существуют в нем постоянно, а не просто прилетают на денек или недельку, а потом возвращаются назад к холмам Голливуда, к безопасной жизни. Я похолодел при мысли о том, что мы вот-вот вторгнемся в их реальность.
Внизу мы должны были встретиться с участниками Первого марша, прошедшими пятьдесят миль по шоссе 80 от Сельмы до Монтгомери.
Все демонстранты, прилетавшие отовсюду, должны были встретиться в трех милях от Монтгомери, в городке Сент-Джуд, в больнице и в школе. Мое первое впечатление наполнило меня страхом. Так, должно быть, чувствовали себя заключенные со всей Европы, впервые увидевшие Бухенвальд или Дахау. Снаружи, по внешней стороне колючей проволоки, с интервалом в пятнадцать метров стояли бойцы Национальной гвардии Алабамы.
Внутри ограждения бивуак выглядел как-то… неуместно.
Площадка была забита группами людей, по две, а то и по три сотни. Неорганизованные, растерянные. Грязь была повсюду. Жирная, чавкающая грязь Алабамы, которую месили тысячи ног еще с прошлого дня. Это был концлагерь. И солдаты за колючкой смотрели не вовне, как было бы, если бы они защищали людей внутри…
Когда мы оказались внутри, я попытался поговорить с нацгвардейцами. Точнее, задать им два вопроса. Я пересек пустое пространство, отойдя подальше от всех толпившихся внутри колючки людей и подошел к трем бойцам, стоявшим вместе. Двое сразу же отошли.
– С каким интервалом вас расставили вокруг колючки? – спросил я.
– Я не знаю.
– Вы из Национальной гвардии Алабамы?
– Я не знаю.
Он повернулся и пошел прочь. Я смотрел ему вслед. Избави нас Боже от людей, которые делают то, что очень не хотели бы делать. И делают это лишь потому, что им был отдан приказ.
Позднее я еще более отчетливо осознал мой страх перед этими южанами, согнанными сюда, чтобы служить ненависти, потому что единственный момент реальной опасности исходил от них.
Мы должны были начать марш, пройдя три мили вглубь Монтгомери к зданию Капитолия, в 9 утра. Но мы никуда не двинулись до одиннадцати. Выстраиваясь в колонны, шеренгами по трое, мы стояли и ждали в грязи, а потом начался дождь. Он холодной моросью брызгал прямо на нас. Люди доставали из рюкзаков зонты и плащи.
Внезапно заблеяли матюгальники на грузовичке. Какой-то негритянский комик неумело подражал разным деятелям… И никак не мог остановиться. Он изображал Уоллеса, Рузвельта, Ральфа Банча, Линдона Джонсона, Пауля Тиллиха… Каждые несколько минут он разражался злыми вставками на предмет того, что все «беляши» – сукины дети. Это было в очень дурном вкусе и очень не ко времени. В конце концов, все мы, собравшиеся здесь, прибыли, чтобы сделать то, что в наших силах, послужить справедливости, без обычной для белых поспешности заправлять всем. Мы стояли, а этот комик хрипел, обращаясь к нам, пока не раздались голоса, предлагающие брать штурмом не Капитолий, а этот проклятый грузовик с матюгальниками.
Потом участники Первого марша трехсот в своих флуоресцентных жилетах дорожных рабочих, с флагами США в руках начали шагать вперед, и мы, в приподнятом настроении от того, что началось хоть какое-то движение, последовали за ними. Волна за волной, шеренга за шеренгой, дети, взявшись за руки, женщины с пакетами с едой, чернокожие и белые, со сверкающими глазами, мы выходили на шоссе Джефферсона Дэвиса.
Время от времени из рядов взмывала вверх песня. Мы шли уже четыре часа. Впереди меня одноногий Джим Летерет из Сагино, штат Мичиган, скакал на своих костылях, расплывшись в улыбке.
Группа подростков из Монтгомери шагала рядом с нами, прибывшими из Лос-Анджелеса, и я впервые расслышал слова их песни:
– В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… Здесь в Монтгомери, штат Ала-ба-ма!
Это была странная и требовательная кричалка, под которую мог бы танцевать Придурок:
– Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп…
И потом зловещее, угрожающее и требовательное:
– Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Это была старая кричалка, которую обращали к штрейкбрехерам. Грозное предупреждение.
– Мы идем. Мы ждем вас. Попробуйте сделать что-нибудь. Сломайте палки о наши спины. И потом посмотрим, кому раскроят башку, Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Марш прошел по 80-му федеральному шоссе и стал углубляться в негритянские кварталы.
Представьте себе все мыслимые клише бедности и отчаяния. Погрузите их в котел вашего воображения. Но и тогда они не достигнут планки того убожества, в котором живут темнокожие мужчины и женщины в Монтгомери, штат Алабама. Дома, никогда не видевшие краски, хижины из картонных панелей, не имеющие фундамента. Дома, где при подметании не нужно брать в руки совок для мусора, потому что мусор проваливается сквозь щели в полу.
Дома, где стены обклеены не обоями, а старыми газетами, картонные коробки, в которых гуляет холодный ветер. Полных людей очень немного. И абсолютное отсутствие расистского клише: «Они живут в грязи, но ездят на огромных кадиллаках». Кадиллаков здесь нет. Но есть высохшие старики, сидящие на крыльце в чистой, но заношенной до дыр одежде. Есть маленькие дети, бегающие друг за другом в чулках, натянутых на головы. Есть грязные открытые стоки для нечистот возле каждого дома – потому что муниципалитет не считает нужным снабдить местный люд адекватной канализацией. Есть тотально неадекватные магазины – маленькие клетушки с обязательной рекламой кока-колы, ниже которой располагается название самого магазинчика. Единственное, что выглядит ярким и свежим – реклама кока-колы. Боже, благослови американскую экономику, всепроникающую любовь корпораций! Картинка на обочине: дюжина маленьких детей, тоненькими голосами поющими вместе с тысячелетним негром «We Shall Overcome». На их лицах ни единой улыбки.
Улыбки были на лицах тех, кто шагал в колонне на марше. Негры, сидевшие у домиков вдоль дороги, были слишком напуганы: что, если их хибарки сожгут, или их самих линчуют, или выгонят с работы, если они примут участие в марше (что и подтвердили события последующих нескольких дней) – и потому они молча наблюдали за нами. Сидя на крыльце и стоя на тротуарах, – эвфемизм для дорожек, присыпанных щебенкой – они смотрели на текущую вдоль дороги человеческую реку – на тех, кто приехал в Алабаму, чтобы поклясться в верности их делу. И, когда поющие люди шагали мимо их хижин, их обитатели спонтанно начинали аплодировать в такт песне и подпевать, но неизменный страх тут же возникал за их спинами, и они умолкали. Это было жутковато и трагично.
Старая беззубая женщина, преодолев себя, бежала вдоль колонны, радостно выкрикивая слова песни. Она вцепилась в меня, пыталась меня обнять просто потому, что пришла в восторг от того, что мы существуем, что мы приехали туда, куда приехали.
– Давай, мама! У нас найдется для тебя место, – кричал Пол Роббинс, фотограф, прилетевший со мной.
Все смеялись и танцевали, а она хлопала в сухонькие ладошки, сияя как ребенок. Мы шли дальше, а старуха уже улыбалась тем, кто шел за нами – и они невольно улыбались в ответ.
Девочка из средней школы Монтгомери шагала рядом со мной. Она указала рукой на здание с вывеской «Лайкос Клаб».
– Сюда мы ходим на уроки музыки, – сказала она. Простая фраза, но в ней пульсировала ярость.
Это было единственное место, куда им разрешалось ходить. Мы повернули вправо, шагая по красной глине, и внезапно у нас под ногами появился асфальт.
Начались кварталы белых низов среднего класса. Ощутимый переход от Ниггер-тауна к поселениям Белой Рвани.
С точки зрения цивилизации это было всего в полушаге от позорного гетто, которое мы только что прошли, но именно здесь мы столкнулись с самым озлобленным отношением…
(Когда я служил в армии и мы базировались в Джорджии, я беседовал с тупейшим представителем белой бедноты, рядовым первого класса. Вот что он мне поведал:
– Я бедняк, – говорил он с горечью. – Настоящий бедняк. Беднее не бывает. Образования у меня нет, и дома меня не ждет ничего. Останется разве что трахаться и стареть. Я полный нуль, чувак, полный нуль. Как грязь у нас под ногами. Но есть кое-что, по сравнению с чем я человек. Я лучше, чем ниггер. И сделаю все, чтобы так оно и было впредь.
Популярное изложение того, чем права южных штатов отличаются от гражданских прав.) На крыльце сидела белая пара, мужчина и его жена. Они пили чай и даже не видели, что по их улице идет марш свободы. Их мир был выше этого.
И на этом участке дороги ничего не происходило.
Ничего не происходило в Алабаме, как убеждало телевидение в воскресенье. Вообще ничего. О чем они думают, шагая по этой дороге? Чего ищут? Саранчу? Идут мимо негритянских школ. И темнокожие дети высовываются из окон, торжествующе вопят, призывая нас идти вперед, учителя машут нам руками, плачут от счастья. «Покажите этим негодяям!» И название школы крупными буквами: ШКОЛА ЛАВЛЕСС. Да.
Снова поворот. На склоне холма веранда жилого отеля. На ней толпа белых дамочек среднего класса, сливки женского пола американского юга.
– Угодники ниггеров! – заорала старая блондинка.
– Идите на… – слова второй утонули в песне, которую пели темнокожие участники марша:
– Скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, что нас не повернуть назад!
Третью дамочку так трясло от ярости, что она не могла прокричать, что желает нам сдохнуть, чтобы всю федеральную трассу усыпали наши трупы – и все, что она смогла сделать, это повернуться к нам спиной, оттопырить зад и сделать вид, что она пускает ветры.
– Высокий класс, мадам! – прокричал я. – К-Л-А-З!
И мы шли дальше. Напуганные? Нет, еще нет.
Хотелось пить. Солнце было высоко в небе, и нас начало припекать.
– Боже, мне бы стакан воды, – пробормотал я.
– Почему бы тебе не подойти к тому крыльцу и не попросить водички у белых? – с насмешкой проговорил черный паренек, студент из городка Таскиги.
Я улыбнулся в ответ.
– А что, это создаст проблемы для марша?
Он мотнул головой.
– Нет, это создаст проблемы для тебя.
Я вышел из строя. А вдоль рядов уже прокатывалась весть: белый парень собирается попросить воды… И никто никогда ему этой воды не даст.
Позади меня колонна замедлила шаг и остановилась. Все столпились, наблюдая за мной и ожидая неприятностей, даже с нетерпением предчувствуя, что эти неприятности начнутся. Ниже по улице стоял жилой отель. Группа женщин, облокотившись на перила, наблюдала за происходящим. Я прошагал к ступенькам. На террасе в плетеных креслах сидели три женщины.
– Простите, мэм, – обратился я к той, что потолще, – не могли бы вы дать мне стакан воды?
Она пялилась на меня, ничего не понимая. О чем ее, черт дери, просит этот северянин, еврей, коммунист? Она же ничего ему не сказала?
– Стакан водички, мэм, – повторил я.
Рыжая дамочка, сидевшая рядом с толстухой, наклонилась к ее уху.
– Он говорит, что хочет воды. Он говорит: пожалуйста.
Толстуха поднялась и вошла в дом. Рыжая обратилась ко мне.
– Не такие уж мы плохие, как вам о нас понарассказывали, – она произнесла это с неподдельной грустью.
– Не такие, как кто? – спросил я, прикидываясь остроумным пареньком.
– Ну, как, знаете, как другие, как те, что вам рассказывали.
– Кто мне рассказывал, мэм?
– Вы знаете. Не такие уж мы плохие, честно.
– Да, мэм. – Я улыбнулся ей. – Но некоторые из вас все-таки не слишком хорошие люди. И если вы сидите, ничего не предпринимая, и позволяете им уродовать ваш родной штат, вы так же виновны, как и они. Я прилетел из Голливуда, чтобы посмотреть, чем я смогу помочь.
Она уставилась на меня. Я произнес волшебное слово: Голливуд. Стало быть, я не коммунист. Еврей, поклонник негров – наверное, но не коммунист. И при моих вежливых манерах я, скорее всего, и не битник.
Толстуха вернулась с водой. Я долго пил из стеклянного стакана и вернул стакан его хозяйке.
– Большое, большое спасибо, мэм. – Я расплылся в улыбке, зная, что сейчас на моей левой щеке появляется милая ямочка.
– И расскажите им, что мы дали вам стакан воды, – сказала рыжая, улыбнувшись и считая разговор оконченным.
А если бы я был чернокожим? Я не произнес это вслух, потому что хотел показать им, что можно общаться иначе, и не хотел настраивать их против себя. Я вернулся в строй, люди снова зашагали вперед, а я повторял то, что мне сказали: не такие уж они плохие в этих краях. Студент-негр бросил на меня испепеляющий взгляд.
– Смотри, не купись на все эти «оки-доки», – предупредил он меня.
Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.
Мы свернули на главную артерию, Декстер-стрит. Прошли мимо отеля «Джефф Дэвис». Белые деревенщины стояли на каждом углу в джинсе и белых рубашках, салютуя нам средним пальцем. Один из них проворчал, обращаясь ко мне:
– Где ты хочешь добиться своей свободы, бой? В Нью-Йорке? Филадельфии? Чикаго?
Я улыбнулся в ответ. Пошел ты нахрен, Джек.
Идем мимо кинотеатра «Парамаунт». Афиша: Элвис Пресли в фильме «Счастлив с девушкой».
– Этот не из наших, – сказала чернокожая школьница. У меня едва не остановилось сердце. Так легко забыть, где ты и почему.
Шагаем мимо Джей Джей Ньюберри. На втором этаже – офисы городской управы Монтгомери. У них в окне гигантский плакат: Мартин Лютер Кинг в окружении группы людей, и подпись: МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ КОММУНИСТ! Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп.
Белая официантка в ресторанчике смотрит на меня через оконное стекло. Я улыбаюсь ей и подмигиваю. Она одаряет меня улыбкой. Мы флиртуем.
Если бы я захотел остаться здесь на пару дней, я нес бы им Благую Весть, оплодотворил бы местных женщин, разворошил бы весь этот бардак.
Окно на втором этаже, агентство фирмы «Понтиак». Мужчина в сером костюме.
– Катитесь туда, откуда пришли, ссучьи вы дети, любовнички черномазых!
О, это южное гостеприимство.
Подростки в конце колонны запели марш свободы на мелодию, будто написанную для фильма «Придурок». Они танцуют на Декстер-стрит. И еще один танец. И сразу же третий. Бдыщ! Да! Последний всплеск. Мы дошли до подножия холма, дальше дорога вела к площади и зданию Капитолия. Кто-то указал рукой на здание и что-то прокричал. Купол Капитолия. Американского флага нет. Развевается флаг штата Алабама с красным диагональным крестом на белом фоне. А под этим крестом – звезды и полосы флага конфедератов. Губер Джордж, Губер Джордж, насколько ты в себе уверен? С патронами от ружей, с воплями линчующей толпы, с плевками на остальную Америку – всё до кучи! Мы слушали речи, все до единой. Они зудели часами и, как говорят в шоу-бизнесе, «потеряли внимание публики». Но это было не важно, мы поддерживали их до конца. Они даже могли бы читать вслух «Бармаглота» Льюиса Кэрролла. И так оно было до тех пор, пока Джимми Болдуин не представил Кинга. Когда-то Болдуин был проповедником. Ибо сказано было: Седрах и бывшие с ним отроки[1] снова вошли в жерло печи, и из пламени ее вышел Мартин Лютер Кинг, который сказал все, что должно было сказать.
И мы там стояли, и сидели, и лежали – тысяча за тысячей, пока армейские снайперы на крышах зданий пялились на нас. Они установили пулемет на здании Национальной Безопасности в Монтгомери. Еще один – на крыше офисного здания напротив него, и два пулемета на сошках прямо в здании Капитолия. Они целились в нас и поводили стволами, о, как мы польем свинцом этих поклонничков черномазых, всю эту сволочь, о, как мы утопим их в крови! И главный головорез Уоллеса, Эл Линго, шнырял по толпе – инкогнито. Мы были как жертвенные голуби, пожелай Уоллес организовать еще одну «бойню в Шарпевиле». Добавим еще и то, что «защитники» из Национальной Гвардии Алабамы (с нашивкой флага Конфедерации на груди выше нашивки с флагом США) смотрели в толпу. А вовсе не вне ее.
Защита? Отметим: я уверен, что это была расчетливая стратегия, мобилизовать нацгвардейцев из южан. Может, это было подсознательной жаждой наказания: охранять тех самых людей, которые угрожали их образу жизни. А может статься, это было предупреждением чужакам, потому что под формой даже полиции штата были все те же ребята Уоллеса.
И еще добавим: красные глаза на вызверившихся физиономиях, толстенные шеи, челюсти, сжимающиеся от ярости, когда Кинг разносил вдребезги их алабамский расизм.
И песни… О Боже, какие песни! Пятьдесят тысяч голосов, направляемых Гарри Белафонте. Уоллес прятался в Капитолии, рассматривая нас через створки жалюзи. Интересно, Губер Джордж наслаждался этим так же, как и криками чернокожих в лунную ночь? Я услышал голоса старого негра и его жены. Они стояли за моей спиной, у баррикады из рогаток.
– Здесь уже никогда не будет так, как прежде, – уверенно говорил он. Его жена мотнула головой.
– Думаешь, они сложат лапки и помрут?
Горький голос реализма на фоне мечты.
Он пожал плечами и негромко повторил:
– И все равно, уже не будет как прежде.
Я достал из рюкзака салями и бутылку. Потом, вспомнив, что моя бутылка пуста, я одолжил воды у Гольдстоуна, режиссера ТВ, который решил, что и для него настало время заплатить долг обществу. Мы нарезали салями и передали колбасу по кругу. Один из чернокожих подростков заулыбался:
– Кошерная?
– Была кошерная, когда мы вылетали из Лос-Анджелеса, – ухмыльнулся Гольдстоун. Мы перекусили и передали по кругу бутылку воды. Но негры не станут пить из одного сосуда с белыми. Старые страхи умирают не сразу.
Покончив с трапезой, мы отправились к пустому паркингу, где нас должны были ждать автобусы. На них мы должны были вернуться в аэропорт Монтгомери и уже оттуда вылетать домой. Я хотел было остаться на несколько дней, чтобы посмотреть, чем все это закончится, но нас всех едва ли не умоляли отправиться по домам.
Возможно, они располагали информацией о том, что нас может ждать судьба Виолы Лиуццо.
Мы ждали на пустом паркинге долго, очень долго, все мы, три сотни с лишком человек. Автобусы не появлялись. За нами стеной стояли нацгвардейцы с оружием наготове – угрожающее зрелище.
– Я хочу колы, – сказал я, обращаясь к Полу Роббинсу. В двух кварталах от нас была автозаправка с небольшим магазинчиком.
– Бога ради, не ходите туда! – крикнул кто-то из толпы. Однако страха в голосе не было. И мы отправились в сторону заправки.
Когда мы шли мимо нацгвардейцев, они принялись клацать затворами своих старых карабинов. Тупые ублюдки, они что, пытаются нас запугать? Я-то знал, что в их М-1 не было патронов. На их форме даже не было запасных рожков. Ублюдки тупые. Они ворчали нам вслед всякую гнусь типа «обожатели ниггеров» и «Катись туда, откуда приехал, ты, сукин сын, пидар!» Один внезапно вышел нам наперерез с винтовкой в положении «на грудь» и требовательным голосом спросил, глядя на меня:
– Откуда ты, сынок?
Я ответил ему ледяным взглядом.
– Я из Нью-Йорка, сынок. Я, кстати, полковник запаса армии Соединенных Штатов, и если ты не хочешь, чтобы я позвонил твоим командирам и попросил их взгреть тебя как следует, то на раз-два ты вернешься в строй, марш, марш, сопляк!
Повернувшись кругом, он пробормотал под нос:
– Ты свое еще словишь.
Мы повернули за угол. Мне приспичило в туалет, но кабинки для белых были заняты: и мужские, и женские. И я прошел в туалет для «цветных». Ну а что? Я белый, а белый – это цвет. У владельца заправки был тромбофлебит. Мы купили свою колу и отправились назад. Вояки уже перекрыли улицу. Пришлось идти в обход. Три квартала на север, три квартала на запад, три квартала на юг. Теперь мне и впрямь стало страшно.
Нас было пятеро. Мы шли к нашей площадке кружным путем. Перекрывать улицы не было никакого смысла. Мои спутники начали двигаться бегом. Да черт меня дери, если я позволю этим засранцам-расистам гонять меня как кролика. Я вразвалочку подошел к нашей группе.
– С какой стати спешка? – спросил я у негра, одного из наших.
– С той, что я не могу провести ночь в отеле «Джеф Дейвис», – ответил он. Серьезный аргумент. Я тоже побежал рысью.
Автомобили и грузовички ехали вдоль дороги. Из их открытых окошек неслись угрозы:
– Когда стемнеет, мы до вас доберемся, сучьи вы дети!
Изрядно напуганные, мы наконец добрались до паркинга.
Автобусов так и не было. А чуть позже стали уходить нацгвардейцы. Правительство обещало нам: «Защита будет обеспечена до тех пор, пока все не улетят из Монтгомери». Ну да. А тем временем мы торчали здесь, и опускались сумерки, и озверевшая толпа уже была рядом с нами. И машины с краснорожей гопотой кружили, кружили и кружили вокруг паркинга…
(Случайность? Совпадение? Паранойя? Кое о чем мы тогда не знали: водители автобусов бросили работу. Везти нас они отказались.) Один автобус притормозил на обочине, рядом с бредущим по улице молодым пресвитерианским пастором. Дверь автобуса открылась, и очередной герой Алабамы высунулся наружу:
– Сегодня ночью мы из вас все дерьмо выбьем, вы, бляди, пидары, ублюдки вы сраные, ну погодите, еще нюхнете лиха! – и автобус, удирая, рванул с места.
И необъяснимо, но факт: нацгвардию уже убрали.
(Случайность? Совпадение? Паранойя? Может быть.) Наконец они все-таки выделили три автобуса. Водителям обещали сверхурочные. Автобусы прибыли. Я рванул к первому. Героизм быстро сдувается, особенно когда в воздухе пахнет кипящей смолой.
Набившись, как сардины в банке, мы ехали в аэропорт. И тут маленький белый с черными пятнами песик бросился на дорогу. Водитель мог избежать наезда, и нас бы даже не тряхнуло, но он продолжал ехать прямо. Несчастный песик попал под левое переднее колесо. Собачонку швырнуло назад, и она пробарабанила тельцем «бум-бум-бум» до самого заднего моста. Водитель и глазом не повел. Он просто посмотрел на часы, отмечая время столкновения, чтобы потом внести его в путевой лист. Было 18:06.
Приключений было больше, гораздо больше. Нам не подали трап к самолету. Его мы ждали часами.
На борту самолета нашли бомбу. А впереди ведь еще и девятичасовой полет домой! Виола Лиуццо. Ее убили, когда она торопилась в Монтгомери, чтобы забрать людей, застрявших на паркинге.
Опасность была гораздо ближе, чем мне хотелось в том признаться.
Но теперь все кончилось. Я провел там один день, хватит. Не велико достижение, не велик подвиг, ни тебе орденов, ни ленточек. Один день там, где молодой негр, студент колледжа, подвел итог: «Мы живем в состоянии постоянной настороженности. Даже в лучший из дней, в самый обычный день, уходя из дома утром, ты не знаешь, что произойдет, любая мелочь, какой-нибудь расист, накачавшийся виски, неверный шаг, и ты уже никогда не попадешь домой». А я направлялся домой и мог лишь твердить про себя: «О Боже, Боже правый, позволь мне выбраться поскорей из этой выгребной ямы!» Но здесь оно и ныне по-прежнему. Виола Лиуццо была белой, и ее имя попало в газетные заголовки. Но красная грязь Алабамы скрывает трупы сотен безымянных чернокожих, которые в заголовки уже никогда не попадут. От них не останется даже имен на могильных камнях.
Время платить по счетам? Да, друзья мои, именно это. Настало время Mea Culpa в стране слепых, в нашей стране, и мы были столь слепы долго, так невозможно долго, что, наверное, для нас уже слишком поздно узреть свет.
Уже недостаточно всплескивать ручками: «Ох, эти бедные темнокожие…» Уже недостаточно пробурчать: «Ну что скажешь, людей убивают в метро и в Чикаго, и в Нью-Йорке». Уже недостаточно пожертвовать пару долларов SNCC[2] или CORE[3]. Уже недостаточно, вынырнув на мгновение из уютных сверху донизу либеральных салонов, пройти маршем по пропитанной кровью земле Алабамы. Уже недостаточно.
Цунами истории вздымается выше и выше. И его уже не удастся сдержать ни убийцам в балахонах ККК, слишком трусливым, чтобы показаться на люди днем. Волна накатывает, хвала Господу, и если ты слушаешь, то услышишь, как она бьет о скалу и сносит стены расизма и ненависти.
Услышал? Прислушайся. Слышишь? Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага.
Мой отец
Я словно пробуждаюсь от мрачного сна и внезапно понимаю, что половину жизни я провел в поисках отца.
Поймите меня правильно: я не дитя греха. Родился я в университетской больнице в Кливленде, штат Огайо, 27 марта 1934 года в 14:20. Родители мои – Луис Лаверн Эллисон и Серита Розенталь Эллисон, то есть, я знаю, кто был мой отец. У меня в руках свидетельство о рождении, я смотрю на него и вижу вопрос: законнорожденный? (Самый бесчувственный вопрос, который можно себе представить.) Но, к счастью для моей мамы и к несчастью для моих биографов, ответ прямо на этом документе, коротко и ясно: да.
Так что когда я говорю, что полжизни искал своего отца, я не имею в виду сюжет вроде того, что под стать романам Виктора Гюго.
(Хотя мне сейчас пришла в голову мысль: насколько же странно то, что осознание одного факта работает словно триггер, запускающий серию эпизодов осознаний в других областях. Ну не странно ли, что я написал целый ряд рассказов, в которых дети – по той или иной причине, часто движимые сюжетом – ищут своих отцов. Первый рассказ, который приходит на ум, назывался «Четвертая заповедь». В нем речь шла о пареньке, ищущем своего отца, которого он никогда не знал. Ищет, чтобы убить его за то, что тот попользовал, а потом бросил его мать. Я продал этот рассказ телевизионщикам после того, как он был напечатан в журнале. На ТВ его переделал один тип по имени Ларри Маркус, изменив название на «Дар воина». Он вышел на телеэкраны 18 января 1963 года, год спустя после моего переезда с Восточного побережья в Лос-Анджелес, а еще несколько лет спустя Маркус и Герберт Леонард, продюсер сериала «Шоссе 66», сняли по этому моему рассказу фильм «Возвращение домой», не заплатив мне ни гроша за вторую экранизацию. Но это уже другая история. Мой адвокат работает сейчас над этой проблемой, а мы вернемся к теме, о которой шла речь.) Отец умер в 1949 году, когда мне было пятнадцать. Я жил с ним и мамой все эти пятнадцать лет, но никогда не знал его по-настоящему. И только когда мама, три или четыре года тому назад, серьезно заболела и думала, что с ней все кончено, она решилась поделиться со мной очень серьезными фактами из жизни Луиса Лаверна.
Было много таких историй, – расскажи я о них – которые ее расстроили бы. Глупо, конечно, ведь прошло более сорока лет, но скелеты в шкафу грохочут сильнее всего для тех, кто живет воспоминаниями – а именно ими мама и живет. И день сегодняшний даже в малой доле не так важен, как день вчерашний с моим отцом. Я не буду вдаваться в детали того, как отец практиковал стоматологию в Кливленде в течение одиннадцати лет. Это история для другого времени.
Начнем с того, что отец, как и я сам, был коротышкой. Он был даже ниже меня, насколько я помню. А мой рост – официально – 163 см. Отец был невероятно мягким человеком. Однажды в детстве я выкинул какой-то совсем уж дурацкий фортель, и отцу пришлось отвести меня в подвал, где он меня наказал. Ремнем. Но поймите меня правильно: в этом моем воспоминании нет ни йоты обиды. Отец не был жесток. К телесным наказаниям он был склонен не более, чем Альберт Швейцер. Но в те времена отцам полагалось быть суровыми. «Вот погоди, придет с работы отец!» – таков был клич всех матерей Америки. Я побаивался, но лишь наполовину, потому что знал, что мой отец не способен на такое.
Но, как я уже сказал, это был тот самый случай, когда наказание было неизбежным. Может быть, это случилось тогда, когда я столкнул Джонни Мамми с крыши гаража, где мы с ним играли в Бэтмена и Робина. Тогда-то отец отвел меня в подвал дома 89 по Хармон-драйв в Пейнсвилле, штат Огайо – и отходил меня ремнем как следует.
Жгучая боль прошла через час, хотя тупая боль ощущалась еще пару недель после экзекуции.
Отцу стало плохо. Он поднялся в свою спальню и расплакался. Несколько недель кряду он был сам не свой. В то время я, конечно же, обо всем этом не знал.
Он был мягким человеком и выглядел… Ну, почти как Брайан Донлеви, если бы великий актер был коротышкой. Если вы понятия не имеете, кто такой Брайан Донлеви, можете увидеть его в «Позднем-позднем шоу».
Когда отец был мальчишкой, он работал на речных теплоходах, разнося пассажирам сладости и газеты. Позднее, гримируясь под негритенка, он стал выступать в шоу. И он пел. Очень хороший голос, даже в поздние годы. Его фото украшало обложку нотной тетради с песней «Моя еврейская мама» – песней, которая сделала Эла Джонсона знаменитым и которая была написана другом отца и посвящалась матери моего отца, бабушке, которую я не знал. Как не знал, к слову, и дедушку.
Отец всегда хотел стать дантистом, и со временем он стал практиковать стоматологию в Кливленде. В эпоху сухого закона. Мне рассказывали, что он был настолько фантастическим дантистом, что мафиози пользовались его услугами. Мама, после того как они поженились, работала у него в приемной. Она рассказывала, что, когда гангстеры приходили поставить пломбу, отец всегда настаивал, чтобы они оставляли свои пушки у мамы. Она говорила, что нередко случалось, что невозможно было открыть ящик письменного стола, потому что он был под завязку забит пистолетами.
Ладно, вы, должно быть, уже недоумеваете, почему я обо всем этом рассказываю здесь, в новой газетной колонке. Мне просто хотелось для начала поговорить о чем-то для меня важном, и я узнал обо всем этом всего несколько дней назад, когда мама приехала из Флориды навестить меня. Я нечасто с ней вижусь, и мы никогда не говорили по душам, но она затронула тему моего отца, и я начал расспрашивать ее, пытаясь узнать, каким он был на самом деле – в отличие от той лапши, которую вешают на уши детям, рассказывая об их родителях. Ни в одной из написанных мною вещей я не рассказывал об отце просто потому, что я его толком и не знал. Мы жили под одной крышей, но были чужими, словно он вибрировал в другом слое бытия. Мы проходили мимо друг друга и сквозь друг друга, словно тени.
Но когда мама рассказала о том, что отец в свое время отсидел в тюрьме, каким-то странным и вывихнутым образом я начал понимать, что ищу «Дока» Эллисона всю мою жизнь.
Из-за истории, которой я обещал не делиться с читателями, ему пришлось закрыть свою стоматологическую практику. Это были времена сухого закона, времена Великой депрессии, и отцу нужно было содержась семью: маму, мою сестру и меня. И он занялся торговлей спиртным.
История эта весьма туманна, потому что мама – мой единственный источник информации – говорила обо всем этом полунамеками. Все, что я могу сказать, так это то, что у отца были друзья в Канаде, и он на автомобиле ездил из Буффало в Торонто, где и затаривался спиртным. Потом уже с грузом он отправлялся в Цинцинатти или в Кливленд – в общем, в те края. Вскоре дела пошли очень неплохо, и он нанял одного случайного знакомого, который, как и отец, попал в черную полосу жизни. И однажды ночью, когда этот человек перевозил алкоголь, его накрыли. Отец взял всю вину на себя, и его знакомого отпустили. Как говорила мама: у этого водителя была семья, и в общем…
Отец был мягким и добрым человеком.
И он отправился в тюрягу. Срок был серьезным, но отец отсидел его не полностью. (Годы спустя я сам оказался за решеткой. И меня поразило то, насколько практично и трезво мама встретила эту новость, насколько умело она провернула историю с залогом. Теперь я ее понимаю гораздо лучше.) После тюрьмы отец отправился в Пейнсвилль, где стал работать в ювелирном магазине, который принадлежал моим дядям. Я тогда был слишком мал, чтобы понимать, что происходит.
Год сменялся годом, и мой отец решил, что ему принадлежит часть магазина «Ювелирный магазин Хьюза» на перекрестке улиц Стейт и Мэйн в Пейнсвилле. Я был слишком озабочен собственными проблемами и постоянно удирал из дома. Но в 1947 году, когда дядя Морри вернулся домой с войны, оказалось, что отцу в магазине вообще ни черта не принадлежит. Он работал управляющим магазином, помог увеличить клиентуру, завел множество друзей в городе – он стал первым евреем, принятым в масонскую ложу Пейнсвилля, – а город этот был печально известен своим антисемитизмом – но когда наступил критический момент, отец остался с голой задницей. Но это ведь были братья моей мамы, и с этим ничего нельзя было поделать. В еврейских семьях все держатся друг за друга. И отец, которому было без пары лет пятьдесят, открыл свой собственный магазин.
Он не смог заполучить первый этаж магазина на Мэйн-стрит. Тогда он снял второй этаж, где и обустроил свой бизнес. В свободное время, пользуясь личными контактами, он продавал бытовую технику. Это была изматывающая работа. Даже просто подняться по долбаной лестнице было ох как нелегко. Лестница вздымалась почти вертикально, а ему приходилось лазать по ней двадцать раз в день.
Годом позже это его и убило.
1 мая 1949 года я спустился из моей комнаты и увидел отца. Он сидел на большом кресле у камина с воскресным изданием Кливлендской газеты на коленях и с трубкой в зубах. Я остановился на лестнице, собираясь попросить у него странички юмора, и внезапно он начал хрипеть.
Все последующие дни я ходил как сомнамбула. В те времена я увлекался бейсболом и лупил битой по теннисному мячу, направляя его в стену дома. Целый месяц я только это и делал с утра и до поздней ночи. Стоял под кленовым деревом и бил по мячу, и ловил его бейсбольной перчаткой, которую мне купил отец. Я бил по мячу, и ловил его снова, и снова, и снова…
Все, кто был в доме, должно быть, с ума сходили от звука мячика, ударявшего в деревянную стену дома снова, и снова, и снова – без конца, пока не наступала ночная темнота. Вскоре мы переехали оттуда, и в школе я съехал с неизменных пятерок на сплошные трояки. Стал тем, что называется «проблемный мальчик». Но со временем все утряслось.
С тех самых пор – теперь я это хорошо понимаю – я искал своего отца. Пытался найти его в суррогатных отцах, но это всегда кончалось плохо. А я всего лишь хотел сказать ему:
– Эй, папа, ты сейчас гордился бы мной. Я стал порядочным человеком, и все, что я делаю – я делаю хорошо… И я люблю тебя, и… Почему ты ушел и оставил меня одного?
Когда я жил в Кливленде, то иногда ходил на его могилу. Но я не делаю этого вот уже более сорока лет.
Потому что на кладбище его нет.
Моя мать
В воскресенье, 10 октября 1976 года я окончательно и бесповоротно оскорбил мое семейство. Я произнес надгробную речь на похоронах мамы. Родственники с тех пор прекратили со мной разговаривать. Ничего. Это я переживу.
Когда я говорю «семейство», то имею в виду родственников со стороны мамы, семью Розенталей. Которые напоминают – гораздо точнее, чем хотелось бы – отмороженных членов клана Спраулов из последнего – блестящего! – романа Джеррольда Мандиса «Дети Герхардта». А еще они вызывают в памяти самую первую строку из романа Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». И самый непоколебимый из их семейных мифов сводится к тому, что Харлан, Серита и сынок Дока, брат Беверли, подвергнутся насилию и умрут в муках или будут найдены в каком-нибудь грязном переулке… или попросту сгниют в федеральной тюрьме. И то, что я стал достаточно известным писателем, и первым из семей Розенталей или Эллисонов был отмечен статьей в «Кто есть кто в Америке», по сей день ставит их в тупик. Для них я нечто вроде наутилуса, моллюска, в раковине которого находится несколько камер-убежищ, и в течение своей короткой жизни наутилус передвигается из одной камеры раковины в другую, в этой раковине он живет, в ней он и умирает. То есть он буквально таскает свое прошлое с собой. И для Розенталей я – по сей день – девятилетний монстр, колошмативший по роялю дяди Морри. (Тот факт, что этого никогда не происходило, что у Морри в жизни не было никакого рояля, никоим образом не влияет на убежденность в истинности этого апокрифа.)
Мнения о детях во всех семьях формируются рано, так что мы всю последующую жизнь послушно вписываемся в тени, которые по сути никогда и никак не пересекаются с реальностью. Это справедливо для каждого из нас вне зависимости от того, насколько мы оторвались от семейной паутины.
Для родственников я остался девятилетним наутилусом, несмотря на то что я в возрасте тринадцати лет сбежал из дома, рос вне семьи и за последние тридцать восемь лет не обменялся с сестрой даже десятком слов.
Но все-таки речь шла о моем маме, которую я обеспечивал в последние годы ее жизни, взвалив на себя эту ношу, когда это позволили мои заработки, и сняв этот груз с плеч дяди Лью, дяди Морри и мужа Беверли, Джерольда.
Моя мать в течение многих лет была очень серьезно больна. Я подозреваю, что она хотела уйти из жизни 1 мая 1949 года, когда с отцом случился инфаркт, и он умер на наших глазах. Он был для мамы самой жизнью, лучшей ее частью, и мама после этого превратилась – во всяком случае внешне – в сомнамбулу.
В августе у нее случился апоплексический удар (один из многих), за которым последовал обширный инфаркт, и ее отвезли в кардиоцентр Майами. Она понимала, что конец близок, и когда мы с ней говорили по междугородке, сообщила об этом мне.
Ей становилось все хуже и хуже, и наконец, за сорок пять дней до того, как синусоиды на экране кардиомонитора превратились в плоскую безжизненную линию, она уже похудела со ста двадцати фунтов до сорока одного. Легкие ее были наполнены жидкостью, мозг так распух, что ее лицо ужасно исказилось, ноги изуродованы тромбофлебитом, уровень сахара в крови зашкаливал, температура постоянно держалась на уровне 39°C. Мама была парализована, она ослепла, и кислород уже не поступал в ее мозг.
К счастью, она была в коме.
В сознание она так и не пришла. Ее держали под капельницей и под постоянным наблюдением в течение полутора месяцев. Она стала овощем, и если когда-нибудь вышла бы из этого состояния, то все равно была бы пустой скорлупой. Я умолял их отключить ее от систем поддержания жизни, но они отказывались это сделать.
Самым большим страхом матери было то, что однажды она попадет в дом престарелых. Они казались ей адскими дырами, хранилищами для брошенных близких, апофеозом отвержения. Она умоляла нас никогда не помещать ее туда.
Совсем незадолго до ее смерти в кардиоцентре Майами состоялся консилиум, на котором ее состояние было определено как «стабильное». Иначе говоря, она нуждалась в опеке и надзоре. Они собирались ее выписать.
Нам предложили перевести ее в дом престарелых.
Конечно, они сформулировали это иначе. Они это умеют. Но речь шла именно об адской дыре, о доме престарелых.
Беверли, моя сестра, пережившая мучения последних шести недель у кровати матери, была вынуждена найти такое место. В пятницу, 8 октября 1976 года, в день, когда маму должны были увезти из кардиоцентра на машине скорой помощи в ад, хотя она, несмотря на то что была в глубокой коме и не могла знать, что предназначено для ее мертвой, но все еще дышащей телесной оболочки, решила умереть в 5:15 утра.
Я каким-то таинственным образом понимал, что она об этом знала.
Мой шурин Джерольд позвонил мне и сказал, что Беверли сообщила ему о смерти мамы. Теперь он хотел выяснить, есть ли у меня какие-либо пожелания по поводу похорон.
– Только два, – ответил я. – Закрытый гроб, это во-первых. И второе, я хочу произнести надгробную речь.
С этой минуты и до воскресенья (день прощания), все семейство Розенталей дрожало от страха, представляя себе, что я собираюсь произнести.
Они знали, что я никогда особо не любил весь их клан, и теперь боялись, что я закачу какую-то сцену, ляпну что-то такое, что унизит их в присутствии друзей и родных. Их вовсе не волновали ни мама, ни мои чувства. Но, думаю, так бывает со всеми семьями, со всеми похоронами.
Я летел ночным рейсом и прибыл в Кливленд (куда уже перевезли тело мамы, чтобы похоронить ее рядом с отцом) в полседьмого утра. Из аэропорта, взяв напрокат автомобиль, я поехал в дом Беверли и Джерольда. Когда Джерольд попросил у меня текст моей надгробной речи, продемонстрировав тем самым страх всей семейки перед «чокнутым» Харланом и тем, что этот псих может выкинуть, я солгал шурину, сказав, что ничего не писал, что речь будет импровизированной, такой, как сердце подскажет.
Начали съезжаться родственники и, за исключением дяди Лью, который всегда был самым симпатичным и понимающим членом клана, все они обходили меня стороной, как будто я был шакалом, в любую секунду готовым вцепиться им в горло.
В похоронном бюро равви Розенталь тоже был на взводе из-за моего участия в церемонии. Ведь все происходило в Суккот, в еврейский праздник урожая, и прошла всего неделя со дня Йом Кипур, наисвятейшего дня для нормальных евреев. И поэтому все молитвы, которые обычно произносят на прощании с покойником, было нельзя произносить. Разрешалось изменить несколько слов. Несколько, совсем немного.
Равви Розенталь к нашей семье не имеет отношения. То, что его фамилия и девичья фамилия мамы была Розенталь – всего лишь совпадение. Типа как Смит. Или Джонс. Или Хаякава. Или Гётц. Или Пьяцца. Прекрасный человек, почетный главный раввин всего Кливленда, сильный и решительный голос Кливленд Хайтс и других пригородов. Он был выразителем дум местных евреев в течение многих лет. Но он не был знаком с моей мамой.
Родственники мамы были польщены тем, что церемонию проведет равви Розенталь. Не составит большого труда проследить за их мыслью: все благопристойно, внешние приличия соблюдены, все согласно протоколу. Но я, как вы могли уже догадаться, был озабочен не тенями бытия, а обыденной реальностью.
Тем не менее, равви сказал мне, что он сам откроет церемонию, а уже потом предоставит слово мне.
Перед входом в главный зал стоял розовый гроб из анодированного алюминия, доступный для присутствующих. Близких родственников, а также их супругов, детей и внуков провожали в семейный зал – справа от главного. Всем этим заправляла Джейн Бубис, лучшая подруга Беверли.
Морри встретил давних друзей из Кливленда. Я и мой племянник Лорен настаивали на том, чтобы увидеть маму. Все убеждали нас не делать этого, потому что она страшно высохла, и нам следует «запомнить ее такой, какой она была». Почему-то всегда говорят о покойнике, что его следует «помнить» таким, каким он когда-то был. Запомните эту фразу. Преступление, которое я совершил по отношению к семье, заключалось в моем требовании.
Мы с Лореном настояли на своем.
Это было совсем не похоже на маму. В гробу лежал талантливо сработанный манекен, чье место было в парке развлечений или в музее восковых фигур. Я уверен, что бальзамировщики и гримеры проделали огромную работу. Но это не была моя мама. Ее уже не было. В гробу лежал чужой для меня человек. Но я расплакался. Из-за боли, сжавшей мою грудь и невозможности сделать вдох. Но это не была моя мама.
Началась служба и, когда рабби Розенталь пригласил меня, я прошагал к кафедре, по-дурацки погладив по дороге металл гроба, словно прощаясь с мамой навсегда.
Я вытащил исписанные странички из внутреннего кармана пиджака. И, хотя люди передо мной сидели неподвижно, те члены семьи, которые располагались в соседнем зале, были возбуждены. Я видел это боковым зрением. Взбудоражены всерьез. Так мечутся мелкие рыбешки, почуяв хищника в своей заводи.
И к слову: мы с сестрой никогда не были дружны. Она была старше меня на восемь лет, и ее всегда огорчало то, кем я был, чем я был и что я делал. (В детстве я часто воображал, что на самом деле я цыганский мальчуган, похищенный из цыганского табора ордой еврейских дамочек с хозяйственными сумками.) Беверли, вне всякого сомнения, достойный человек, до краев полный любовью, милосердием и состраданием. Я никогда не замечал в ней этих качеств, но у нее было много преданных друзей и, если среди всех родственников проводился бы конкурс: кого из нас можно было бы представить приличному обществу, не опасаясь, что избранный устроит «сцену», Беверли выиграла бы безоговорочно. И хотя вся семья Розенталей гордилась – весьма лицемерно – моими достижениями, это была гордость напоказ, которую не следует путать с желанием узнать меня получше. Ничего. Я и это переживу.
Когда я начал читать свою речь, моя сестрица стала буквально рассыпаться. Не знаю, из-за того ли, что речь моя была неподобающей (как ей казалось), или из-за того, что я плакал и с трудом мог читать текст, или же из-за шести недель мучений, боль от которых теперь обрушилась на нее, но она рвалась из рук Джерольда, хрипло крича на весь зал:
– Остановите его! Заставьте его замолчать! Остановите его! – Сидевшая рядом с ней ее дочь Лиза, моя племянница, проворчала: «Мама, заткнись!», но Беверли ее уже не слышала. Она обращалась ко всем присутствующим, потому что ее идиот-братец, этот Харлан, проделывал очередную из своих отвратительных штучек, глумясь над всем святым и превращая похороны ее матери в цирк. В конце концов, ее удалось вывести в другое помещение, но ее вскрики доносились и оттуда. Я – хоть и не без труда – продолжил свою речь. И вот что я говорил:
– Моя мама умерла три дня назад. Ее звали Серита Р. Эллисон. «Р» значит «Розенталь» – ее девичья фамилия. Я расскажу вам все, что знаю о ней.
Мама однажды рассказала мне анекдот. Единственный за всю ее жизнь. Наверное, она знала множество других, но мне их не рассказывала. Я расскажу вам тот, которым она поделилась со мной.
Два еврея встречаются на улице в Буффало, штат Нью-Йорк. Они, пожалуй, даже родственники, но дальние: шурин там, шмурин, в этом роде. И Гершель не любит Солли, потому что Солли всегда пытается всучить ему какую-нибудь хрень или вовлечь в какую-нибудь темную сделку. Но Солли подловил Гершеля, когда тот выходил из мясной лавки и деваться ему было некуда. И вот Солли говорит:
– Ой, какой у меня для тебя бизнес!
И Гершель отвечает:
– Если такой же, как и в прошлый раз, то мы пойдем заявлять о банкротстве, взявшись за руки.
И Солли говорит:
– Слушай сюда, такое ты упустить не можешь! Это фантастика! У моего друга интрижка с одной женщиной, а брат ее второго мужа женат на девушке, чей отец имеет бизнес с придурком, чей сын еще и работает агентом по продажам во всякие-разные цирки, и через него я могу достать тебе – всего-то за три тысячи долларов – гарантировано взрослого, весом в две тонны, прямо из цирка Барнума, слона!
Гершель смотрит на него так, словно у Солли вдруг выросла вторая голова, и говорит:
– Ты точно сошел с ума. Я живу на пятом этаже, без лифта, у меня жена и четверо детей, и один из них вынужден спать в кухонной мойке, вот сколько у меня места. Да и вообще, что я буду делать с этим слоном, дубина?
И Солли говорит:
– Слушай сюда. Только потому, что ты женат на Герте, я тебе таки дам скидку. Можешь иметь его за две пятьсот.
Гершель уже орет:
– Нет, поц, это ты слушай сюда! Ты оглох что ли? Я тебе сказал, что не нужен мне слон в две тонны ни за две с половиной тысячи долларов, ни задаром. Как я поведу его по лестнице на пятый этаж? Чем я его буду кормить? Да с такой зверюгой мы в нашей квартирке просто задохнемся! Давай, шлепай отсюда, придурок.
В общем, они спорят, перекрикивая друг друга, Солли снижает и снижает цену и наконец выдает:
– Окей, окей, момзер! Хочешь меня разорить, родственничек? Сердца у тебя нет, вот что. Мое последнее, окончательное предложение! Только для тебя! Два слона по две тонны каждый. Два слона от Барнума – за пятьсот зеленых!
И Гершель торопливо вставляет:
– Вот это совсем другое дело!
Когда мама рассказывала мне этот анекдот, она смеялась. Смеялась долго. Смеялся и я. Не потому, что это был такой уж смешной анекдот, хотя он был и неплох. И не потому, что рассказала она его хорошо, а потому что она смеялась. Я не часто видел маму смеющейся.
С мая 1949 года я никогда, ни разу не видел, чтобы она смеялась.
С того дня, как умер мой отец.
Невозможно говорить о Серите, не упоминая отца. Конечно, я не знал их во времена их молодости, когда они дурачились и совершали глупости, которые свойственно совершать молодым, но из того, что мне рассказывали члены семейства Розенталей, они были чем-то вроде еврейского аналога Скотта Фицджеральда и Зельды. Они любили друг друга и сходили с ума вместе.
Думаю, что, когда умер отец, жизнь мамы остановилась. Потом были двадцать семь лет жизни с тенями. Просто отмечая время. В ожидании того, как она воссоединится с Доком. Если в смерти и есть что-то хорошее, что-то способное хоть немного облегчить боль от смерти мамы, так это то, что ей, наконец, – по прошествии двадцати семи лет – повезло, и она отправилась на встречу с моим отцом, чтобы заполнить пропасть, образовавшуюся в 1949 году.
Я бы сказал вам, сколько лет было маме в момент ее смерти, но все, кто был знаком с ней хотя бы в течение часа, могли бы рассказать вам, что она предпочла бы скорее загнать иголки под ногти, чем раскрыть тайну ее возраста. Такой уж она была.
И была она хорошим человеком, достойной женщиной, жившей правильной жизнью – все те достоинства, о которых принято говорить на похоронах. А еще она была уверенной в себе, невероятно упрямой, нередко просто занозой в заднице, нередко возмущавшейся так, что впору было устыдиться вдовствующей королеве. Но Бог мой, как же она трудилась ради детей.
Я не помню ни единого дня, чтобы она слонялась по дому без дела. Она или работала с отцом в ювелирных магазинах, или в комиссионных магазинчиках Бней-Брит, или еще где-нибудь. И в чем бы мы ни нуждались, она всегда нас этим обеспечивала.
Помню, однажды, когда я был еще малышом – не самым послушным и покладистым – и выкидывал очередной дикий фортель, мама говорила: «Погоди, вот придет отец, и ты свое получишь». Я несомненно заслуживал взбучки. Как правило, заслуживал. И когда отец приходил с работы, усталый, мечтавший только о том, чтобы присесть и отдохнуть, мама рассказывала ему о моем очередном подвиге и о том, что меня следует хорошенько выпороть.
Хочу сразу отметить: в нашей семье телесные наказания не были в ходу. Но отец отвел меня в подвал нашего дома на Хармон-драйв в Пейнсвилле, снял пояс и как следует меня угостил.
Спустя какое-то время я поднялся наверх, но ни мамы, ни папы в гостиной не было. Я прошел на второй этаж и из-за закрытой двери спальни услышал, как мой отец плакал. Порка огорчила его гораздо сильнее, чем меня. И мама тоже плакала. Она утешала его, говоря, что так было нужно, и они успокаивали друг друга.
Розентали были семьей с невероятной способностью портить себе жизнь. А мама была Розенталь с головы до пят. Братья и сестры создавали союзы и клики, и мама объединялась с Элис и Лью против Морри, а в другой ситуации с Морри и Дороти против Мартина, а порой эти союзы были настолько запутанными, что невозможно было понять, кто на кого ополчился. Но не взирая ни на какие обиды, мама – Розенталь с головы до пят – бросалась в атаку на любого, кто посмел бы тронуть хоть волос на голове ее сородичей. Русская душа Розенталей всегда была стержнем существа моей мамы, и она же не позволяла маме радоваться чему бы то ни было в поздние ее годы, но моя племянница Лиза была абсолютным исключением из этого правила. Они не общались как внучка и бабушка, они были приятельницами, закадычными подругами, и это невероятно обогатило их жизни. Я думаю, что смерть моей мамы была бо́льшим ударом для Лизы, чем для любого из нас. Все-таки маме удалось удачно выдать Беверли замуж, увидеть двоих ее детей, и удостовериться, что я не проведу остаток дней в тюрьме. Для нее все это было даром судьбы.
Хотелось бы мне рассказать больше о Серите Эллисон, но остается печальным фактом то, что мы проживаем наши жизни как тени друг друга. Мы никогда не понимаем друг друга по-настоящему: наши несбывшиеся мечты и надежды, стремления, делающие нас чужаками. И в этот последний момент, когда я говорю о ней, я вспоминаю о самых важных событиях – и об одном самом значительном, происшедшем не так давно – в феврале прошлого года, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Меня пригласили выступить на политическом форуме в Йельском университете, и на это престижное мероприятие я взял маму с собой. Она была словно двадцатилетняя девушка, чувствуя себя на седьмом небе, как она сама об этом сказала. Ее сын выступал с докладом в Йеле! Как она светилась от счастья! Какой это был нахес! Она сияла как все солнца во Вселенной. В Нью-Хейвене был сильнейший снегопад – с метелью и жутким морозом, – и я боялся, что она может простудиться. Но она шагала таким бодрым шагом, что я едва поспевал за ней.
А когда во время моей лекции я представил ее, и она встала и отвесила королевский поклон всем светилам Йельского университета, я думал, что взорвусь от радости. И когда ее подвели к столику с моими книгами, чтобы оставить автограф, она написала: «Спасибо за то, что вам нравятся книги моего сына». Ближе к ее кончине мы несколько раз в день общались по телефону, и я говорил, что приеду, и она отвечала: «Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Беверли и Лиза здесь, так что я в порядке». Она стала более понимающей, более доступной для бесед, и, когда мы с ней разговаривали в последний раз, – а, может, и не в последний – она сказала мне: «Из тебя вышел толк, я тебя люблю.» И вот теперь ее не стало. И что можно сказать о смерти пожилой женщины – любой старой женщины – кроме того, что ее больше нет, и все, кто ее знал, будут скорбеть от того, что она не сказала им всего, что должна была сказать.
Она была моей мамой, и мне будет ее не хватать.
Когда я спустился с трибуны и прошел в семейный зал рядом с главным залом, Беверли уже вернулась на свое место. Не знаю, слышала ли она мою речь за исключением «анекдота». Когда церемония завершилась, – а это случилось быстро, ужасающе быстро – никто не заговорил со мной. Никто не подошел и не сказал: «Ты чудесно говорил о своей маме». Только мой племянник Лорен пожал мне руку, и мы обнялись, и он тоже плакал и очень тихо произнес: «Ты был молодцом». Позднее, намного позднее Джерольд отвел меня в сторону и сказал: «Серита гордилась бы тобой». Но за исключением этих двоих меня сторонились как прокаженного. Беверли, все дяди и тети – нет, меня не забили камнями, но обходили так, чтобы даже плечом не коснуться. Приличные люди держатся подальше от изгоев и прочих нечистых. И это их осуждение навсегда освободило меня от этой семьи.
Мама ушла, и я сделал то, что хотел сделать для нее – она всегда любила слушать, как я читаю, и я сделал это в последний раз. Я прекрасно понимаю, что она этого не услышала, но это невинный самообман. Ее хотели похоронить за считанные минуты, сказав при том два или три слова. Надо было, чтобы я закончил чтение своей речи, а потом дал бы слово Беверли, Лизе и Лью, и любому, кто хотел бы что-то сказать. Мама заслужила это.
Надгробные речи – не для покойников. Они всегда для живых. Отдать должное ушедшему. Попрощаться в самый последний раз. Никого нельзя отпускать во тьму, отделавшись двумя-тремя словами.
Усталый старик (Дань признательности Корнеллу Вулричу)
Чертова штука в том, что ты никогда не бываешь таким крутым, каким себе представляешься. Всегда найдется человек с печальным взглядом, который пристрелит тебя, когда ты его даже не видишь, когда ты причесываешься или завязываешь шнурки на ботинках. И вдруг падаешь, как подстреленный носорог. И всё, и ты вовсе не такой крутой, каким себе казался.
В среду я прилетел из Калифорнии в Нью-Йорк и закрылся в отеле «Уорвик», чтобы закончить книгу, добил ее и вызвал курьера, заказав доставку рукописи в издательство Уайету к следующему вторнику, после чего я был свободен. Ну, запоздал на девять месяцев, но работу проделал славную. Теперь у меня было по меньшей мере три дня до того, как издатель позвонит мне, чтобы обсудить изменения, которые он хотел бы видеть в тексте. Я знал, что ему точно не понравятся три главы в самой середине книги, и я придержал кое-какой материал, который Уайет непременно потребует, так что у меня оставалось какое-то время, которое вполне можно убить.
Мне пришлось напомнить себе, что если я еще хоть раз напишу эту фразу, чтоб моя копирка всегда была загружена в машинку обратной стороной. Время, которое можно убить. Да, именно эту фразу.
Я позвонил Бобу Кэтлетту, предполагая встретиться за ужином с его женой, – психиатром – если, конечно, они еще не разбежались. Он сказал, что можем поужинать в этот же вечер, и кстати, почему бы мне не появиться на ежемесячном собрании членов клуба «Цербер». Я сдержался, не выругался, но ответил:
– Не думаю, старина. У меня изжога от этой публики.
«Цербер» – это «писательский» клуб старых профессионалов, которые начинали свою деятельность еще в эпоху Гуттенберга. Ладно, в пятидесятые и шестидесятые это была вполне активная группа авторов, но теперь они представляли из себя унылую толпу уставших от жизни старых сплетников, напивавшихся вусмерть по поводу очередного некролога в «The Saturday Evening Post». На тот момент мне едва стукнуло тридцать, и по их меркам я был юным засранцем, не видевшим ничего привлекательного в том, чтобы провести вечер в атмосфере скучной трепотни и сигаретного дыма, выслушивая мнение полуживых лузеров о том, какая из книжных серий времен их молодости была лучше: «Черная маска» или «Странные истории».
Короче, Боб меня уговорил. Ну так на то ж мы и друзья.
Мы отужинали в аргентинском ресторане рядом с Таймс-сквер и, набив живот стейком с хлебным пудингом, я решил, что готов рискнуть и посетить сборище старперов. Мы прибыли на место – традиционное место их встреч в тесной квартирке одного бывшего редактора – около половины десятого вечера. Квартирка была забита под завязку.
Я не видел всех этих стариков лет десять, потому что уехал в Калифорнию, чтобы работать над сценарием по моему роману «Преследователь» для студии «Парамаунт». Для меня это были хорошие десять лет. Я уезжал из Нью-Йорка с кучей неоплаченных счетов, которые грозили вот-вот превратиться в гору. И был я в самом отчаянном положении – как в личном плане, так и в профессиональном. Я даже почти смирился с мыслью, что зарабатывать себе на жизнь писательством мне не светит. Но работа четыре месяца в году в кино и на телевидении обеспечили мне подушку безопасности на остальные восемь месяцев, которые я мог бы провести, работая над книгами. Я разделался с долгами, прибавил двадцать фунтов веса и впервые в жизни был обеспечен и относительно счастлив. Но войти в эту квартиру для меня было все равно, что войти в физическое воплощение памяти о мрачном прошлом. Ничего не изменилось. Все те же, все там же, все то же.
Моим первым впечатлением была висящая в воздухе усталость.
Словно кто-то наложил друг на друга чертежи квартиры и набившихся в нее людей. На заднем фоне двигались фигуры, еще более истаскавшиеся и постаревшие, чем десять лет назад. Двигались – или, скорее, ковыляли – они гораздо медленнее, чем прежде, словно существовали в застывающем янтаре. Нет, не в замедленной съемке, просто светопропускающие характеристики моих глаз изменились. Их мимика никак не совпадала с голосами. Но на переднем плане, гораздо резче и ярче, чем фигуры присутствующих, лежала пелена – как строки на кинескопе – усталости. Серые и голубые линии не просто накладывались на их лица и руки, на локти женщин, но на всю комнату. Они тянулись к потолку, свисали с ламп и кресел, разделяли на секции ковролин на полу.
Я шагал по этим линиям, и мне стало трудно дышать, когда на меня навалилась вся тяжесть тотальных неудач и мертворожденных мечтаний. Это было так, словно я вдыхал прах древних могил.
Боб Кэтлетт с женой сразу же отправились на кухню за выпивкой. Я было увязался за ними, но меня заметил Лео Норрис, который протиснулся между двумя бывшими авторами нон-фикшн и схватил меня за руку. Он выглядел усталым, но трезвым.
– Билли! Боже мой, Билли! Я и не знал, что ты в Нью-Йорке. Потрясающе! И надолго?
– Всего на несколько дней, Лео. Книга для издательства «Харпер». По горло занят ей, пора срочно заканчивать.
– Надо понимать, синдром Скотта Фицджеральда тебя не коснулся? Сколько книг ты написал с тех пор, как уехал? Три? Четыре?
– Семь.
Он смущенно улыбнулся, но смутился недостаточно для того, чтобы быть чуть скромнее с проявлениями неискренней дружбы. Мы с Лео Норрисом, несмотря на его излияния, никогда не были друзьями. Когда он уже был состоявшимся писателем, – что подтверждалось его именем на обложке солидного журнала «Сент Детектив» – я оголтело лупил по клавишам, строгая детективные рассказики для журнала «Manhunt», чтобы оплатить аренду квартиры в Гринвич Виллидж. И в те времена никаких сердечных отношений не было, как не было и никакой дружбы. Но теперь Лео скользил вниз по склону, вот уже шесть или восемь лет, опустившись до работы на дешевые серии в дешевых обложках, все эти романчики были пронумерованы (последний вышел за номером 27), и в каждом из них действовал неприятный тип из ЦРУ по имени Курт Костенер. А из моих семи романов четыре были экранизированы. Один даже послужил основой телесериала. Такие вот мы друзья.
– Семь книг за… Сколько, за десять лет?
Я не отвечал, вертя головой, давая понять, что хочу отойти. Он намека не понял.
– А знаешь, Бретт МакКой умер. На прошлой неделе.
Я кивнул. Я читал МакКоя, но знаком с ним не был. Добротный писатель. Полицейские романы.
– Рак. Неоперабельный. Легкие. И метастазы. Но умирал долго. Нам его будет не хватать.
– Да. Прости, Лео, мне нужно отыскать ребят, с которыми я пришел.
Я не смог бы протиснуться через толпу у входной двери, чтобы добраться до кухни и до Боба. Единственным верным способом был бы путь через прихожую, но там было еще многолюднее. Я отправился в другую сторону, глубже в комнату, глубже в клубы сигаретного дыма, глубже в гул монотонных голосов. Он смотрел на меня, явно желая что-то сказать, – закрепить дружбу, которой никогда не было? – но я двигался быстро и решительно. Я не нуждался в очередной порции некрологов.
Женщин здесь было всего пять или шесть. Одна из них наблюдала, как я пробирался сквозь толпу. Я не мог не видеть, что она заметила меня. Лет под пятьдесят, обветренное лицо, она не отрывала от меня взгляда. И только когда она заговорила:
– Билли? – я узнал ее голос. Не лицо, даже тогда не лицо, но именно голос, который совсем не изменился. Я остановился, вглядываясь в нее.
– Ди?
Она улыбнулась, но дежурной, никакой улыбкой. Вежливость, не более того.
– Как дела, Билли?
– Прекрасно. Как ты? Что поделываешь, чем занимаешься?
– Живу в Вудстоке. Мы с Кормиком в разводе. Еще пишу книжки для издательства «Эйвон».
Я давно не видел книг с ее фамилией на обложке.
Люди, такие как я, по многолетней привычке бродящие по книжным магазинам, похожи на греков из кафе на углу, безостановочно – тоже в силу привычки – перебирающих свои четки. Я бы узнал ее имя, если бы увидел его на обложке.
Она заметила мое замешательство.
– Готические романы. Их обычно издают под псевдонимом.
На этот раз ее улыбка была хищной. Она словно говорила: «Да, смеяться последним будешь ты, да, я продаю свой талант за гроши и ненавижу себя за это. Но я скорее вскрою себе вены, чем позволю тебе злорадствовать». Что может быть оскорбительнее успеха другого, когда тебя самого выбросили на обочину, и даже если когда-то ты подавал надежды, то уже давно не в состоянии их оправдать?
УСПЕХ: Единственный непростительный грех по отношению к ближнему. Амброз Бирс, «Словарь сатаны».
Конец цитаты.
– Если будешь в Лос-Анджелесе, найдешь меня в телефонном справочнике, – сказал я. Она повернулась к трем мужчинам за ее спиной. Взяла под руку элегантного господина с густой копной седых волос в стиле Клода Рейнса. Он был в очках а-ля авиатор начала века. Ди сжимала его руку. Этот роман долго не продлится.
Его костюм был слишком шикарным. Она же выглядела как потрепанный боевой флаг. И когда это все они умудрились смириться с забвением? Ко мне из противоположного конца комнаты направлялся Эдвин Чаррел. Он до сих пор был должен мне шестьдесят долларов, которые одолжил десять лет назад. Не думаю, что он об этом забыл. Он наверняка расскажет мне какую-нибудь слезную историю и попытается сунуть мне в руку мятые пять баксов. Не сейчас. Серьезно, только не сейчас. Только этого мне не доставало после Лео Норриса, Ди Миллер и всех тутошних мятых пиджаков. Я резко повернулся вправо, улыбнулся пожилым супругам, работавшим в тандеме и сейчас прихлебывавшим водку из одного стакана на двоих, и стал продвигаться к стене.
Передо мной стояла задача: убраться отсюда к чертовой матери, и чем быстрее, тем лучше. Все знают, что в движущуюся цель труднее попасть.
Но долог был мой путь.
Задняя стена была занята большим диваном, на котором велась громкая дискуссия ни о чем. Однако толпа в центре комнаты отвернулась от сидевших, а значит это был для меня наилучший маршрут. Я двинулся к дивану. Чаррела уже нигде не было видно, так что я продвинулся еще немного. Никто не обращал на меня внимания, никто не хватал меня за руку, никто не пытался крутить пуговицу на моем пиджаке. Я двинулся еще дальше. Я уже полагал, что неприятности позади. Я начал поворачивать за угол – оставалось пройти несколько метров вдоль стены, а там входная дверь, и свежий воздух, и свобода. Именно в этот момент меня поманил рукой старик, сидевший на мягком кресле. Оно было втиснуто в угол комнаты и примыкало к дивану. Здоровенное, потертое и бесцветное. Старик буквально утопал в нем. Худощавый, с усталым лицом и водянисто-голубыми глазами. Он подзывал меня. Я обернулся, но сзади меня никого не было. Он делал знаки именно мне. Я подошел к нему.
– Садись.
Сидеть было не на чем.
– Я собирался уйти…
Я в жизни его не видел.
– Садись, поговорим. Время еще есть.
На другом конце дивана появилось свободное место. Уйти сейчас было бы невежливо. К тому же старик кивнул головой, указывая на него.
Я сел. Он был самым измученным стариком, которого я когда-либо видел.
– Так ты пописываешь, – сказал он. Я подумал, что он надо мной подшучивает.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Билли Ландрес.
Он пожевал губами, словно пробуя имя на вкус.
– Уильям. На обложках, должно быть, Уильям.
Я усмехнулся.
– Точно. На обложках Уильям. Выглядит солиднее.
Я уже смеялся негромко. Не над собой. Над ним.
Он не улыбнулся в ответ, но я видел, что он не был обижен. Очень странный у нас получался разговор.
– А вы…?
– Марки, – сказал он и добавил после паузы: – Марки Страссер.
Продолжая улыбаться, я спросил:
– Вы пишете под этим именем?
Он мотнул головой.
– Я уже не пишу. Давно не пишу.
– Марки, – сказал я, вслушиваясь в это слово. – Марки Страссер. Не думаю, что я читал ваши книги. Детективы?
– В основном. Триллеры. Несколько современных романов, ничего выдающегося. Но расскажите о себе.
Я поерзал на диване.
– У меня такое чувство, сэр, что вы надо мной подшучиваете.
Его мягкие голубые глаза смотрели на меня без тени лукавства. Улыбки на его лице не было. Он был усталым. Старым и ужасно усталым.
– Мы все так или иначе забавляемся, Уильям. Но не тогда, когда стареем настолько, что уже не в силах шутить. Тогда мы перестаем забавляться. Так вы не хотите рассказать о себе?
Я развел руками в знак капитуляции. Что ж, расскажу о себе.
Возможно, он и считал себя слишком старым, чтобы забавляться, но тем не менее был очаровательным стариком. И хорошим слушателем. Остальная часть квартиры словно растворилась в тумане, и мы беседовали. Я рассказывал о себе, о жизни в Калифорнии, о сюжетах моих книг, о том, что нужно для адаптации романов-триллеров для экрана.
Язык тела – интересная штука. На самом примитивном уровне даже те, кто не знаком с бессознательными сигналами, посылаемыми положением рук, ног и торса, все же в состоянии почувствовать, что происходит. Когда беседуют два человека, и один хочет довести до собеседника важную мысль, он делает это, немного нагнувшись вперед. Отвергая такую мысль, он, наоборот, откидывается назад. Я вдруг заметил, что сильно наклоняюсь вперед. Я практически лег грудью на подлокотник дивана. Он же откинулся на подушки кресла, но слушал меня очень внимательно, словно впитывая все, что я говорил. Но создавалось впечатление, что он знает: все это в прошлом, все это мертвая информация, и он просто выжидает, чтобы рассказать мне о каких-то важных для меня вещах.
Наконец, он сказал:
– Вы заметили, что многие ваши сюжеты касаются отношений отцов и детей?
Это я заметил давно.
– Когда умер мой отец, я был еще мальчишкой, – сказал я, и, как всегда, почувствовал стеснение в груди. – Когда-то, не могу точно вспомнить когда, я наткнулся на фразу Фолкнера. Он высказался примерно в таком роде: «Что бы ни писал автор, если он мужчина, он всегда пишет о поисках отца». Эти слова поразили меня с особенной силой. Я никогда не понимал, насколько мне его не хватает, до одного вечера на групповой психотерапии. Руководитель группы попросил нас выбрать человека на роль того, с кем мы всегда хотели поговорить по душам, но так и не смогли это сделать. Выбрать и сказать этому человеку все, что вы всегда хотели сказать. Я выбрал человека с усами и говорил с ним так, как не способен был беседовать с отцом, потому что был слишком мал для этого. И очень скоро я заплакал…
Я сделал паузу и добавил очень тихо:
– Я ведь не плакал даже на его похоронах. Это был очень странный, очень тревожный для меня вечер.
Я снова умолк, собираясь с мыслями. Весь наш разговор становился гораздо более тяжелым, более личным, чем я предполагал.
– А потом, года два назад, я наткнулся на эту мысль Фолкнера, и тогда все вдруг встало на свои места.
Старик не отрываясь смотрел на меня.
– И что же вы ему сказали?
– Кому? А, мужчине с усами? Хм… Ничего выдающегося. Я сказал ему, что мне удалось выбиться в люди, что преуспел, что он гордился бы мной… Да вот и все, пожалуй.
– А что вы ему не сказали?
Я почувствовал, как вздрогнул от этого замечания. И похолодел. Он бросил это так небрежно, так походя, и все же значимость этого вопроса вонзила холодное лезвие стамески в дверь моей памяти, надавила и щелкнула замком. Дверь распахнулась, и чувство вины хлынуло наружу. Откуда Марки мог все это знать?
– Ничего. Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, – я не узнавал звук собственного голоса.
– Но ведь что-то должно было быть. Вы обозлены, Уильям. Вы злитесь на своего отца, может быть, потому, что он умер и оставил вас в одиночестве. Но вы не сказали того, что вам необходимо было сказать. Вам и сейчас нужно это произнести. Что это было?
Я не хотел отвечать ему. Но старик просто ждал. В конце концов, я пробормотал:
– Он так и не попрощался со мной. Он умер, но так и не попрощался.
Я затрясся всем телом. Я снова, после всех этих лет, стал ребенком, пытался стряхнуть с себя этот морок, отмахнуться от него. И очень тихо я произнес:
– Это было неважно.
– Для него не было важно сказать вам «прощай». Но для вас важно было услышать эти слова.
Я не мог поднять на него взгляд. Потом Марки сказал:
– В объективе времени каждый из нас видится исчезающей пылинкой. Извините за то, что расстроил вас.
– Вы меня не расстроили.
– Нет. Расстроил. Позвольте мне попытаться загладить свою вину. Если у вас есть время, позвольте рассказать вам о нескольких книгах, которые я написал. Вам может понравиться.
Я откинулся на спинку дивана, и он пересказал мне несколько сюжетов.
Он говорил без колебаний, плавно и ровно. И его сюжеты были чертовски хороши.
Да что там, они были просто великолепны. Истории в ключе саспенса, что-то вроде Джеймса М. Кейна или Джима Томпсона. Истории об обычных людях. Не сыщиках, не иностранных шпионах. Просто люди в ситуации стресса, где насилие и интриги логически вытекали из обстоятельств, в которые они попали. Я зачарованно слушал его. И какой же у него был талант по части названий! СРОК ИСТЕКАЕТ НА РАССВЕТЕ, ОТМЕНИТЕ БРОНИРОВАНИЕ, ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ РАДОСТИ, ДИАГНОЗ ДОКТОРА АРХАНГЕЛА, БЛУДНЫЙ ОТЕЦ – и еще один, который поразил меня настолько, что я сделал пометку в уме, чтобы не забыть и связаться с Андреасом Брауном из книжного магазина «Готам», и попросить у него раздобыть у букинистов для меня экземпляр книги, которую я просто обязан был прочитать. Книга называлась «ЛЮБИМЫЙ УБИЙЦА».
Он умолк и стал казаться еще более измученным, чем прежде, когда пригласил меня присесть с ним. Кожа старика была бледно-пепельной, а мягкие голубые глаза время от времени закрывались.
– Может быть, вам принести воды? Или что-нибудь перекусить?
Он внимательно посмотрел на меня и произнес:
– Да, стакан воды, если вам не трудно.
Я встал, чтобы добраться до кухни.
Он пожал мою ладонь своей сухой ладошкой. Я посмотрел на него.
– Кем вам все-таки хотелось бы стать, Уильям?
Я мог бы отделаться какой-нибудь банальностью. Но не стал этого делать.
– Тем, кто помнит, – сказал я. Он улыбнулся и убрал руку.
– Я принесу воды, секунду.
Раздвигая толпу, я добрался до кухни. Боб все еще был там, споря с Хансом Сантессоном о проблеме пропорциональной доли гонораров за перепечатку рассказов в литературных антологиях для колледжей. Мы с Хансом поздоровались, обменявшись любезностями, пока я набирал в стакан воду, добавив туда пару кубиков льда из пластикового пакета. Я не хотел надолго оставлять Марки.
– Где тебя черти носили? – спросил Боб.
– Я был в комнате, с одним стариком. Поразительным стариком. Он говорит, что был писателем. Несомненно, был. Господи, он писал, как мне кажется, невероятно интересные книги. Не знаю, как это они ни разу не попали мне в руки. Обычно я читаю все, написанное в этом жанре.
– Как его зовут? – поинтересовался Ханс со своим милым скандинавским акцентом.
– Марки Страссер, – сказал я. – Какое у него поразительное чувство сюжета! – Они умолкли, и оба пялились на меня.
– Марки Страссер? – Ханс замер, не донеся до губ чашку с чаем.
– Марки Страссер, – повторил я. – А что такое?
– Единственный Марки, которого я знал, писатель, появлялся на тутошних посиделках тридцать лет назад. Но он уже лет пятнадцать в могиле.
Я рассмеялся.
– Вряд ли тот же самый, разве что ты ошибся насчет его смерти.
– Нет, я абсолютно уверен. Я присутствовал на его похоронах.
– Значит, это кто-то другой.
– Где он сидит? – спросил Боб.
Я вышел в коридор и жестом пригласил их присоединиться ко мне. Я подождал, пока толпа на мгновение расступится, и указал. – Там, в углу, в большом мягком кресле.
В большом мягком кресле никого не было.
Пока я пялился на кресло, а они стояли за мной, в кресло плюхнулась женщина с коктейлем в руке. Плюхнулась и тут же заснула.
– Он, наверное, встал и куда-то перебрался, – сказал я.
Но в комнате его не было. Конечно же.
Мы уходили последними. Я вообще не желал уходить. Я смотрел на каждого, кто приближался к входной двери – я стоял рядом с ней, так что мимо меня он точно бы не проскользнул. Боб проверил туалет. Там его тоже не было. Это был единственный выход из квартиры, и я стоял рядом с ним.
– Послушайте, черт побери, – проговорил я со злостью, обращаясь к Хансу, Бобу и хозяину квартиры, который явно жаждал поскорее проблеваться и отправиться в постель, – я не верю в призраков, и он не был призраком, не был плодом моей фантазии, мошенником он тоже не был. Бог мой, я не настолько легковерен, чтобы не понять, когда меня водят за нос, а его сюжеты были слишком хороши для шутника, и если он был здесь, то как мог он проскочить мимо меня? Я стоял прямо у двери и видел ее, даже набирая воду на кухне. Он старик лет семидесяти пяти, а то и старше, он же не чертов спринтер! Никто не мог бы пробраться через толпу, прорываясь к входной двери и не толкнув кого-нибудь, а это бы люди запомнили…
Ханс попытался меня успокоить.
– Билли, мы опросили всех, кто здесь был. Никто твоего старика не видел. Никто не видел и тебя на краешке дивана, где вы с ним, по твоим словам, беседовали. Никто не говорил с таким человеком, а многие из сегодняшнего сборища знали Марки. Зачем бы ему было говорить, что он Марки Страссер, если он не Марки Страссер? Он бы знал, что в комнате, набитой писателями, знавшими настоящего Марки Страссера, его разоблачили бы с ходу.
Но я не желал сдаваться. Не галлюцинация же это была, в самом деле! Хозяин квартиры порылся в шкафу и нарыл старые программы победителей конкурса Авторов Детективной Прозы, на одной из них было фото Марки Страссера пятнадцатилетней давности. Я посмотрел на фотографию. Снимок был четким и ясным. Это не был мой новый знакомец. Этих двоих невозможно было перепутать, даже добавив человеку на снимке пятнадцать лет. Даже добавив болезненности и усталости. Марки на фото был круглолицым и почти лысым, с густыми бровями и темными глазами. У Марки, с которым разговаривал я в течение часа, были мягкие голубые глаза. Даже если бы человек на снимке надел парик, глаза их невозможно было спутать.
– Это не он, черт возьми!
Меня попросили снова его описать. Не сработало. Тогда Ханс попросил меня пересказать его сюжеты и названия книг. Все трое слушали меня внимательно, и я видел, что сюжеты книг их впечатлили так же, как они впечатлили меня. Наконец, я выдохся и сел, тяжело дыша. Ханс и хозяин квартиры качали головами.
– Билли, – сказал Ханс, – я семь лет редактировал серию Unicorn, а до того был редактором журнала «Saint Detective Magazine» более десяти лет. Я читал не меньше детективных романов, чем любой из ныне живущих на планете людей. Этих книг не существует в природе. Наш хозяин, авторитет по этой части, согласился с Хансом.
Я поднял глаза на Боба Кэтлетта. Этот тип вообще проглатывал по роману в день.
Медленно и неохотно он кивнул, соглашаясь с Хансом и хозяином квартиры.
Я закрыл глаза.
Спустя какое-то время Боб предложил расходиться. Его жена исчезла еще час назад с группой знакомых, захотевших полакомиться чизкейком. И теперь Бобу не терпелось попасть в постель. Я не знал, что мне делать. И потому отправился в Уорвик.
В ту ночь я укрылся двумя одеялами, но все равно мерз. Содрогался от холода. Я оставил телевизор включенным, хотя смотреть было нечего. Серый экран и ровный гудящий звук. Я никак не мог заснуть.
И наконец встал, оделся и вышел из дома. 44-ая улица в три часа ночи была пуста и безмолвна. Не было даже грузовиков, доставляющих продукты и товары. И я, хотя и высматривал его повсюду, не смог его найти.
Идя по улице, я все думал и думал о происшедшем и даже на какое-то время поразмыслил о том, что, может быть, мой отец восстал из могилы, чтобы говорить со мной. Но это не был мой отец. Я же не идиот. Отца бы я узнал.
Отец был значительно меньшего роста. У него были усы, и он никогда не говорил так, как мой новый знакомый, а в речи старика звучали не его слова и не его ритм.
И это не был почти забытый автор детективов по имени Марки Страссер. Зачем он воспользовался этим именем – я не знаю. Может, чтобы привлечь мое внимание, увлечь меня на черную тропу страха, где я понял бы, что он совсем другой человек. Я не знаю, кем он был.
Я вернулся в «Уорвик» и вызвал лифт. В ожидании лифта я стоял перед большим зеркалом между дверями двух лифтов и смотрел на свое отражение, вглядываясь в стекло в поисках ответа.
Потом я поднялся в свой номер, сел за письменный стол, вставил в портативную машинку бумагу с копиркой и напечатал «ЛЮБИМЫЙ УБИЙЦА». Роман шел легко. Да и кто еще мог бы написать эту книгу?
Но, как и мой отец, он не сказал мне «До свидания», когда я ушел за стаканом воды для него. Этот усталый старик…
Подай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале
Встаньте за пологом циркового шатра и всмотритесь в их лица.
Вы узнаете все, что нужно знать о темной стороне человеческой природы.
(Великая Депрессия высосала из людей любую способность радоваться. Шоу-бизнес пытался привлечь людей своими сиюминутными развлечениями. Кинематографу это удалось. Дешево и сердито уносит тебя в мир грез и снабжает приятными воспоминаниями. Колоссально расцвели карнавалы, разъездные парки аттракционов и прочих подобных штучек. Карнавалы разъезжали по всей стране. Дешевые и тотально безвкусные развлечения. В нынешние времена ни один уважающий себя карнавал не предлагает зрителю шоу уродов – демонстрацию врожденных деформаций. Мерзкий бизнес, доложу я вам. Дешевка. Но в те времена, в дешевые уродливые времена тридцатых, нужно было что-то могущее привлечь деревенщин, мужланов и недоумков. Шоу уродов было безотказным магнитом. Спеши, спеши сюда, и не забудь прихватить с собой подружку, чтобы увидеть самое волнующее, самое поразительное зрелище из всех, виденных вами! Ты увидишь Лену, самую толстую женщину в мире, четыреста фунтов трясущегося желе… И Люцифера, с глоткой из асбеста и желудком из стали, ты увидишь, как он глотает огонь, пережевывает гвозди и пьет керосин. А каково пригласить такое чудо к себе в гости, чтобы согреться в этот холодный канзасский вечер? А ведь есть еще и Риппо, мальчик-рыба… Там, где у нас с тобой руки и ноги, у Риппо только плавники и жабры. Так что смотри и поражайся… У нас ты увидишь неизвестное существо, – ни человека, ни зверя – это монстр из твоих ночных кошмаров, он живьем пожирает змей, откусывает головы цыплятам, милые дамы, я не могу даже рассказать обо всех ужасах, на которые эта тварь способна… Но входите, входите, вы увидите все своими глазами…)
Так вот, встаньте за пологом циркового шатра и всмотритесь в их лица.
И вы узнаете все, что нужно знать о темной стороне человеческой природы. (Спросите любого человека сорока-пятидесяти лет, мальчиком работавшего на карнавале. Спросите его, доводилось ли ему стоять за брезентовым пологом цирка и наблюдать – нет, не уродов, не этих несчастных созданий – спросите его, видел ли он лица людей. Добропорядочных граждан, солидных фермеров и сельчан, с детства впитавших в себя иудео-христианские идеалы. Спросите тогдашнего мальчика, а ныне зрелого мужчину, и он не захочет вам рассказывать о том, что он видел. Но вы все же не отступайте, и тогда он расскажет вам о лицах мужчин, о том, с каким выражением лица они смотрели на чудовищные колыхавшиеся груди Лены, какие эротические фантазии одолевали их при виде бесхребетной женщины-змеи. Но он никогда не расскажет вам о влажных губах и сияющих глазах посетителей-дамочек, когда они разглядывали чудовищные деформации мальчика-рыбы, о том, как не отрываясь, они смотрели на его едва скрытые гениталии и как фантазировали о том, каково было бы прижаться к нему, почувствовать, как он обнимает их своими плавниками, каково было бы заняться с ним любовью (а это читалось по их возбужденным лицам!). Тогдашний паренек никогда не расскажет вам об ужасе, который охватывал его при взгляде на лица зрителей шоу уродов: о женщинах, мечтавших совокупиться с сумасшедшим, вымазанным собственными экскрементами, о мужчинах, дрожащих от страсти при виде гермафродита, полумужчины, полуженщины, каково было бы соблазнить такое чудо? Единожды постояв у брезентового полога, единожды увидев мечтательные лица зевак, человек уже никогда не спросит себя, как могла произойти бойня в Сонгми, и не станет задаваться вопросом о том, какая же черта, какое же свойство американской души производило на свет Ричарда Спека[4], или Чарльза Мэнсона, или Чарльза Старкуэзера[5], или Сьюзен Аткинс[6].
Да нет и нужды спрашивать, потому что эта черта души – она во всех нас, она живет под самой поверхностью душ тех из нас, кто составлял большинство публики этих шоу уродов. Да, Великая Депрессия осталась позади, но замшелые деревенщины все еще среди нас, они все еще часть нас самих. Мы до сих пор жаждем видеть наших уродов. Без сочувствия, без сострадания, без любви… Но лишь с похотью и отвращением, которые скорее привлекают, чем отталкивают… Мы все, облизывая пересохшие губы, устремляемся к этому большому шоу).
Мне было тринадцать. И я веду речь не о том, как я сбежал из дома. Это совсем другая история, о ней как-нибудь в другой раз. Я сбежал. Это была мечта любого американского мальчишки в начале 1940-х: сбежать из дома и пристроиться к цирку. Я уже прочитал книжку «Тоби Тайлер или десять недель в цирке», и для меня не было ничего более влекущего, более рискового, более авантюрного, чем сбежать из дома и начать работать в цирке.
Цирка я так и не нашел. Зато нашел ободранный карнавал, который все называли «шапито». Такой бизнес – сегодня здесь, а завтра там, колесивший по словно бы восьмерке, притормаживая в Огайо, Индиане, Иллинойсе и Миссури и разворачиваясь в Кентукки, чтобы снова катить по тому же маршруту. Они именовали себя «Шоу Трех Штатов», но в справочнике адресов и названий групп шоу-бизнеса искать их было бы бесполезно. Классический карнавал мошенников с тесными клетками зверинца, мерзким шоу уродцев и обшарпанный до предела – такого не увидишь даже на самых потертых деревенских карнавалах.
Чем я занимался? Обычным: подай-да-принеси.
– Эй, пацан, принеси кофе.
– Эй, пацан, прикати вон тот рулон брезента.
– Эй, малой, сбегай за этим дармоедом, Сэмом.
Ни шкуры, ни бороды, ни когтей у меня не было. И потому я был Подай-Принеси.
Я был говночистом в клетке гиены. Зазывалой для деревенских лопухов. Стоял на шухере, высматривая легавых. Бегал за водой для девушек из кордебалета. Прислуживал на кухне. И, конечно, был зеленым сопляком. Я даже не представлял, насколько уголовной была вся наша шарашка, пока нас не накрыли в Канзас-Сити, штат Миссури.
В нашем «цирке» промышляли девочки на ночь, да еще карманники, да еще мастера подделывать чеки – в общем, было все, кроме хоть сколько-нибудь порядочного отношения к лохам, которые заглядывали в нашу кунсткамеру и чаще всего оставались без штанов.
Один карманник попытался вытащить бумажник у случайного типа в Канзас-Сити. Тут и оказалось, что тип этот был помощником окружного прокурора, отслужившим пятнадцать лет в армии. В общем, он отутюжил нашего героя по полной. И все наши карнавальщики – карни – приземлились в тюряге.
И очень быстро все забегали и запрыгали, как угорелые. Наш «менеджмент» нуждался в рабочих руках, во-первых, потому что без них невозможно было уложиться в график гастролей, а во-вторых, потому что жалоб и ордеров на арест нашего брата навалило столько, что нас прикрыли бы до скончания века. Так что забегали все.
С двумя серьезными исключениями.
Первым был наш гик. Вторым был я.
Тому, кто незнаком со словом «гик», я советую найти и прочитать уже ставший классикой роман Уильяма Линдсея Гришэма 1946 года «Кошмар в переулке». Там вы найдете самое точное и жестокое описание этого типа людей. Гик, как правило, человек с разжижением мозга, который вливал в себя столько алкоголя, что мозги его постепенно превратились в йогурт. Когда он потеет, на коже его выступают белесые, воняющие чем-то кислым капли. Так вот, менеджеры шапито примечают район трущоб в городе, который они осчастливили своим присутствием, подыскивают гика и быстренько смываются с ним, пока он не помер или не удрал. За роскошный гонорар – бутылка джина в день – алкаш этот одевается в звериные шкуры, не бреется, спит в клетке и по свистку ведущего шоу катается по полу в собственном дерьме, жрет дохлых змей и откусывает головы живым цыплятам.
Ни один приличный карнавал не будет иметь дела с гиками. Это отвратительно до предела, потому что речь идет об игре на самых низменных желаниях и самых глубинных страхах в жизни человеческой. Любой, кто испытывает наслаждение, наблюдая за обесчеловеченным существом, катающимся по полу в куче собственных экскрементов, трущим гениталии шкурой дохлой гремучей змеи, стонущим и закатывающим глаза, превращаясь в недочеловека, который ужаснул бы даже неандертальца – такой наблюдатель сам ниже презрения. Ибо он пал еще глубже, чем бедный ублюдок в клетке.
Я видел орды сельских жителей, добропорядочных и благообразных, прихожан своих церквей и защитников протестантской трудовой этики, которые жадно всматривались в бедного гика. Встаньте за пологом циркового шатра и всмотритесь в их лица. Всмотритесь!
Вы узнаете больше, чем хотели бы знать о темной стороне человеческой природы.
Нас вместе с гиком затолкали в обезьянник для алкашей. Гика никто не собирался выкупать, потому что он не был рабочим карнавала, его просто подобрали в одной из трущоб по дороге, а трущоб этих было великое множество. Так зачем тратить деньги на ничего не значащее существо, которое само себя уже перестало считать человеком? Меня же не выпускали, потому что я не желал назвать копам свои имя и фамилию. Я не хотел возвращаться домой.
И наш шапито отчалил – за вычетом гика и за вычетом Подай-Принеси.
Я три дня провел в каталажке с этим стариком, потерявшим человеческий облик. Ни писари, ни наши охранники не желали даже подходить к обезьяннику.
Им хотелось блевать от одного вида бедного гика, и тем более от его запаха.
Еду нам просовывали сквозь прутья, ставили миску на пол и подталкивали ее ручкой швабры. А меня подташнивало от страха. Потому что гику не давали выпить, и у него начались судороги. Он скулил все ночи напролет, а по утрам его лицо было в крови, потому что он буквально изгрызал свои губы. Где-то на второй день у него началась белая горячка: он забрался по прутьям к железному потолку камеры и начал колотиться лицом о железо. Потом он упал, начал орать и, лежа на спине, дергал руками и ногами, словно черепаха, перевернутая панцирем вниз. Лицо у него было как кусок сырого мяса. И он вонял, ох, как же он вонял!
Особенный запах. Не просто изгвазданные дерьмом штаны. И не одежда, в которой он валялся в своей загаженной клетке. Специфический запашок. Я никогда его не забуду. Описать его на уровне «он вонял так-то и так-то», я не могу. Сравнивать не с чем. Ну, может быть, как тысячи трупов в общей могиле, не знаю. Но запах этот я не забуду никогда.
Я не пью. И никогда не пил.
Наконец на третий день меня вытащили из обезьянника. Им пришлось это сделать.
Агентство Пинкертона, куда обратилась моя семья, связалось с полицией Канзас-Сити. Пинкертоновцы разослали повсюду листовки пропавших людей с моим описанием, и кто-то здесь, в К.-С. связал описание в листовке с описанием, составленным в полиции, хотя я им не говорил, кто я и откуда. Агентство Пинкертона прислало своего оперативника, он приехал и забрал меня в Огайо.
С карнавалом я провел три месяца.
И в этом моем пребывании не было ничего авантюрного, или романтичного, или остросюжетного. Все, что осталось в моей памяти – запах прокисшей выпивки, которая сочится из всех пор серой мертвенной кожи… И ненависть к копам, градус которой после этого опыта резко вырос… И циничное, абсолютно неуничтожимое знание того, что, встав за пологом циркового шатра и всматриваясь в лица зевак, ты узнаешь гораздо больше о темной стороне души человеческой, чем следовало бы знать любому мальчишке.
Странное вино
Двое подтянутых полицейских из дорожной службы штата Калифорния, поддерживая Виллиса Коу с двух сторон, вели его от патрульной машины к накрытой одеялом бесформенной фигуре, лежавшей посередине Тихоокеанского шоссе. Темно-коричневое пятно, начинавшееся в полусотне ярдов от фигуры, исчезало под этим одеялом. Он услышал, как один из зевак сказал: «Ее протащило аж оттуда. Какой ужас». Коу не хотел, чтобы ему показывали его дочь.
Но опознать ее было необходимо. Один из полицейских держал его за плечо, а второй, опустившись на одно колено, приподнял одеяло. Коу узнал нефритовый кулон, который он подарил ей по случаю выпуска. Это было все, что он мог опознать.
– Это Дебби, – сказал он и отвернулся.
«Почему это происходит со мной? – подумал он. – Я же не отсюда, я не один из них. Такое не должно случаться с людьми».
– Ты сделал укол?
Он поднял глаза от газеты и попросил ее повторить вопрос.
– Я спросила тебя, – проговорила Эстель со всей мягкостью, на какую она была способна, – про укол инсулина.
Он улыбнулся, оценив деликатность жены и ее попытки не мешать ему погружаться в скорбь, и сказал, что укол сделал. Она кивнула, сказав:
– Я, пожалуй, пойду наверх. Прилягу. Ты идешь?
– Не сейчас. Чуть позже.
– Ты опять уснешь перед телевизором.
– Не волнуйся. Я скоро поднимусь.
Она постояла немного, не сводя с него глаз, потом повернулась и пошла к лестнице. Он прислушивался к звукам ее ежевечернего ритуала: шум воды в туалете, скрип дверцы платяного шкафа, скрип кроватных пружин. Потом он включил телевизор, тридцатый канал, из тех, что не передавали сигнал, убавил громкость, чтобы не слышать «белого шума» пустого канала. Он сидел перед телевизором несколько часов, прижимая руку к экрану кинескопа, надеясь на то, что поток электронов сделает его ладонь прозрачной и позволит увидеть – сквозь плоть руки – его инопланетные кости.
На неделе он зашел к Харви Ротхаммеру и попросил дать ему отгул на четверг, чтобы съездить в больницу в Фонтане – проведать сына. Ротхаммер был не очень доволен, но отказать не смог. Коу потерял дочь, а сын все еще был обездвижен на 95 %, и не было никакой надежды на то, что он когда-нибудь встанет на ноги. Поэтому Ротхаммер дал Виллису Коу отгул, но напомнил, что апрель уже на носу, и фирма должна готовить свои финансовые отчеты. Виллис Коу сказал, что помнит об этом.
Его машина сломалась в двадцати милях от Сан-Димаса, и он сидел за рулем в ужасающей духоте, пытаясь вспомнить, как выглядит его родная планета.
Его сын Гилвэн прошлым летом на каникулах отправился к друзьям в Нью-Джерси – они обустроили у себя во дворе бассейн. Гилвэн нырнул и врезался в дно, в результате перелом позвоночника.
К счастью, его успели вытащить прежде, чем он утонул, но нижняя часть тела была парализована. Он мог шевелить руками, но не кистями. Виллис отправился в Джерси, занявшись перевозкой Гилвэна в Калифорнию. И теперь его сын лежал в больнице в Фонтане.
Виллис помнил разве что цвет далекого неба. Ярко-зеленый, восхитительный цвет. И какие-то существа – нет, не птицы – плавно скользили по небу вместо того, чтобы летать. Больше он ничего не мог вспомнить.
Машину отбуксировали в Сан-Димас, но механик сказал ему, что нужно будет заказать необходимые запчасти в Лос-Анджелесе. Он оставил машину в мастерской и на автобусе отправился домой. На этой неделе он явно не увидит Гила. Счет за ремонт авто составил двести восемьдесят шесть долларов и сорок пять центов. В марте в южной Калифорнии наступила засуха, которая длилась одиннадцать месяцев. Потом пошли дожди, беспрерывные, не настолько мощные, как в Бразилии, где капли такие крупные и падают так плотно, что не раз случалось, что люди, попавшие под ливень, просто задыхались. Но все-таки дождь был столь мощным, что крыша в доме Коу потекла. Виллис и Эстель не спали всю ночь, затыкая полотенцами щели в гостиной; но протечка, похоже, возникла не в результате повреждения внешних стен, а где-то между перекрытиями; вода продолжала проникать внутрь.
На следующее утро измученный Виллис Коу расплакался. Эстель, которая спустилась в подвал, чтобы загрузить полотенца в сушилку, услышала его и поспешно поднялась в гостиную.
Виллис сидел на промокшем ковре, в комнате пахло сыростью, он закрывал лицо руками, в которых держал мокрое полотенце. Она встала рядом с ним на колени и поцеловала мужа в лоб. Он еще долго плакал и перестал только тогда, когда стало больно глазам.
– Там, где я родился, дожди идут только по вечерам, – сказал он. Но она не поняла, что он имеет в виду.
А когда – спустя некоторое время – поняла, то пошла прогуляться, чтобы поразмыслить и понять, чем она может помочь мужу.
Он отправился на побережье. Припарковался неподалеку от Малибу-роуд, закрыл машину и по набережной пошел в сторону пляжа. Он гулял по песку около часа, подбирал стекляшки, отполированные Тихим океаном, и, наконец, лег на склон пропахшей водорослями дюны, где и заснул.
Ему приснился его далекий мир, и, может быть, потому, что солнце стояло в зените, а океан монотонно шумел, он смог увидеть во сне свой мир: ярко-зеленое небо, плавно скользящих над головой птиц, точнее существ, напоминающих птиц; увидел пятна бледно-желтого света, которые вспыхивали, пылали на фоне неба, взмывали ввысь и пропадали из виду. Он почувствовал, что вернулся в свое настоящее тело, множество его ног работали слаженно и дружно, унося его по окутанным дымкой пескам. И он вспомнил запах цветов. Он знал, что родился на той планете, провел там детство, стал взрослым, а потом…
Потом его сослали.
Своим земным, человеческим умом Виллис Коу понимал, что его отослали прочь за что-то очень плохое. Он знал, что его осудили на ссылку на эту планету, на Землю, возможно, за серьезное преступление. Но он не мог вспомнить, за что именно. И во сне он никакой своей вины не чувствовал. Но когда он проснулся и снова ощутил себя человеком, то почувствовал вину и горечь. Он жаждал вернуться домой, туда, где он родился. Он больше не мог оставаться в ловушке этого мерзкого тела.
– Я не хотел к вам идти, – сказал Виллис Коу. – По-моему, это глупо. И если решаюсь прийти, то тем самым как бы признаю возможность сомнений. А я ни в чем не сомневаюсь, поэтому…
Психиатр улыбнулся и помешал какао в чашке.
– Поэтому… Вы пришли потому, что на этом настояла ваша жена.
– Да.
Он уставился на свои туфли. Коричневые, он носил их уже более трех лет. И ни разу не чувствовал себя в них удобно. Они жали, а большие пальцы словно упирались в лезвие тупого ножа.
Психиатр аккуратно положил ложечку на бумажную салфетку и отпил какао из чашки.
– Мистер Коу, я готов к любому повороту событий. Я в вас не нуждаюсь, да и вы не хотели бы здесь находиться, особенно если наши сеансы не приносят вам пользы. И, – добавил он быстро, – говоря о «пользе», я не имею в виду попытки привить вам новое мировоззрение, обратить в какую-либо веру, в которую вы не хотите быть обращенным. Ни Фрейд, ни Вернер Эрхард, ни саентология, ни любой другой авторитет не убедили меня, что существует такая штука, как «реальность». Систематизированная реальность. Непреложная. Неизменная. И если вера человека не приводит его в тюрьму или сумасшедший дом, я не вижу причин, по которым его видение мира должно быть менее приемлемым, чем видение наше, «обычных людей». Как вам такая платформа для беседы? Если ваше видение вас устраивает, на здоровье. Мы просто послушаем все, что вы хотели бы сказать, добавим пару-тройку комментариев и потом взвесим, согласуется ли ваша реальность с реальностью обычных людей. Как вам такой вариант?
Виллис Коу попытался улыбнуться в ответ.
– Звучит прекрасно. Но я немножко нервничаю.
– Попытайтесь расслабиться и успокоиться. Конечно, мне легко говорить, но вам-то каково? Но ведь я не желаю вам зла, а ваш случай для меня очень и очень интересен.
Виллис встал.
– Если не возражаете, я прошелся бы по вашему кабинету. Так, мысль подтолкнуть.
Психиатр кивнул, улыбнулся и снова отпил какао из чашки. Виллис Коу, обойдя кабинет по периметру, покачал головой:
– Это не мое тело. Меня приговорили к жизни в нем, и это меня убивает.
Психиатр попросил его объяснить, что он имеет в виду.
Виллис Коу был небольшого роста, его темные каштановые волосы уже начали выпадать, вдобавок он плохо видел, и ноги у него постоянно болели. Печальное лицо Коу избороздили морщины – признак того, что в жизни у него множество проблем и скорбей. Он рассказал все это доктору, а потом добавил:
– Я думаю, что эта планета – место, куда ссылают нарушителей закона, во искупление их вины. Я думаю, что каждый из нас прибыл с других миров, других планет, где мы совершили что-то очень плохое. Земля – тюрьма, и нас отправили жить в этих ужасных телах, которые увядают, смердят, изнашиваются вконец и умирают. В этом и состоит наше наказание.
– Но почему же никто, кроме вас, этого не чувствует?
Психиатр отодвинул чашку, какао в ней уже остыл.
– Должно быть, меня засунули в тело с дефектом, – сказал Виллис Коу. – Дополнительная порция мучений: знать, что ты с другой планеты и несешь наказание за преступление, которого не можешь вспомнить, хотя наверняка оно было ужасным, судя по тому, каким мукам меня подвергли.
– Вы читали когда-нибудь Франца Кафку, мистер Коу?
– Нет.
– Он писал книги о людях, которых судят за преступления, о которых они не имеют понятия. Людях, виновных в каких-то грехах, а они даже не знают, в чем и как согрешили.
– Да, именно это я чувствую. Может быть, и Кафка это чувствовал. Может быть, ему тоже досталось тело с дефектом.
– В ваших ощущениях нет ничего странного, мистер Коу. В нынешнее время множество людей недовольно своими жизнями, и вот они обнаруживают, – иногда слишком поздно – что они должны были жить другой жизнью, быть женщиной или мужчиной…
– Нет, нет! Я вовсе не это имел в виду. Я не собираюсь менять свой пол. Я просто объясняю вам, что прибыл с планеты, где небо ярко-зеленое, пески покрыты туманами, а световые пятна вспыхивают и улетают ввысь. Где у меня много ног, а между пальцами паутина, и вообще это не пальцы… – Явно смущенный, он умолк. После чего сел и очень тихо продолжал:
– Доктор, моя жизнь ничем не отличается от жизни других. Я часто болею, не могу платить по счетам, мою дочь сбила машина, и она погибла, и даже думать обо всем этом боюсь. Мой сын в самом расцвете лет стал инвалидом. Мы с женой почти не разговариваем, не любим друг друга… да и не любили никогда. Я живу не хуже и не лучше остальных жителей этой планеты, вот о чем я говорю: боль, страдания, ужас. Каждый день. Безнадежность. Пустота. Неужели мы не можем рассчитывать на что-то лучшее, чем ужасная жизнь человеческих существ на этой планете? Послушайте, я знаю, есть чудесные места, где никто не страдает и где никого не заставляют находиться в тюремной камере под названием человеческое тело.
В кабинете психиатра темнело. Жена Виллиса Коу попросила записать его в последний момент, и доктор согласился принять этого маленького лысеющего человечка в конце рабочего дня.
– Мистер Коу, – сказал психиатр. – Я выслушал все, что вы сказали, и хочу, чтобы вы знали: я искренне сочувствую вашим страхам.
Виллис Коу почувствовал облегчение. Ему казалось, что наконец он нашел человека, способного ему помочь. Если и не снять груз ужасного знания с его груди, то во всяком случае способного сказать ему, что он не один.
– И честно говоря, мистер Коу, – продолжал доктор, – я считаю, что вы человек с очень большими проблемами. Вы больны и нуждаетесь в серьезном лечении. Если хотите, я поговорю с вашей женой, но послушайтесь моего совета: вам следует лечь в хорошую клинику, прежде чем ваше состояние…
Виллис Коу закрыл глаза.
Дома он накрепко замкнул гаражные двери и заткнул щели тряпками. Он не смог найти шланг, достаточно длинный для того, чтобы протянуть его от выхлопной трубы до кабины автомобиля, поэтому просто опустил окна и завел машину. Сидя на заднем сиденье, он попытался читать Диккенса «Домби и сын», книгу, которую ему однажды горячно рекомендовал Гил. Но он никак не мог сосредоточиться на сюжете или насладиться элегантным стилем, и вскоре он откинул голову на спинку сиденья и попытался уснуть, надеясь, что ему приснится другой мир, тот, что у него украли, мир, который ему уже никогда не увидеть. Наконец его сморил сон, и он умер.
Похороны проходили в Форест-Лоун, и на них почти никто не пришел. Эстель плакала, Харви Ротхаммер обнимал ее за плечи и утешал. Но при этом все время незаметно поглядывал на часы, потому что апрель уже почти наступил.
Виллиса Коу опустили в теплую землю, и почва чужой планеты падала на него с лопат чернорабочего-мексиканца и его троих детей – мексиканца, подрабатывавшего еще и мытьем посуды в гриль-баре, потому что иначе ему не по карману была бы аренда его крошечной квартирки.
Многоногий консул поздравил Виллиса Коу с возвращением. Тот поднял глаза и увидел ярко-зеленое небо.
– Добро пожаловать домой, Плидо, – сказал консул. Он, казалось, был чем-то расстроен.
Плидо, который в другом далеком мире был Виллисом Коу, поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Дом!
Но он не мог просто молча наслаждаться этим моментом. Ему необходимо было знать.
– Консул, прошу вас… Скажите мне, что такого ужасного я совершил?
– Ужасного? – Консул был поражен. – Да мы все восхищаемся вами, ваша милость. Ваше имя ценится выше всех прочих!
В его словах звучало искреннее почтение.
– Тогда почему же меня приговорили к жизни, полной страданий, в том ужасном мире? Почему сослали и обрекли на муку?
Консул покачал своей косматой головой. Легкий ветерок развевал его роскошную гриву.
– Нет, ваша милость, нет! Это мы страдаем. Лишь немногие, самые достойные и уважаемые представители народов, населяющих Вселенную, могут отправиться в тот мир. Жизнь там сладка и приятна по сравнению с тем, что называется жизнью во всех остальных местах. Просто вы еще не все поняли. Не до конца прочувствовали. Но вы непременно поймете. И вспомните.
И Плидо, который в лучшей части своей почти вечной жизни, преисполненной боли, был Виллисом Коу, вспомнил. Прошло время, и он вспомнил века и тысячелетия страдания, жившего в нем, и понял, что ему была дарована радость, доступная далеко не всем жителям далеких галактик. Он получил несколько драгоценных лет жизни в мире, где боль и страдания ничтожны в сравнении с тем, что испытывают другие обитатели Вселенной.
Он вспомнил дождь, и сон, и ощущение мелкого песка под ногами, океан, шепотом поющий свою вечную песнь, – он ненавидел такие ночи на Земле. Но сейчас Плидо крепко спал и видел волшебные сны.
Ему снилась жизнь Виллиса Коу на чудесной планете.
Х. Ночи и дни в старой доброй Голлижути[7]
«Без крепкого сценария режиссер и его/ее актеры, даже обладающие мощнейшей харизмой, закончат тем, что будут торчать в звуковой студии без малейшего понятия о том, что же им делать дальше».
«Глазами демона. Фантастика как видеообраз». Сборник ИСКУССТВО НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. Изд-во «Харпер энд Роу», 1976.
Ныне благодаря вливаниям (пяти миллионов долларов) в рекламу, жесткой и весьма ощутимой реальности (1200 кинотеатров с заполнением в пропорции 90/10), а равно киноиллюзиям (комбинированные съемки, масштабные модели и лабораторные трюки): Торнадо, переносящий героев из Канзаса в Оз, может быть просто муслиновым ветровым конусом, лицо злой королевы в зеркале ротоскопируется в режиме 24 кадра в секунду, и голова одержимой демоном девочки поворачивается на 180 градусов, а публика уже не в состоянии отличить актрису от манекена.
Если наш век чем-то и запомнится (помимо технологического прогресса), так это созданием глобальных современных мифов.
Голливуд = Волшебство иллюзиониста.
В течение семидесяти с лишком лет, с тех пор, как родилась киноиндустрия, сценарист в большей степени, чем все остальные, вынужден сражаться за справедливую оценку результатов его труда. Мы все без труда вспоминаем отчаяние и беспомощность Кэри Гранта в фильме «К северу через северо-запад», помним блестящую режиссуру Альфреда Хичкока, но кто помнит сценариста Эрнеста Лемана? Кто-то может сказать: «Сценарий? И что там такого? Просто слова на бумаге, к тому же в формате, непригодном для спокойного чтения».
Странно, разве нет? Звезды женятся и разводятся, участвуют в благотворительных ужинах, поддерживают политиков. Знаменитый и старый кутюрье умирает, заставляя миллионы вспомнить, как такой-то и такой-то выглядели в его костюмах. Режиссеры оперируют образами в узнаваемом и уникальном стиле, когда бюджет фильма очень скромен или, наоборот, огромен (сие особенно верно в случае огромного бюджета). Газетные заголовки обкатывают все эти истории.
Все эти кинодеятели могут быть талантливыми, но в реальности все они работают на главного сновидца: голливудского сценариста.
Как и с каждой формой творческой активности, которой он предавался, Харлан преуспел в Голливуде, сначала изучив систему, а затем ворвавшись в нее со всей силой своего искусства и своего интеллекта. Он не шел на попятный даже тогда, когда руководство студий отказывалось понять и принять его методы.
Полная история приключений Харлана на фабрике грез составила бы текст весьма приличного размера, но и представленный здесь срез – с его мечтами и катастрофами – весьма полезен для понимания проблемы.
«Воскрешение молодой леди в туфлях на завязках» (1968) показывает ничтожность светских романов, поверхностных автобиографий, а равно исторических лент, которые год за годом все глубже погружают нас в миазмы придуманного мира. То, что разоблачительный текст Харлана написан в жанре рассказа, нисколько не уменьшает реалистичности и точности впечатлений автора, но, напротив, странным образом придает им вес.
Не нужно было маскировать или защищать любого из персонажей, и ни одна студия не может обвинить автора в клевете, однако в рассказе все персонажи ползут по липкой паутине, словно лапки чудовищной черной вдовы, которую изучает Харлан.
Со времени написания рассказа механика голливудской системы изменилась, как изменились и представления Голливуда о себе самом, что можно видеть в знаменитом фильме Натанаэля Уэста «День саранчи». Впрочем, это неважно.
Так же, как Уэст и Хорас Маккой («Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?») до него, Харлан заинтересован в анализе этой социальной паутины и судьбах беспомощных мух, запутавшихся в ней. Сущность этой ситуации становится видимой только тогда, когда мы осознаем, что этот паук рукотворен, почти нереален, но, к сожалению, от того не менее смертоносен.
(Как и каждый фрагмент этой книги, приводимый текст был сверен с рукописями Харлана, и в этом отличается от ранее опубликованных версий.) Ряд сценариев Харлана был экранизирован на телевидении, а сам он получил рекордное число премий Писательской Гильдии Америки – доказательство высокого качества написанных им работ. Но в Голливуде есть обычай: переписывать и изменять авторские сценарии, что неудивительно, если принять во внимание сочетание искусства и бизнеса, необходимые для создания фильма, и Харлану редко удавалось, если удавалось вообще, пробивать сценарий в его первоначальном виде. Не говоря уже о ящиках его стола, забитых сценариями, которые до сих пор ждут своего воплощения.
Голый сценарий, думается, имеет лучшие шансы на то, чтобы восприниматься как законченный фильм, проскользнув между пальцев невежественных голливудских продюсеров и одновременно отвечая всем требованиям, предъявляемым к качеству сюжета. Сценарии Харлана имели тенденцию заходить слишком далеко в плане качества: они написаны с невероятной детализацией, позволяющей читателю увидеть фильм наяву. Это не всегда оборачивалось ему на пользу, особенно когда его работы попадали к невежественным функционерам, а равно и к продюсерам чрезмерно искушенным. «Кремневое ружье, или захват Флинта»[8] (1972) – это пьеса для телевидения, ранее нигде не публиковавшаяся, которая была написана из-за типичных методов киноиндустрии: вследствие попытки извлечь выгоду от обыгрывания названия успешного фильма 1966 года «Наш человек Флинт», пародии на шпионские фильмы, которые снимались во множестве, благодаря успешной череде фильмов о Джеймсе Бонде. Харлан мастерски использует указания для оператора – кадры с 97-го по 106-й являют собой безукоризненный пример такого мастерства, когда действо развивается по этапам внешне беззаботного сюжета, написанного в саркастической традиции приключений Дерека Флинта. Если вам удалось выловить на ТВ ремейк фильма 1976 года, который был выпущен под названием «Стеклянная сиська», хотя иногда его показывали под названием «Наш человек Флинт: Точно в цель», то вы могли бы увидеть и то, почему сценарий Харлана остался на бумаге. Для студий гораздо проще придерживаться старых стандартов – именно поэтому мы годами смотрим мыльные оперы типа «Беверли Хиллз 90210» и прочих пустышек из той же обоймы.
«Человек на шляпке гриба» (1974), «Знаешь, Тотошка, похоже, мы не в Канзасе» (1974) и «Лицом вниз в бассейне Глории Свенсон» – это записи Харлана о его работе в Голливуде, начиная с прибытия туда в 1962 году и путешествия Эллисона через все опасности и удовольствия, которые встречались на его пути. Знакомство города грез с Харланом было… небезболезненным. Среди прочего, подтвердилась его репутация «трудного» таланта, что вполне совпадало с оценкой, данной Эллисону Робертом Блохом. Блох сказал, что Харлан «единственный известный ему живой организм, естественная среда обитания которого – крутой кипяток». В системе, пронизанной воровством и ненавистью, приятно увидеть человека, настаивающего на этике и справедливости и, благодаря этому, ставшего общенациональной знаменитостью. Первой из юридических побед Харлана стала изматывающая и очень-очень дорогостоящая война, в ходе которой федеральный суд присудил Харлану Эллисону 337 000 долларов компенсации за нарушения копирайта ТВ-сетью ABC и студией «Парамаунт» за пилотную серию нового ТВ-сериала «Коп будущего», которую Харлан и Бен Бова сочли плагиатом их совместно написанной новеллы «Брилло». И, как показывал нам – снова и снова – Харлан, даже в фантазии, даже в Голливудской фантазии правда рано или поздно становится известной.
Даже не прибегая к оскорбительным замечаниям, я стал известен как человек, доказавший, что телевидение – это дешевая туфта».
«Дни крови и скорби», предисловие к книге «НОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ СИСЬКА», изд-во «Пирамида», 1975.
Воскрешение молодой леди в туфлях на завязках
(Посвящается памяти Дороти Паркер)
Хэнди
В Голливуде наше прошлое столь мимолетно, что мы без всяких колебаний сносим памятники прежних эпох.
Исчезли Сады Аллаха, где когда-то жили Бенчли и Скотт Фицджеральд, на их месте ныне кредитно-сберегательный банк. Большинство зданий на 20-м участке сменились торговыми центрами и суперотелем.
Даже исторические памятники не столь давних эпох пошли под нож. ТВ-студии «Зив» в Санта-Монике были закрыты, превратившись в странные сюрреалистические джунгли гигантских сорняков, по которым шныряют одичавшие коты, ставшие каннибалами. Идя мимо вымершей студии поздним вечером, вы можете слышать, как бедные коты разрывают друг друга в клочья.
Они слишком долго жили киноиндустрией и неспособны выживать на улице, а потому – потерянные и растерявшиеся – они превращаются в убийц.
Возможно, это всего лишь досужие байки. Но эти образы возникают в моем воображении каждый раз, когда я думаю о Валери Лоун.
Здесь суть в том, что мы в Голливуде превращаем прошлое в настоящее еще до того, как оно стало будущим. Это так же безумно, как бросать еду в мусорный бак до того, как вы ее съели.
Однако у нас есть вполне современный монумент в гламурной столице мира.
Это огромный – высотой в двадцать три фута – билборд с рекламой фильма «Уловка». Легкая приключенческая лента в традициях Джеймса Бонда. На щите – исполнители главных ролей, Роберт Митчем и Джина Лоллобриджида, в позах, которые намекают на приключения и, кгм… роман.
Ниже – меньшим размером – имена создателей фильма: продюсер Артур Круз, режиссер Джеймс Кенканнон, сценарий: Джон Блэк, музыка: Лало Шифрин. Баланс соблюден и здесь: в конце, после небольшого размера текстов, строка в рамочке: А также МИСС ВАЛЕРИ ЛОУН в роли Анджелы.
Но строчку эту нелегко прочитать: она стерлась от времени.
Рекламный щит стоит на возвышении над бульваром Сансет, на участке, прилегающем к Кингз-роуд. Перед щитом расположилась дискотека «Спектр 2000», на месте которой когда-то было гламурное заведение «Сайро». Но мы сносим наше прошлое и конвертируем его на потребу текущего момента. Снесут и билборд, как только завершится премьерный показ фильма и его начнут крутить в провинциальных кинотеатрах.
И в этот момент уберут даже напоминание о Валери Лоун, а все мы сможем ее благополучно забыть. Почти все, но все-таки не все. Я буду помнить. Меня зовут Фред Хэнди, и я отвечаю за этот билборд.
Что делает меня исключением, уж поверьте. В конце концов, существует очень мало людей, которые воздвигли бы памятник жертвам совершенных ими убийств.
1
Они вынырнули из тьмы, которая была тоннелем под скоростной трассой. Огни фар светились как глаза хищников за мили от этого места. И постепенно звук двигателя заполнял все пространство по обе стороны бетона. Калифорнийская ночь, жар раскаленного дня лежал над землей, и машина, мощная и стремительно несущаяся, вынырнула словно из ниоткуда, двигаясь по белой сплошной полосе.
Суслики и кролики рванули через опасную полосу бетона, и исчезли в ночи. Внутри лимузина мужчины, сидевшие на боковых сиденьях, обсуждали прошедшие съемки дня с грузным оператором, устроившимся сзади.
Сидя сразу за водителем, Фред Хэнди не отрываясь смотрел на бесконечную ленту шоссе 14. Он отдался на милость дорожного гипноза и провел в нем добрых двадцать минут, сам того не сознавая. Голос с бокового сиденья привел его в чувство. Это был Кенканнон.
– Берт, как скоро мы будем в Ланкастере или Палмдейле?
Водитель откинул голову назад и чуть в сторону, не отрывая глаз от дороги.
– Еще двадцать – двадцать пять миль, мистер Кенканнон. Мы совсем недавно проехали Розамонд.
– Давай остановимся в первом же приличном заведении и поедим.
С самого заднего ряда лимузина послышалась возня. Там проснулся Круз, до того спавший в позе эмбриона. Он пробормотал:
– И какой у нас час? Где мы вообще?
Хэнди повернулся к нему:
– 3:45, Артур. Мы посреди пустыни.
– Как раз посередине между Мохаве и Ланкастером, мистер Круз, – добавил водитель.
Круз хрюкнул и снова умолк. Потом продюсер выпрямился на сиденьи, спустил ноги на пол, вытянул их и свел вместе лопатки, пытаясь встать. Все это он проделывал, не открывая глаз.
– Господи, на будущее напомните мне никогда не делать фильм с натурными съемками.
Из глубин лимузина послышался подобострастный смешок.
Хэнди подумал о Митчеме, который уехал со съемок в Мохаве значительно раньше, на лэнд-крузере с кондиционером, который студия арендовала для него. Но эта мысль лишь напомнила ему, что сам он не был одним из Бессмертных, не был суперзвездой, а был всего лишь рекламным агентом за два пятьдесят в день, который без перерыва и без особого успеха пытался придумать, под каким углом строить рекламную компанию для очередной приключенческой ленты с любовным романом. Круз вошел в этот жанр с запозданием, после всех Бондов и Ипкрессов, после «Арабески» и «Маскарада», после «Калейдоскопа», Флинта, Модести Блейза, а они в свою очередь появились после «39 Ступеней», ну да какая к черту разница, если на этой ленте продюсером был Артур Круз, а это гарантировало и внимание критики, и выгодные даты для показа в кинотеатрах. Если бы Фред Хэнди мог сообразить, каким образом построить рекламу, пристегнув имена Джо Левина, Уильяма Кэсла, Сэма Кацмана и Альфреда Хичкока, они смогли бы заманить лохов в кинотеатры. Он скучал по жизни в Нью-Йорке, где заработал себе язву желудка, вкалывая в рекламной компании. Язва никуда не делась, но теперь разница была в том, что он не мог даже изображать радость, которая компенсировала бы все его неудачи. Он скучал по дням своей молодости, когда писал идиотские стишки для газеты «Фигаро» в Гринвич-Виллидж.
Больше всего ему недоставало тела Джули, которая была на гастролях где-то в штатах Среднего Запада с мюзиклом «Хелло, Долли!» А еще он мечтал о горячей ванне, которая смыла бы усталость. И вымыла бы всю пыль пустыни Мохаве из пор его тела.
А еще ему страшно хотелось есть.
– Эй, Берт, а как насчет вот этого, вот там?
Он постучал водителя по руке и жестом указал на неоновый знак на обочине.
На рекламе значилось: «ШИВИ. СТОЯНКА ФУР И ЕДА.»
– Должно быть, знатная еда, – произнес Кенканнон за его спиной. – Я что-то не вижу никаких фур. К тому же мы знаем, чем питаются дальнобойщики.
Хэнди улыбнулся, услышав парафраз мифа о земляной кукушке. Это был именно тот сорт юмора, который всегда отличал режиссуру Кенканнона.
– Вы не возражаете, мистер Круз? – спросил Берт.
– Ни в коей мере, Берт, – усталым голосом произнес Артур Круз.
Шурша гравием, лимузин подъехал к кафетерию. Заведение было абсолютно музейным экспонатом. В стиле старого железнодорожного вагона. Такие особенно часто встречаются в Нью-Джерси. Алюминиевая шкура кафе была изъедена проказой ржавчины. Окна мутные от грязи. На двери реклама «Лаки Страйк» и «Эль-Продукто». Три шага к двери по бетонному пандусу.
Паркинг окружал кафе, словно серое озеро из щебенки, мертвенно-холодное в мигающем свете неоновой рекламы. Вывеска вспыхивала и гасла, и тогда желтый неон высвечивал ЕДА, газ, ЕДА, газ, ЕДА…
Двери лимузина открылись, все шесть дверей, и десятеро мужчин вышли, потягиваясь и направляясь к закусочной. Они выстроились в линию, согласно рангу в иерархии.
Круз и Кенканнон, Фред Хэнди, два оператора, трое рабочих, женоподобный гример Санчер и водитель Берт.
Они поднимались по пандусу, что-то бормоча, словно животные, пробуждающиеся после спячки. День был изматывающим. Сцены погони в городишке посреди пустыни Мохаве. И Митчем в своем чертовом лэнд-крузере, названивающий в «Ла Рю» с заказом улиток, которые должны быть готовы к его приезду.
Кафе внутри было залито ярким светом. Работяги, операторы и Берт сели за столик у полупрозрачного окна.
Санчер сразу же отправился в туалет, чтобы побрызгаться пятидневным дезодорантом «Пэдс». Круз сел за стойку бара, а Хэнди и Кенканнон – по обе стороны от него. Продюсер выглядел как старая развалина. А ведь он всегда был подтянутым мужчиной лет сорока пяти.
Он хлопнул в ладоши, и Хэнди увидел, как продюсер принялся крутить на пальце перстень с огромным бриллиантом. Он то снимал, то снова надевал его. «Интересно, – подумал Хэнди, – что он хочет этим сказать».
У Хэнди возникали разные мысли по поводу Круза, и вполне теплые, и безразличные. Круз для Хэнди был работодателем. Ему доводилось видеть, как продюсер вмешивался в процесс съемок, ставя на место молодого сценариста, потому что тот недостаточно оперативно вносил поправки в текст, а это означало дополнительные расходы. Он натравливал агентов друг на друга, чтобы поймать момент, когда нужный ему актер останется без представителей, и его можно будет нанять за весьма умеренную сумму. Но он видел и ситуации, когда Круз проявлял необязательную доброту. Необязательную, потому что это не давало ему никаких доходов, не приносило никаких очков. Однажды Круз проколол шину на оживленном шоссе, и какой-то водитель остановился, чтобы ему помочь.
Круз записал его имя и фамилию и отправил ему комбайн из ТВ и стерео, стоимостью три тысячи долларов. Одна звездулька, которая должна была получить роль, роли не получила, потому что следственное агентство, работавшее на Круза, выяснило, что у нее парализованный ребенок. Ее присутствие на репетициях было не обязательным, поэтому Круз снял ее с роли, ссылаясь на ее малый опыт, но выписал ей чек на ту сумму, которая бы ей причиталась, получи она роль.
Артур Круз был в Голливуде очень большим человеком.
Однако он не всегда был гигантом. Начинал он режиссером монтажа в дешевеньких ужастиках категории В, позже уже режиссировал несколько лент и очутился в кресле продюсера малобюджетных фильмов студии RKO.
На этой ниве он заработал приличное количество синяков, но каждый раз очень быстро возвращался на ринг. Он был вполне молодым человеком, но сейчас выглядел дряхлым стариком, сидевшим за стойкой и крутившим перстень на пальце.
Санчер вышел из туалета и присел у дальнего конца стойки. Это, похоже, подтолкнуло Кенканнона к действию:
– Думаю, мне тоже нужно смыть с рук всю пыль, – сказал он, вставая со стула. Встал и Круз:
– Я только сейчас вспомнил, что целый день не был в туалете.
Они ушли, а Хэнди остался сидеть за стойкой, вертя в руках шейкер с сахаром.
Он в первый раз за все время поднял глаза, внезапно осознав, как он измотан. Повернувшись к нему спиной, официантка стряхивала масло из сетки с картофелем фри. Съемки фильма шли по плану, с этим проблем не было, но увы – не было никакой заманухи для зрителя, никакого крючка, никакой возможности выудить из фильма какой-то неожиданный рекламный поворот. А ведь приходилось платить солидный квартальный взнос за дом в Шерман Оукс. И работа с Крузом была всем, чем Хэнди располагал. Ему было просто необходимо держаться за это. Официантка повернулась к нему в первый раз за все время и начала раскладывать на ближайшем к Хэнди столике салфетки, вилки, ложки, ножи. Треклятый Лос-Анджелес. В нем можно вкалывать без малого девять лет и оставаться ни с чем. Без жилья, с «Импалой» 1965 года выпуска, которую никоим образом не отнести к шикарным тачкам. И проклятый брак с этой мошенницей, продлившийся сорок пять дней. Ему позарез нужна была работа, чтобы отбиваться от своей бывшей, чтобы не дать ей воспользоваться идиотскими законами Калифорнии, позволявшими этой твари отобрать у него дом. Девять лет смыты в унитаз. О Боже, как он был измотан. Официантка наводила порядок в соседней кабинке, обслуживая работяг и операторов. Хэнди угробил все эти девять лет и теперь сидел, недоумевая: какого черта он здесь делает. Ах, да, я же в процессе развода, этим я и занимаюсь. Но девять лет были огромным сроком, безжалостно огромным и бессмысленным. Торчать здесь с Крузом или с любым другим таким же проектом, который великая американская публика забудет в течение получаса… Официантка подошла к нему.
– Готовы сделать заказ?
Он, подняв голову, посмотрел на нее. На секунду у него перехватило дыхание. Он смотрел и смотрел, а шелуха лет и десятилетий улетала прочь. Сейчас он был подростком, сидевшим в кинотеатре «Утопия» в Сент-Луисе, штат Миссури. И он пялился на экран, на котором двигались серые тени. Лицо из далекого прошлого и киносеансы – все было таким знакомым, и все эти воспоминания накладывались друг на друга.
Она заметила, что он, не отрываясь, пялится на нее.
– Заказывать будете?
Он должен был очень точно сформулировать свое обращение к ней.
– Простите, но… Ваша фамилия Лоун?
Только потом он смог понять выражение, которое мелькнуло в ее глазах. Это был ужас. Не страх, не беспокойство, не тревога, не настороженность.
Ужас. Тотальный, сдавливающий горло ужас. Позднее она говорила, что его слова прозвучали как погребальный звон… Опять.
Она застыла. Потом ее рука соскользнула со стойки.
– Валери Лоун? – произнес он очень мягко, напуганный выражением ее лица. Она сглотнула слюну. И кивнула. Едва заметно.
И он знал, что ему нужно говорить исключительно точно. Словно вся ситуация лежала у него на ладони, как хрупкий кристалл, который может рассыпаться от одной неосторожной фразы.
Не: «Я смотрел ваши фильмы еще подростком.» И не: «Что было с вами все эти годы?» И не: «Что вы вообще делаете здесь?».
Требовалось подобрать самые верные слова.
Хэнди улыбнулся как ребенок. Странно, но его морщинистому лицу это шло.
– Знаете, – мягко произнес он, – на скольких дневных сеансах я побывал, влюбляясь в вас каждый раз?..
В ее улыбке светилась благодарность. И облегчение. И расслабленность. И внезапный прилив ее собственных воспоминаний, их горечь, память о прежней жизни. Потом все это исчезло, и перед ним снова стояла пергидрольная официантка в придорожном кафе.
– Что будете заказывать?
Она не шутила. Она отключила прошлое сразу, как ртутный выключатель.
В одно мгновение в ее выцветших голубых глазах была жизнь, а секунду спустя в них уже не было ничего, кроме серого праха. Он заказал чизбургер с картофелем фри. Она снова отправилась к столу с паровым подогревом.
Артур Круз первым вышел из мужского туалета. Он нервно потирал руки.
– Чертов мыльный порошок. Такое же дерьмо, как и их бумажные полотенца.
Он сел на стул рядом с Хэнди. И в то же мгновение в сознании Фреда Хэнди вспыхнул яркий свет. Как просветление, которое случается у наркомана, сосущего кубик сахара, пропитанного дурью! Так и его мозг высвободился и взорвался вовне переливами чудесных цветов. Примочка, фишка, рекламный ход – все было, Боже мой, прямо перед ним, безукоризненное как бриллиант, сверкающий голубоватым светом.
Артур Круз читал меню, когда Хэнди схватил его за руку.
– Артур, ты знаешь, кто это?
– Кто – кто?
– Официантка.
– Мадам Неру.
– Артур, я серьезно.
– Ну хорошо, и кто она?
– Валери Лоун.
Круз вздрогнул так, словно его ударили. Он бросил взгляд на официантку, стоявшую к ним спиной. Она разливала по тарелкам гороховый суп. Круз молча пялился на нее.
– Не верю, – пробормотал он.
– Поверь, Артур. Я говорю тебе, это она.
Круз мотнул головой.
– И какого же черта она делает здесь, в этой Богом забытой дыре? Господи, а сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?
Хэнди на секунду задумался.
– Восемнадцать, если считать фильм, в котором она снималась на студии «Юнайтед Артистс» в сорок восьмом.
– Восемнадцать лет, и вот тебе результат. Разносит бургеры с картошкой в дорожной забегаловке. – Круз, произнеся эти слова, пробормотал еще что-то.
– Что ты сказал? – спросил Хэнди.
Круз повторил сказанное, с какой-то непонятной злостью:
– Господи, как низко падают великие.
И прежде, чем Хэнди смог поделиться с продюсером своей идеей, она повернулась и увидела, что Круз пялится на нее. В выражении ее лица ничего не изменилось, хотя было ясно, что она поняла: Хэнди сказал Крузу, кто она такая. Она отвернулась и понесла поднос с супом в кабинку с операторами.
Когда она проходила мимо них, Круз негромко произнес:
– Здравствуйте, мисс Лоун.
Она приостановилась и молча смотрела на него. Почти как сомнамбула, двигавшаяся во сне. Продюсер добавил:
– Артур Круз… Помните?
Она долго не реагировала, потом кивнула так же, как до того кивнула Хэнди.
– Здравствуйте, сколько лет…
Круз улыбнулся странной улыбкой. Почти победной.
– Да уж, сколько лет… Как вы поживаете?
Она пожала плечами, словно указывая ими на стены кафе.
– Прекрасно, благодарю вас.
Они оба умолкли.
– Вы готовы заказывать?
Приняв заказ, она отправилась к грилю. Хэнди наклонился к Крузу и начал лихорадочно внушать ему:
– Артур, у меня фантастическая идея.
Продюсер, однако, витал в иной реальности.
– Что именно, Фред?
– Она. Валери Лоун. Блестящая идея. Сними ее в своем фильме. «Возвращение…» Как ее тогда называли в рекламе? Ах, да, «Мисс в туфлях на завязках.» Это можно будет прокатить в газетах по всей стране.
Молчание.
– Артур, что скажешь?
Круз, улыбаясь, смотрел на свои ладони. И снова принялся крутить перстень на пальце.
– Ты думаешь, мне следует вернуть ее в профессию через восемнадцать лет?..
– Я думаю, что это самая выигрышная идея для раскрутки фильма, которая у меня когда-либо возникала. И я вижу, что тебе она тоже понравилась.
Круз рассеяно покивал.
– Да, Фред, понравилась. Ты башковитый парень. Да, здорово.
Кенканнон вернулся из туалета и сел рядом с ними. Круз повернулся к нему.
– Джим, ты сможешь заняться съемками подвальных сцен с Бобом и каскадерами? На денек-другой?
Кенканнон задумался, закусив губу.
– Думаю, смогу. Придется подправить график, но это забота Берни, а не моя. А что такое?
Круз крутил перстень на пальце и мечтательно улыбался.
– Я вызову Джонни Блэка, чтобы он подправил кое-что в роли Анджелы. Добавил кое-какие детали.
– Зачем? У нас еще нет актрисы на эту роль.
– Уже есть. – Хэнди расплылся в улыбке.
– Есть. Валери Лоун.
– Валери… Да ты шутишь. Она не снималась сколько уж лет… И с чего ты взял, что сможешь ее разыскать?
Круз повернулся и вперил взгляд в согнутые плечи женщины, стоявшей рядом с грилем.
– Ее я смогу разыскать.
Хэнди
Мы говорили с Валери Лоун. Круз и я. Сначала говорил я, потом говорил он, а когда она отказалась говорить с Крузом, с ней снова говорил я.
Она схватила огромный противень с остатками макарон с сыром и выбежала из кухни, направляясь в конец зала.
Мы посмотрели друг на друга и, после того как каждый из нас увидел замешательство на лице другого, вся наша растерянность исчезла. Мы встали и направились к ней. Она плакала, прислонившись к стене. Ночь была очень тихой.
Но Валери, когда мы подошли к ней, не собиралась оттаивать.
Она выпрямилась, вибрируя от гнева.
– Я уже больше пятнадцати лет не играю в ваши игры. Вы можете меня оставить в покое? Если думаете, что это смешно, у вас отвратительное чувство юмора.
Артур Круз замер на месте. Он не знал, что ей сказать. С ним что-то происходило – не знаю, что именно, но его явно заботило нечто большее, чем просто фишка в рекламной компании.
Я перехватил эстафетную палочку.
Хэнди-коммивояжер, Хэнди мастер подмасливать, с лучшим маслом в бизнесе.
– Прошло не пятнадцать лет, мисс Лоун. Прошло восемнадцать с хвостиком.
В ней словно что-то сломалось. Она снова принялась чистить противень.
Круз не знал, останавливать меня или нет, и потому я двинулся вперед. Я прошел мимо Круза, который стоял, открыв рот и положив руку на поручень, выкрашенный дешевой желтой краской. (Краска была того же цвета, что и бродячий пес, которого я как-то переехал в Неваде. Я его не видел. Он выскочил из придорожной канавы прямо мне под колеса. Я ничего не успел бы сделать. Но я остановился и вернулся к месту происшествия. Пес был того же цвета, что и перила в кафе. Дешевая краска грязно-желтого цвета. А пса я до сих пор не могу забыть.)
– Вам нравится здесь?
Она не повернулась ко мне. Я обошел ее. Она стояла, уставившись на противень.
– Мисс Лоун?
Я хотел, чтобы слова мои прозвучали как можно мягче. Искреннее. Я не был уверен, что мне это удалось.
– Если бы я не знал, как обстоят дела… Если бы я не видел вас на экране… Я подумал бы, что вы наслаждаетесь чувством жалости к самой…
Она резко вскинула голову. В глазах ее заплясали искры. Она была в ярости.
– Послушайте, мистер, я вас впервые в жизни вижу. С какой стати вы решили, что можете говорить со мной как…
Но пар был выпущен. Искры в глазах погасли. Она снова стала такой же, какой была минуту назад.
Я развернул ее лицом к нам. Она стряхнула мою руку.
Она не была надувшимся ребенком. Это была женщина, которая не знала, как избавиться от колоссального страха, который становился все более мощным с каждой секундой. Но даже под гнетом страха она не собиралась позволить мне управлять ею.
– Мисс Лоун, мы сейчас работаем над фильмом. Да, это не «Унесенные ветром», это не «Рождение нации», это просто яркое шоу с Митчемом и Лоллобриджидой, и каждому из участников оно принесет немалые деньги…
Круз пялился на меня. Мне его взгляд не понравился. Когда-то он был хватким вундеркиндом, снявшим «Одиноких во тьме», «Рубиновую Бернадетту», «Самого быстрого человека в мире», и ему не нравилась моя оценка его последнего опуса как всего лишь яркого шоу, затеянного ради денег. Но на сегодняшний день Круз уже не был вундеркиндом и снимал он не Кафку, он снимал фильм с претензией на блокбастер, и ему нужна была эта женщина – как и мне, черт дери! Так что плевать на его суровые взгляды.
– Никто не считает, что вы были одной из величайших актрис кино. Вы никогда не были ни Кэтрин Корнелл, ни Бетти Дэйвис, ни даже Пэт Нил.
В ее глазах снова вспыхнула ярость. Будь я моложе, это могло бы меня напугать, как, должно быть, приводило в трепет целую армию ассистентов на пике ее популярности. Но осознание этого факта меня напугало – я действительно нуждался в заработке – и одним лишь гневным взглядом меня было не остановить.
Я поднажал еще, запустив мою лучшую речь в стиле Реймонда Чандлера:
– Но вы все же были звездой, вы привлекали толпы зрителей, потому что в вас было нечто. И чем бы оно ни было, мы хотим арендовать это нечто на какое-то время, мы хотим снова увидеть это на экране.
Она фыркнула и отчеканила:
– Все, что ты сказал, смердит, Джек.
Высокомерие и презрение. Она видела меня насквозь. Но ничего страшного. Я не собирался втирать ей очки.
– И не думайте, что мы тут благотворительностью занимаемся. Нам нужна такая актриса, как вы. Нам нужна фишка – нечто, что позволит нам заманить зрителя. А это означает доллары в кассах кинотеатров. Ну да, черт же подери, леди!
Она обнажила зубы. Похоже, я пробивал ее защиту.
– Мы можем помочь друг другу.
Она ухмыльнулась и начала отворачиваться от меня. Я сделал шаг вперед и ударил по противню изо всех сил. Он вылетел из ее рук и упал на ступеньки. На какое-то мгновение она оцепенела, и я продолжил на нее давить:
– И не говорите мне, что вам очень нравится соскребать остатки макарон со сковородок. Вы слишком долго обитали на вершине. Вот вам бесплатный билет обратно. Берите же его!
По ее венам побежала кровь, и лицо покраснело.
– Я не могу этого сделать, не давите на меня.
Тут в разговор вклинился Круз. Мы с ним работали как классическая пара «хороший коп – плохой коп». Я лупил ее по голове, а он протягивал ей пузырек с аспирином.
– Оставь ее на минутку, Фред. На нее внезапно свалилось столько всего… Дай ей подумать.
– О чем тут, к чертям собачьим, думать?
Ее зажали с двух сторон, и она это понимала, но впервые за долгие годы с ней происходило нечто, и ее мотор, вопреки ее желанию, начинал набирать обороты.
– Мисс Лоун, – мягко проговорил Круз, – контракт на этот фильм и договор на три последующих. С гарантией, что с первого дня съемок вы получаете гонорар, даже если, отыграв свою роль, будете до самого конца просто сидеть рядом с площадкой.
– Я не была перед камерой уже…
– Для этого у нас операторы. Они направят ее на вас. Для этого у нас режиссер. Он вам скажет, где встать. Это как плавание или езда на велосипеде. Кто однажды это умел, уже не разучится.
Круз снова меня перебил:
– Прекрати, Фред. Мисс Лоун… Я помню вас со своих ранних дней. С вами всегда было легко работать. Вы никогда не капризничали, вы делали дело. И всегда помнили свой текст.
Она улыбнулась. Едва заметно. Но она помнила.
И рассмеялась.
– Славные воспоминания, не более того.
Тогда и мы с Крузом заулыбались. Она была на нашей стороне.
С этого момента все, что она говорила, было нам на руку. Она была нашей.
– А ведь знаете, мисс Лоун, я был в вас по уши влюблен, – сказал Круз, очень значимый человек в Голливуде.
Она благодарно улыбнулась ему, как девочка-подросток.
– Я подумаю, – сказала она и потянулась за противнем.
Круз ее опередил:
– Я не дам вам времени на раздумья. Завтра в полдень за вами придет машина.
С этими словами он протянул ей противень.
Она неохотно взяла его.
Мы выкопали Валери Лоун из-под бесчисленных слоев ее жалости к себе, анонимности, из могилы, которую она выбрала для себя по причинам, которые я смутно начал понимать. Когда мы вернулись на свои места в кафе, у меня впервые мелькнула Мысль. Вот эта Мысль: «А что, если все наши планы ей совсем не на пользу? И голос мультяшного утенка Дональда крякнул у меня в голове: “С такими друзьями, как ты, Хэнди, никакие враги не понадобятся”».
Пошел ты нахрен, Дональд.
2
Экран залился мерцающим светом, и Валери Лоун, на двадцать лет моложе, с подплечниками по моде 1940-х, впорхнула в комнату. Кэри Грант оторвался от микроскопа и со своим фирменным аристократическим раздражением спросил ее, где она была. Валери Лоун – с тщательно уложенными светлыми волосами – сняла перчатки и села на край лабораторной стойки. Скрестила ноги. Лодыжки были обхвачены завязками туфель.
– А ножки у нее и сейчас чертовски хороши, Артур, – сказал Фред Хэнди. Дым сигар уплывал к потолку просмотровой комнаты. Артур Круз не ответил. Он был целиком поглощен созерцанием прошлого.
Блондинка, полные бедра, маленькие груди, очаровашка, но не худенькая как Джин Артур, не холодная как Джоан Кроуфорд, не светская леди как Грир Гарсон. Если с кем и можно было сравнивать Валери Лоун во времена ее славы, так это с Энн Шеридан. Но и это сравнение было бы не вполне корректным. Явная энергетика женственности в манерах, умная девочка, которая знает что почем. Динамика. Но в случае Валери была какая-то доступность: в том, как она изгибала бровь, как демонстрировала руки и шею. Чувственность в сочетании с реальностью. Что же сломало ее самоконтроль, превратив его в хрупкую настороженность, которую Хэнди явно ощутил в придорожном кафе? Он смотрел фильм, но ничего подобного не было в Валери Лоун двадцать лет назад.
Когда ее глубокий бархатный голос умолк, Артур Круз потянулся к пульту рядом со своим креслом и нажал несколько кнопок. В проекционной кабинке погас свет, зажглись люстры в зале и спинки сидений выпрямились. Продюсер встал и вышел из просмотрового зала. Хэнди шел за ним следом, ожидая каких-то комментариев. Они в течение вот уже восьми часов смотрели старые ленты с самыми знаменитыми хитами Валери Лоун.
Дом Артура Круза был построен вокруг просмотрового зала.
Как и сама жизнь его была построена вокруг киноиндустрии. Через дверь – выход в гостиную с роскошным навощенным полом, с огромными дубовыми балками высоко под потолком. Мужчины не разговаривали друг с другом. Гостиная тоже была огромной, размером едва ли меньше баскетбольной площадки. В одном ее углу – напротив камина – стояло глубокое кресло, в которое опустился Круз. Гостиная была пустой и погруженной в молчание. Можно даже было слышать, как на пол опускается пыль. В прошлом – и не единожды – это был веселый живой дом, и когда-нибудь он снова станет таким. Но сейчас под высоким потолком их голоса отдавались эхом, как в горном ущелье. Артур Круз обращался к своему пиар-менеджеру.
– Фред, я хочу раскрутки по полной программе. Хочу, чтобы ее видели все и всюду. Хочу, чтобы ее имя звучало так же, как и в прежние времена.
Хэнди поджал губы, хотя и кивал, соглашаясь с продюсером:
– Это потребует немалых денег, Артур. Мы уже почти исчерпали наш рекламный бюджет.
Круз закурил сигару.
– Это будут внебюджетные деньги. Проводи их по отдельной графе. Я покрою все расходы из собственного кармана. Оформлять нужно по пунктам, для налоговой, но в расходах не стесняйся.
– Ты представляешь, в какую сумму это влетит?
– Не важно. Сколько бы ни было, в каких бы деньгах ты не нуждался, приди ко мне, назови сумму, и получишь ее. Но мне нужна классная работа за эти деньги, Фред.
Хэнди долгое время смотрел на Круза и, наконец, произнес:
– Возвращение Валери Лоун мы отыграем по полной, Артур.
– Не сомневаюсь. Но хочу тебе сразу сказать, что этот выигрыш никак не будет соразмерен тому, что ты потратишь. Не как приманка.
Круз сделал глубокую затяжку, и голубой дымок заструился в темноту над их головами.
– Меня не заботит, какой выигрыш принесет нам этот фильм. Это солидный товар, и он сам на себя заработает. Дело тут в другом.
Хэнди с трудом скрывал удивление:
– И в чем же?
Круз молчал. Наконец он спросил:
– Ее поселили в Беверли Хиллз?
Хэнди уже вставал с кресла.
– Лучшее бунгало в округе. Ты бы видел, как ее встречали.
– Вот такой прием для нее и должен быть всюду, Фред. Сплошные поклоны и книксены при встрече старой королевы.
Хэнди кивнул и направился к прихожей. В гостиной царил полумрак, огни камина играли на стенах. Хэнди вынужден был говорить громко, чтобы голос его достиг слуха Круза. Огни плясали, извивались. Фред Хэнди спросил:
– Но почему дополнительная денежная подкачка, Артур? Я всегда нервничаю, когда мне велят тратить деньги, не считая.
Над креслом, в которое погрузился Артур Круз, вился дымок сигары.
– Доброй ночи, Фред.
Хэнди постоял с полминуты и, смутившись, направился в прихожую. В гостиной царила тишина, и лишь редкое потрескивание горящих поленьев эту тишину нарушало.
Артур Круз потянулся к столику и снял трубку телефона. Набрал номер.
– Бунгало мисс Валери Лоун, будьте добры… Да, я знаю, который час на дворе. Это Артур Круз… Спасибо. – Долгая пауза, потом какие-то звуки по другую сторону линии.
– Алло, мисс Лоун? Это Артур Круз. Да, спасибо. Простите, что потревожил вас… Что, в самом деле? Мне почему-то казалось, вы еще не спите. Я тут подумал, что вы, возможно, нервничаете. Первая ночь на новом месте, и все такое.
Он слушал голос на другом конце линии. И не улыбался. Потом сказал:
– Я просто хотел позвонить и сказать вам, что все будет в порядке. Бояться нам нечего. Абсолютно нечего.
В глазах его вспыхнул странный свет, и свет этот пробежал по проводам, словно пытаясь высветить собеседницу Круза. В элегантном бунгало. Сидящую в темноте. Лунный свет покрывал полкомнаты патиной легкого золота, окрашивая даже углубления в подушках светло-желтой охрой.
Валери Лоун. В полном одиночестве.
В лунном тумане Беверли Хиллз – великолепная подсветка с неба с янтарным лучом главного прожектора, наращивающего яркость четырех рассеивающих светопушек и четырех вспомогательных, работающих со светом на фоне великолепной звездной панорамы с дюжиной панорамирующих прожекторов, идеально подсвечивающих ее парой вспомогательных фонарей, диффузными экранами, представляющих ее в пеньюаре цвета пыли с крыльев мотылька.
Валери Лоун, вне поля зрения камеры, но в объективе Господа Бога и в заряженных электричеством глазах Артура Круза, и все еще САМЫМ КРУПНЫМ ПЛАНОМ.
Она поблагодарила его, явно пораженная его добротой.
– Вам что-нибудь нужно? – спросил он.
Ему пришлось попросить ее повторить ответ, она говорила шепотом. Но ответ был: «Ничего», и он пожелал ей доброй ночи и собирался повесить трубку, когда она позвала его.
Для Круза ее голос прозвучал из гораздо более далекого далека, нежели отель в Беверли Хиллз. Казалось, что голос ее долетает из Страны Мучнистой Росы, из страны, где лоснящиеся существа движутся в темноте. Из того места, где единственной безопасной позой была бы поза пассажира самолета при аварийной посадке: руки, обхватившие колени, подбородок прижат к груди, пальцы сплетены так, что, если глаза, затянутые пленкой новорожденного птенца, вдруг откроются, сквозь эту пленку видны будут расслабившиеся пальцы. Это был голос из страны, где невозможно спрятаться.
Он отозвался через несколько секунд, потрясенный испугом в ее голосе.
– Да, я здесь. – Теперь он уже не мог ее видеть, даже своими заряженными электричеством глазами. Потому что Валери Лоун сидела на краешке кровати в своем бунгало, она уже не купалась в туманном свете, сейчас все лампы и люстры в бунгало высвечивали ее резким ярким светом. Она не могла выключить его. Валери просто окаменела от страха. Непонятного страха, без причин, без какой бы то ни было определенности. Он просто жил в ней: физически ощутимое присутствие.
И в комнате вместе с ней было что-то еще.
– Они… – Ее голос прервался. Она знала, что на другом конце линии Круз напрягся, ожидая продолжения.
– Вам послали шампанское. – Говоря это, Круз улыбнулся. Она наверняка будет тронута.
Валери Лоун не улыбнулась. Она просто не могла улыбаться. И тронута она не была. Бутылка на стеклянном столике казалась огромной.
– Спасибо. Это было. Очень. Мило. С вашей стороны.
Медленно, в том же темпе, в котором она сообщила ему о получении шампанского, Круз спросил:
– У вас все в порядке?
– Я боюсь.
– Вам нечего бояться. Мы все в вашей команде, вы же знаете это…
– Я боюсь шампанского… Я так давно…
Круз не понял и сказал ей об этом.
– Я боюсь его пить.
Теперь он понял. И не знал, что сказать. Первый раз за много лет он испытывал жалость. О, эмоции были ему хорошо знакомы: симпатия, и ненависть, и зависть, и восхищение, и даже обнаженная похоть. Но жалость была чем-то, от чего он давно отвык. Последний раз он испытывал это чувство к бывшей жене и к сыну восемь лет назад, и теперь он не знал, что сказать.
– Я боюсь. Ну разве не глупо? Я боюсь, что мне снова это понравится. Я уже забыла, какое оно на вкус. Но если я откупорю бутылку, сделаю глоток и вспомню… Я боюсь…
– Хотите, чтобы я к вам подъехал?
Она заколебалась, собираясь с мыслями.
– Нет. Нет, я в порядке. Просто глупо себя чувствую. Поговорим завтра.
И торопливо добавила:
– Вы ведь позвоните мне завтра?
– Да, конечно. Конечно, позвоню. Утром, сразу же. И потом вы приедете на студию. Вас ждет множество людей, с которыми вам предстоит снова познакомиться.
Молчание, и потом тихо:
– Да. Я говорю глупости. Здесь очень одиноко.
– Ну, тогда я позвоню вам утром.
– Одиноко… хм… О, да. Спасибо. Доброй ночи, мистер Круз.
– Артур. – Сейчас это было главным. – Артур.
– Артур. Спасибо. Доброй ночи.
– Доброй ночи, мисс Лоун.
Он повесил трубку, все еще слыша тот самый голос, который он слышал в кинозалах, пропахших попкорном (это было еще тогда, когда в него не добавляли масло) и со вкусом ментоловых капель от кашля на языке. Тот же самый глубокий и бархатный голос, в котором еще несколько секунд назад звучал страх.
Вокруг него сгустилась темнота.
А Валери Лоун залил яркий свет. Свет, который она оставит включенным на всю ночь, потому что за ним была темнота, и ей было так одиноко. Она посмотрела на бутылку шампанского в серебряном ведерке со льдом, где в подтаявшей воде плавали кубики льда.
Потом встала и взяла стакан для воды, стоявший на столике, не обращая внимания на бокалы для шампанского, стоявшие рядом с бутылкой. Прошла через всю комнату и вошла в ванную, не включая свет. Наполнила стакан водой из-под крана и встала в дверях ванной. Она пила воду, не отрывая взгляда от бутылки шампанского, от этой бутылки шампанского.
Медленно, очень медленно она подошла к ней, вытащила пластиковую пробку и налила себе полстакана.
И принялась пить – мелкими глотками и очень неспешно.
Что-то шевельнулось в памяти.
И темная фигура удрала по холмам в Страну Мучнистой Росы.
3
Хэнди вел машину по извилистой дороге в Голливуд Хиллз.
Звонка, который прозвучал за час до того, он никак не ожидал. Он ничего не слышал о Хаке Баркине больше двух лет. Хаскелл Баркин, высоченный. Хаскелл Баркин, загорелый. Хаскелл Баркин, смазливый. Аморальный Хаскелл Баркин. Когда Фред встречался с ним последний раз, Хак был занят тем, что обрабатывал богатых вдовушек с детьми. У него была своя специальность по части разводилова: он подбирался к детишкам – Хак уже давно был серфером-профессионалом – даже тогда, когда уже соблазнял их мамочку, и до того, как семейный адвокат обнаруживал, что происходит, крючки уже входили в плоть, а дружелюбный стройный симпатяга Хак уже жил в доме вдовушки, гонял на «империале», заказывал в магазине дорогой бурбон, лопал за пятерых и стриг доллары, как русские в Помоне.
Одна такая жертва попыталась отравиться барбитуратами, когда Хак сказал ей: «До скорого». Другая собрала целую бригаду юристов, чтобы заставить его возместить убытки, однако ее проинформировали, что Хак Баркин относится к редкому виду людей, которым невозможно предъявить такие требования в виду отсутствия у них имущества.
А еще одна отправилась в Нью-Мексико, где было тепло, и где никто из знакомых не видел, как она спивается.
Еще одна купила малокалиберный пистолет, но так и не нажала на курок.
И наконец, была одна, которая уже имела пистолет и нажала на курок. Но выстрелила она не в Хака Баркина.
Пугающий в своей отмороженности тип. Ни намека на этику. Животное.
Он был одной из тех неприятных голливудских рептилий, с которыми пересекался Хэнди за свои девять лет в Голливуде. Однако надо признать: в нем присутствовал некий слащавый шарм, и он срабатывал, если жертва была не слишком наблюдательна. Хэнди рассмеялся, вспомнив тот единственный раз, когда он видел, как Баркина сбили. И нокаутировала его женщина. (Как же редко женщине удается свалить мужчину, и настолько жестко, что у него нет уже мыслей о возвращении, попыток сделать хорошую мину при плохой игре. Свалить его с полной уверенностью в том, что цель была тотально уничтожена, и мужчине остается лишь ретироваться. Да, он вспомнил.) Это было на вечеринке, устроенной каналом CBS, которую телевизионщики закатили в честь звезды своего нового сериала в жанре вестерн. Солидная, богатая вечеринка. В отеле Century City. Все охотники были там, все прилизанные типчики, которые целый день ничего не ели, чтобы взять свое в буфете и у барбекю. Каким-то образом Баркин тоже оказался среди приглашенных. Или просто ввалился сам без приглашения. Никто не подверг сомнению его право находиться там; черный мохеровый костюм уже был пропуском на событие, где право входа определялось формой одежды на текущий момент.
Он влился в группу, состоявшую из Хэнди, его подруги Джули, агента Спенсера Лихтмана и двух очень дорогих девочек из эскорта – с бледно-серебристыми волосами и безукоризненными личиками, девочки по цене в сто пятьдесят за ночь, из таких, с кем можно после и побеседовать, даже что-то от них узнать, вероятно, с магистерскими дипломами по фотохимии или пьезоэлектричеству, ни малейшей дешевой детали, мастерицы своего дела – и Баркин включил свой шарм на всю мощь. Девочки сразу поняли, что он был классической пиявкой и никак не билетом в светлое будущее. Они были с ним вежливы, но холодны.
Баркин прошел от вкрадчивости до значимости в три гигантских шага, даже не спросив: «Можно?» Наконец, отчаявшись, он прислонился к самой высокой из двух серебристых богинь и пробормотал (но достаточно громко, чтобы услышали все) тоном Ричарда Уидмарка: «Ты не против, чтобы я залез тебе в трусики?» Мгновение тишины, и потом серебристая богиня повернулась к нему, просверлила его взглядом антрацитовых глаз, после чего спокойно и холодно отрезала: «У меня там уже есть жопа, зачем мне еще одна?» Хэнди снова самодовольно рассмеялся, вспоминая, с каким жалким видом Баркин рассыпался на части, превратился в лужу клубничного джема, скользнул вниз по стене и испарился. Больше его в тот вечер никто не видел.
Но у этой блондинистой пляжной акулы был плутоватый юмор, который большинство людей принимали за чистую монету; и только когда Хак бывал приперт к стене, а фасад приветливости слетал с него, обнажался фундамент тотальной аморальности. Этот тип был настроен на то, чтобы скользить по жизни, прилагая минимум усилий.
Хэнди, едва познакомившись с ним, сразу понял, кто он таков, но в течение нескольких месяцев Хак был забавным элементом новой жизни Хэнди в киноколонии. Они не общались уже три года. И вот этим утром Баркин позвонил. Сослался на Артура Круза. Баркин просил Хэнди приехать к нему и назвал адрес на Голливуд Хиллз.
Теперь, когда его «импала» взяла очередной поворот, и стала видна вершина подъема, Хэнди увидел дом. Поскольку это был единственный дом на плоском холме, он предположил, что это и есть тот адрес, который ему назвал Баркин. Хэнди испытал невольное восхищение. Это было огромное здание из серого камня, полностью окруженное панелями темного стекла.
Баркин никогда не мог бы себе позволить такой оруэлловский дворец.
Хэнди проехал по змеящейся подъездной дорожке и остановился у центральных дверей – у плиты черного дерева с ручкой размером с фару «импалы».
Газоны были невероятно ухоженными, простираясь по склону до следующей низины. Цвели деревца бонсаи, подрезанные с дзен-буддистской тщательностью, повсюду бугенвиллея и цветочные клумбы, все увито плющом.
Потом Хэнди осознал, что дом вращается – чтобы ловить солнце через стеклянную крышу. Входная дверь как раз проезжала мимо него, двигаясь к западу. Он прошел к двери, пытаясь найти кнопку звонка. Ее не было.
Изнутри дома стакатто прозвучал стук дерева о дерево. Снова и снова, в нерегулярном темпе. И чье-то тяжелое пыхтение.
Он тронул ручку, ожидая, что сдвинуть тяжелую дверь будет нелегко, однако она плавно повернулась на средней оси, и он шагнул в холл, выложенный ониксовой плиткой.
Следовать звукам – стуку дерева о дерево и пыхтению – было нетрудно. Он сделал несколько шагов, идя за звуками, вышел из другого конца прохода и оказался в гостиной, утопавшей в солнечном свете. В центре комнаты Хак Баркин и крошечный японец – в церемониальных одеждах – фехтовали обрезанными деревянными мечами кендо.
Хэнди смотрел в молчании. Крошечный японец двигался словно молния.
Баркин ему в подметки не годился, хотя и умудрялся от раза к разу нацеливаться на удар. Но азиат вертелся и скользил, едва касаясь глубокого белого ковра. Его руки двигались, как пропеллеры, вращая деревянный меч, готовые отразить удар более высокого мужчины. Одно движение – и он прижал острие меча к ребрам Баркина. Вошел – вышел. Скользнув как тень.
Когда Баркин, стараясь избежать бокового удара японца, развернулся в каком-то антраша, он увидел Хэнди, стоявшего у входа в гостиную. Баркин отступил от противника.
– На сегодня хватит, Маса, – сказал он.
Они поклонились друг другу, азиат взял оба меча и вышел через боковую дверь.
Баркин плавно пересек ковер, вся загорелая плоть под ним ходила волнами от игры накачанных мышц. Хэнди поймал себя на том, что снова восхищается формой, в которой пребывал Баркин. «Но если ты ничем не занят, кроме ухода за своим телом, почему бы и нет?» – уныло подумал он. Идея честного труда никогда, даже временно, не поселялась в мыслях Хака. И все же один сеанс бодибилдинга, вероятно, равнялся всем усилиям, которые обычный рабочий приложил бы за целый день.
Хэнди подумал, что Хак протянет ему руку в знак приветствия, но на полпути через комнату тунеядец-серфер потянулся к креслу Сааринена и схватил огромное пушистое полотенце.
Он вытер им лицо и грудь и направился к Хэнди.
– Фред, лапушка.
– Как дела, Хак?
– Прекрасно, старина. Живу как король. Как тебе домишко?
– Класс. И чей же это дворец?
– Одной бабешки, с которой я встречаюсь. Ее старик – одна из больших шишек в какой-то чертовой банановой республике. Я не напрягаюсь. Она вернется где-то через месяц. А до тех пор заправляю усадьбой. Выпьешь?
– В одиннадцать часов?
– Кокосовое молоко, старина. В нем все аминокислоты, которые нужны организму. Это очень важно.
– Я пас.
Баркин пожал плечами и прошел мимо него к зеркальной стене, играющей отражениями падающего сверху солнечного света. Он, казалось, провел рукой по зеркалу, и стена распахнулась, открыв полностью укомплектованный бар. Он достал банку кокосового молока из небольшого морозильника, открыл ее и стал пить прямо из банки.
– Это не перебор? – спросил Хэнди.
– Кокосовое мо… А, ты имеешь в виду спарринг кендо? Лучшая вещь в мире для поддержки формы. Реальная жесть. Получишь раз пять-шесть мечом по животу, и пресс превращается в задубелую кожу.
Он расслабился.
– Ну да, задубелая кожа на прессе. Всегда об этом мечтал.
Хэнди прошел через комнату и через темное стекло уставился на невероятный пейзаж южной Калифорнии, слегка подпорченный облаком смога над Голливудским шоссе. Не поворачиваясь к Баркину, он сказал:
– Я пытался позвонить Крузу после нашего разговора. Его не было на месте. Но я все-таки приехал. Почему ты сослался на него?
Баркин развернулся.
– Он просил меня об этом.
– Где ты познакомился с Артуром Крузом? – Вопрос прозвучал резко и даже гневно. Чертов тунеядец. Какая-то хрень. Он, скорее всего, как-то ввернул имя Хэнди.
– На той гулянке у бассейна, куда ты сам меня привел, примерно – когда же оно было? – три года назад. Ты же помнишь, и та маленькая штучка с каштановыми волосами, как ее звали, Бинни, Банни…
– Билли. Билли Ландевик. О, да, и я забыл, Круз действительно там был.
Хак улыбнулся самоуверенной улыбкой. Он допил кокосовое молоко и швырнул баночку в корзину для мусора. Потом обошел бар и плюхнулся на диван.
– Ну, в общем. Круз меня запомнил. Разыскал меня через центральную службу кастинга. Я всегда исправно плачу членские взносы в актерскую гильдию. Никогда не знаешь, где тебе обломится пара баксов за эпизод. Ну, ты знаешь.
Хэнди молчал, ожидая продолжения. Пока Хак сказал лишь, что Круз хотел, чтобы он встретился с этим пляжным бездельником, и потому Хэнди сюда приехал. Но тут было что-то, о чем Баркин пока не спешил говорить.
– Слушай, Хак, я старею и не могу долго стоять на ногах. Если у тебя есть что сказать, давай, выкладывай, старина-чувачок.
Баркин молча покивал, словно набираясь решимости перейти к делу.
– Ну в общем… Круз хочет, чтобы я познакомился с Валери Лоун.
Хэнди уставился на него.
– Он вспомнил обо мне.
Хэнди пытался что-то сказать, но сказать ему было нечего. Это было абсолютным бредом. Он повернулся, собираясь уйти.
– Тормози, Фред. Кончай. Я же с тобой говорю.
– Ты не говоришь ни черта, Баркин. Ты, похоже, пьян с утра. Валери Лоун, ну конечно. Ага. Ага. Кого ты пытаешься развести? Неужто меня, твоего старого приятеля Хэнди? Уж я-то тебя, паразита, хорошо знаю.
Баркин встал, обнажив шесть с лишним футов дельтовидных и прочих мышц, напряженных так, что они едва не гудели, и преградил Хэнди дорогу.
– Фред, ты совершаешь одну и ту же ошибку, раз за разом. Ты думаешь, что я просто качок без малейшего намека на мозги. Ты не прав. Я толковый паренек, и не просто смазливый, но умный. И сейчас, если мне придется врезать тебе раз-другой по этому пудингу, который ты называешь животом, я так и сделаю.
Хэнди замер на месте. Баркин явно не шутил.
Хэнди рассвирипел.
– Что это, Баркин? Куда ты пытаешься влезть? Нет, не отвечай. Я хочу лишь знать – зачем?
Баркин развел руки с ладонями размером с бейсбольную рукавицу. Пальцы его были длинными и изящными. И загорелыми.
– Она милая женщина, которой не помешала бы компания симпатичных молодых людей. И мистер Круз, сэр, решил, что я смогу скрасить годы ее заката.
– Она напуганное существо, которое не знает, где оно и что делает. И натравить тебя на нее – это подарить ей такую же радость, как туберкулез.
Баркин хищно улыбнулся. Это была неприятная улыбка. И он вмиг перестал быть симпатичным парнем.
– Позвони Артуру Крузу. Он подтвердит.
– Я не могу до него дозвониться. Он в монтажной.
– Ну так поезжай, поговори с ним. Я-то никуда не денусь.
Баркин отошел в сторону. Хэнди выжидал, словно Баркин мог неожиданно напасть на него, но Хак стоял, улыбаясь, как маленький мальчик. Ну, разве я не милаха?
– Я так и сделаю. – Хэнди прошел мимо него и направился к выходу. Идя по коридору, он услышал голос Баркина. Он повернулся лицом к гигантской фигуре, купавшейся в лучах солнечного света.
– Знаешь, старичок Фредди, тебе нужно бы над собой поработать. Ты в кисель превращаешься.
Хэнди побежал. Рванув «импалу» с места, он поднял облако пыли. Из города накатывала вонь перегоревшего машинного масла. Или то был запах страха?
4
Когда он ворвался в офис Артура Круза, приемная была полна красоток. Красота и молодость. Дюжина девиц, ножки скрещены, чтобы продемонстрировать полные бедра. Когда он захлопнул дверь, девочки захлопали глазами.
Ворвавшись в дверь, он остановился на пороге, обозревая панораму роскошных двадцатилетних звездулек. Секретарша Роуз, язвительная особа лет пятидесяти, фыркнула, наблюдая появление Фреда. Он был мужчиной, периодически подогреваемым половым влечением, но Роуз он никогда не приглашал поужинать. Она ему этого не прощала.
– Привет, Фред, – сказала одна из девушек. Он напрягся, пытаясь ее вспомнить. Они все были как близнецы: длинные светлые волосы, все в стиле Твигги, начес сзади, в общем, все они, даже в разной одежде были абсолютно одинаковы.
Рэнди! Ей нравилось трогать его гениталии. Это единственное, что ему удалось вспомнить. В постели она была так себе. Но он был рекламистом, и ему полагалось помнить имена. И, вспомнив, как она гладила его пенис, так, словно это было что-то новое и великолепное, вроде Кодекса инков или рукописей Мертвого моря, в его памяти всплыло имя: «Рэнди», почти со звяком кассового аппарата.
– Рэнди, привет. Как дела? – Он не стал дожидаться ответа, а резко повернулся к Роуз.
– Мне нужно с ним поговорить.
Ее рот превратился в жвалы самки богомола.
– У него люди.
– Мне нужно с ним поговорить.
– А я сказала, мистер Хэнди, что у него люди. Мы все еще интервьюируем девушек, так что…
– Черт подери, леди, я сказал: дуйте туда и скажите ему, что Хэнди войдет через эту дверь, будет она открыта или нет, через десять секунд.
Она выпрямилась, плоскогрудая, вся состоящая из прямых линий, воплощенная мондриановская стерильность, и, надувшись, смотрела на него. Хэнди сказал:
– Ну вас всех нахрен, – и проследовал в офис Круза.
Он сказал это негромко, зато в офис влетел с немалым шумом.
Еще одна красотка показывала Артуру Крузу свои фото 8×10 дюймов, ламинированные и вставленные в огромный черный кожаный альбом. Звездульки. Артур говорил что-то о том, что ему нужны брюнетки, когда Хэнди ворвался в офис.
Круз, удивленный, поднял голову.
Звездулька улыбалась на автопилоте.
– Артур, мне нужно с тобой поговорить.
Круза, похоже, озадачил тон рекламиста. Но он кивнул:
– Через минутку, Фред. Присядь пока. Мы с Джорджией еще не закончили.
Хэнди осознал свою ошибку. Он перешел красную черту в общении с Артуром Крузом. Все в киноиндустрии знали о незыблемом правиле, установленном Крузом для рабочего офиса: с любой девушкой, пришедшей на интервью, обращались подчеркнуто вежливо и честно, без малейшего намека на раскрутку. О Крузе было известно, что он не раз вышвыривал из проектов мужчин, которые, пользуясь своим положением, затаскивали в постель готовых на все актрис за обещание снять их в «кушать подано» или и вовсе крохотном эпизодике без слов. И то, что Хэнди прервал беседу Круза пусть даже с самой дешевой актрисулькой, было оскорблением, которое Круз не оставит без ответа. Хэнди сел, едва сдерживая себя.
Джорджия показывала Крузу свои фото из фильма с Элвисом Пресли, в котором она снялась годом ранее. Круз отметил, что она хорошо выглядит в бикини. Замечание было вполне деловым, сделано профессиональным тоном, ни грамма похотливости. Девушка отвечала с достоинством, деловито. Хэнди знал, что в других обстоятельствах, в других офисах, там, где процедура была иной, и если бы Круз был человеком иного сорта и сказал бы ей: «Почему бы тебе не снять одежду, чтобы я мог оценить, как ты будешь выглядеть в эротических лентах, которые мы снимаем для заграницы», то эта девушка, эта Джорджия мгновенно сняла бы платье через голову и предстала бы в трусиках бикини и, возможно, без лифчика, демонстрируя восхитительное молодое мясцо.
Но в этом офисе она вела себя с достоинством. Ее изначально попросили вести себя профессионально, не теряя гордости. Потому-то в Голливуде почти не было грязных сплетен об Артуре Крузе.
– Пока не могу сказать наверняка, Джорджия, но я свяжусь с Кенни Хеллером из кастинга, чтобы посмотреть, какие роли еще не заняты. Я знаю, что есть вакансия на эпизод с Митчемом с небольшим текстом, и мы пока не нашли девушку на эту роль. Может быть, прибережем ее для вас. Никаких обещаний, вы понимаете, но я свяжусь с Кенни и к концу дня созвонюсь с вами.
– Благодарю вас, мистер Круз. Я очень вам признательна.
Круз улыбнулся и достал фото 8×10 из кожаного альбома Джорджии.
– Я оставлю это для наших файлов, и как напоминание о том, что нужно связаться с Кенни?
Девушка кивнула и улыбнулась в ответ.
В их разговоре не было никакого подтекста, и Хэнди глубже погрузился в диван.
– Передайте фото Роуз, в приемной, а заодно оставьте ваш номер… Связь держим через вашего агента или напрямую, как вы предпочитаете?
В любом другом офисе такой вопрос значил бы, что продюсер выуживает домашний номер для собственных, не слишком профессиональных целей. В любом другом – но не здесь. Джорджия ответила без колебаний:
– О, как будет удобнее для вас. Херб очень активно устраивает мне интервью. Но если это возможно, я хотела бы оставить номер своего домашнего телефона. Я пользуюсь службой ответов, которая принимает звонки, если меня нет дома.
– Оставьте номер у Роуз, Джорджия. И спасибо, что заглянули.
Он встал и пожал девушке руку. Она была в восторге. Даже если роль ей не достанется, она знала, что ее кандидатуру рассматривают всерьез, а не просто прикидывают, на какой диван ее опрокинуть. Когда она уже направлялась к двери, Круз добавил:
– Я попрошу Роуз позвонить вам при любом исходе дела. Как только мы окончательно определимся.
Она обернулась, продемонстрировав величественную осанку и свои длинные стройные ноги.
– Спасибо.
– Пока.
Девушка вышла из комнаты, и Круз сел на место. Он перекладывал бумаги с одного конца стола на другой, заставляя Хэнди ждать и молчать. Наконец, когда Хэнди решил, что наказан уже достаточно, он заговорил:
– Артур, ты сошел с ума?
Круз поднял голову. Его оборвали как раз тогда, когда он собирался объяснить Хэнди грубость его появления в кабинете продюсера в ходе интервью. Теперь Круз выжидал, но Хэнди не добавил ни слова. Круз нажал кнопку на телефоне, поднял трубку и сказал:
– Роуз, попроси девушек подождать минут десять. Нам с Фредом нужно кое-что обговорить. – Выслушав ответ секретарши, он повесил трубку и повернулся к Хэнди.
– Окей. Что?
– Господи боже, Артур. Хаскелл Баркин, ради всех святых! Ты издеваешься?
– Ночью я говорил по телефону с Валери Лоун. Она показалась мне очень одинокой. И я подумал, что было бы полезно приставить к ней симпатичного парня, компаньона, спутника, человека, который был бы с ней ласков и внимателен. Я помню этого Баркина по…
Хэнди вскочил на ноги, его шатнуло. Он оттолкнулся от стены.
– Я знаю, где ты раньше видел этого Баркина, Артур. На вечеринке у бассейна Билли Ландевик, три года назад, там ты с ним и познакомился. Я знаю. Он сам мне об этом сказал.
– Ты уже виделся с Баркином?
– Он вытащил меня из постели задолго до того, как я хотел бы встать.
– Нормальные часы работы тебе не повредили бы, Фред. Я был в офисе уже в семь трид…
– Артур, кончай увиливать. Да простит меня Господь за то, что я так говорю с моим продюсером, но мне насрать, в котором часу ты прикатил в свой офис. Баркин, Артур! Ты точно сошел с ума.
– Мне он показался симпатичным типом. Всегда улыбается.
Хэнди наклонился над столом, обращаясь прямо к мозгу Круза.
– Крокодил тоже улыбается, Артур. Хаскелл Баркин мразь. Он скользкий ползучий монстр, который нарезает людей ломтями и жрет. Он Джек-Потрошитель. Он пылесос. Акула. Он ненавидит так же, как мы мочимся в унитаз, это его основная функция как живого организма. Когда он идет, за ним тянется след слизи. Дети в истерике разбегаются от него, Артур. Он убийца с пляжным загаром. Женщины, грызущие ногти, которые смеха ради размазывают мужчин по стене, даже такие женщины его боятся, Артур. Если бы ты был женщиной, а он поцеловал бы тебя взасос, Артур, тебе пришлось бы делать уколы от бешенства. Он поджаривает свои тосты на человеческих костях. Он объявляет войну каждой женщине, у которой есть промежность. Он ходячая смерть, Артур. И ты хочешь натравить это существо на Валери Лоун, да хранит ее Господь! Он медный купорос, он то, что течет в канализации, он воплощенная мерзость, Артур! Он…
Артур Круз заговорил мягко, явно пораженный тирадой Хэнди:
– Ты высказался, Фред. И я признаю свою ошибку.
Хэнди тяжело опустился в кресло у стола, продолжая бормотать:
– Боже, Хак Баркин. О Боже…
Вконец обессилев, он умолк и поднял голову. Круз, похоже, пришел в себя окончательно.
– Ну и кого ты предложил бы?
Хэнди развел руками:
– Не знаю. Но не Баркина и не кого-то из таких же типчиков. Не хищных самцов. Это все равно, что отвести овечку на бойню.
– Но ей же нужен хоть кто-нибудь.
– В чем здесь твой интерес, Артур?
– Что за вопрос?
– Брось, Артур. Я же вижу. Что-то тебя заводит, когда дело касается Валери.
Круз развернулся на стуле и долго смотрел в окно.
– Ты всего лишь мой наемный работник, Фред.
Хэнди поразмыслил над его словами и решил: к черту все!
– Если бы я работал на Адольфа Эйхмана, Артур, я все равно спросил бы, куда везут всех этих евреев.
Круз резко повернулся к Хэнди.
– Я все же думаю, что ты всего лишь мой пиарщик. Я ошибаюсь или нет?
Хэнди пожал плечами:
– Я и сам иногда так думаю.
Круз кивнул в знак согласия:
– Тебя устроит, если я скажу, что однажды она оказала мне услугу? Не великую, просто небольшую услугу, о которой, скорее всего, давно забыла, и даже если помнит, то никак не связывает ее с большой голливудской шишкой, которая решила устроить ей торжественное возвращение на экран? Тебя устроит, если я скажу, что желаю ей только добра, Фред? Это тебя успокоит?
Хэнди кивнул:
– Сойдет.
– Так что, поддержим ее в убеждении, что она еще не готова выбраться из мусорника забвения?
Хэнди снова развел руками:
– Не знаю. Прошло уже восемнадцать лет с тех пор, как она снималась… Эй, подожди. Как же его звали?
– Кого?
– О черт, да ты его знаешь, – сказал Хэнди, роясь в закоулках памяти.
– Ну этот, который во время войны удрал от призыва и профукал всю свою карьеру… Ну, Артур, ты же знаешь, о ком я, он вечно играл молодых адвокатов, защищавших малолетних бандитов…
Он щелкал пальцами, пытаясь вызвать в памяти помятые журналы и забытые афиши.
– Позвони Шейле Грэм, – предложил Круз. Хэнди обошел вокруг стола, набрал 9 для выхода на внешнюю линию, после чего по памяти набрал номер Шейлы Грэм.
– Шейла? Фред Хэнди. Да, привет. Слушай, с кем встречалась Валери Лоун?
Он вслушался в голос на другом конце линии.
– Нет, нет, я о том, кто постоянно мелькал в газетах, женатый мужчина, но у них с Валери было серьезно, а сейчас он снимается в эпизодиках, в общем, который…
Она ему сказала.
– Точно! Именно он. Окей, Шейла. Что? Нет, не-а, как только мы все проясним, ты будешь первой. Окей, дорогая. Спасибо. И пока.
Он повесил трубку и повернулся к Крузу:
– Эмери Ромито.
Круз кивнул:
– Господи, он еще жив?
– Был в сериале «Бонанза» три недели назад. Эпизод. Играл ветеринара-алкоголика.
Круз поднял бровь.
– Подходил по типу?
Хэнди листал справочник актеров.
– Не думаю. Если бы он пошел по этой дорожке, то уже давно бы скопытился. Другое дело, что он мог всерьез постареть, это еще хуже.
Круз издал короткий резкий смешок.
– Этого достаточно. – Хэнди захлопнул справочник. – Его здесь нет.
– Попробуй справочник характерных актеров, – предложил Круз.
И Хэнди нашел его, под буквой «Р». Эмери Ромито. Лицо из далекого прошлого, мужчина все еще достойной наружности. Но даже на этом плохо воспроизведенном фото совершенно ясно читалось, что этот человек уже потерял все свои шансы на то, чтобы выбраться наверх.
Хэнди показал фото Крузу.
– Ты думаешь, это хорошая идея?
Хэнди уставился на него.
– Во всяком случае, в сто чертовых раз лучше, чем твоя, Артур.
Круз прикусил нижнюю губу:
– Окей. Разыщи его. Но смотри, чтобы он выглядел, как рыцарь на белом коне. Я хочу, чтобы она была очень, очень счастлива.
– Рыцари на белых конях в наши дни шляются с голыми жопами по пригородам и дрочат на женское белье. А тебя устроит «просто счастлива»?
5
Котильоны могли происходить в главной гостиной отеля «Стратфорд Бич». Вероятно, именно там. В те дни, когда Ричард Дикс вел под руку Леатрис Джой, в дни, когда Занук был вынужден опубликовать три своих отвергнутых сценария как «книгу», которую он рассылал по всем студиям в надежде создать задел на будущее, в те дни, когда Вирджиния Раппе устраивала небанальные сексуальные игры с толстым пареньком по имени Арбакл. В те дни отель «Стратфорд Бич», расположившийся на побережье Санта Моники, был чудом для всех.
В архитектурном плане отель был идеей Фрэнка Ллойда Райта, которая заключалась в том, что Солнечный Штат выглядел так, «словно кто-то пнул Соединенные Штаты в их восточное побережье, и все, что посыпалось, перекатилось в Калифорнию». Массивный, огромный, погрузившийся в землю по самые бедра, с украшениями в стиле рококо на каждом изгибе, на всех портиках и башенках, «Стратфорд Бич» прожил полвека, орошаемый брызгами соленой воды, сотрясаемый пьяными оргиями, с бесконечными сменами белья в номерах под руководством тупых менеджеров, с тем, чтобы наконец стать захолустьем наизахолустнейшего пригорода.
В главной гостиной отеля, стоя на верхней ступеньке широкой винтовой лестницы из оникса, сбегавшей в помещение, где пыль на древних коврах поднималась на каждой ступеньке, смешиваясь с разбитыми воспоминаниями прошедших дней, кишащих пылинками желаний и безошибочно узнаваемого запаха мертвых снов, Фред Хэнди понял, что погубило Ф. Скотта Фицджеральда. Эта комната, как и тысячи ей подобных, удерживали в своих ухоженных интерьерах убийственную магию воспоминаний, движение эпох, не отпускавших своих призраков. Им не хватало совести для того, чтобы исчезнуть без следа и дать возникнуть новым временам. Забальзамированное «навсегда», которое так и не стало настоящим, оно пряталось в пыли, покрывавшей пластиковые растения, пропитывало все замшелым запахом покрытой бархатом мебели, сверкало на паркете, где когда-то чарльстон был новинкой сезона.
Ужасающий конец для ищущих убежища в ностальгии.
И Фицджеральд, прикованный к этой сцене, пел на ней торжествующую песнь, которая была мертвой, еще не успев родится.
И так же точно приковывались к ней все те, кто решил жить даже после того, как их время кануло в небытие.
Слова «тусклость» и «плесень» снова и снова всплывали в сознании Хэнди, накладываясь, как субтитры на немую сцену с кричавшей Валери Лоун. Он потряс головой – и вовремя. Эмери Ромито спустился по лестнице со второго этажа и теперь стоял за спиной Хэнди, обводя взглядом огромную гостиную. Как раз в тот момент, когда Хэнди потряс головой, возвращаясь в день сегодняшний.
– Элегантно, не так ли? – сказал Эмери Ромито.
Культурный, тренированный голос, глубокий и теплый, но Хэнди поразило не это. Его поразило настоящее время.
Эмери не сказал: было элегантно. Просто и прямо: элегантно, не так ли?
«О Господи», – подумал Хэнди.
Боясь обернуться, Фред Хэнди почувствовал, как прошлое засасывает его. Эта гостиная, эта чудовищная гостиная была порталом в прошлое. Минувшее, не желавшее исчезать, присутствовало здесь, образовывая мембрану, отделявшую их от здесь-и-сейчас, словно безглазые призраки, которых влекла их теплота и их телесность. И они хотели… Чего? Они горячо жаждали его нынешнего времени, чтобы снова и снова слушать мелодии из «Нагасаки», «Влюбленного бродяги» и «Прошу тебя», чтобы снова отплясывать и поправлять свои банданы. Фред Хэнди, человек сегодняшнего дня, был атакован призраками прошлого. И теперь он боялся обернуться и увидеть одного из этих призраков, стоявшего за его спиной.
– Мистер Хэнди? Ведь вы тот человек, который звонил мне, верно?
Фред повернулся и посмотрел на Эмери Ромито.
– Здравствуйте, – сказал Хэнди сквозь мглу десятилетий.
Хэнди
Джефферсон однажды заявил, что народ имеет такое правительство, которого он заслуживает, и потому я не желаю слышать весь этот скулеж моих земляков-калифорнийцев насчет Рейгана и его губернаторских безумств. Вместо этого я предложил бы выводить правительство искусственным оплодотворением. Именно это я говорил во время наших споров с Джули, ярой республиканкой, в те моменты, когда мы не занимались любовью, потому что, на мой взгляд, они получили именно то, чего добивались. Конечный продукт сотен лет паранойи и тотального безумия. Эта философия – за вычетом фрейдистских ассоциаций – проникла во многие области моих суждений. Женщины, которых топчут ногами говнюки, как правило склонны к патологическому мазохизму; мужчины, которых живьем пожирают хищные дамочки, не более чем флагелланты. И когда видишь кого-то, кто был раздавлен жизнью, можно поспорить, что он к этому сам добровольно приложился.
Этот был раздавлен тотально. Человек, до мозга костей знакомый с силами, которые сокрушают и калечат, человек, оглушенный кувалдой. И я не мог представить никого другого, кто бы так усердно работал на эти силы саморазрушения. Никогда.
Но ни один человек не смог бы сделать с собой такое без помощи фурий. И потому мое отношение к нему было амбивалентным. Я ощущал и жалость, и цинизм как по отношению к Эмери Ромито, так и к его дурацкой элегантности.
Возраст въелся, как сажа, в морщины некогда знаменитого лица. Возраст, который означал просто старение – без тоски или радости. Этот человек проживал свои дни и ночи с единственной мыслью: «Дайте мне забыть все, что было раньше».
– Может, присядем на террасе? – предложил Ромито. – Сегодня прекрасный бриз со стороны океана.
Я улыбнулся в знак согласия, и он театральным жестом указал на террасу. Когда он шагал впереди меня по ониксовым ступеням, приглашая в гостиную, на меня накатила тошнота, дыхание Чейн-Стокса – когда я шагал по вытертому ковру к креслам, которые словно манили меня погрузиться в их комфорт, погрузиться и уже никогда не подняться снова. И даже если бы я поднялся, то с кресла встал бы сморщенный, высохший старичок. (Но старичок с памятью мальчишки, выросшего на кино. Я видел Марго такой, какой увидел ее Капра в 1937 году, ужасно постаревшей, ссохшейся в течение секунд так, словно ее выдернули из Шангри-Ла. И я задрожал. Я был взрослым, и меня колотила дрожь.) Это было похоже на прогулку по морскому дну в уютной тени с приглушенными неопределимыми звуками, блики ложились из рамок окна на крыше, в них играли пылинки, взлетавшие и падавшие в пространство между диваном и креслами.
Ромито бесшумно распахнул двери, так, как он делал тысячи раз в тысячах фильмов. И тут же отступил в сторону, сделав глубокий вдох. В это мгновение я осознал, что он – для своего возраста – был в исключительно хорошей форме: с широкими плечами и узкой талией, подтянутый и элегантный. Но почему же я думал о нем, как о черепахе, об ископаемом, о покрытом сединой и изношенном реликте? Да, его, безусловно, окружала атмосфера фатальности, преодоления всего этого дерьма с высоко поднятым подбородком – классическая поза всех голливудских приживальщиков. Атрофированная поза дешевого мифа под названием «Шоу должно продолжаться» – мифа, который свят для каждого в киноиндустрии, смысл которого в том, чтобы быть занятым в пятидесятиминутном клишированном ситкоме – минимального качества – и поймать на пленку то, что может вызвать интерес плебеев, утонувших в помойке Великого Американского Среднего Запада, и чтобы эти плебеи могли на часок расслабиться и перевести дух от зловония удобрений и осточертевшего впаривания чего угодно, что безусловно продвигает вперед Западную Цивилизацию. Миф, который проник во все поры современной мысли, превращая нас в «культуру шоу-бизнеса» – миф, который породил таких типов, как Эмери Ромито. Как коты в опустевших павильонах студии «Зив», подъедающие остатки киномусора, но не желающие покидать эту кормушку.
(Все как в заезженном анекдоте о работяге в парке аттракционов, чья работа заключалась в том, что он убирал дерьмо за слоном. И который, когда его спросили, почему он не поищет себе работенку почище, ответил: «Что? И оставить шоу-бизнес?») Эмери Ромито был одним из тех, кто цеплялся за нижнюю сторону валуна по имени «шоу-бизнес», который для него высился над всей Америкой как скала Гибралтара.
Он отрекся от своей человеческой сущности, чтобы остаться «с этим». Ромито был мертв и не знал об этом.
Что? И оставить шоу-бизнес? Терраса была вдвое меньше гостиной и вдвое больше, чем фойе китайского ресторана Громана. Ее окружала баллюстрада из серого камня, и на облицовке вечные калифорнийские землетрясения начертали сложные красивые линии. Был яркий день, но это не стирало тени женщин с короткой стрижкой и мужчин с напомаженными прическами. Мы стояли среди них и пялились на океан. Снова наступило время призраков, и тайные связи возникали на террасе между бравыми шейхами (чьи жены вышли за них замуж еще до того, как их мужья стали идолами киноэкрана) и голодными юными звездульками с гладенькими ножками, жаждущими ухватить свою порцию волшебства.
– Сядем, – сказал Эмери Ромито. Сказал мне, а не призракам.
Он указал рукой на группу дешевых пляжных стульев, выцветших от солнца и соленого морского тумана.
Я сел, и он заискивающе улыбнулся.
Потом сел и он, тщательно расправив стрелки на брюках своего костюма в стиле Палм-Бич. Костюм не был поношенным, но устарел лет на пятнадцать.
– Ну так? – сказал он.
Я улыбнулся в ответ. Я понятия не имел, преамбулой к чему было это «ну так», и что я на это должен был ответить. Но он явно ждал, что я что-то скажу.
Пока я продолжал улыбаться как идиот, его улыбка слегка приугасла, и он попробовал подойти к разговору с другой стороны.
– Какую роль Круз имеет в виду?
«О Господи, – подумал я. – Он думает, что это кастинговое интервью».
– Э… кгм… мистер Ромито, я хотел бы поговорить с вами не о роли в фильме.
Сложноватый синтаксис для человека, которого может в любой момент хватить удар.
– Не о роли, – повторил он.
– Нет, здесь скорее нечто личное…
– Значит, речь не о роли. – Он прошептал это едва слышно, и слова эти тут же растворились в шуме океанского прибоя.
– Речь о Валери Лоун, – решился я.
– Валери?
– Да. Мы заключили с ней контракт на «Западню», так что она снова в Голливуде, и…
– Западню?
– Да, фильм, который продюсирует мистер Круз.
– А, понятно.
Ничего ему не было понятно, я был в этом уверен. Но я просто не знал, как я могу сказать этой развалине, что он нам нужен как эскорт, а не как актер. Но он сам избавил меня от мучений.
Он удрал, снова нырнув в прошлое.
– Помнится, однажды, в 1936-м… Нет, в 1937-м, в том году, когда я снимался в «Милом лжеце»…
Я впустил в себя шум прибоя. Убавил Эмери Ромито и прибавил громкости звукам природы. Я знал, что сумею убедить его сделать то, что нам нужно, в конце концов, он был одиноким беспомощным стариком, для которого возвращение в мир гламура было немыслимым шансом. Но для этого нужно было говорить и, что еще хуже, слушать…
– …Мне позвонил Тальберг, он улыбался, что было очень необычно, уж поверьте мне, и он сказал: «Эмери, я договорился с девушкой для твоего следующего фильма», и ясное дело, это была Валери. Правда, тогда ее звали иначе. Он отвез меня в спецкафешку, чтобы с ней познакомиться. И был такой особенный салат, ломтики ветчины, сыр и индейка, слой за слоем, сначала ты съедал ветчину, потом сыр, потом индейку, а, и еще свежайший хрустящий салат, он назывался «салат Уильяма Пауэлла»… Нет, не то. «Уильям Пауэлл» был с крабами… Думаю, это был «салат Нормы Талмидж» или…
И пока я сидел здесь, болтая с Эмери Ромито, то даже не знал, что на другом конце города, в студии, Артур въезжал на паркинг с Валери Лоун на «Бентли» с водителем. Потом, ночью, он рассказал мне все – это было кошмарно. Но зато история эта стала идеальным контрапунктом к монологу, которым потчевал меня сейчас этот призрак рождественского прошлого.
Как прелестно, как интересно, как познавательно было сидеть в роскошном уголке Санта-Моники, этой витрины Западного мира, слушая рассказы о сэндвичах с тунцом и салатах с авокадо. Я молил Бога, чтобы он даровал мне глухоту.
Круз заранее позвонил в студию.
– Мне нужен красный ковер, ты меня понял?
Глава пиар-отдела сказал, что да, он его понял. Круз подчеркнул свою мысль:
– И никаких, твою мать, ляпов, Бэрри. Ни единого, ни малейшего. Чтобы охрана даже не заикнулась насчет пропуска на территорию, чтобы ни одна моська-секретутка не заставила себя ждать. И чтобы каждый плотник и разнорабочий знали, что сегодня мы привозим Валери Лоун! Тотальное почтение, Бэрри! Малейший ляп, и я обрушусь на тебя как тигр на козленка!
– Господи, Артур, зачем ты мне угрожаешь?
– Я не угрожаю, Бэрри, я уточняю все, чтобы потом ты не стал выкручиваться. Это не какая-то поп-певичка, это Валери Лоун.
– Ясно, Артур. Успокойся.
И, когда они подъехали к воротам, охрана сняла фуражки и указала «бентли» дорогу к звуковой студии.
Валери Лоун сидела на заднем сиденьи рядом с Артуром Крузом, и даже под слоем пудры лицо ее было мертвенно-бледным.
Встречающие выстроились у павильона.
6
Глава студии, несколько иностранных журналистов, три продюсера, оказавшихся в павильоне и полдюжины «звезд» популярных телесериалов. Все они суетились вокруг нее, и когда вся эта чехарда закончилась, Валери Лоун была почти уверена, что кому-то и впрямь не все равно, умерла она или нет.
И когда замигал красный фонарь на штативе – знак того, что озвучивание эпизода закончено – они вошли внутрь. Валери сделала три шага по толстому звукоизоляционному полу и остановилась. Она задирала и задирала голову, глядя вверх на исчезающие в темноте балки, на мостки, на фонари, прикрепленные к распоркам, на кондиционеры, подающие прохладный воздух туда, где работали осветители. Потом она отступила в тень, и рядом с ней появился Круз, и он знал, что она плачет, и он обратился к присутствующим и попросил их выйти и присоединиться к мисс Лоун позднее. Никто ничего не понял, но все дружно вышли из павильона, и двери негромко вздохнули, поворачиваясь на пневматических петлях.
Круз подошел к ней вплотную. Она стояла, прислонившись к стене, в глазах ее были слезы, но ни единая слезинка не сбежала по ее лицу. В этот момент Круз понял, что с ней все будет в порядке; она была актриса, а для актрисы единственной реальностью мог быть придуманный мир звуковой студии. Нет, глаза ее не покраснели. Она оказалась крепче, чем он думал.
Валери повернулась к нему и, когда она произнесла: «Спасибо, Артур», слова эти прозвучали мягко и нежно. Круз обнял ее, а она прижалась к нему; в этих объятиях не было страсти, они были жестом защиты. Не произнеся ни слова, он говорил ей, что никто не причинит ей боль, и она так же безмолвно отвечала: «Моя жизнь в твоих руках».
Через некоторое время они прошли мимо кофейного автомата и мимо Вилли, который сказал: «Здравствуйте, мисс Лоун, мы рады, что вы снова с нами», мимо трибунки помощника режиссера и доски, к которой кнопками был прикреплен порядок съемок, где Брюс де Вайль поклонился ей, а взгляд его выражал восторг и радость, мимо участников массовки, сидевших на стульях с прямыми спинками, читавших Ирвина Уоллеса и занимавшихся вязанием, и все они приветствовали ее, радостно улыбаясь, мимо высокого стула режиссера, сейчас занятого помрежем по сценарию Генри, который пробормотал: «Здравствуйте, мисс Лоун, мы вместе работали над такой-то и такой-то картиной», и она подошла к нему и чмокнула в щеку, и казалось, он тоже вот-вот расплачется. Где-то в глубине павильона зачирикала птичка. Круз пожал плечами и рассмеялся как ребенок.
Кто-то заорал:
– Окей, тихо! Тишина!
Галдеж стих разве что на один децибел. Джеймс Кенканнон о чем-то говорил с Митчемом возле одной из стен декорации, расписанной под натурный план. Это был переулок в небольшом городке, а циклорама на заднем фоне была искусно обустроена для того, чтобы изображать ярмарку. Огни играли на холсте, и вся эта картина была для Валери Лоун абсолютной реальностью – настоящим парком развлечений, выстроенным для нее одной. Переулок был грязным и выглядел очень реалистично. Оператор настраивал угол съемки, съемочное оборудование на резиновых шинах было готово откатиться, как только рабочие потащат всю конструкцию. Ассистент оператора с зеркальной камерой на плече опустился на одно колено, настраиваясь на съемку снизу.
Де Вайль прошел на площадку, и Кенканнон кивнул ему.
– Окей, камера! – Кенканнон закончил приготовления к съемке и попросил помощника режиссера еще раз замерить все расстояния, и Митчем прошел на свое место, которое до этой минуты занимал его дублер. Помреж измерил расстояние до камеры рулеткой, выкрикнул цифру и кивнул первому помощнику режиссера, который заорал:
– Окей! Камера!
Раздался резкий звонок, и воцарилась полная тишина. Люди застыли в тех позах, в которых их застал сигнал. Никто не кашлянул. Не издал ни единого звука. Тони, звукооператор, сидевший на высокой платформе в наушниках, объявил:
– Дубль тридцать два Бэ!
Слова эти эхом прокатились по павильону. Через секунду их поймали микрофоны звукового фургона, стоявшего снаружи. Тони заорал:
– Синхрон! – и первый помощник появился перед камерой с хлопушкой в руках, на хлопушке были нанесены имя Кенканнона и номер дубля. Первый помреж стукнул перед объективом камеры хлопушкой, оператор снял надпись – короткая пауза, когда замерло абсолютно все, и в это тишине Митчем сделал глубокий вдох для предстоящей сцены драки, а Кенканнон – как все режиссеры – наслаждался мгновением абсолютной власти, когда все до единого замерли в ожидании его команды начинать съемку.
Беспредельный миг.
Рождение мечты.
Тень и реальность.
– Камера!
Пятеро мужчин выскочили из темноты и схватили Роберта Митчема, потащив его вдоль стены вглубь переулка.
Камера быстро наехала на лицо Митчема, в то время как один из мужчин схватил его за подбородок.
– Куда ты ее дел?.. Скажи нам, куда ты отвел ее! – требовал нападающий. Слова эти он произносил с легким мексиканским акцентом. Митчем мотнул головой, пытаясь избавиться от захвата. Оператор зеркалки снимал Митчема снизу, расположившись вне кадра основной камеры.
Митчем пытался заговорить, но рука мексиканца, сжимавшая его челюсть, не позволяла ему этого сделать.
– Дай же ему сказать, Санчес, – убеждал один из нападавших. Санчес отпустил челюсть Митчема и тот в ту же секунду рванулся вперед, сбив с ног двоих, стоявших перед ним, и главная камера быстро отъехала, снимая всю сцену общим планом. Зеркальщик продолжал снимать Митчема, следуя за ним.
Теперь все пятеро ринулись за Митчемом, готовясь сбить его с ног и вышибить из него душу. В этот момент Кенканнон заорал:
– Снято! – и противники выпрямились, расслабились, и Митчем быстрым шагом направился к своему вагончику. Съемочная группа начала готовиться к следующему эпизоду.
Массовка двинулась в кадр – группа молодых ребят, явно чужаки из колледжа, приехавшие на поиски греховных развлечений.
Они толпились, толкая друг друга, и Артур в очередной раз поразился грандиозности того, что здесь происходило. Сценарист написал: «УСТАНОВОЧНЫЙ КАДР ТОЛПЫ В ПЕРЕУЛКЕ» и, чтобы сделать эту строчку реальностью, нужно было ухлопать порядка пятнадцати тысяч долларов. Он взглянул на Валери, стоявшую рядом – она улыбалась едва заметной улыбкой, в которой проявлялись и память, и очарованность сим действом. Этот восторг, это восхищение так и не стерлись за все эти годы. Очарованность тем, как фантазия превращается в реальность.
– Ну и как вам все это? – негромко спросил он.
– Я словно никогда отсюда и не уезжала, – ответила она.
К ней подошел Кенканнон. Он держал обе ее руки в своих и смотрел на нее: как мужчина и как камера.
– О, вы прекрасно со всем справитесь… Прекрасно. – Он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ.
– Я еще не читала роль, – сказала она.
– Джонни Блэк еще не закончил вносить изменения в сценарий. Ну да мне плевать. Вы справитесь преотлично.
Они смотрели друг на друга с такой степенью близости, которая знакома только мужчине, видящему реальность через образы на целлулоиде – и женщине, стоящей рядом с мужчиной, который может сделать ее выглядящей на семнадцать лет или на семьдесят. Доверие, страх, сочувствие и взаимное перемирие между полами. Да ведь оно и всегда было так. Словно немая беседа: что он видит? чего она хочет? на чем мы договоримся? Я тебя люблю.
– Вы уже поздоровались с Бобом Митчемом? – спросил Кенканнон.
– Нет. По-моему, он отдыхает. – Она с таким же почтением относилась к звездам, с каким к ней относились актеры меньшего, чем она, калибра. – Я могу поговорить с ним и попозже.
– Вы хотели бы о чем-нибудь спросить? – сказал он, обведя рукой павильон. – Вам придется жить здесь ближайшие несколько недель, так что лучше заранее со всем познакомиться.
– Да… У меня есть несколько вопросов, – сказала она. И снова начала входить в роль звезды. Она задавала вопросы. Вопросы, которые устарели на двадцать лет. Нет, не дурацкие вопросы. Просто они были… не в фокусе. (Словно хлопушка не была синхронизирована со звукотехническим фургоном, когда слова вылетают из уст актеров на миллисекунду раньше времени.) Не неудобные вопросы, но просто несуразные вопросы; вопросы, ответы на которые заставляли Кенканнона наставлять ее, напоминая ей, что она стала реликтом, что время ее не ждало, – как не ждала и она, еще будучи звездой – но просто торопливо собирало свои пометки и, тяжело дыша, пролетало мимо нее. Сейчас ей приходилось напрягать ментальные мускулы, которые уже атрофировались, для того, чтобы догнать время, бежать вперед, как амбициозный курьер, стремящийся заработать очки у студийных шишек. Ее вопросы становились все более несуразными.
Она произносила слова с немалым трудом. Круз видел, что она становится – как там Хэнди определил это? – все более скованной.
Три девушки появились на площадке, выйдя из гримерного вагончика, и остановились в темном углу звуковой сцены. На них были длинные халаты в цветочек. Помреж повел их к окнам небольшого грязного здания, выходившим на переулок. Девицы прошли за стену задника – где были некрашеные доски и распорки, и где фломастером было написано «УЛВК 115/144», показывая, для каких сцен предназначалась декорация.
Вскоре они появились в трех окнах здания. Они должны были быть свидетелями драки каскадера с напавшими на него негодяями… Драки Митчема с напавшими на него негодяями.
Им предстояло изображать трех мексиканских проституток, которых привлек к окнам шум драки. Они сняли халаты.
Их обнаженные груди свисали на подоконники как созревающие и тающие дыни Сальвадора Дали. Валери Лоун обернулась и, увидев целый ряд темно-коричневых сосков, издала странный звук, нечто вроде «Оувах!», словно они были выставлены на продажу по столь низкой цене, что она удивилась, опешила и преисполнилась подозрениями.
Кенканнон торопливо пытался объяснить, что фильм снимается в двух версиях: для американского рынка с последующим телевариантом, и еще одна, для зарубежных рынков. Он рассказывал о деталях, отличающих одну версию от другой и, когда он закончил – все занятые в эпизодах и массовках внимательно слушали, потому что мастерское лицемерие всегда интересно наблюдать – Валери Лоун сказала:
– Боже, надеюсь, у меня не будет сцен с обнаженкой…
И один из участников массовки фыркнул, достаточно громко пробормотав:
– Размечталась…
Артур Круз развернулся грациозно, почти балетно, и ударил парня – классического серфера, блондина с накачанными мышцами, причем кулак его пролетел не более шестнадцати дюймов. Это был удар профессионального бойца, без размаха, без прицела, просто короткий жесткий удар, пришедшийся парню прямо по сердцу. Он резко выдохнул и обмяк, сползая по стене.
Если бы Круз задумался хоть на секунду, он никогда этого не сделал бы.
О том, как это повлияет на участников съемки. О неизбежном судебном иске. О жалобе в Гильдию киноактеров. Очень нехорошо бить кого-то, кто на тебя работает. По лицу Валери Лоун можно было понять, что она увидела все происшедшее боковым зрением. Молодой парень, скорчившийся от боли, словно ребенок.
Но Круз сделал это не раздумывая, и Валери Лоун повернулась и побежала к выходу.
Вопросы, сейчас не имевшие отношения к фильму: показ по телевидению, график съемок, финансовая привлекательность занятых в фильме звезд, молодежь, которая теперь составляла актерский состав каждого фильма, изменение съемочных техник и мышления киномагнатов, а равно вкусов и нравов новой киноаудитории.
Поколение молодых, не питавших никакого уважения к корням и наследию прошлого. Никакого уважения к возрасту. Время работало против Валерии Лоун. Так же, как это было двадцать лет назад.
Простой истиной было то, что Валери Лоун была приговорена не из-за отсутствия таланта – хотя талант в этой ситуации очень бы не повредил, и не из-за слабости характера – хотя более жесткая личность могла бы помочь ей пройти через все штормы, не из-за менявшихся течений в киноиндустрии – но всем этим вместе взятым, плюс Судьба и Время. Но в основном – Время. Она, попросту говоря, не была единым целым со своим миром. Просто Вселенная решила проявить интерес к Валери Лоун.
По большей части, Вселенной бывает наплевать. Но к отдельным людям время от времени Вселенная проявляет сочувствие. Внезапно Вселенная чувствует потребность поддержать и согреть. А катастрофы, обрушивающиеся на этих «избранников Судьбы» являются лишь доказательством того, как неуклюжа Вселенная и как безумен Бог.
Было бы гораздо лучше, если бы Вселенная предоставила Валери ее собственной жизни. Но Она этого не сделала; Она скомбинировала все элементы, чтобы в ходе случайной встречи усыпать ее путь розами.
Для Валери Лоун в неуклюжей и сострадательной Вселенной путь этот оказывался усыпанным битым стеклом и мертвыми птицами.
Вселенная откликнулась ноткой цинизма, почти неслышно прозвучавшей во всех этих блонд-серферов из массовки… Вселенная притупила восприятие Валери киноиндустрии, какой она стала… Вселенная накачала Артура Круза адреналином в ту секунду, когда паренек-блондин отпустил свою грубую ремарку… и Вселенная в своей обычной невинной манере полагала, что облагодетельствовала Валери Лоун.
Но, конечно же, нет.
Это должно было стать небольшим инцидентом, от которого у нее закипела бы кровь и свернулись в тугой узел нервы, инцидентом настолько малым, насколько возможно, но он бы сработал на усталось металла, на эрозию и ржавчину. И потому, когда наступит нужный момент и когда необходимым станет оптимум эффективности… Валери Лоун будет снова отбрасывать к этому мгновению, к этой грубой шутке, к этой отвратительной сцене, что и станет той слабостью, которая должна будет ее погубить.
С этой минуты Валери Лоун пожирала ее собственная тень. Противопоставить этому ничего было нельзя – даже если чудесная, прекрасная Вселенная решила позаботиться о Валери.
Вселенная, где правит безумный Бог, которого тоже пожирает его собственная тень.
Валери Лоун бросилась к выходу…
Через площадку озвучки, наружу, вдоль по студийной улице, через Филадельфию 1910-го, мимо дворца развлечений Кубла Хана, вокруг марсианского города из песка, и потом к Будапешту периода восстания (где кастрированные красные танки до сих пор валялись пьяные от коктейлей Молотова), и через Колодцы Тени – прямо в изжаренную солнцем прерию, где ее поджидала шахта Анаконды номер Три.
Она ринулась во тьму Анаконды и оказалась в самом центре Катастрофы на Шахте в Спрингхилле. Внутри и снаружи все было абсолютно реальным.
Артур Круз и Джеймс Кенканнон бежали за ней.
У входа в пещеру Круз остановил Кенканнона.
– Позволь мне, Джим.
Кенканнон кивнул и медленно отошел в сторону, где вытащил трубку, которую принялся прочищать ершиком, который он достал из кармана рубашки.
Артур Круз вошел в пасть покрытой мхом пещеры. Там он стоял молча, пытаясь услышать звуки скорби – или безумия. Но он не услышал ничего. Пещера была глубиной в десять-пятнадцать футов, но могла бы быть самым глубоким колодцем в дантовом аде. Когда глаза Круза привыкли к темноте, он увидел ее. Она стояла, прислонившись к декорации, представлявшей скалу.
Валери попыталась спрятаться, когда он двинулся по направлению к ней.
– Не надо.
Он произнес эти два слова мягко, и она остановилась.
Он подошел к ней, сев на выступ скалы рядом с Валери. Она уже не плакала.
– Он дебил, – сказал Круз.
– Он был прав, – ответила она.
– Он не был прав. Он просто невоспитанный щенок, и я поставил его на место.
– Мне очень жаль.
– «Жаль» здесь не годится. То, что он сделал, было непростительно.
Круз хохотнул:
– То, что сделал я, тоже было непростительно. Теперь в меня вцепятся псы-юристы. – Он хохотнул громче. – Но оно того стоило.
– Артур, отпусти меня.
– Не хочу и слышать об этом.
– Но я должна это сказать. Пожалуйста. Отпусти меня. Из этого ничего не выйдет.
– Выйдет. Обязано выйти.
Она смотрела на него сквозь темноту. Его лицо словно утратило все черты. Но она знала, что если могла бы видеть его ясно, то увидела бы, как он напряжен.
– Почему это так важно для тебя?
Он долго молчал, а она ждала, ничего не понимая. В конце концов, он произнес:
– Пожалуйста, позволь мне сделать это для тебя. Я хочу… очень хочу… Чтобы у тебя снова все было хорошо.
– Да, но почему?
Он попытался объясниться, но это не было объяснением.
Это было о боли и восторге. Об одиночестве и открытии радости в кино. О том, каково это – жить без указателей и обретать будущее, которое всегда было для него лишь хобби. О стремлении к успеху. О достижении успеха и понимании, что фильмы подарили ему все – и она была частью этого. Все это не было рациональным объяснением, которое Круз мог бы предложить ей в связной форме. Он жил, прорываясь вверх, и она протянула ему руку. Это было маленькое, крошечное одолжение, и расскажи он ей о нем, она не смогла бы и вспомнить, о чем речь. И не могла бы представить, что эта мелочь сопоставима с тем, что он пытается сделать для нее.
Но по мере того, как год за годом накапливались в памяти Артура Круза, крошечная услуга вырастала в его памяти вне всяких пропорций, и теперь он изо всех сил пытался отплатить Валери Лоун добром за добро.
И затем несколько секунд тишины.
Он слишком долго был на арене. Он не мог бы рассказать ей обо всех этих безымянных и чудесных вещах, в надежде избавить ее от страха. Но даже в его молчании была абсолютная ясность.
Валери коснулась рукой его лица.
– Я попытаюсь, – сказала она.
И когда они вышли на плоскую площадку, по которой к ним бежал Кенканнон, Валери повернулась к Артуру Крузу и произнесла полунасмешливо (как она делала это восемнадцать лет назад):
– Но я не буду сниматься у тебя голой, парнишка.
И, хоть это далось ему нелегко, Круз все-таки сумел улыбнуться.
Хэнди
Тем временем в голове моей все двигалось от Эриха фон Штрохайма до Альфреда Хичкока. Нет, скорее, от Фрица Ланга до Вэла Ньютона. От плохого к худшему.
Я вернулся из Страны Никогда-Никогда и песен черепах и позвонил в офис Артура. Я просто не был готов вернуться в мир шоу-бизнеса сразу после полировки могильных плит на частном кладбище Эмери Ромито. Мне нужно было погрузиться во что-нибудь тихое и спокойное, а этого в студии не найти.
В квартире царила липкая жара. Я разделся и принял душ. С минуту я подумывал над тем, чтобы смыть все мои шмотки в унитаз. Мне казалось, что они заражены плесенью веков – из самой Санта-Моники. Потом я поежился. У меня родилась мысль сдать себя в химчистку – целиком.
– Вот так, Фил, – сказал бы я. – Меня нужно почистить и спалить. «Тебе нужно поспать, Хэнди», – подумал я. Годков этак семьсот.
Рип Ван Винкль, старина Рип, подумал я при новой вспышке сумасшествия, будто знал, что почем. Теперь это, казалось, понял и я: новый бродвейский хит RIP[9]! с Фредом Хэнди в главной роли, где он будет спать как бревно – все семьсот лет прямо перед вашими слезящимися глазами, билеты от $2.25– $4.25 до $6.25 за места в партере у оркестра.
Не слишком-то душ помог восстановить мое душевное здоровье.
Я решил позвонить Джули.
Я проверил график, который выторговал у ее агента, и обнаружил, что они будут выступать с «Хэлло, Долли!» в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Набрал операторшу и навешал ей тонны лапши на уши. Вскоре она уже созванивалась с разными добрыми людьми в Пенсильвании, которые – конечно, строго по секрету – сообщили ей, что моя Леди Влажные Ляжки, красотка Джули Глинн, в девичестве Ровена Гликмайер ушла из отеля в город, но операторша 212 в Голливуде, если потребуется, будет всю ночь сидеть у телефона, чтобы свести нас, идеальных образчиков Светлой Американской Любви, вместе. Когда угодно.
Повесив трубку, я внезапно обнаружил, что все мое хорошее настроение улетучилось к чертям собачьим.
Я понял, что печален – как никогда за последние годы. Да, но что, черт возьми, случилось? Откуда вся эта депрессия, это предчувствие катастрофы? Но тут зазвонил телефон. Звонил Артур, рассказавший мне о том, что произошло на студии. Меня трясло. А еще он сказал мне, что сегодня вечером будет прием в «Кокосовой Роще», и что он подумал: а вдруг Валери захотела бы прийти? Артур уже вызвонил звезду – кажется, Бобби Винтона, или Серджо Франки, или Уэйна Ньютона – в общем, кого-то из той лиги, и что со сцены будет объявлено, что в зале присутствует Валери Лоун, а далее долгая овация.
Он намекнул, чтобы я связался с Ромито и договорился о его встрече с Валери. Паренек из прислуги замыл все пятна сегодняшнего дня. Потом Артур сообщил мне имя того дурачка из массовки – должно быть, уже прочитал о нем в газете. Он произнес его имя долгим шипом, как рассерженная кобра и предложил мне собрать небольшое досье на этого «джентльмена». У меня всегда было четкое ощущение того, что Артур Круз может быть настолько же безжалостным врагом, насколько он бывал щедрым и открытым другом. Похоже, блондину-серферу нескоро удастся найти подработку в кино, хотя кошмарные нравы Юрского периода, когда Коэн, Майер или Скурас могли уничтожить любую карьеру парой телефонных звонков, безвозвратно канули в прошлое. Меня продолжало трясти.
Потом я позвонил Эмери Ромито и сказал ему, что он должен будет забрать Валери Лоун в Беверли Хиллз в шесть тридцать.
Смокинг. Он фыркнул, и я понял, что у него нет денег, чтобы взять смокинг напрокат. Тогда я позвонил в студийный костюмерный цех и поручил им отправить кого-нибудь в Санта-Монику… чтобы одеть его по нынешней моде, никаких отложных воротников а-ля Двадцатые, и все это время меня продолжало трясти.
Тогда я пошел и снова принял душ – горячий душ.
На моем теле он казался ледяным.
Я слышал, как звонит телефон, слышал шум воды в душе, и добежал до телефона, когда звонивший уже собирался повесить трубку. На полу было множество мокрых следов, которые исчезали в ванной, откуда я, собственно, и явился.
– Да, кто? – заорал я.
– Фред? Это Спенсер.
Сноска: О депрессии. Когда ты только что получил известие из налоговой о том, что необходима перепроверка твоих доходов за 1956–1966 годы, чтобы убедиться в правомерности освобождения от налога на развлечения в размере 13 000 долларов в год; когда тебе звонят из общества защиты животных и просят заехать к ним для опознания тела в их холодильной камере, и при этом твоего любимого бассет-хаунда они описывают так, словно его провернули через мясорубку; когда твоя жена, с которой ты давно не живешь и которую в прошлом месяце просто трахнул по случаю, взяв на себя расходы по разводу, звонит тебе и говорит, что беременна, причем от тебя; когда начинается Девятая мировая война, и на твой дворик обрушивается напалм; когда тебя внезапно пленила самая сильная простуда в жизни, а левый угол рта потрескался, и простата снова начинает барахлить, выделяя блестящие капли отвратительной зеленой субстанции; когда все это соединяется в одну гигантскую цепь ужасов, угрожающих послать тебя в бреду на концерт Джо Пайна или Лоуренса Велка, тогда и только тогда тебе звонят агенты вроде Спенсера Лихтмана.
Словом, паршивее некуда.
Новые ужасы! Я застонал. Новые ужасы!
– Эй, ты там, Фред?
– Я умер.
– Слушай, я хочу поговорить о тебе.
– Спенсер, умоляю. Я хочу поспать, лет этак семьсот.
– В разгар напряженного трудового дня?
– Дай мне поспать.
– Я хочу поговорить о Валери Лоун.
– Приезжай ко мне.
Я повесил трубку. Волчья стая неумолимо приближалась. Я позвонил Крузу. Он был на совещании. Я сказал Роуз, чтобы она его вытащила. Она послала меня нахрен. Я вежливо поблагодарил и вернулся в душ. Холодный душ. Горячий душ. Холодно, жарко, холодно: если мое настроение и дальше продолжит скакать от плюса к минусу, наступит время двусторонней пневмонии. (Я мог бы назвать это маниакально-депрессивной фазой, если бы мое настроение не менялось от депрессивного к мега-депрессивному. Без малейшего намека на маниакальность.)
Надев толстый черный пластиковый пояс для похудения с отсеками, заполненными песком, который гарантированно избавит меня от пяти фунтов смальца, и завернувшись в махровый халат, я налил себе на кухне холодного чаю.
Кубиков льда не было. Классический холодильник холостяка: банка вишен для коктейля, открытая упаковка сливочного сыра «Филадельфия» с растущим на нем грибком, два полуфабриката для разогрева – гавайские креветки и стейк «Солсбери» – плюс банка сгущенного молока. Если Джули не выйдет за меня замуж или не станет заботиться обо мне, меня наверняка найдут издохшим от голода, лежащим в углу, сжимающим пустую коробку из-под крекеров «Ритц» однажды утром, когда придут узнать, почему я не заплатил арендную плату за два месяца.
Я вышел на террасу, откуда открывался вид на бассейн для лилипутских Олимпийских игр 1928 года. У края его слонялись два стройных существа: Дженис и Пегин.
У Пегин был алюминиевый отражатель до самого подбородка, чтобы ни один дюйм эпидермиса не избежал палящего ультрафиолета.
Дженис лежала на животе, намасленная, лоснящаяся, как внутренняя поверхность презерватива.
– Привет! – крикнул я. – Лед у вас найдется?
Дженис повернулась, «Пророк» Халила Джебрана упал на пол. Прикрыв глаза ладонью, она посмотрела на меня.
– О, привет, Фред. Конечно, зайди, возьми в холодильнике.
Я помахал ей и пошел в ее квартиру. Дверь была открыта. Я пробрался через завалы мусора после их вчерашней вечеринки с амфетаминами, переступая через кальян и подушки на полу. Льда не было. Я наполнил лотки водой, сунул их в морозильник и вышел на террасу.
– Все в порядке? – крикнула Дженис.
– В полном, – ответил я и вернулся в свое жилище. Снизу доносился голос Спенсера, заигрывающего с девицами. Я посчитал до шестидесяти, надеясь, что он – хоть раз в жизни – исчезнет, досчитал и, подойдя к двери, заорал:
– Я наверху, Спенсер!
– Сейчас поднимусь, Фред, – крикнул он, не поворачивая головы и пожирая взглядом бикини Пегин.
– Врачи говорят, что мне осталось двадцать минут, Спенсер. Тащи сюда задницу!
Он отпустил какую-то шутку для девочек и принялся подниматься, пыхтя и шагая через две ступеньки. Вылитый Стив МакКуин.
– Привет, старина! Как поживаешь? – он протянул мне руку.
– А ты?
– Вполне паршиво, не считая того, что мой калоприемник лопнул.
Спенсер Лихтман был выбран бюллетенем казино «Сахара» мистером Шарм в августе 1966 года. О нем писали, что он очарователен и в проигрыше, и в выигрыше, и цитировали его слова, которые он произнес, выиграв тысячу долларов в кости: «Это всего лишь деньги».
Спенсер Лихтман, по-моему, был одним из самых жалких лузеров всех времен. Нельзя отрицать, что он был блестящим агентом. Но этого он добился вопреки самому себе.
Это был высокий, широкоплечий, отменно прожаренный голубоглазый экземпляр, одетый в красивый кокон от Гарри Черри.
Голубые рубашки на пуговицах (у Спенсера не было высоких воротников, он знал, что его шея слишком толста для них), черные носки до колен, начищенные до блеска черные мокасины, крошечные запонки и носовой платок с узором пейсли в нагрудном кармане. Он мог бы появиться во всей красе, как Адольф Менжу из газеты Gentleman’s Quarterly.
И скажите-ка мне вот что: если Спенсер Лихтман был обаятелен, воспитан, талантлив, имел хороший вкус и добился успеха, то почему, черт возьми, я с первых минут знакомства с ним знал, что Спенсер Лихтман был отъявленным бездельником? Это не поддавалось логическому анализу.
И я пожал ему руку.
– Боже, ну и жара, – прохрипел он, элегантно падая на диван. – Можешь мне дать чего-нибудь холодненького?
– У меня лед кончился.
– А…
– У соседей тоже.
– Так эти две цыпки – твои соседи?
– Да. Именно так. Те две девушки.
– Хорошие соседи.
– Ага. Но льда у них все равно нет.
– Тогда нам лучше поговорить. А потом можем пойти в «Луау» и взять что-нибудь холодное.
Я не сказал ему, что лучше пройду интенсивное лечение в Гонконге с иглами в щеках, чем пойду в «Луау» выпить. Сливки шоу-бизнеса Голливуда и Беверли-Хиллз всегда собирались в «Луау» во второй половине дня с секретаршами из агентств по поиску талантов, которые на самом деле были дочерьми торговцев из Беверли-Хиллз, дочерьми голливудских актеров, дочерьми лос-анджелесского общества, дочерьми восторга. Одним словом, сливки.
– То, что всплывает наверх? Сливки?
– Нет, Спенсер, я не пойду с тобой в «Луау», не предоставлю тебе шанса похлопотать за меня и уложить меня в постель с одной из твоих стено-машинисток. Нет, серьезно нет, Спенсер, друг мой. Пожалуй, после твоего ухода я пойду в спальню и займусь онанизмом, но это лучше, чем позволить тебе впиться в меня твоими идеальными зубами. Говори, Спенсер, слушаю. – Я сел на пол.
– Вот это я называю сотрудничеством. – Ему отчаянно хотелось развязать галстук. Но это было бы не по-агентстки.
– Я разговаривал кое с кем в офисе…
Перевод: «Я читал в бюллетене, что Круз нашел эту калошу, эту старую ведьму Валери Лоун, и сегодня утром в нашем гадюшнике я предложил Морри, и Лью, и Марти. “Эй, ребята, может быть, нам стоит представлять ее, заработаем десять центов, или доллар, или и то, и другое. Ну, каковы шансы?”»
Я уставился на него с бесстрастно-деревянным выражением лица.
– И… э… мы подумали, что было бы весьма престижно для агентства, если бы мы представляли Валери Лоун…
Перевод: «Мы бы могли как минимум состричь десять процентов от ее сделки с Крузом, она явно устраивает его и на второй контракт, если все вообще состоится, и мы могли бы сделать ей пару бенефисов, турне по Америке с одной из тех лент, типа ужастиков Бэби Джейн – «Леди в пещере», о черт, она все еще способна быть звездой, если разыграть карты правильно, мы могли бы сделать тысяч тридцать, а то и сорок, прежде чем она снова канет в небытие».
Я сменил деревянную маску на маску идиота. Спенсер продолжал:
– К тому же, мы могли бы неплохо ее продвинуть с полнометражками. Плюс воткнуть на телевидение…
Перевод: «Мы втыкали бы старую калошу в эпизоды во всех мыслимых сериалах, которые снимаются сейчас для показа в сентябре».
– Гостевые эпизоды идеальны для такой боевой лошади, как она. Это как если бы у каждого болвана в Америке был собственный канал с шоу уродов. Торопитесь увидеть Возвращение Ледникового периода! Торопитесь увидеть Воскрешение Леди в туфлях на завязках! Узрите Воскресших Мертвецов! Она будет играть хозяйку борделя в «Улице Чиммарон» и стареющую актрису в «Петтикоут Лэйн», она сыграет матриархессу первопоселенцев в «Большой долине» и мать похищенного ребенка в «Преступном отряде». Тысяча долларов в день, поначалу, пока не притупится ощущение новизны. Мы будем устраивать ей по пять-шесть выступлений в день, пока не заработает сарафанное радио. И тогда мы заключим договоры с телевидением на тему повторов ее прежних работ. Да здесь просто гора из деньжат!
Маска идиота медленно сменялась физиономией Гекльберри Финна.
– Ну скажи что-нибудь, Фред! Что ты об этом думаешь?
Гек Финн исчез, и теперь перед Спенсером Лихтманом был Капитан Америка, с его красно-бело-синим щитом, с крыльями на капюшоне – стальной взгляд и выдвинутый вперед подбородок, классический защитник вдов и сирот. И мягким, фланелевым голосом Капитан Америка произнес:
– Ты получаешь пять процентов комиссии, и я устрою так, что она будет сотрудничать с вами.
– Десять, Фред. Это же стандарт, ты знаешь. Мы не можем…
– Пять. – С Капитаном Америкой не забалуешь.
– Восемь. Может быть, я смогу уговорить наших на восемь. Морри и Лью…
Капитан Америка поправил щит и подтянул перчатки.
– Ладно, буду снисходителен. Шесть.
Лихтман поднялся, направился к двери и развернулся, впившись взглядом в Капитана Америку.
– Она нуждается в представительстве, Хэнди. Причем серьезном. Ты знаешь это. Я знаю это. Назови хотя бы три ситуации, когда агент брал меньше десяти? Мы работаем и за двенадцать, а то и тринадцать. Это рисковая игра. Она может выстрелить, а может, и нет. Мы готовы рискнуть. А ты портишь все и для нас, и для себя. Я приехал к тебе, потому что знаю: ты можешь уладить это дело. Но мы еще не говорили о твоем проценте.
Капитан Америка заиграл желваками. Сама мысль о том, что его можно купить, была омерзительной. В патриотическом угаре он шумно выдохнул и ответил Спенсеру Лихтману тоном, которого тот заслуживал:
– Никаких откатов для меня, Спенсер. Шесть, и точка.
На лице Лихтмана отразилось удивление. Но он молниеносно врубился и принялся со свойственным ему цинизмом взвешивать мой ответ. Он был уверен, что для меня здесь есть какой-то навар. Какой-то хитрый навар, и никак иначе. А поскольку он никак не мог понять, в чем этот навар заключался, Спенс решил, что игра гораздо хитрее, чем казалось поначалу. На таком уровне он мог со мной говорить. Нет, не с Капитаном Америкой, о нет! Лихтман был не в состоянии представить альтруистический поступок, для старины Спенса это было непредставимо. Где-то здесь скрывается хитрый ход, просто он не знал, где и какой. Но решив, что разговор идет между двумя мошенниками, он пришел в восторг от будущей сделки.
– Семь.
– Окей. Мне надо было настаивать на восьми.
– Значит, сделка не состоялась бы.
– И ты уверен, что она подпишется?
– А ты уверен, что будешь пахать на нее как вол, отгонять от нее пиявок, предоставлять ей честные финансовые отчеты, а не выжимать ее как лимон, стремясь заработать деньгу на раз-два-три?
– Ты же знаешь, что я…
– Ты же знаешь, что яааа, о, бейби! Я с тебя глаз не спущу, и Артур Круз тоже. И если ты надуешь ее, попробуешь ее прокатить и выбросить, мы с Артуром серьезно поговорим кое с кем из ваших клиентов, которые сейчас на договоре у Артура – такими, как Стив, Ракель и Джули – и лучше бы тебе об этом помнить.
– Но в чем твой интерес, Хэнди?
– У меня есть концессия на моющее средство.
– А я-то думал, что еду к тебе, чтобы тебя развести.
– Есть только одна причина, по которой у тебя будет контракт, Спенсер. Ей нужен агент. Твоя честность на уровне всех остальных, за вычетом Хэла и Билли, и я думаю, что ты думаешь, что ее можно раскрутить.
– Да.
– Я так и думал.
– Я назначу встречу с Морри и Лью. В начале следующей недели.
– Прекрасно. У нее очень плотный график. Уже послезавтра начинаются репетиции новой сцены.
Спенсер Лихтман поправил галстук, разгладил волосы и одернул полы пиджака. Потом протянул руку.
– С тобой приятно иметь дело, Фред.
Я пожал ему руку.
– Все классно, Спенсер.
Он ухмыльнулся, словно намекая на то, что у меня не работа, а курорт. И – я не вру – он мне подмигнул.
С заговорщицким видом.
Когда он убрался, я позвонил Артуру и рассказал, что я сделал, как и почему. Он выразил свое одобрение и сказал, что ему нужно поработать в офисе. Я потянулся, чтобы положить трубку на рычажки, но услышал, как он зовет меня. Я поднес трубку к уху и сказал:
– Что-то еще, Артур?
Пауза. Потом он негромко произнес:
– Ты славный парень, Фред.
Я что-то пробормотал и повесил трубку.
И сидел неподвижно минут двадцать, ведя немые дебаты с Геком Финном, Придурком и Капитаном Америкой. Они тоже считали меня славным парнем. А я умолял их рассказать мне, где и в чем тут мог быть скрытый интерес, потому что я чувствовал себя тошнотворно-сиропным идеалистом.
Вы никогда не пробовали надеть водолазку так, чтобы не повредить нимб над головой?
7
Валери Лоун сказали лишь то, что за ней заедут в шесть тридцать, чтобы отвезти ее на ужин и на торжественную встречу в Грув. Цветы привезли в пять пятнадцать. Ромашки. С их простотой, честностью и романтикой. Ромашки. С одной розой в центре букета.
Ровно в шесть тридцать в бунгало Валери Лоун раздался звонок, и она поспешно прошла в прихожую. (От персональной горничной Валери отказалась. «В этом отеле ко мне относятся с огромным вниманием, так что отельной горничной вполне достаточно, Артур. Спасибо за заботу.») Она открыла дверь и поначалу не узнала его. Но для нее в этом мире был только один такой; лишь один мужчина столь высокий, столь элегантный и столь выдержанный.
Годы ничуть его не состарили. Он остался таким же, как раньше. Идеальная прическа, ни морщинки там, где ее не было прежде, и улыбка – та же нежная, широкая улыбка – о да, все та же, неизменная. Ему не было нужды представать перед ней в мягком фильтрованном свете. Для Валери Лоун он был таким же, как всегда.
Красоту каждый видит по-своему…
Эмери Ромито посмотрел сквозь прошлое, сквозь все пустые годы – и увидел свою женщину. Когда-то было золото, и ртуть, и мягкий шепот в ночи, и хрусталь, и вода вкусная как «шабли», и бархат, и плюмаж из перьев экзотических птиц… А теперь лишь артрит, затрудненное дыхание, испарина и нервозность, засохший ромовый десерт и крики детей, доносящиеся из тумана, и кто-то очень темный и голодный, постоянно подкрадывающийся к нему.
Но сейчас происходило только сейчас. И он оплакивал все дни, которые умирали без радости. Сейчас надежда пела в нем свою песню, в мечтах, в те ночи, когда, не в силах выносить жару, он уходил посидеть на берегу океана. Далеко-далеко, за границей огней парка развлечений на Лик-Пирсе, за пределами ночных огней песня эта взлетала на фоне темных звезд и темного неба. Но ни разу не была услышана. Затем тремоло и, наконец, вздох в безмолвном вакууме отчаяния, где звук можно услышать, лишь ударяя предметом о предмет. И в этом нигде для Эмери Ромито не было ничего.
– Здравствуй, Вал…
Разорвите одиночество, порвите его в клочки, и вы увидите, как кровь нужды бьет густым, бледным потоком.
Пусть же горны протрубят свое послание в сумасшедшем ритме.
Превратите женщину со всем ее грузом прожитых лет в юного сорванца с раскосыми глазами. Очистите как артишок покрытое шрамами сердце утраченной мечты – и вы окажетесь в центре пульсирующего золотого света, у которого есть имя. Она смотрела сквозь все прошедшие годы и дни, и видела его, стоявшего рядом с ней, и она не могла не заплакать.
Он вошел, и она обмякла в его обьятиях.
Слезы ее были беззвучными, полными отчаяния, перехватывавшими горло, они лишили ее сил. Он закрыл за собой дверь и привлек Валери к себе. Хоть он и съежился, но не в ее руках, не в ее глазах. Он по-прежнему был высоким, нежным Эмери с шелковым и мягким голосом. Погруженная в вечность его любви, она избавлялась от теней, пришедших поглотить ее, и знала, что теперь, именно теперь она будет жить. Валери произнесла его имя сто раз за секунду.
В этот вечер и ее имя произносилось сотню раз за секунду, но когда она стояла под громом аплодисментов, – впервые за восемнадцать лет – она не плакала. С ней рядом стоял Эмери Ромито, и, вставая, она держала его за руку.
И там был Фред Хэнди вместе с девушкой по имени Рэнди, с которой он познакомился в офисе днем. И там был Артур Круз – один. И он улыбался. Он ликовал. Он излучал тепло, окутывавшее Валери Лоун и всех добрых людей, которые никогда ее не забывали. И там был Спенсер Лихтман с мисс Американские Авиалинии, плюс девица с оранжевыми волосами и выдающимися, словно надутыми, формами, снимающаяся в фильме Джозефа Левина «Мачо и Девственные Весталки». («Будет куда как проще убедить публику в том, что она и есть мачо, чем выдать ее за девственницу», – пробормотал Хэнди, когда они прошли в лобби отеля «Амбассадор».) «Валери Лоун!» – кричали гости. Валери Лоун. А она стояла, держа Ромито за руку, и мечта снова стала реальностью.
Как змея Лаоокоона, пожирающая собственный хвост.
Уроборос в Городе Клоунов.
На следующий день Джон Д. Ф. Блэк привез переписанные страницы сценария.
Сцены с участием Валери были великолепны. Блэк попросил представить его Валери Лоун, и Фред отвез его в Беверли Хиллз, где Валери осторожно пыталась загореть. Это было впервые за много лет, когда она исполняла этот почти религиозный голливудский акт, прожариваясь во фритюре. Она встала, чтобы познакомиться с Блэком, высоким обаятельным мужчиной с внешностью актера. За несколько минут он полностью очаровал ее, сказав, что с удовольствием писал для нее сцены, что это именно то, что она всегда делала лучше всего в своих самых знаменитых фильмах, что они дадут ей возможность углубить и расцветить роль, и что он знал: она будет великолепна. Она спросила, присутствует ли он на площадке во время съемок. Блэк посмотрел на Хэнди. Хэнди отвернулся. Блэк пожал плечами и сказал, что не знает, у него назначена встреча в другом месте. Но Валери Лоун знала, что правила Голливуда не изменились – во всяком случае, не до такой же степени, и что сценарист был и остался наемным работягой. Когда сценарий дописан, он перестает быть собственностью автора. Его передают Продюсеру, и Режиссеру, и Директору картины, и Актерам, а Сценариста уже никто не хочет видеть.
– Я бы хотела, чтобы мистер Блэк находился на площадке во время съемок, мистер Хэнди, – сказала она Фреду. – Если Артур не возражает.
Фред кивнул, сказав, что займется этим, и Джон Блэк наклонился, взял ладонь Валери и изящно ее поцеловал.
– Я люблю вас, – сказал он.
Вечером того же дня Артур и Фред привезли Валери в телестудию одиннадцатого канала на Бульваре Сансет, и устроились за кулисами, пока Валери готовилась к своему полноцветному интервью на камеру в прямом эфире. Интервью с Аделой Седдон, маркизой де Злоба, женским аналогом Джо Пайна, существом с раздвоенным змеиным языком. Ее передачи смотрели миллионы, и миллионы же ее ненавидели.
Колебавшиеся избиратели узнавали о своих политических предпочтениях из ее шоу.
Если она вставала за что-то, ее зрители неизменно поднимались против этого. Если бы она выступила в защиту Материнства, Яблочного Пирога и Американского образа жизни, десятки тысяч людей мгновенно подняли бы знамена Женоненавистничества, Макробиотики и Расизма. Она была легавой сучкой, ведьмой, змеюкой, всегда готовой отпустить злобную шуточку или вцепиться в яремную вену собеседника. Под взлохмаченными рыжевато-карамельными волосами ее лицо попеременно напоминало то физиономию тубиста, то морду призовой кобылы, впервые столкнувшейся с лезвием мясника. Она была замужем шесть раз, развелась пять раз, в последнее время одинока, ненавидит, когда к ней прикасаются, и, по слухам, давно сошла с ума от бесконечной мастурбации. И ринопластика ей не совсем удалась.
Валери нервничала, что было вполне ожидаемо.
– Я никогда ее не видела, Артур. Работая в закусочной, по вечерам, ты же понимаешь, у меня не было возможности ее увидеть.
Хэнди, который считал, что привезти Валери к этой Седдон было чистым безумием, добавил:
– Увидеть значит поверить.
Валери посмотрела на него. Озабоченность читалась даже под слоем грима на ее лице. Она выглядела хорошо, гораздо моложе, чем прежде, помолодев после торжественного приема в «Амбассадоре». (В этом помогли Righteous Brothers. Они спустились в зал и спели в ее честь «Милая моя», обращаясь напрямую к ней.)
– Вы не слишком высокого мнения о ней, мистер Хэнди?
Хэнди устало выдохнул.
– Она очаровательна, как акробат в полиомиелитном отделении. Королева Деревенщин. Тотальная Мещанка. Слегка подогретая Смерть. Болячка на ж…
Круз оборвал его.
– Обойдемся без длинных списков, Фред. Сегодня я уже получил один такой от тебя. Не забыл?
– День был долгим, Артур.
– Расслабься, окей? Адела звонила мне днем, спрашивала о Валери. Обещала вести себя пристойно. Очень пристойно. Она всю жизнь была поклонницей Валери. Мы добрый час с ней говорили. Она хочет, чтобы интервью вышло милым.
Хэнди поморщился как от зубной боли.
– Не верю. Эта мадам отправила бы родную бабушку в Освенцим, если бы это подняло рейтинг ее шоу.
Круз говорил мягко, осторожно – так, словно разговаривал с ребенком:
– Фред, я ни на секунду не рискнул бы, если бы считал, что Валери здесь может что-то угрожать. Адела Седдон не одна из моих любимиц, да, но ее шоу весьма популярно. К тому же идет оно по сети, сразу по нескольким каналам. Если Адела говорит, что будет вести себя прилично, нам следует рискнуть.
Валери прикоснулась к плечу Хэнди.
– Все хорошо, Фред. Я доверяю Артуру. Я справлюсь.
Круз улыбнулся ей.
– К тому же это прямой эфир, а не сделанная заранее запись, как обычно у нее бывает. Это гарантия того, что она будет вести себя прилично. С записью – проще для нее. Если кто-то из гостей выставляет ее в нехорошем свете, они просто отправляют пленку в мусорную корзину. Но прямой эфир – ей придется быть милашкой, иначе ее порвет в клочья журналистская братия. Логично?
Хэнди явно сомневался.
– Артур, здесь какой-то подвох, но у меня сейчас не хватает сил, чтобы его обнаружить. И кроме того, – он указал на мигающий красный свет на стене – Валери вот-вот войдет в Долину Смертной Тени…
К ним подошел менеджер программы, забрал Валери и повел ее в павильон, где студийная публика встретила ее аплодисментами. Она устроилась на одном из двух удобных кресел и стала терпеливо ждать прибытия Аделы Седдон.
Когда она появилась и уверенным шагом прошла к своему месту, где сразу же принялась перебирать бумаги (скорее всего, с информацией о Валери Лоун), публика снова разразилась аплодисментами.
Адела Седдон не потрудилась хотя бы кивнуть. Были даны все необходимые сигналы, и сразу же диктор за кадром отбарабанил свой текст.
Публика снова захлопала в ладоши, а на студийных мониторах появилась снятая крупным планом Адела Седдон.
– Сегодня вечером, – начала Адела Седдон с улыбкой (или скорее, гримасой, искривившей ей рот) – мы ведем передачу в прямом эфире, не в записи. Причина тому – мой сегодняшний особенный гость, гранд-дама американского кино, которая согласилась только на прямой эфир, чтобы быть уверенной в честном и нередактированном интервью…
Хэнди, повернувшись к Крузу, прошипел:
– Я тебе говорил, она – бомба с говном!
Круз молча отмахнулся от него.
– …на экранах кинотеатров мы не видели ее уже восемнадцать лет, но она вернулась, чтобы сняться в новой ленте Артура Круза «Западня». Поприветствуем мисс Валери Лоун!
Публика приплясывала, выла и орала. Валери была настоящей леди. Она скромно улыбнулась и кивнула в знак благодарности.
Аделе Седдон такая реакция зала была явно не по душе. Она заерзала в кресле.
– Сейчас она достанет стилет, – простонал Хэнди.
– Заткнись! – рыкнул Круз. Он был не слишком рад тому, что происходило.
– Мисс Лоун, – сказала Адела Седдон, слегка повернувшись к нервничающей актрисе, – а почему вы избрали именно этот момент, чтобы выйти из забвения? Вы думаете, что поклонники вашего актерского стиля все еще живы?
«О Боже, – подумал Хэнди, – началось».
ОТРЕДАКТИРОВАННАЯ РАСШИФРОВКА ШОУ СЕДДОН «ГЛЯДЯ ВНУТРЬ» / 23–11–67 (с пометкой «к удалению»).
ВАЛЕРИ ЛОУН: Я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря «мой актерский стиль».
АДЕЛА СЕДДОН: Ну бросьте, бросьте, мисс Лоун.
ВЛ: Но я действительно не понимаю.
АС: Что ж, я уточняю. Стиль 1930-х, сентиментальный и помпезный.
ВЛ: Я и не знала, что это был мой стиль, мисс Седдон.
АС: В последней рецензии на вашу работу, которой, к слову, исполнилось восемнадцать лет, на фильм «Жемчужина Антильских островов», где вы снимались с Джоном Холом, вы, как пишет автор рецензии, предстали «как тающий леденец микроскопического таланта, рыдающий по свистку и постоянно размахивающий руками». Мне продолжать?
ВЛ: Если это доставляет вам удовольствие.
АС: Я появляюсь здесь дважды в неделю не ради собственного удовольствия, мисс Лоун. Я вынуждена доискиваться до правды. Я сижу здесь с чудаками и чокнутыми, с людьми, которые позорят нашу великую страну, и я позволяю им высказаться, не перебивая, потому что твердо верю в Первую поправку к Конституции наших Соединенных Штатов Америки, где каждый имеет право высказать свое мнение. Даже если это означает, что они имеют право выставлять себя идиотами перед семьюдесятью миллионами зрителей, но это уже не моя вина.
ВЛ: Какое это имеет отношение ко мне?
АС: Ваше право думать, что я тупица, мисс Лоун, только уж будьте добры, не разговаривайте со мной как с тупицей. Правда в том, мисс Лоун, что все это имеет отношение именно к вам.
ВЛ: И вы уверены, что в состоянии видеть правду?
(Публика аплодирует.)
АС: Я в состоянии видеть, что у нас множество отыгравших свое старых актрис, которые настолько продажны и эгоцентричны, что упорно отказываются признавать свой возраст, и продолжают водить публику за нос, цепляясь за иллюзию сексуальности.
ВЛ: Вам не стоило бы так открыто говорить о своих проблемах, мисс Седдон.
(Публика аплодирует.)
АС: Я вижу, что выход на пенсию не ослабил вашего остроумия.
ВЛ: И не сделал меня невосприимчивой к змеиным укусам.
АС: Вы начинаете защищаться, слишком яростно и слишком рано, в самом начале игры.
ВЛ: Я не знала, что это игра. Я думала, речь идет об интервью.
АС: Это моя гостиная, мисс Лоун. Здесь мы называем это игрой, и мы играем в нее по моим правилам.
ВЛ: Понятно. Суть не в том, как вы играете. Главное в том, кто выигрывает.
АС: Может, для разнообразия поговорим о вашем новом фильме?
ВЛ: Это была бы освежающая перемена.
АС: Правда ли, что Круз нашел вас там, где вы разливали спиртное – в придорожной забегаловке?
ВЛ: Не совсем. Я была официанткой в закусочной.
АС: Вы, наверное, думаете, что процесс жарки картошки фри в течение восемнадцати лет должным образом подготовил вас к тому, чтобы взяться за серьезную роль в серьезном фильме?
ВЛ: Нет, но я думаю, что пятнадцать лет работы в кино меня к этому подготовили. Хорошая актриса, мисс Седдон, как хороший врач. Она имеет право требовать высоких гонораров не за то невеликое время, которое она посвятила съемкам в фильме, а за все предшествующие годы, те годы, когда она училась ремеслу, чтобы сыграть роль на профессиональном уровне. Ведь вы платите врачу не просто за то время, которое он вам посвятил в часы приема, но за все годы, потраченные им на то, чтобы научиться профессии.
АС: Очень философская мысль.
ВЛ: Это очень точная мысль.
АС: Здесь напрашивается вопрос.
ВЛ: Полагаю, вам этого хотелось бы…
АС: Не кажется ли вам, что актрисы – просто эгоцентричные детишки, притворяющиеся всю жизнь?
ВЛ: Мне было бы очень трудно считать такую мысль даже отдаленно похожей на правду. Я удивлена, что вы сказали все это, даже не покраснев.
АС: Меня сложно заставить покраснеть, мисс Лоун. Почему бы вам не ответить на вопрос?
ВЛ: Я думала, что уже дала ответ.
АС: Он меня не удовлетворил.
ВЛ: Я понимаю, что ваша неудовлетворенность делает вас не слишком счастливой, и потому я…
(Публика аплодирует.)
– …и потому я не хотела бы вас расстраивать еще больше. Что ж, я отвечу на вопрос более развернуто. Я считаю, что работа актера в лучшем ее виде – это благородное занятие. Если роль вытекает из желания показать жизнь такой, какая она есть, а не просто провести энное время перед камерой за энную сумму денег, тогда эта работа становится столь же важной, как труд учителя или писателя, потому что она кристаллизует мир для публики; она сохраняет прошлое, она позволяет людям, живущим довольно ограниченной жизнью, исследовать мир, с которым они, возможно, никогда не соприкоснутся…
АС: Сейчас мы уйдем на короткий перерыв, на рекламу.
ВЛ: И, если не возражаете, я предпочла бы не обсуждать мою личную жизнь.
АС: У «звезды» не бывает личной жизни.
ВЛ: Ваше мнение может быть и таким. Но я его не разделяю.
АС: У вас есть особые причины для того, чтобы не говорить о мистере Ромито?
ВЛ: Мы всегда были добрыми друзьями…
АС: О, Бога ради, дорогая Валери, это звучит как заранее подготовленный пресс-релиз: «Мы были добрыми друзьями».
ВЛ: Вам трудно принять простое «да» за ответ?
АС: Я кое-что скажу вам, мисс Лоун. Сегодня мне позвонил один джентльмен, вызвавшийся прийти к нам сегодня вечером для того, чтобы задать вам несколько вопросов. Камеру на гостя. Как вас зовут, сэр?
ХАСКЕЛЛ БАРКИН: Меня зовут Баркин. Хаскелл Баркин.
АС: Я так понимаю, что вы знакомы с мисс Лоун.
ХБ: Можно сказать и так.
ВЛ: Не понимаю. Не думаю, что мы когда-либо встречались с этим джентльменом.
ХБ: Скажем, почти.
ВЛ: Что?
АС: Может, позволим мистеру Баркину рассказать свою историю, мисс Лоун?
Она сошла со сцены. Ее трясло. Ромито видел первую часть интервью в своем отеле в Санта-Монике. Он помчался в студию. Когда Валери вышла из света прожекторов, он уже ждал ее – и она просто упала ему на грудь.
– О Боже, Эмери, я так напугана…
Круз был в ярости. И-за кулис он направился в гримерку Аделы Седдон. У Хэнди была своя миссия.
Публика выходила из студии. Хэнди ринулся к боковому выходу, свернул в переулок и направился к паркингу. Баркин размашистым шагом направлялся к огромному желтому «континенталю».
– Баркин! – заорал Хэнди. – Ах ты гондон штопаный!
Баркин повернулся и застыл на полушаге. Волосы его были гладко зализаны для появления в ТВ-студии, а в костюме он смотрелся анахронизмом, как Кинг-Конг в кальсонах. Но мышцы на его груди и плечах выглядели пугающе.
Он ждал Хэнди.
Маленький рекламист быстрым шагом пересек паркинг.
– Сколько тебе заплатили, сукин сын? Сколько? Сколько, пидор ты этакий?
Баркин слегка присел, сжал кулаки и подогнул колени. Лицо красивое и бесстрастное. Он был в ожидании удара. Сейчас Хэнди выл, словно конфедерат, идущий в штыковую атаку на северян. Он несся на Баркина, стоявшего между «корветом» и припаркованным возле него «универсалом».
Но в последний момент, вместо того, чтобы обежать «корвет», Хэнди чудесным образом взлетел в воздух и, не сбавляя темпа, запрыгнул на капот «корвета», словно чемпион по десятиборью. Баркин разворачивался, ожидая, что Хэнди спрыгнет с капота спортивной машины. Но рекламист внезапно обрушился на него как охотничий сокол, прежде чем Баркин успел встать в боевую стойку.
Хэнди пролетел по «корвету», оставив вмятину на капоте, и бросился на Баркина головой вперед. Пролетев по воздуху, он врезался в Баркина как пушечное ядро.
Удар пришелся Баркину в грудь, руками же Хэнди вцепился в глотку пляжного гуляки. Баркин шумно выдохнул и отшатнулся, прижавшись к корпусу «универсала». Радиоантенна, на которую он налетел, нагнулась, и сразу же сломалась. Баркин заорал, когда острый край антенны распорол его пиджак и врезался в мышцы спины. От боли он сложился напополам, и Хэнди отскочил от него, оказавшись в пространстве между двумя автомобилями. Баркин, когда рекламист пролетал мимо него, пнул Хэнди в живот.
Хэнди упал на плечи, боль пронзил его от груди до паха. Грудная клетка его словно наполнилась крапивой, и на секунду ему показалось, что он вот-вот обмочит штаны.
Баркин попытался его достать, но антенна держала его как рыболовный крючок. Он рванулся вперед, ткань затрещала, но антенна не сдавалась. Он, изогнувшись, тянулся к Хэнди, извиваясь и сгибаясь, но никак не мог дотянуться до рекламиста. Хэнди попытался встать, и Баркин наступил на него – сперва на кисть руки, ломая противнику запястье и сдирая кожу руки. Потом удар ногой в грудь швырнул Хэнди назад, и он приземлился на задницу и локти.
Хэнди все-таки умудрился вскочить на ноги и забежать за «универсал». Баркин отчаянно пытался отцепиться от антенны, но она лишь раздирала ткань его пиджака, когда он извивался как червяк.
Хэнди взобрался на капот «универсала» и пополз по направлению к Баркину. Здоровяк попытался его достать, но Хэнди упал ему на шею и зубами вцепился в ухо Баркина. Пляжный гуляка снова завизжал, почти по-женски, и затряс головой как собака, старающаяся стряхнуть блоху. Хэнди держался, во рту он ощущал металлический вкус крови. Он протянул руку ко рту Баркина, потянув его губу вверх и в сторону. Растопырив пальцы второй руки, он ткнул Баркина в глаз, и накачанный красавчик заколотился о корпус автомобиля, как птица о прутья клетке. Потом боль его достигла пика, и он осел бессознательной массой. Он цеплялся за Хэнди и согнувшуюся антенну. Пиджак разорвался окончательно, и Баркин упал лицом вперед, грохнувшись о корпус «корвета» и потащив за собой Хэнди.
Упав, Баркин сломал нос. От боли качок потерял сознание и сполз на асфальт, осев в позе Будды. Хэнди споткнулся о его тело и упал на колени в промежутке между двумя машинами.
Опираясь на корпус «универсала», Хэнди встал и, не видя, что Баркин уже без сознания, с силой пнул его, носком ботинка попав ему по ребрам. Баркин упал на бок и больше не двигался.
Хэнди, прерывисто дыша, бродил между машин, пытаясь найти свой автомобиль. Наконец он вышел к «импале», сел за руль и, несмотря на туман в глазах, умудрился вставить ключ в замок зажигания. Кое-как он выехал с паркинга, поцарапав пару машин по дороге. Лучи его фар высветили ряд авто, среди которых стояли «универсал» и «корвет», и просматривался окровавленный мешок плоти, пытавшийся кое-как подняться на ноги и ощупывавший то, что когда-то было лицом, тем, что когда-то позволяло ему жить на широкую ногу.
Хэнди вел машину, не имея понятия, куда он едет.
Когда двадцать минут спустя он появился у двери Рэнди, она встретила его в коротенькой ночной сорочке, едва прикрывавшей бедра.
– Боже, Фред, что случилось? – спросила она, помогая ему войти.
Он рухнул на ее кровать, размазывая кровь по покрывалу. Рэнди стаскивала с него одежду, умудряясь поглаживать его гениталии и стремясь оказать ему всю посильную помощь.
Он не обратил на это ни малейшего внимания. Он уже спал.
Для Хэнди это был насыщенный день.
8
Газеты дружно подхватили эту историю. Они писали, что Валери Лоун вела себя великолепно, прорвавшись сквозь шквал злобы Аделы Седдон как несомненный, безусловный триумфатор.
Арми Арчерд назвал Седдон «сорокопутом» и предложил ей поискать в словаре разницу между «аргументом» и «скандалом», не говоря уже о разнице между «запугиванием» и «интервью». Валери стала народной героиней. Она вошла в логово дракона и вышла из него, волоча это чудовище за фаллопиевы трубы. Круз и Хэнди ликовали. На них вышел адвокат Хаскелла Баркина, стройный симпатичный мужчина по фамилии Тэбэк, и, казалось ему самому неловко представлять интересы Баркина. Когда Хэнди, Круз и вся армия адвокатов студии объяснили, что произошло, и Тэбэк поговорил с Хэнди наедине, адвокат вернулся к Баркину и посоветовал ему воспользоваться медицинской страховкой, подготовить его нынешнюю любовницу к тому, что ей придется раскошелиться на восстановление изуродованной физиономии, а также снять обвинения, потому что никто не поверит, что бездельник с габаритами Хаскелла Баркина мог быть избит таким мозгляком, как Хэнди.
Но это была лишь часть праздника Круза и Хэнди. Валери стала всюду появляться в компании Эмери Ромито. Глянцевые журналы ликовали. Для поколения, привыкшего плевать на старших, пренебрежительно относиться к возрастным особенностям, в воссоединении старых любовников было непривычное и сентиментальное очарование. Куда бы ни шли Валери и Эмери, их встречали приветливыми улыбками. Всюду были слышны разговоры о том, что после стольких лет грусти и печали влюбленные, наконец, смогли воссоединиться навек.
Эмери Ромито впервые за много лет ощутил себя живым – после того, как скандал с уклонением от призыва разрушил его карьеру. Теперь все было забыто; он словно наполнился новым достоинством, оказавшись в центре внимания прессы. Все это, вкупе с новым пониманием того, чем для него всегда была Валери, сделало его фигурой большего масштаба, чем просто стареющий характерный актер. Прежний страх еще не ушел окончательно, но на сегодня о нем можно было забыть.
Валери начала репетиции с партнерами, и ее уверенность в себе росла день ото дня. ТВ-шоу Аделы Седдон наполнило ее новыми страхами, но результаты скандала – а о ее победе трубила вся пресса – от этих страхов ее избавили. Они, конечно же, оказывали на нее влияние, но для окружающих это было не заметно.
Вечером второго дня репетиций Эмери приехал за Валери в студию в автомобиле, который студия арендовала для него. Он повез ее на ужин в небольшой французский ресторан неподалеку от рынка «Голливуд Ранчо», и, после финальной рюмочки ликера, они поехали на Сансет Бульвар, повернули налево и направились к Беверли Хиллз.
Это было вечером в пятницу.
На улицы выползали хиппи.
Подростки, торчащие на клевом музоне. Детишки-цветы. Новые люди. Длинные волосы, узкие сапоги, цветастые рубахи, мини-юбки, раскрепощенная сексуальность, шерстяные жилеты, рубашки с отрезанными рукавами – шумные и насмешливые ребята. Разрыв между их временем, когда они были звездами, и поклонники рвались через кордоны полиции, чтобы заполучить автограф, и временем, которое называлось сегодня, странное, почти призрачное время сюрреалистической молодежи, говорившей на другом языке, двигавшейся словно живой огонь и смеявшейся над тем, что могло вызывать лишь боль. Они остановились на светофоре возле Лаурел Каньона, где их сразу же окружили хиппи, навязывавшие газету нового андеграунда – «Свободная пресса Лос-Анджелеса».
Расхристанный, дикий, варварский вид этой молодежи шокировал нашу пару. И, хотя разносчики газет говорили вежливо, хотя они просто прижимались к машине и совали свои газеты в окна, само их присутствие вызвало панику у двух пожилых людей; Ромито, запаниковав, вдавил педаль газа до отказа, и машина рванула вдоль бульвара Сансет, оставив газетчика-хиппи с его разлетающимися номерами «Свободной прессы».
Ромито поднял стекло и настоял, чтобы Валери сделала то же самое.
Для них было что-то безобразно кафкианское во всех этих дискотеках, психоделических книжных лавках, ресторанчиках под открытым небом, где дети стробоскопического века приходили в себя после накачки амфетаминами или травкой.
Ромито гнал на полной скорости. Всю дорогу по Сансет к Прибрежному шоссе и к пляжам Малибу.
Наконец Валери мягко проговорила:
– Эмери, ты помнишь «Пляжный домик»? Мы всегда ездили туда ужинать. Помнишь? Давай заедем туда. Выпьем по маленькой.
Ромито улыбнулся, прищурившись. Хорошее настроение возвращалось к нему.
– Помню ли я? Я помню тот вечер, когда Дик Бартелмесс танцевал танго на стойке бара с этой пловчихой, олимпийской чемпионкой… Ну да ты ее знаешь…
Но она ее не знала. Это воспоминание кануло в небытие. Были другие воспоминания – о том, как она подторговывала гашишем. Но вот девушку ту она не помнила. Зато помнила старую придорожную закусочную, которая была популярна во время съемок какого-то фильма в те давние годы.
Но когда они доехали до места, то обнаружили, что старой закусочной, как и полагалось, уже нет, а на ее месте стоял торговый центр, а там, где Дик Бартельмесс отплясывал танго на стойке бара с олимпийской чемпионкой, расположился круглосуточный магазин со спиртным с огромной неоновой вывеской.
Эмери Ромито проехал несколько миль по Прибрежному шоссе, миновав алкомаркет по инерции, не раздумывая. Потом съехал на обочину, встав параллельно океану, и там, на гребне, который спускался в темноту, к линии прибоя, он остановился. Он сидели молча. Двигатель машины отключился, их мысли тоже, в ловушке одиночества, пейзажа и их прошлого.
И потом, внезапно, к Валери Лоун вернулась память. Волна мыслей, которые надо было переворошить сейчас, двадцать лет спустя. Причины, ситуации, обстоятельства.
– Эмери, почему мы не поженились?
И она тут же ответила на собственный вопрос улыбкой, которую он не мог видеть в темноте. Возможно, он ее не слышал – во всяком случае, он не ответил. А в ее сознании роились ответы. Все, как один, мертвые.
Это были сны, которые для каждого из них заменяли реальность; упорство, с которым они пытались уцепиться за дым и туман грез; упрямый отказ признать, что туман и дым неизбежно превратятся в пепел. И когда каждого из них целиком поглотила карьера, которая, как они думали, освободит их, они стали чужими. Они боялись связывать свои жизни друг с другом, с кем угодно, с чем угодно, только не с миром, который выкрикивал их имена сто раз в секунду и аплодировал без остановки.
И тогда Эмери заговорил. Словно его мысли шли встречным курсом течению ее собственных дум, и ее думы мчались навстречу его мыслям.
– Понимаешь, Вал, ты всегда зарабатывала больше, чем я. Твое имя всегда было набрано на афишах самым крупным шрифтом, а мое стояло в колонке «Также снимались». У нас ничего бы не получилось.
Она кивнула, соглашаясь. Но в следующее мгновение шок от того, что она приняла без возражений, шок от безумия происходящего потряс ее. Двадцать лет назад, в мире фантазии, да. Это могло быть реальной причиной в том безумном смысле, в каком извращенная логика кажется вполне рациональной в ночных кошмарах, но она провела почти два десятилетия в другой жизни, и сейчас она понимала, что и эти годы были ложью, как некогда жизнь, вознесшая ее на экран.
Но на мгновение, на долгое мгновение она снова приняла все это: и город, и киноиндустрию, и то, как жизнь шоу-бизнеса засасывает человека. Для тех, кто работал в ней, это быстро становилось данностью, все они попадали под чары своей собственной странной и блестящей жизни; потребовалось более двадцати лет, чтобы снова проникнуть в эту культуру, сжиться с ней.
Но теперь можно было не вырываться из этого густого тумана иллюзий. Потому что он висел, как лос-анджелесский смог, над всей страной, а может, и над всем миром. Но не над Валери Лоун.
– Эмери, послушай меня… – Он шептал что-то, что звучало как шелест крыльев мотылька в тумане. Он говорил об именах в титрах, о деньгах и днях, которые никогда не были живыми и теперь должны были быть полностью и окончательно преданы смерти.
– Эмери, дорогой! Пожалуйста, выслушай меня!
Он повернулся к ней. И тогда она увидела его. Пусть даже смутно, только при лунном свете, но она увидела его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким ей хотелось его видеть, стоящим в дверях бунгало в отеле «Беверли-Хиллз» в ту первую ночь ее новой жизни с ним. Она видела, что случилось с человеком, который когда-то был достаточно силен для того, чтобы отрицать войну и говорить, что он скорее потеряет все, чем будет воевать против ближнего своего. Эмери Ромито стал добровольным узником своей собственной жизни в шоу-бизнесе. Он так и не смог от нее убежать.
Она знала, что должна ему все объяснить, разучить его, а потом научить заново. Бесконечная печаль наполняла ее, когда она обдумывала свои аргументы, свои объяснения того, на что похож другой мир… мир, который он всегда считал скучным, пустым и заброшенным.
– Дорогой мой… Я прожила в пустыне, в пустом мире без малого двадцать лет. Поверь мне, когда я говорю, что все это – пустота: имя в титрах, деньги, жизнь на съемочной площадке – все это притворство и ложь! Мы всегда говорили об этом, но позволили лжи и пустоте высосать из нас все соки. Надо понять, что за границами студий лежит целый мир, где ничего этого нет, где все это не имеет значения. Что, если шоу не продолжается? Что тогда? Зачем отчаиваться? Мы можем заняться чем-то другим, если мы и впрямь нужны друг другу. Понимаешь, о чем я? Неважно, помещено ли твое фото в голливудский каталог актеров, важно, что ты вечером приходишь домой, открываешь дверь ключом и знаешь, что за дверью тебя ждет кто-то, кому ты важен и небезразличен, кого беспокоит, не попал ли ты в аварию на шоссе. Эмери, говори со мной!
Тишина. Она потянулась к нему. Тишина. И потом:
– Вал, может, потанцуем?.. Как прежде?
Тьма снова надвинулась, грозя поглотить Валери. Она оскалила зубы и тыкала в нее, костлявым пальцем, выискивая самые уязвимые места – места, еще наполненные соком жизни, которые она обгладывала до костей, а потом высасывала костный мозг, пока Валери не впадала в полное отчаяние.
Но она сопротивлялась.
Она говорила с ним.
Она говорила низким, грудным голосом, который нарабатывала еще в звездные годы. Сейчас она включила его на полную мощность, чтобы отвоевать самую важную роль в своей карьере.
– У нас есть возможность победить вместе. – Бог дал нам еще один шанс. – Мы можем обрести то, что потеряли двадцать лет назад. – Слушай, Эмери, слушай же…
Эмери Ромито падал в пропасть минувших лет – в бесконечный тоннель отчаяния. Ее голос доходил до него из этого тоннеля, и он цеплялся за этот голос, цеплялся и вновь обретал его. Эмери позволил мелодии ее голоса удерживать его над пропастью – и медленно вытаскивать его назад.
Он произнес жалобно:
– Правда? Ты думаешь, мы сможем? Правда?
Кто может быть более убедителен, чем женщина, сражающаяся за свою жизнь? «Правда?» Она показала ему: «Да, это правда». Она говорила с ним, очаровывала его, возвращая ему силы, покинувшие его десятилетия назад. С ее карьерой на новом подъеме они могли бы вернуть себе все хорошее, что потеряли на пути сюда, на пути к этому вечеру.
И наконец, он наклонился, этот старик, и поцеловал ее, эту усталую женщину. Застенчивый поцелуй, почти невинный, как будто его губы никогда не касались губ бесконечных старлеток, хористок, секретарш и женщин, гораздо менее важных для него, чем эта женщина рядом с ним в арендованной машине на темной дороге у океана.
Он был напуган, она чувствовала это. Почти так же напуган, как и она сама. Но он был готов попробовать, чтобы понять: смогут ли они извлечь что-то реальное из той кучи мусора, в которую они когда-то превратили свою любовь.
Потом он завел машину, сдал задом, развернулся и поехал в сторону Голливуда.
Тьма все еще клубилась рядом с Валери, голодная, жаждущая, но она готова была подождать. Не меньше пугали Валери длинноволосые дети, и острые на язык интервьюеры, и безжалостные огни павильонов, но, по крайней мере, теперь появилась цель; теперь было к чему двигаться.
Подул мягкий бриз, и они открыли окна в машине.
Хэнди
Первое предчувствие катастрофы появилось у меня во время беседы Круза со Спенсером Лихтманом. За два дня до того, когда он должен был начать съемки первых сцен с Валери.
Спенсер договорился о встрече, на которой хотел обсудить положение Валери, и Круз попросил, чтобы я в этой встрече поучаствовал.
Я молчал, но был готов ко всему. Спенсер толкнул свою речь: по существу, профессионально и сжато. Договор с Крузом и студией на представительство трех фильмов. Глава студии, Шарпель, тоже был здесь, и он провел классную оборону по всем канонам американского футбола. Он предложил, чтобы все мы посмотрели, как пойдут у Валери дела в «Западне».
Спенсер уходил с самым расстроенным видом. Мне он не сказал ни слова. Как и Шарпель, которого, по-моему, насторожило мое присутствие при разговоре.
Когда они ушли, я сидел и ждал, что же скажет Артур Круз. В конце концов он заговорил:
– Как идут дела с рекламой?
– Вся информация ложится к тебе на стол, Артур. Ты знаешь, как идут дела.
И я добавил:
– Я сам хотел бы знать, как идут дела.
Он сделал вид, что не понимает, о чем речь.
– И что ты хотел бы знать, Фред?
Я не отводил взгляд. Он понял, что нет смысла валять дурака.
– Кто на тебя давит, Артур?
Он вздохнул, пожал плечами, словно говоря «Ну что ж, ты меня расколол»:
– Студия. Они нервничают. Они говорят, что Валери тяжело работает с текстом, неуклюже… В общем, обычная бессмысленная хрень.
– А откуда им знать? Она еще не начинала работать. Пока что были только репетиции. И Джимми не допускал никого в репетиционный зал.
Круз ударил ладонью по столу. И еще раз, и еще раз.
– У них шпион в съемочной группе.
– Да ладно. Ты что, шутишь?
– Не шучу. У них куча денег завязана на этом проекте. Военный фильм, который снял Дженки, проваливается. Он не отыграет и части затрат на производство. А потому они не хотят никакого риска с нашим проектом. Потому и запустили крота в съемочную группу.
– Хочешь, чтобы я разнюхал, кто это?
– А какой смысл? Они запустят другого. Вероятно, это Дженин, ассистентка костюмера. Или старик… Как его? Скелли, гример. Нет, нет никакого смысла избавляться от гнилого яблока. Ее работе это не поможет.
Я слушал все это с растущим беспокойством. В голосе Артура появились новые нотки. Опасливые, словно бы пробующие на вкус реакцию внешнего мира. Я видел, что он не рад этим ноткам, что он борется с ними, но они становятся сильнее и сильнее. Гусеница страха, которая вот-вот превратится в бабочку трусости.
– Ты же не собираешься отказаться от нее, Артур? – спросил я.
Он поднял взгляд на меня. В глазах – искорки гнева.
– Не пори чушь. Не для того я прошел через все это, чтобы падать на колени всякий раз, когда в студии нервничают. Кроме того, я никогда бы с ней так не поступил.
– Надеюсь, что ты говоришь правду.
– Я уже сказал, что да, черт дери!
– Но они всегда могут тебя прижать. В конце концов, они сидят за кассовым аппаратом.
Круз нервным жестом взлохматил волосы.
– Посмотрим, как она будет справляться. Съемки начинаются через два дня. Кенканнон говорит, что она делает успехи. Подождем… посмотрим, как у нее пойдут дела.
Дела у нее шли неважно.
Я был на съемочной площадке, как только они начали. Вызов Валери был на семь часов утра. Грим, костюмерная. За ней послали лимузин. И теперь – почти целый час – она сидела в гриме. Джонни Блэк появился, когда Валери шла в костюмерную. Он поцеловал ее в щеку, и она сказала:
– Надеюсь, я не испортила ваш текст. Это прекрасная роль, мистер Блэк.
Мы прошли к кофейному автомату и взяли каждый по стаканчику кофе. Мы молчали. Наконец Блэк посмотрел на меня и спросил – с наигранной небрежностью:
– Ну, и как оно смотрелось?
Я пожал плечами. Не ответив ничего. Ответа у меня не было.
Спустя несколько минут на площадке появился Кенканнон. Группа держалась начеку, она была готова, а режиссер сказал им, что сцены будут нелегкими, и всем нужно выложиться по-полной. И сейчас все рвались в бой.
Она вышла из костюмерной и направилась прямо к Джиму Кенканнону. Он отвел ее в сторону и принялся о чем-то шептаться. Это заняло у них добрых двадцать минут.
И потом начались съемки.
Текст она знала, но ее актерская манера была механической, словно заученной наизусть. Кенканнон пытался уговорить ее расслабиться. От этого она напряглась еще больше. Заперта в страхе, который невозможно было разрушить извне. Бессознательно она слишком долго жила в нем. Для нее слишком многое стояло на кону. Единственной защитой было то, что она знала на уровне инстинкта, знала, как актриса. К сожалению, актриса, которая все это помнила и этим пользовалась, была актрисой из 1940-х. Леди в туфлях на завязках. От которой не требовалось играть. Которой нужно было просто хорошо выглядеть, отбарабанивать свой текст и демонстрировать ножки.
Они снова и снова снимали первую сцену. Наблюдать за этим было невыносимо тяжело. Повтор за повтором, и Кенканнон, отчаянно пытавшийся добиться от нее звучания в тональности современного кино. Чего не было и в помине.
– Сцена восемьдесят восемь, дубль семь. А! Сцена восемьдесят восемь, дубль семь. Бэ! Сцена восемьдесят восемь, дубль пятнадцать. Ка! Сцена девяносто один, дубль три, Цэ! Снова и снова, и снова. И каждый раз она проваливала съемку. Группа нервничала, утомлялась и наконец стала смотреть на все с неприязнью. Другие актеры делали ядовитые замечания. Кенканнон был сама обходительность, но съемка превратилась в катастрофу. В конце концов, они что-то сняли.
Кенканнон ушел в темноту звуковой студии. Валери отправилась в свой вагончик, где, наверное, упала на диван. Группа начала готовиться к следующей сцене. Я направился к Кенканнону.
– Джим?
Он обернулся. Незажженная трубка свисала с его губы. Самое начало дня, – но он выглядел совершенно измотанным.
– Что-нибудь получится?
Он повернулся в сторону выхода. Он не нуждался в моих понуканиях. Думаю, его остановил озабоченный тон моего вопроса.
– Может, я смонтирую это так, чтобы сцена сработала.
И он вышел из павильона.
Днем Кенканнона на съемочной площадке навестил Круз. Они долго о чем-то говорили, прислонившись к вагончику. А потом принялись резать роль Валери. Строчку тут, реакцию там. Не слишком многое убиралось, но ей хватило, чтобы понять: они всерьез озабочены. Она занервничала еще больше. Но у них не осталось выбора. Они были прижаты к стене.
Но и она тоже.
Дальнейшие съемки – всю следующую неделю – были адовой мукой. Было понятно, что она не сможет добиться того, что нужно. Яснее ясного, что снятый материал безнадежно мертв. Но мы все еще питали надежду, что мастерство монтажеров сможет ее спасти.
Просмотры отснятого материала были еще более пугающими. В проекционной мы увидели тотальную неудачу того, что мы делали. Отснятый за день материал превращался из плоского в неестественный, а потом и в откровенно непрофессиональный. Кенканнон пытался это исправить, время от времени переводя фокус на других актеров, пробуя разные уловки с камерой. Ничто не работало. Все равно в центре всего стояла Валери, словно неподвижный взгляд крутящегося дервиша. И никакая техника не могла компенсировать то, чего так не хватало: концентрации, души, огня. Ее сцены были сущим кошмаром.
В проекционном зале зажегся свет, и мы с Крузом остались вдвоем. Мы не могли позволить кому-то еще смотреть отснятый за день материал. Мы посмотрели друг на друга, и Артур тяжело вздохнул:
– Господи, Фред! Что мы будем делать?
Я не мигая смотрел на белый экран. В голосе Круза было отчаяние. Я не знал, что сказать.
– Мы можем спрятать это от студии, на время? Хотя бы до тех пор, пока Кенканнон поколдует с монтажом?
Он покачал головой.
– Ни единого шанса.
– Они так плотно следят за тобой?
– Еще как! Думаю, они затребовали копии отснятого в лаборатории. Думаю, просматривают их прямо сейчас, видя то же, что только что видели мы.
«Но почему?» – спрашивал я себя. Почему? Хотя, если честно, ответ был у меня уже тогда, когда мы отсматривали материал. Бесспорный, очевиднейший ответ.
И он был прост: Валери Лоун никогда не была очень хорошей актрисой. Никогда. Ее фильмы делались для публики, готовой потребить любой кинопродукт. Именно поэтому Веда Энн Борг, и Вера Груба Ральстон, и Сонджа Хение, и Джинни Крейн, и Ронда Флеминг, и Эллен Дрю, и все прочие хорошенькие, но не особо талантливые актрисы добились успеха. Это была нация в дотэвэшную эру, которая заполняла кинотеатры с фильмами Первой Лиги, где играли Пол Муни, и Спенсер Трейси, и Джон Гарфилд, и Богарт, и Ингрид Бергман – но эти же кинотеатры нуждались и во второй части киносеанса, а это были Б-фильмы, с Рори Кэлхуном, и Лексом Баркером, и Энн Блит, и Вандрой Хендрикс. Им нужен был продукт, а не Хэлен Хейз.
Вот так все полуталанты и жили сказочной жизнью. Продавался любой товар. Но сейчас фильмы для проката имели миллионные бюджеты – даже продукты второй лиги, и сегодня уже никто не мог делать ставку на недоактеров. Конечно, до сих пор в этом бизнесе присутствовали бездарные красотки, которые попадали в тот или иной фильм, но они были в абсолютном меньшинстве. Но «Западня» была не из разряда халтуры. Это было солидное мероприятие, в которое уже влили миллионы, не говоря уже об ожиданиях и надеждах.
Валери Лоун была одной из последних в вымершей стае «полузвезд», которые каким-то образом сумели зацепиться за память публики, при этом новое поколение, молодежь понятия не имела, кто это вообще. И юные девушки уже не делали стрижки под Бетт Дэвис, или Джоан Кроуфорд, или Барбару Стэнвик. А она была всего лишь престарелой Валери Лоун – чего уже было недостаточно.
Из тех актрис, которые преуспели тогда, потому что тогда почти каждая обладательница аппетитных ножек могла преуспеть. Но не сейчас, потому что сейчас уже нужен был талант, настоящий талант, или же то, что именуется «личностью». И речь идет не о той «личности», которой обладала Валери в свое время.
– Ну, так что будешь делать, Артур?
Он не смотрел на меня. Его взгляд был зафиксирован на пустом белом экране.
– Я не знаю. Бог мне свидетель, я просто не знаю.
Контракт на пакет фильмов с ней не подписали.
На премьеру в кинотеатре «Египтянин» Валери пришла с Эмери Ромито. Она была сдержанной, элегантной, она раздавала автографы, и, как вполголоса заметил Круз, когда Валери пришла на очередное ТВ-интервью, она умерла в тот самый момент, который считала своим величайшим триумфом. Конечно, мы не рассказали ей о том, сколько миль пленки Кенканнон оставил на полу в монтажной. По сути, это была роль статиста.
Когда она вышла из кинотеатра после премьеры, лицо ее было белее известки. Она понимала, что ее ждет.
И мы ничего не могли сказать или сделать. Мы стояли, пожимая руки всем доброжелателям, говорившим, что у нас на руках мега-хит, а Валери Лоун шла сквозь толпу, следуя за потрясенным Ромито. Машина стояла на обочине, и они направились к ней. Тем временем в холл вышел Митчем, и толпа взревела от восторга.
И не было никаких охов и ахов в адрес Валери Лоун, когда она стояла, ожидая лимузин.
Она была трупом – и знала это.
В ту ночь я пытался дозвониться до Джули – после большого приема в ресторане «Дэйси». Ее не было. Я схватил бутылку виски и опустошил ее в несколько глотков.
И упал на пол. И, как будто этого было недостаточно, мне тут же приснился сон. Язык у меня превратился в кусок тряпки, и я не мог произнести ни единого слова. Но это было не важно, потому что тот, к кому я обращался, не мог меня слышать.
Лишенный голоса труп. А лица трупа я так и не смог рассмотреть.
9
Для Валери Лоун настало время анатомии греха: ей позвонило Агентство. Нет, не Спенсер Лихтман. Он был во Флориде, подписывая контракт с одной из актрис Айвена Торса для его новой пилотной серии об Эверглейдз. На шесть недель Спенсер выпал из голливудской жизни. Это был нелегкий контракт: пилотный материал, опцион на сериал, если пилот будет куплен, счета, транспорт и, кроме всего прочего, Спенсер эту актрисулю трахал. Так что Валери позвонило Агентство. Голос с металлическим тоном проинформировал ее, что у них идет реорганизация, что-то связанное с налоговыми долгами и бла-бла-бла.
Она спросила робота, что все это значит, и значило это, что контракта с Агентством у нее больше нет, а значит, ее теперь никто не представляет.
Она позвонила Артуру Крузу. Он отсутствовал.
Потом ей звонил менеджер отеля «Беверли-Хиллз». С ними связался бизнес-офис студии и сообщил, что арендная плата за бунгало остановлена с первого числа. То есть, через две недели.
Она позвонила Артуру Крузу. Его не было в офисе.
Она позвонила в закусочную Шиви. Чтобы спросить его, занято ли ее прежнее место. Шиви был в восторге. Все ждут ее, чтобы рассказать, как они рады тому, что ей снова удалось стать популярной, все эти газеты и ТВ, ого! Кто заслужил этого больше, чем их красавица Вал? И она не забывает старых друзей, не смотрит на них сверху вниз, даже снова став звездой, став знаменитостью, каково? Она поблагодарила его, сказала, что никогда их не забудет – и повесила трубку. Вот так вот! Вернуться в закусочную в пустыне она уже не может.
Она снова отхлебнула шампанского, и его вкус остался на языке.
Она позвонила Артуру Крузу. Он был в монтажной и просил его не беспокоить.
Она позвонила Артуру Крузу. Он был в Нь-Йорке с рекламистами и вернется только первого числа.
Она позвонила Хэнди. Он был с Крузом.
Она позвонила Эмери Ромито. Он снимался в вестерне для канала Си-би-эс. Его представители сказали, что он перезвонит ей позже. Но когда он позвонил, была уже ночь и она спала. Когда она позвонила ему на следующий день, он снова был на студии. На съемках.
Она попросила передать ему, что звонила Валери, но он так и не перезвонил ей.
Голодная хищная тень надвигалась на нее.
И прятаться было негде.
Катастрофа – как пожар в прерии. С какого-то момента его уже ничем не остановить, не погасить. Такая катастрофа знает только тактику выжженной земли.
Она позвонила Артуру Крузу. И сказала Роуз, что приедет поговорить с ним следующим утром.
Лимузина от студии уже не было, и она взяла такси.
Артур Круз провел бессонную ночь, зная, что она приедет. Ночью он смотрел ее старые фильмы в своем домашнем кинотеатре. Он ждал ее.
– Как дела с фильмом, Артур?
Слабая улыбка.
– Первые сборы вполне приличны. Студия довольна.
– Я читала рецензию в «Тайм». Они очень хорошо отзывались о тебе.
– Да. Ха-ха, вот неожиданность. Эти умники обычно ради красного словца…
Молчание.
– Артур, срок арендной платы истекает через неделю. Я бы хотела вернуться к работе.
– Хм… Мы все еще работаем над сценарием нового фильма, Валери. К тому же прошло пять месяцев с момента окончания съемок «Западни». Студия платила за бунгало до завершения пост-продакшна. Монтаж, редактура, озвучка, и все прочее. Они считают, что сделали для тебя достаточно много. И мне сложно с ними спорить, Валери… Серьезно.
– Я хочу работать, Артур.
– А разве твои агенты не добывают для тебя работу?
– Две мини-роли на ТВ, вот, пожалуй, и все. Думаю, слухи обо мне уже пошли. Наш фильм…
– Ты сработала прекрасно, Валери, просто прекрасно.
– Артур, не лги мне. Я знаю, что со мной… беда. Я не могу получить работу. Но мне же нужно что-то делать!
В ее голосе звучали жалобные нотки, но говорила она уверенно.
Как человек, требующий того, чего по праву заслуживает. Круз приуныл. И отреагировал враждебностью.
– Я должен что-то сделать? Боже, Валери, да я давал тебе работу в течение шести месяцев – ради трех дней съемок. Этого недостаточно?
Ее губы беззвучно шевелились, и потом она очень тихо произнесла:
– Недостаточно. Я не знаю, что мне делать. В закусочную я вернуться не могу. Я уже вернулась сюда. И мне не к кому обратиться. Ты меня сюда привел. Ты должен что-то сделать, это твоя ответственность.
Артура Круза затрясло. Под столом он сжал руками колени.
– Моя ответственность, – заявил он, расхрабрившись, – закончилась с твоим контрактом, Валери. Я из кожи вон лез, и ты не можешь этого не признать. Если бы у меня был на руках еще один проект, готовый к запуску, я бы дал тебе прочитать роль, но сейчас мы со сценаристом вносим серьезные изменения. Так что готового к запуску проекта у меня нет. И что я, по-твоему, должен сделать?
Его атака ошеломила ее. Она не знала, что сказать. Он был с ней честен и справедлив. Он делал все, что мог. Он рекомендовал ее другим продюсерам. Они оба знали, что она провалила фильм, и знали, что теперь все в Голливуде это знали. Круз был бессилен.
Она встала, решившись уйти, но он остановил ее.
– Мисс Лоун. – Не Вал или Валери. Он как бы отступил на шаг, чувство вины заставило его обратиться к ней почти официально.
– Мисс Лоун, могу я… кгм… Одолжить вам денег?
Она развернулась к нему:
– Да, мистер Круз. Можете.
Он полез в ящик стола, вынимая чековую книжку.
– Гордость мне не по карману, мистер Круз. Уже не по карману. Я слишком напугана. Так что выпишите сумму побольше.
Он не смел поднять на нее глаз. Потом склонился над столом и выписал чек на ее имя. Сумма не была настолько большой, чтобы унять дрожь в его коленях. Она взяла чек, не глядя на сумму, и молча вышла. Когда загудел интерком, и Рут сказала, что ему звонят, он рявкнул:
– Скажи, что меня нет. И больше сегодня не беспокоить!
Он отключился и откинулся на спинку своего глубокого кресла.
«Что еще я мог сделать?» – размышлял Круз.
Если он ждал ответа, то ответ пришел очень нескоро.
После того, как она рассказала Эмери обо всем, что произошло (хотя он и был с ней в последние пять месяцев – и знал, что происходит, запах могилы ведь не утаишь), она ждала, что он скажет ей: не беспокойся, я о тебе позабочусь, теперь мы снова вместе, и все будет хорошо, ведь я люблю тебя и ты моя.
Но ничего подобного он не сказал.
– Они не предложат опцион? Какой-то шанс есть?
– Эмери, ты знаешь, что они не рассматривали опцион всерьез. Прекратили о нем думать еще месяцы тому назад. Было просто устное обещание. На еще один фильм. Но Артур Круз сказал мне, что у них проблемы со сценарием. А это может тянуться месяцами.
Он обошел по периметру свою комнату в отеле «Стратфорд Бич» – унылую маленькую комнату с выцветшими обоями и ковром, который отель никак не хотел поменять, несмотря на то, что он был протерт до дыр.
– Но есть ведь что-нибудь еще?..
– Вестерн. Для ТВ. Просто камео. Снимают через месяц. Я была на прослушивании, им вроде понравилось.
– Ты, конечно же, возьмешь роль?
– Возьму, Эмери. Но это буквально несколько долларов. На жизнь не хватит.
– Мы все делаем то, что в наших силах, Вал.
– Могу я остаться у тебя, пока дела не пойдут чуть лучше?
Застыв в янтарной тюрьме отражений, показывающих его внутреннюю сущность, Эмери Ромито выпустил спасавшую его нить и снова рухнул в туннель отчаяния. Он не мог прийти к ней на помощь. Нет, не из-за душевной черствости, а из страха. Он был просто стариком, пытающимся установить связь с чем-то, что никогда не было даже сном – это была иллюзия. А теперь Валери грозила отобрать у него даже эту подделку, просто потому, что она, Валери, есть, потому, что она здесь, в этой комнате.
– Послушай, Вэл, я пытался осознать и принять все. Я понимаю, через что ты проходишь. Но это все тяжело, очень тяжело. Мне приходится выпрыгивать из шкуры, чтобы свести концы с концами.
Она заговорила с ним о том, что было у них много лет назад, и о том, что они почувствовали всего несколько месяцев тому. Но он уже удалялся от нее, бормоча от страха, прячась в тень своей крохотной жизни.
– Я не могу так, Валери. Я уже далеко не юноша. Помнишь, в те времена я мог делать все, что угодно. Я был диким, неукрощенным. И теперь мне приходится за это платить. Нам всем приходится платить за наше прошлое. Нам надо было все осознать, спасти хоть что-то, но кто же знал, чем все это кончится… Нет, я так не могу. У меня просто не хватит сил. Мне иногда перепадает работенка, мелочь, роли второго плана. Но сейчас нужно быть голодным, как нынешние молодые. Они всегда голодны. У меня практически нет сил, Валери. У нас ничего не получится. Просто не получится.
Она, не отрываясь, смотрела на него.
– Я просто вынужден цепляться! – Он уже кричал. Она нависла над ним.
– Цепляться за что? За эпизодические роли? За случайных людей и редкие выступления в клубах «Фрайарс»? Что у тебя есть, Эмери? Что у тебя действительно есть такого, что стоит хоть чего-то? Есть ли у тебя я, есть ли у тебя настоящая жизнь, есть ли у тебя что-то действительно твое, чего у тебя не отнимут?
Она умолкла. Спор был безнадежным.
Из него словно выпустили воздух. Это был усталый, напуганный старик с фотографией в актерском справочнике. Если у него когда-то и был хребет, он за все эти годы сточился – позвонок за позвонком. Он рухнул на ее глазах, отягощенный собственной неспособностью жить. Оставшись с этой отвратительной ходячей смертью, с элегантностью снаружи и копотью внутри, Валери Лоун смотрела на незнакомца, с которым в своих снах она двадцать лет занималась любовью. И она поняла, что их развели не мифы и ужасы киногорода. Их развела собственная неадекватность.
И она просто ушла от него. Она не могла винить его или наказывать. Отнять у него эту жалкую, крошечную жизнь означало бы его убить.
А она была гораздо сильнее Эмери Ромито, ее призрачного возлюбленного. Сильнее настолько, что ей не нужно было прибегать к убийству.
Хэнди
Я вернулся домой и увидел Валери Лоун, сидевшую возле бассейна и болтавшую с Пиджин. Она посмотрела на меня и слабо улыбнулась.
Я постарался не сгореть от стыда. И попытался не показать, как старательно я избегал нашей встречи. Не показать того, каких усилий мне стоило не сорваться с места и не удрать в Нью-Йорк.
Она встала, попрощалась с Пиджин и направилась ко мне.
Днем я был на шопинге. Мне пришлось подвинуть на сгибе локтя рубашки от Рон Постал и сумки от де Восс, чтобы я мог взять ее за руку.
Она была в стильном летнем платье. И пыталась вести себя свободно и непринужденно, чтобы не нагружать меня тоннами вины.
– Поднимемся, там будет прохладнее, – предложил я.
В квартире она осмотрелась.
– Вы, кажется, съезжаете? – сказала она.
Я осклабился. Чуточку нервно для легкой светской болтовни.
– Нет, у меня всегда такой бардак. У меня есть дом на Шерман Оукс, но в данный момент там вроде как поселилась моя вроде как бывшая жена. Пока что мы судимся. И потому я живу здесь, готовый сняться с места в любой момент.
Она кивнула.
Ужасы калифорнийских разводов ей были знакомы. Она сама прошла через несколько таких кошмаров.
– Мистер Хэнди, – начала она.
Я не стал настаивать на том, чтобы она звала меня Фредом.
– Вы были первым, кто со мной заговорил, и…
Вот оно. Я был виноват во всем.
Я выслушал все, что случилось у них с Крузом, с этой крысой Спенсером Лихтманом, с Ромито. И теперь наступала моя очередь. Ей было некуда идти, некого казнить, так что настал момент покаяния и для меня.
Я был тем, кто воскресил ее из безопасности и святости ее могилы; вернул ее в мир, столь же мимолетный, как премьера любой киношки. Она смотрела на меня и знала, что это ничем никому не поможет, но она смотрела, не отводя глаз.
И выложила все, слово за слово, тщательно взвешивая каждое из них.
Что мог я поделать, Христа ради? Я и так сделал все, что мог. Охранял ее от Хаскелла Баркина, и когда она прибыла в Голливуд, я практически нес ее на плечах. Что еще я должен был сделать? Мой мозг орал: «Я не сторож брату моему! Женщина, оставь меня в покое. Слезь с меня. Я не собираюсь умирать за тебя – или за кого угодно еще. У меня есть работа, и я хочу ее сохранить. Я получил весь пиар, который был необходим “Западне”, и да, спасибо, что помогла мне удержать работу в руках, но черт дери, ты не часть моего наследства. Я не твой папочка. Я не твой любовник. Я всего лишь человек с улицы, не позволяющий драконше захватить его дом – единственный якорь в моей жизни. Так что прекрати, не говори, не пытайся заставить меня плакать, потому что плакать я не стану. И не называй меня могильщиком, ты, старая стерва!»
– Я гордая женщина, мистер Хэнди. Но я не слишком умна. Я позволила лгать мне. И не раз, а дважды. В первый раз я была слишком молода, чтобы понимать, что происходит. Но в этот раз я знала, что вы можете сделать со мной, и сама влетела в западню. И я еще из везунчиков, знаете? Мне повезло – я осталась в живых. И знаете, что вы со мной сделали? Вы обрекли меня на жизнь, которой живет бедолага Эмери, а это ведь и жизнью не назвать.
Больше она не произнесла ни слова. Просто сидела, уставившись на меня. Ей не нужны были мои оправдания. Она знала, что я был бессилен, я был не лучше и не хуже, чем любой из них. Что я помог убить ее во имя любви.
Самые страшные преступления совершаются не во имя ненависти, но во имя любви.
Мы с Валери знали, что время от времени будут перепадать эпизодики на ТВ, и на жизнь ей хватит, но здесь, в этом долбаном городе, это не считалось жизнью. Это было убогое существование, год за годом, пока не наступит день, когда оно кончится, и за это оставалось только молиться.
Я знал, что Джули ко мне не вернется.
Знала это и Джули. Она разъезжала повсюду, потому что не выносила Голливуд, потому что знала, что этот проклятый город распорет ей живот и вывалит кишки на улицу. Она всегда говорила, что не согласится на судьбу ей подобных, и теперь я знал, почему с ней невозможно было связаться. Гудбай, Долли.
И чертова драконша заполучит мой дом, а сам я останусь в Голливуде – с Божьей помощью.
До тех пор, пока не слетятся птицы, чтобы выклевать мне глаза, и я уже не буду блондинчиком Хэнди, или хотя бы Хэнди – старым профи, а стану чем-то, что называется Фред Хэнди… О да, я помню его, он в свое время был вполне неплох. Но что, черт дери, я мог предложить миру, кроме быстрого языка и пары-тройки идей, однако, как только язык стал притормаживать, а идеи стали пересыхать как вода в лужице, чем же я буду отличаться от Валери Лоун или от ее бедного несчастного Эмери Ромито?
Она оставила меня в моей убогой квартире, выглядевшей так, словно я вот-вот съеду. Но мы с ней знали, что никуда я отсюда не двинусь.
10
В очень милом и уютном ресторанчике на бульваре Сансет, когда вечер наконец пришел и в Голливуд, Валери Лоун сидела на высоком табурете и ела сэндвич с ростбифом. Неспешно потягивая темный эль из стакана. На дальней стене зала висел негромко бормочущий телевизор. Какой-то старый фильм года этак 1942-го.
Среди актеров, занятых в фильме, Валери Лоун не было.
Вселенная к ней благоволила, но Вселенной не хватало чувства иронии. Так что на экране ТВ шел просто старый фильм. Через три стула от Валери сидел хиппи в темных очках и с семью нитями бус. Он поднял взгляд на бармена и мягко произнес:
– Эй, дружище.
Бармен подошел к нему. Он явно не любил это длинноволосое племя, но не мог игнорировать серьезные деньги, которые патлатые тратили в его заведении.
– Ну?
– Как насчет включить какой-нибудь другой канал? А еще лучше выключить эту хрень, а я кину монетку в музыкальный автомат?
Бармен посмотрел на него с кислой миной, подошел к телевизору и выключил его. Валери Лоун ела свой сэндвич, когда ее мир выключили.
Хиппи бросил четвертак в музобокс и выбрал какую-то рок-песенку. Потом вернулся на свое место, и музыка заполнил помещение ресторана.
Снаружи на город спустилась ночь, а с ней и ночные огни. Один из прожекторов освещал рекламный щит: фильм «Западня», в главных ролях Роберт Митчем и Джина Лоллобриджида; продюсер Артур Круз; режиссер Джеймс Кенканнон; автор сценария Джон Д. Ф. Блэк; музыка Лало Шифрина. В самом конце списка с заголовком «В фильме также снимались» был прямоугольник со смытым текстом. Когда-то он гласил: «А ТАКЖЕ МИСС ВАЛЕРИ ЛОУН в роли Анджелы».
Анджела превратилась в ролюшку без слов. Ее попросту не стало.
Валери Лоун существовала только как женщина в милом ресторанчике на бульваре Сансет. Она ела. И длинная вечно голодная тень тоже начала питаться.
Кремневое ружье, или захват Флинта: Нереализованный телефильм
ТИЗЕР. ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:
1. ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ ПЛАН – КАДР КРОВАВО-КРАСНЫЙ – ФАСЕТЧАТЫЙ.
Впечатление такое, словно мы заглядываем внутрь рубина (это и в самом деле так, но не будем сразу раскрывать карты). Переливающуюся игру света на гранях драгоценного камня мы видим в максимальном приближении: огни играют, сияют, гипнотизируют.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, и теперь мы видим, что красное зарево – это глаз Смерти, мертвенно-красный круг на лице скелета с косой, ТРИНАДЦАТОЙ КАРТЫ колоды Таро. КАМЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ОТЪЕЗЖАТЬ, и теперь показывает карту целиком. Она лежит на черной бархатной скатерти.
ГОЛОС ФЛИНТА ЗА КАДРОМ (З. К. – За Кадром):
– Не надо пугаться, мисс Гриффен. Смерть в картах Таро обычно означает трансформацию или перемены.
МЫ СЛЫШИМ ФЛИНТА в то время, как КАМЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ДВИГАТЬСЯ НАЗАД И ВВЕРХ. Теперь стол виден целиком. Он покрыт черной бархатной скатертью, на которой разложены карты Таро в стандартном для гадания порядке.
ГОЛОС КАЛИСТЫ (З.К.):
– Я потратила сто долларов для того, чтобы вы мне погадали, мистер Флинт. Уж хотя бы поэтому вы могли бы звать меня по имени. (Пауза.) А что касается перемен, то видеть вас в роли предсказателя – уже перемена не из маленьких.
КАМЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ОТЪЕЗЖАТЬ, и теперь мы видим ДЕРЕКА ФЛИНТА в элегантном смокинге. Он раскладывает карты Таро для гадания Калисты Гриффен, очень красивой женщины лет двадцати семи. ГОЛОСА ПРОДОЛЖАЮТ ЗВУЧАТЬ ЗА КАДРОМ.
ФЛИНТ (З.К.):
– Даже благотворительные вечеринки имеют свои плюсы, Калиста. А иначе как бы мы встретились?
КАЛИСТА (З.К.):
– О, да вы сладкоречивый дьявол.
ФЛИНТ (З.К.):
– Полагаете, на роль прорицателя я не гожусь? Кем же, по-вашему, мне следовало быть? Слушаю с нетерпением.
КАЛИСТА (З.К., обдумывает ответ):
– Вы были бы хороши в роли человека темных и чрезвычайно запутанных тайн. Но вы, скорее, плейбой, мистер Флинт. (Тут она делает паузу.) Вы не собираетесь предложить мне обращаться к вам по имени? (Нет ответа.) Ммм… Плейбой, мистер Флинт. Отпрыск богатого семейства. (По-прежнему нет ответа.)
– Чем вы занимаетесь, когда не раскладываете карты Таро, мистер Флинт?
ФЛИНТ (З.К., он явно веселится):
– Зовите меня Ишмаэль[10].
КАЛИСТА (З.К.):
– Ох, да полно вам, в самом-то деле!
ФЛИНТ (З.К.):
– Тогда пусть будет Дерек. И, когда я не работаю на благотворительных вечеринках, то всецело предан своему скромному ремеслу убийцы с топором и сексуального извращенца. А также исследователя человеческой природы.
Пока мы СЛЫШИМ этот диалог, КАМЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ НАЗАД И ВВЕРХ. Камера отъезжает от КРУПНОГО ПЛАНА Флинта и Калисты, и ПЕРЕДНИЙ ПЛАН на какой-то момент занят РУКОЙ, КОТОРАЯ ДВИЖЕТСЯ С ЛЕВОГО КРАЯ ЭКРАНА, в руке этой шикарный, с тиснением, пригласительный билет.
Рука выглядывает из рукава смокинга с накрахмаленной манжетой и дорогой запонкой. ВТОРАЯ РУКА тянется к ней СПРАВА, чтобы взять приглашение. Эта рука – в белой перчатке. Это явно рука лакея. Надпись на приглашении гласит: ГАЛА-ПРИЕМ В ПОЛЬЗУ ФОНДОВ БОРЬБЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ КАТАСТРОФ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ.
ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТ ЗВУЧАТЬ ЗА КАДРОМ, в то время как руки выходят из КАДРА, и КАМЕРА продолжает двигаться НАЗАД И ВВЕРХ, ведя съемку с КРАНА. Сейчас мы видим Флинта и Калисту за маленьким столом. Флинт окружен ГРУППОЙ буржуазного вида ДАМОЧЕК, которые наблюдают за сеансом его гадания. На ЗАДНЕМ ФОНЕ зал, заполненный гостями из высшего общества. Это исключительно яркие и богатые люди: индийские раджи, капитаны крупного бизнеса, в общем, обычная толпа для такого рода событий.
2. КАМЕРА СНОВА ДВИЖЕТСЯ НАЗАД И ВВЕРХ, ДОЛГИЙ КАДР, при этом мы продолжаем слышать ДИАЛОГ Флинта и Калисты. И, наконец, КАМЕРА ПОДНИМАЕТСЯ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ, работая С КРАНА, а мы видим всю публику через сверкающую хрустальную люстру на ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ.
ВСЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДИН НЕПРЕРЫВНЫЙ КАДР, ОТ КРАСНОГО ГЛАЗА КАРТЫ СМЕРТИ ДО ОБЩЕГО ПЛАНА ЗАЛА, СНЯТОГО ЧЕРЕЗ ЛЮСТРУ.
КОРОТКАЯ ПАУЗА, и КАМЕРА РАЗМЫВАЕТ СВЕРКАЮЩИЕ ОГНИ ЛЮСТРЫ, пока весь ЭКРАН не становится мерцающим источником света, а мы переходим к ОЧЕНЬ КРУПНОМУ ПЛАНУ КАЛИСТЫ, ГЛАЗА КОТОРОЙ СИЯЮТ НЕ МЕНЕЕ ЯРКО, ЧЕМ ХРУСТАЛЬ ЛЮСТРЫ.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ в тот момент, когда Флинт произносит слова «исследователь человеческой природы». СНОВА НАЕЗД НА ПРЕКРАСНОЕ ЛИЦО Калисты с изумительными чертами.
Это лицо из тех, за которые дерутся на дуэлях. На лице молодой женщины выражение яркой чувственности.
КАЛИСТА:
– Как интересно, Дерек! Мы можем об этом поговорить более подробно?
3. ТАКОЙ ЖЕ КРУПНЫЙ ПЛАН – ФЛИНТ. Он явно заинтересован, но старается не подавать вида.
ФЛИНТ:
– Почему бы и нет, Калиста? Сегодня вечером вуаль, скрывавшая будущее, похоже, раздвигается. У меня наберется не один час материала на сей предмет.
Пока Флинт говорит, КАМЕРА СМЕЩАЕТ ФОКУС на толпу позади него. Лицо ФЛИНТА ОСТАЕТСЯ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ, ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗМЫТО, и мы видим среди пухлых вдовушек, увешанных драгоценностями дебютанток, индийских богатеев в бархатных одеждах маленького человечка с лицом хорька, который следит за Флинтом из ближайшего угла. Флинт, как и все остальные, его не замечает.
КАМЕРА МЕНЯЕТ ФОКУС.
КАЛИСТА (З.К.):
– Здесь становится душно, вам не кажется?
(ФЛИНТ, с улыбкой):
– Да, нам стоило бы прогуляться в саду.
4. КАДР ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ – в кадре ФЛИНТ И КАЛИСТА встают. Толпа красавиц расстроена тем, что пофлиртовать с Флинтом им не светит. Они расходятся.
КАЛИСТА (кокетливо):
– Ты насквозь видишь все мои ловушки. Похоже, что от предсказателя ничего нельзя скрыть.
Флинт тасует колоду Таро, карта Смерти на самом верху. Он постукивает по ней пальцем.
ФЛИНТ:
– Мы можем оставить Костлявую здесь. Три – это уже толпа.
5. КАДР, СНЯТЫЙ ДВИЖУЩЕЙСЯ КАМЕРОЙ – С ФЛИНТОМ, КАЛИСТОЙ и толпой, окружавшей их. Наша пара отходит от стола, направляется к стеклянным дверям и выходит на веранду.
6. ДОЛГИЙ ПАНОРАМНЫЙ КАДР от стола до стеклянных дверей, через которые выходят Флинт и Калиста. НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ КРУПНО – лицо Человека-Хорька, он движется к столу, но мы не видим, что он там делает, потому что как только он подходит к столу, КАДР РЕЗКО СМЕНЯЕТСЯ НА
7. ВЕРАНДУ с ВИДОМ НА САД. В кадре Флинт и Калиста, они любуются прекрасным садом особняка, где вечеринка и происходит. Калиста достает сигарету из золотого портсигара (я советовал бы «Балкан Собране», черная сигарета с золотым мундшутком), и Флинт дает ей прикурить, щелкнув зажигалкой.
КАЛИСТА:
– Не желаете сигарету?
ФЛИНТ (с зажигалкой в руке):
– Я думал, мы оставили Костлявую в зале?
КАЛИСТА:
– Какое высокомерие… (голосом соблазнительницы) Вы не курите, вы не работаете, у вас что, вообще нет никаких недостатков, Дерек?
ФЛИНТ (подхватывая ее интонацию):
– Когда-то жил-был англичанин по имени Беджут. Он сказал однажды: «Хорошее дело не иметь пороков, но плохо жить без соблазнов».
Калиста смеется, Флинт берет ее под руку, и они спускаются по роскошной лестнице, а нас камера МОЛНИЕНОСНО ПЕРЕНОСИТ в сцену.
8. ВИД НА САД.
Камера движется по одной из дорожек лабиринта Минотавра вдоль высоких кустов, пересекающих сад по всем направлениям.
В то время, как мы добрались до перекрестка двух дорожек, КАМЕРА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ на ПАРЕ МУЖЧИН, ОДЕТЫХ В ЧЕРНОЕ, которые перемещают кусты на роликовых платформах, блокируя один проход и вынуждая гуляющих двигаться по новой для них дорожке. Черные костюмы этих двоих обтягивают их тела, закрывая мужчин с головы до ног – вырезаны только дырки для глаз. Весьма зловещий вид.
9. ВИД СВЕРХУ – в кадре лабиринт, где Флинт и Калиста подошли к точке, где люди в черном установили ложные кусты. Мы видим, что Флинт идет все глубже в лабиринт вместе с девушкой, а впереди по тропе, где идут Флинт и Калиста, двое в черном передвигают кусты, вынуждая Флинта двигаться все дальше вглубь лабиринта.
10. СЪЕМКА С КРАНА – ВИД СВЕРХУ на Флинта и Калисту, которые идут по последнему из «обустроенных» проходов к центральной – довольно большой – площадке лабиринта. НА НИХ ОПУСКАЕТСЯ КАМЕРА, и мы видим нашу пару уже на краю центральной площадки. КАМЕРА ДВИЖЕТСЯ ВНИЗ ПОЧТИ ДО САМОЙ ЗЕМЛИ, и Калиста внезапно опускается на колено рядом с деревцем бонсай.
КАЛИСТА:
– Мне камешек угодил под стопу…
Она возится с туфлей, Флинт ждет. Калиста поднимает голову и улыбается, кажется, что она хочет что-то сказать Флинту, но внезапно гримаса на ее лице застывает и она… резко вскрикивает…
КАМЕРА РЕЗКО ПАНОРАМИРУЕТ НА:
11. ПЛОЩАДКУ В ЦЕНТРЕ и задерживается на одном из мужчин в черном. Он целится куда-то из арбалета. Он стреляет в тот момент, когда КАМЕРА РЕЗКО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА:
12. СРЕДНИЙ ПЛАН КАЛИСТЫ, и короткая стрела, выпущенная из арбалета, вонзается в ствол бонсая, рядом с головой девушки.
13. КРУПНЫЙ ПЛАН: Флинт толкает Калисту, она падает на землю, а Флинт как тигр бросается к краю площадки по направлению к киллеру в черном, который бросается наутек. Флинт несется по земле, покрытой дерном, и внезапно земля уходит из-под его ног, когда он наступает на ловушку, казавшуюся твердой почвой.
14–18. СЕРИЯ КАДРОВ В КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКОМ РИТМЕ, КАДРЫ НАЕЗЖАЮТ ДРУГ НА ДРУГА. Флинт смотрит прямо в камеру, теряя равновесие. Он проваливается в дыру в земле. Его тело летит в глубокую шахту, и он с силой ударяется о дно западни.
19 КАДР ПРОПУЩЕН – ТЕПЕРЬ ФЛИНТ – КАМЕРА СНИМАЕТ ЕГО СВЕРХУ: Он трясет головой, приходя в себя. Потом медленно встает. Делает глубокий вдох, оценивает ситуацию, ощупывает руками стенки колодца.
Флинт на глубине примерно шести метров. Он прислоняется к одной из стен, обхватывает плечи руками, резко поднимает ноги вверх, опирается на противоположную стену, и очень осторожно разводит руки. И так, лицом вверх, он начинает двигаться по стене колодца. В этот момент мы слышим голос за кадром.
1-Й В ЧЕРНОМ:
– Он ползет наверх.
2-Й В ЧЕРНОМ:
– Он действительно ползет наверх, гори он огнем!
1-Й В ЧЕРНОМ:
– Это падение должно было его вырубить на неделю!
2-Й В ЧЕРНОМ:
– Ну и западню ты вырыл, идиот! Говорил я тебе, надо было на дне колодца установить колья!
1-Й В ЧЕРНОМ:
– О, черт…
Флинт приближается к самому верху. Он движется очень быстро.
21. КАДР С ЗЕМЛИ – ВПЛОТНУЮ КО ВХОДУ В КОЛОДЕЦ. Голова Флинта появляется над входом. КРУПНЫЙ ПЛАНТ ФЛИНТА, который осматривается по сторонам.
22. ГЛАЗАМИ ФЛИНТА – он обнаруживает, что смотрит прямо в наконечник шланга.
КАМЕРА СНИМАЕТ ПОД НАКЛОНОМ, ДВИГАЯСЬ ВДОЛЬ ШЛАНГА ДО КОНТЕЙНЕРА. Шланг держит красавица Калиста, наклонившись над колодцем. Платье задралось, обнажая бедра. Она целится прямо в лицо Флинта. Он, замерев, смотрит на нее.
КАЛИСТА (обращаясь к людям в черном):
– Колья не нужны. (Она улыбается.) Мечты гораздо лучше.
Теперь она улыбается Флинту, который пытается преодолеть последние дюймы до выхода из колодца.
23. СРЕДНИЙ ПЛАН – КАЛИСТА и ФЛИНТ.
КАЛИСТА:
– Класс, Дерек. У тебя есть класс. Но как предсказатель, ты не смог предвидеть момента, когда занавес опустится за тобой.
Она обдает его розовым газом из шланга. Флинт пытается задержать дыхание, а КАМЕРА ДВИЖЕТСЯ ВНУТРЬ КОЛОДЦА. Калиста надевает противогаз. Флинт кашляет, его глаза закатываются и… он снова падает в колодец. Звук УПАВШЕГО ТЕЛА.
24. КАДР СВЕРХУ, ИЗ-ЗА ПЛЕЧА КАЛИСТЫ, СТОЯЩЕЙ У КРАЯ КОЛОДЦА. Она снимает противогаз и отдает шланг и контейнер с газом человеку в черном, который подходит к ней. КАДР ЧЕРЕЗ ЕЕ ПЛЕЧО НА ФЛИНТА, который лежит, свернувшись, на дне колодца. Она приглаживает волосы и говорит очень, очень ласково.
КАЛИСТА:
– Скажем бай-бай красавчику Флинту.
Она отходит от колодца, в то время как КАМЕРА РЕЗКО УХОДИТ вглубь шахты и изображение РАСФОКУСИРУЕТСЯ. ЗАТЕМНЕНИЕ.
КОНЕЦ ТИЗЕРА. ПЕРВЫЙ АКТ. КАМЕРА НАВОДИТСЯ НА РЕЗКОСТЬ.
25. ВСЁ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ – ТЕМНЫЙ ЭКРАН. ДОЛГИЙ ПЛАН ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМНОТУ, и мы видим Флинта, бредущего к камере. На нем одни брюки, и ничего более.
Ни рубашки, ни галстука, ни смокинга, ни туфлей, ни носков, одни лишь брюки. Вокруг него – темнота.
Небытие. Абсолютная тьма. Вне времени и пространства. Сориентироваться невозможно, до тех пор, пока… пока миллионы крошечных огоньков разного цвета не начинают мерцать и вспыхивать в темноте вокруг него.
Что это? Свет звезд? Надвигающаяся гроза? Понять невозможно. Не ясно даже, близки ли к нему эти огоньки – или же они на расстоянии миллионов миль? Он буквально в чистилище. Он идет как сомнамбула, смотрит налево и направо, оборачивается, останавливается, вертится на месте – но… ничего не понять. Когда он идет к нам, мы СЛЫШИМ ГОЛОСА ЗА КАДРОМ (но Бога ради, отфильтруйте звук, чтобы мы поняли, о чем они говорят!) Это ГОЛОСА Калисты и ДРУГИХ, которые пока не появлялись в фильме. Они говорят о нем и о том, чего от него хотят.
КАЛИСТА (З.К.):
– Теперь внимание. Дерек Флинт – ключ ко всему. И важно помнить слово «лазер», это спусковой крючок, триггер. Вы поняли?
ГОЛОС ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА (З.К.):
– Лазер-триггер. (Пауза). Лазер, эл-а-зэ-е-эр. От аббревиатуры выражения «Усиление света с помощью индуцированного излучения».
КАЛИСТА (З.К.):
– Великолепно. Как ты вообще стал первым вице-президентом Оружейников? Соску уже не сосешь?
ПЕРВЫЙ В-П (З.К.) (робким голосом):
– Ну, хорош уже издеваться! Меня избрали на этот пост, и назначение утвердил сам Президент. Я свое дело знаю, и вырву тебе сердце, если ты не прекратишь свои шуточки.
Новый голос звучит с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОТТЕНКОМ. Он явно изменен какой-то электроникой так, что невозможно понять, мужской это голос или женский. Это голос таинственного ПРЕЗИДЕНТА ОРУЖЕЙНИКОВ.
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Прекращайте ссориться. У нас здесь деловая операция, а не детский сад. Мистер Флинт в ваших руках, доведите же дело до конца.
КАЛИСТА (З.К.):
– Так точно, сэр. (Пауза.) Этот брифинг подготовит вас к допросу Флинта. (Пауза.) Я передаю слово доктору Бармайеру.
ДОКТОР БАРМАЙЕР (З.К., говорит с нацистским акцентом):
– Как оберстмеканик Оружейников, я призываю вас к тому, чтобы понять всю важность ситуации. Итак, все – внимание! (Пауза.) Был разработан метод запуска ракет в космос с помощью лазерного луча. (Пауза.) Старт обеспечивает двигатель на жидком топливе, за которым следует луч света высокой интенсивности. Луч следует по пути компьютерно рассчитанного распространения вдоль тела ракеты. И таким образом…
ПЕРВЫЙ В-П (З.К.):
– Доктор, а нам и впрямь нужно все это знать? Мне сложно следить…
ДОКТОР БАРМАЙЕР (З.К.):
– И ТАКИМ ОБРАЗОМ! Ракета взлетает, используя одну двадцатую объема топлива ныне существующих ракет. (Пауза, продолжает более тихим голосом) Единственная проблема с этой революционной идеей в том, что фокусирующие элементы в современных лазерах недостаточно мощны. И потому…
КАЛИСТА (З.К., она перебивает оратора):
– Кгм… Спасибо, доктор. Очень информативно. Дальше брифинг поведу я. (Пауза.) Обычно в качестве фокусирующего элемента используют рубин. Увы, он не дает нужной мощности. (Пауза.) Восемь месяцев назад алмазный консорциум в Родезии представил «черный алмаз» – хотя, по сути, он кроваво-красный. Алмаз был продан Космическому Агентству Соединенных Штатов. При правильной огранке он будет идеальным фокусирующим элементом триггера лазера.
1-Й ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ (З.К.):
– И какое отношение ко всему этому имеет Флинт?
КАЛИСТА (З.К.):
– Он единственный человек в мире, который может огранить черный алмаз. И этот алмаз у него.
ДОКТОР БАРМАЙЕР (З.К., голосом доктора Стрейнджлава):
– Это самое разрушительное и ценное оружие, когда-либо придуманное человеком! С таким лазер-триггером Оружейники могли бы…
КАЛИСТА (З.К.):
– Доктор!
ДОКТОР БАРМАЙЕР (З.К.):
– Мы могли бы править миром со станций на орбите… Мы могли бы завоевать Польшу… Мы могли бы взять Польшу за три дня…
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Бармайер! С вами говорит Президент гильдии! (Все умолкают.) У нас, Оружейников, нет никакого желания «править миром». Мы деловая организация, беспартийная, не националистическая. Мы продаем товар. Помните это. Отберите этот черный алмаз у Флинта, чтобы мы смогли его продать… И хватит уже глупостей!
Весь предыдущий ЗАКАДРОВЫЙ ДИАЛОГ сопровождается изображением: Флинт бредет сквозь ТЬМУ, и фон меняется в согласии со звуком: когда заговорщики разглагольствуют о полетах на Луну, тьма вокруг Флинта рассеивается, потом опять густеет, снова рассеивается, пульсирует так, словно рассвет не может решиться на то, светлеть ему или гаснуть, и, наконец, гигантское изображение лунных кратеров появляется вокруг него и снова исчезает, так что он должен либо спрятаться, либо провалиться в них.
Разговор о лазерах синхронизирован с лучами яркого света, вспыхивающими вокруг Флинта, так, что ему приходится пригибаться, чтобы не поджариться в этом ослепительном свете.
Разговор о рубинах и черных алмазах синхронизирован с изменением заднего фона, который превращается из полога тьмы в сияющие грани драгоценного камня.
ПРИМЕЧАНИЕ: для этих меняющихся видов заднего фона следует использовать КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЗВЕЗДЧАТЫЙ ФИЛЬТР вместе с ШИРОКОУГОЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ («рыбий глаз») и МУТНЫМИ ЛИНЗАМИ, чтобы добиться галлюциногенного эффекта сопровождения всего того, что ГОВОРИТСЯ ЗА КАДРОМ.
Все происходящее мучает Флинта, его взгляд расфокусирован, в висках стучит, он дезориентирован, что видно по его движениям и выражению лица. И… когда мы СЛЫШИМ, как КОЛОТИТСЯ СЕРДЦЕ ФЛИНТА, тьма на заднем фоне начинает проблескивать крупными планами кроваво-красных приливов, которые появляются в такт с биением сердца Флинта. Все это должно производить впечатление того, что Флинт наглотался галлюциногенов.
ПРИМЕЧАНИЕ: в этой последовательности кадров важно использовать чрезвычайно зловещую музыку, что-то вроде «Весны священной» Стравинского (такие ее фрагменты, как «Жертвоприношение» и т. д.), чтобы движения Флинта были еще более пугающими.
В той точке ДИАЛОГА ЗА КАДРОМ, когда Бармайер вынужден замолчать (а Флинт слышит все, и особенно внимательно слушает голос Президента Гильдии), КАМЕРА ДВИЖЕТСЯ ВОКРУГ ФЛИНТА, и мы видим, что за его спиной, далеко, появляется круг света. Флинт бежит к нему, ГОЛОСА ЗА КАДРОМ ПРОДОЛЖАЮТ ЗВУЧАТЬ, и это приводит нас к кадру.
26. СРЕДНИЙ ПЛАН ФЛИНТА – ЕГО РЕАКЦИЯ, когда он замечает круг света и, удивленный, останавливается.
27. ЗА ФЛИНТОМ – ЕГО ГЛАЗАМИ – ТО, ЧТО ОН ВИДИТ.
Беседует группа персонажей, которые словно выпали со страниц «Алисы в стране чудес». Это воротилы, члены группы под названием Оружейники. Они появляются в течение всего эпизода, но их реальные имена в скобках даны только в этой сцене.
Это БЕЛЫЙ КРОЛИК (Калиста), ДОДО (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ), ШЛЯПНИК (доктор Бармайер), и МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ (1-й ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ). Для полноты сцены можно добавить ЧЕШИРСКОГО КОТА (2-й ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ). Они продолжают свой разговор, но слова, которые они произносят, никак не совпадают с тем, что мы слышим от ГОЛОСОВ ЗА КАДРОМ.
БЕЛЫЙ КРОЛИК (Калиста, З.К.):
– Мы знаем, что черный алмаз до сих пор у Флинта. Нам нужно узнать, где именно он его прячет.
БЕЛЫЙ КРОЛИК (1-й ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ, З.К.):
– Дайте-ка мне его на часок. Я его превращу в пакет творога. Он с радостью все расскажет.
ШЛЯПНИК (ДОКТОР БАРМАЙЕР, З.К.):
– Люмпен! Дубина! Этот человек не какой-нибудь бандит. Побоями его говорить не заставишь. Почему же, как думаешь, мы накачали его галлюциногенами? Ему нужно задурить голову, обмануть!
28. ОБЩИЙ ПЛАН – ТЬМА НА ЗАДНЕМ ФОНЕ – ВСЯ ГРУППА словно в каком-то небытии только и делает, что болтает глупости и ссорится, а Флинт подходит к ним вплотную. Это должна быть очень кафкианская сцена. Они продолжают говорить о нем так, словно он мертв, или его вообще нет здесь, а Флинт пытается начать разговор.
ФЛИНТ:
– Ваши мамочки очень странно вас нарядили.
БЕЛЫЙ КРОЛИК (КАЛИСТА, З.К.):
– Он должен был передать алмаз своему контакту на вечеринке.
ДОДО (ПЕРВЫЙ В-П, З.К.):
– Откуда ты знаешь?
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Я ей сказал.
ФЛИНТ:
– Кто это?
ДОДО (ПЕРВЫЙ В-П, З.К.):
– Может быть, он уже распилил алмаз?
БЕЛЫЙ КРОЛИК (Калиста, З.К.):
– Еще нет, насколько нам известно. Надо сломить его волю и заставить сделать огранку для нас.
ФЛИНТ:
– У вас два варианта: весьма маловероятный и нулевой. (Пауза.) Да что с вами со всеми, черт дери? Отвечайте мне!
Его игнорируют – так, словно Флинта здесь вообще нет.
ШЛЯПНИК (ДОКТОР БАРМАЙЕР, З.К.):
– Галлюциногены, которые я разработал, сделают эту задачу очень простой. Нет такого мозга, который мог бы им сопротивляться.
ФЛИНТ:
– С меня хватит! Кто такой этот Президент? Да кто вы все такие, сумасшедшие?
Внезапно, когда Флинт упоминает Президента, все поворачиваются к нему и впервые замечают его.
29–33 СЕРИИ КАДРОВ С РЕАКЦИЕЙ ГРУППЫ. Мы видим лица Оружейников, и то, как они реагируют на Флинта, которого они только сейчас заметили. КАМЕРА ПЕРЕНАЦЕЛИВАЕТСЯ НА ФЛИНТА. ЕГО РЕАКЦИЯ в тот момент, когда он понимает, что для него будет лучше, если они не узнают, кто он такой.
34. С ФЛИНТА НА КАЛИСТУ в тот момент, когда БЕЛЫЙ КРОЛИК достает огромный пистолет 45-го калибра и целится прямо в голову Флинта. КАМЕРА НАЕЗЖАЕТ НА ствол пистолета. Черное отверстие, внутри которого пляшут огоньки. КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, и мы видим восторг в глазах Калисты, – ах, с каким удовольствием она разнесла бы голову Флинта!
35. ОБЩИЙ ПЛАН. Остальные тоже вытащили пистолеты. Флинт резко разворачивается, он бос и полураздет, и он бросается прочь от линии огня… он перекатывается… они стреляют… Снова и снова… ГРОХОТ ВЫСТРЕЛОВ накатывает лавиной… КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, чтобы зафиксировать все происходящее… А Флинт катится в темноту, и там, где он касается пола, тьма исчезает, словно он всем своим телом нажимает на какие-то невидимые выключатели. КРУПНЫЙ ПЛАН ФЛИНТА, впервые на его лице страх. Это кошмар, от которого невозможно убежать, но он бежит – ПРЯМО НА КАМЕРУ. ЗАТЕМНЕНИЕ.
36. ОБЗОР С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО УГЛА – ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ. Флинт бежит от камеры в темноту, которой все меньше и меньше…
37. В то время, как ФЛИНТ бежит в темноту, за кадром раздается СМЕХ. Странный, безумный смех, такой, каким обычно смеются идиоты. Он бежит и бежит, КАМЕРА СЛЕДУЕТ ЗА НИМ, и внезапно Флинт бросается вперед, прыгает через невидимый барьер и ныряет в темную воду. Он идет ко дну.
38. ПОД ВОДОЙ тьма, полуночная чернота, но проблески какого-то неземного света позволяют нам видеть, что Флинт тонет. Он пытается вынырнуть на поверхность, но вместо этого погружается все глубже. Из его рта вырываются пузырьки воздуха. Внезапно погружение затормозилось. Он двинулся вверх. Флинт уже ничего не видит, он задыхается… Экран темнеет, и мы перемещаемся в
39. СКЛЕЙКА КАДРОВ – ИНТЕРЬЕР ЛАБОРАТОРИИ ВОЗНИКАЕТ ИЗ ТУМАНА, и мы видим, как две руки в черных перчатках вытаскивают Флинта в мелкий желоб, наполненный водой. Флинт гол, словно новорожденный (хотя на телах Калисты, Бармайера, 1-го В-П и 1-го ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРНОМ паховые области прикрыты складками жира). Желоб на лабораторном столе, и единственное, что удерживает Флинта от утопления, – это жесткий пластиковый мешочек вокруг его головы, скрепленный кольцом-воротником на шее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Галлюцинация утопления в шахте смешивается с реальностью, в которой Флинт пребывает в желобе с водой. То есть, видения пересекаются, становятся парафразом реальности.
КАЛИСТА:
– Единственное, что сохраняет тебе жизнь, Дерек, это мешочек с воздухом. И я бы не стала на твоем месте тратить этот воздух на то, чтобы капризничать и все отрицать.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Человек может утонуть в тридцати сантиметрах воды, вы знали это, мистер Флинт?
1-й В-П (изо всех сил пытается придать своему голосу пугающее звучание, но напрасно – безвольный, вялый слизняк):
– Вас поразит количество утоплений в ваннах, лишь наполовину наполненных водой.
Калиста смотрит на него с отвращением. Какой же он болван…
КАЛИСТА:
– Воздушный пузырь долго не протянет. (Пауза.) Черный алмаз, Дерек.
Флинт снова в воде. Его лицо искажено пластиковым капюшоном. Остальные наблюдают за происходящим.
1-й В-П:
– Это правда. Они быстро синеют.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Я говорил вам, что пытки его не сломают. Вытаскивайте его.
КАЛИСТА:
– Я так не думаю. Пусть Дерек убедится в том, что мы с ним работаем всерьез.
ПРЕЗИДЕНТ (металлическим голосом):
– Мы занесли ваше мнение в протокол, мисс Гриффен. Нам не нужны дополнительные доказательства. Вытаскивайте мистера Флинта из желоба.
ГОЛОС ПРЕЗИДЕНТА раздается из металлической решетки громкоговорителя, закрепленного на стене лаборатории. Когда он говорит, все замирают от страха. (Таков уж этот проклятый голос, если скажет: прыгать! – все скачут.) Человек в черном вытаскивает Флинта из желоба. Калиста расстегивает его капюшон. Флинт жадно глотает воздух. Когда к нему возвращается способность говорить, первое, что он произносит…
ФЛИНТ:
– Кто такой Президент Гильдии?
Негодяи в шоке.
КАЛИСТА (обращаясь к Бармайеру):
– Кажется, вы утверждали, что он не сможет вспомнить того, что говорилось, когда он пребывал под воздействием наркотиков?
ДОКТОР БАРМАЙЕР (он восхищен):
– Поразительный человек! Я его явно недооценивал. Теперь я вижу противника, достойного моей гениальности.
1-й В-П:
– Ответа на свой вопрос ты не получишь, Флинт. Даже мы его никогда не видели!
КАЛИСТА:
– Заткнись! Идиот, ты всего лишь вице-Президент, а не глава Пи-Ар департамента!
Внезапно в лаборатории снова раздается голос ПРЕЗИДЕНТА.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Тем не менее, я могу подтвердить то, что сказал вице-Президент. Я вне вашей досягаемости, мистер Флинт. (Обращаясь к Калисте): – Хватит. Давайте закругляться.
Человек в черном стаскивает Флинта со стола. Флинта пошатывает после наркоты. К нему направляется Бармайер со шприцом в руке.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Давайте-ка, я вкачу ему мощную дозу галлюциногена. Он поразительно силен.
Он нажимает на плунжер шприца, а остальные волокут Флинта к дверям, которые открываются при их приближении. По другую сторону дверей непроглядная тьма.
ДОКТОР БАРМАЙЕР (продолжает):
– И вот теперь мы отключим его от его собственной идентичности, ослабим его волю, сломим дух сопротивления… Проникнем вглубь его либидо и высосем все, что останется от его Ид. (Пауза.) Спустя несколько секунд он будет умолять нас забрать его алмаз.
Человек в черном тащит Флинта через дверной проем, и дверь захлопывается в тот самый момент, когда камера совершает РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД на:
40. ИНТЕРЬЕР – ЗЕРКАЛЬНАЯ КОМНАТА – В ЦЕНТРЕ КАДРА ФЛИНТ – внезапно вспыхивают огни, и Флинт оказывается в комнате, полной зеркал. Они повсюду – на стенах, потолке и на полу.
41. ФЛИНТ – ВИД СБОКУ. Он крутится на месте. НАЕЗД КАМЕРЫ – и мы видим его отражение без лица! КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ – Флинт смотрится в другое зеркало. КАМЕРА НАЕЗЖАЕТ СНОВА И СНОВА, и мы видим отражения без лица. В какую бы сторону он ни поворачивался, у всех его отражений нет лица.
42. КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ круг за кругом, а Флинт пытается найти хоть одно свое отражение с лицом. Не находит. И тут, словно сходя с ума, он начинает колотить кулаками по зеркалам. Все это СНЯТО В ДЕРГАННОМ ДВИЖЕНИИ КАМЕРЫ. Флинт бросается на зеркало с разбега, вновь и вновь, в порыве бессильного отчаяния. И, наконец, разбивает одно из зеркал, обнаружив… что за зеркалами тоже скрыты зеркала! И, как прежде, ни лица, ни Флинта, ни идентичности.
Он начинает орать как сумасшедший, бросаясь на одно зеркало за другим. Кажется, что он вот-вот вскроет себе вены, но здесь дверь открывается, и в комнату врывается Человек в черном. За ним бегут все остальные. Человек в черном отталкивает Флинта, отнимая у него кусок стекла. Потом рывком ставит его на ноги, в то время как КАМЕРА МЕДЛЕННО НАЕЗЖАЕТ НА ЛИЦО ФЛИНТА – и мы видим, что он улыбается улыбкой победителя.
ФЛИНТ (невинным тоном):
– Я действительно кажусь вам человеком, склонным к самоубийству?
43. КРУПНЫЙ ПЛАН НА КАЛИСТУ (она в ярости от того, что Флинт ее провел. Он всего лишь разыгрывал безумие.)
КАЛИСТА:
– Взять его!
Здесь Флинт рвется вперед, и мы видим РЕЗКУЮ СМЕНУ КАДРОВ:
44. БЕЛАЯ КОМНАТА – В ЦЕНТРЕ КАДРА ФЛИНТ, он пробегает сквозь дверной проем, и раздвижная дверь закрывается за ним. Он оглядывается по сторонам. Сейчас Флинт в комнате ослепительной белизны. Белые стены, потолок, пол, ни окон, ни дверей – ничего, кроме ослепительной белизны. Он моргает, протирает глаза. КРУПНЫЙ ПЛАН НА ФЛИНТА – он моргает дважды, и пелена с его глаз спадает. Теперь он видит на несколько тонов более отчетливо.
Внезапно ГОЛОС ПРЕЗИДЕНТА, замогильный, металлический и гипнотический, раздается из настенных громкоговорителей.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Ты никто, ты был никем, и всегда им будешь… У тебя нет ни имени, ни лица, ты ничто… ничто… ничто…
Он продолжает бубнить в том же ключе: гипнотически, чарующе и на одной из стен начинает пульсировать серая спираль. Снова и снова, магнитом притягивая внимание Флинта, словно кобра, околдовывающая мангуста. По кругу, по кругу, снова и снова: ты ничто!
45. В КАДРЕ ФЛИНТ, он чувствует, что гипноз начинает работать. Внезапно он встряхивает головой и с блаженным выражением лица медленно оседает на пол, приняв позу лотоса, с мирно сложенными руками. Он закрывает глаза и тут же впадает в йогический транс.
46. ПЕРЕХОД К ЛАБОРАТОРИИ КАЛИСЫ И БАРМАЙЕРА. Калиста смотрит на наручные часы.
КАЛИСТА:
– Он уже два часа в белой комнате. Может, достаточно?
Бармайер кивает, и они идут к раздвижной двери. Дверь открывается, и они заглядывают в белую комнату.
47. СЪЕМКА ОТ ДВЕРИ – И ОНИ ВИДЯТ ФЛИНТА в по-прежнему безмятежной позе лотоса. Попытка с комнатой не удалась.
Когда открывается дверь, Флинт поднимает голову. И снова улыбается.
ФЛИНТ:
– Так быстро? А я едва вышел на девятый уровень.
48. ПЕРЕХОД НА ПРИХОЖУЮ, В КАДРЕ ФЛИНТ И КАЛИСТА. Флинт в кресле, на запястьях наручники. Они явно чего-то ждут. Калиста наклоняется к нему.
КАЛИСТА:
– Дерек, послушай меня… пожалуйста. Прямо сейчас, за этой дверью, они решают твою судьбу.
ФЛИНТ:
– Кто такой Президент Гильдии?
КАЛИСТА (она в отчаянии):
– Ну, выслушай же меня! Я всего лишь агент. Оружейники не остановятся ни перед чем, чтобы добыть черный алмаз. Я говорю правду.
ФЛИНТ:
– О, мисс Гриффен, без очков и противогаза вы смотритесь… (пауза) на троечку.
КАЛИСТА:
– Идиот, ты никак не хочешь понять, что я пытаюсь тебе помочь!
ФЛИНТ:
– Я пытаюсь быть галантным, но, честно говоря, Калиста, ты помогаешь мне так же, как людям помогал Торквемада во времена испанской инквизиции.
КАЛИСТА (она абсолютно серьезна):
– Но ты стал мне… небезразличен.
ФЛИНТ (поднимая глаза к небу):
– Прости ей, ибо она не ведает, что творит.
В этот момент открывается дверь, и Двое в Черном хватают Флинта и тащат его в соседнее помещение.
ПЕРЕХОД К –
49. ИНТЕРЬЕРУ СУДЕБНОГО ЗАЛА. Собирается состав Трибунала. 1-й ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ в роли судьи, а на скамьях присяжных группа мужчин в черном. Бармайер стоит у кресла судьи. В зал входит Калиста. 1-й Вице-Президент надевает на голову парик – на манер английского суда.
Из громкоговорителя на стене раздается ГОЛОС ПРЕЗИДЕНТА.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Мистер Флинт, наша организация потратила тринадцать часов на то, чтобы убедить вас сотрудничать с нами. Анализ соотношения времени и продвижения к цели показывает, что мы тратили время напрасно. Оружейники действуют на простой основе соотношения выгод и потерь. В настоящий момент вы обошлись нам дороже, чем стоите. Господин 1-й Президент, вы готовы вынести приговор?
1-й В-П (радостно):
– Да, господин Президент! (Пауза.) Ликвидация собственности.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Приведите приговор в исполнение.
Двое мужчин в черном подходят к Флинту. Один перебрасывает веревку через балку в зале трибунала, другой ставит Флинта на невысокий табурет. Они набрасывают петлю на шею Флинта и затягивают ее.
1-й В-П:
– Я думаю, честь привести приговор в исполнение следует предоставить мисс Гриффен.
На лице Калисты гримаса ужаса.
КАЛИСТА:
– Я не нанималась для того, чтобы…
ПРЕЗИДЕНТ:
– Мисс Гриффен! Когда вас увольнять, решать будем мы.
Плечи Калисты опускаются. Она медленно идет к Флинту. Подходит вплотную, встает на цыпочки, и КАМЕРА МЕДЛЕННО НАЕЗЖАЕТ НА ЕЕ ЛИЦО – ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ ПЛАН. Она делает вид, что хочет его поцеловать. Говорит громко, чтобы 1-й В-П мог ее слышать.
КАЛИСТА:
– Последний поцелуй на дорогу, милый Дерек (затем шепчет). Вот… С этим ты не почувствуешь боли…
Она разламывает ампулу с розовым газом, поднеся ее к носу Флинта. Своим телом она прикрывает свои действия от присутствующих.
И потом целует его – долгий и страстный поцелуй.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ. Флинт слегка встряхивает головой, словно пытаясь прийти в себя.
1-й В-П (он визжит):
– Повесьте же его, наконец!
Калиста выбивает табуретку из-под ног Флинта, КАМЕРА ВЗЛЕТАЕТ ВВЕРХ И ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ФЛИНТА, показывая нам, как его ноги дергаются над полом, и в это время раздается жуткий механический голос ПРЕЗИДЕНТА, голос этот отдается эхом, и одна и та же фраза повторяется снова и снова.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Флинт мерррртв!..
ЗАТЕМНЕНИЕ И ВЫХОД ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ.
КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА. ВТОРОЙ АКТ. ЗАТЕМНЕНИЕ.
50. ХАОС, все в тумане пастельных цветов, но это совсем не тот хаос, что был в сценах с 25 по 37. Атмосфера более светлая, менее зловещая. Это Флинт – он приходит в себя. Завеса тумана начинает раздвигаться, и мы слышим ГОЛОС ФЛИНТА ЗА КАДРОМ, этот голос словно записан на кассету, безобразный, хриплый, жестяной, это похоже на запись – впрочем, это она и есть.
Флинт тщательно ощупывает все ушибы черепа, убеждаясь, что ни череп, ни мозг не повреждены. Потеря сознания, даже на несколько секунд, может стать указанием на то, что имела место внутричерепная травма. В таких случаях рекомендуют сделать рентгенотомографию.
ФЛИНТ С КАССЕТЫ (З.К., после паузы):
– На пятой кассете этой серии я записал инструкцию для использования рентгеновского аппарата.
К этому моменту туман уносится прочь, как самолет, летящий в облаках, и мы видим ГЛАЗАМИ ФЛИНТА, как расфокусированное изображение начинает обретать четкие формы.
51. ГЛАЗАМИ ФЛИНТА – ТО, ЧТО ОН ВИДИТ – КВАРТИРА ФЛИНТА – ДЕНЬ.
Сам Флинт в квартире. Для этих сцен нужна элегантная меблировка. Над Флинтом склонились две гостьи –
ТАНЯ (восхитительная мулатка) и
КЛАУДИЯ (поразительная красавица в стиле Барби, но при этом имеющая ученые степени в восточной философии и физике пьезоэлектричества).
Они ухаживают за ним. Теперь он различает все вполне отчетливо, и мы видим, как Таня выключает магнитофон, на котором звучали медицинские инструкции Флинта.
52. СРЕДНИЙ ПЛАН. Флинт садится на футуристического вида медицинскую кушетку, выехавшую из стены. Флинт протягивает руку и выключает свет, направленный на него сверху. Он потирает ладонью шею. На ней воспаленный красный след, как от петли…
ФЛИНТ (кашляет):
– Похоже, они уже и убивать разучились, не то, что прежде.
Он встает, не очень уверенно, и обе девушки бросаются, чтобы его поддержать. Движением глаз он останавливает их.
ФЛИНТ:
– Я в порядке. Просто проверяю моторику. Дайте мне пару секунд.
Он снова закрывает глаза и через секунду-другую вздыхает с облегчением. Открывает глаза.
ФЛИНТ:
– Все в норме. Сердце немножко неровно работает. Но этим займемся позже. Какую кассету вы включали, чтобы реанимировать меня?
ТАНЯ:
– Ту, что ты записал для нейрохирургии и педиатрии.
ФЛИНТ:
– Хм… Надо будет дополнить. Включить еще и трансплантологию.
Он осматривается по сторонам. Похоже, он немного обеспокоен тем, что оказался здесь.
ТАНЯ:
– Мы добрались до тебя вовремя. Они хотели отвезти тебя в больницу, но мы убедили их, что квартира – наилучший вариант.
ФЛИНТ:
– У меня были очень интересные посмертные видения. Нечто из Египта до-династийного периода или эпохи Птолемеев.
Он задвигает смотровую койку в стену.
КЛАУДИЯ (протягивая ему вино):
– Отдел мистера Крамдена снабдил тебя устройством отслеживания. Какое-то время ушло на то, чтобы отследить сигнал и определить твое местонахождение, но агенты вовремя ворвались туда и обрезали веревку.
Флинт ходит, проверяет себя, вслушивается в свое тело. Словно бы иллюстрация к максиме «Человек, познай самого себя». Он смотрит на Клаудию, пытаясь улыбнуться и поблагодарить ее за информацию.
ПЕРЕХОД НА:
53. СТЫКОВКА КАДРОВ – КЛАУДИЯ.
Флинт внезапно видит ее с пылающими рыжими волосами. Кадр длится какую-то секунду, и затем тот же кадр с КЛАУДИЕЙ, которая стоит перед ним, и здесь ПЕРЕХОД НА:
54. ТОТ ЖЕ КАДР, ЧТО И 52, и мы видим Клаудию уже с каштановыми волосами. Они слегка красноватого оттенка, но не такие огненные, как в предыдущей стыковке.
ФЛИНТ:
– Когда ты успела покрасить волосы?
Клаудия в смущении гладит себя по волосам.
КЛАУДИЯ (с улыбкой):
– Просто помыла голову. (Пауза.) Как ты себя чувствуешь?
ФЛИНТ:
– Мне нужно поговорить с Крамденом.
ТАНЯ:
– Он скоро прибудет.
ФЛИНТ (вертит головой):
– А где Доктор Зарков?
Словно по сигналу, Доктор Зарков, огромная немецкая овчарка, послушная одному лишь Флинту, вбегает в комнату. Дерек опускается на одно колено, и ошейник с жетонами пса издает ОТЧЕТЛИВЫЙ ЛЯЗГАЮЩИЙ ЗВУК.
ЗАМОРОЗИТЬ КАДР!!!
Пес застывает в движении.
55. ЭКРАН РАЗДЕЛЕН ПОПОЛАМ. Вертикальная рамка с одной стороны, на другой – КРУПНЫЙ ПЛАН Флинта, который вслушивается в лязг жетонов на ошейнике.
Затем идентичная вертикальная рамка появляется с другой стороны экрана, и в кадре снова ФЛИНТ, слушающий лязг жетонов. Но звук совершенно иной, нежели прежде.
Обе рамки пребывают в неподвижности, а мы, вместе с Флинтом, сравниваем два разных звучания, и затем быстрый ПЕРЕХОД НА:
56. ФЛИНТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ, и мы видим по его лицу, что наш герой обеспокоен.
Что-то здесь не так. КАМЕРА УХОДИТ ОТ ФЛИНТА, действие возобновляется, и пес бежит к нему. Флинт гладит собаку и встает. КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ НА ОБЩИЙ ПЛАН.
ФЛИНТ:
– Вам не кажется, что стало теплее, чем обычно, градуса на три?
Клаудия и Таня обмениваются быстрыми взглядами. Практически молниеносными.
КЛАУДИЯ:
– Мы раздвигали портьеры, чтобы впустить послеполуденное солнышко.
ФЛИНТ:
– Послеполуденное?
В тот момент, когда звучит его вопрос, свет в помещении меняется. Немного, но все же заметно.
ФЛИНТ:
– Но я готов поклясться, что сейчас утро.
57. В КАДРЕ ФЛИНТ. Он идет к панели со ртутными выключателями и щелкает одним из них. Стена разворачивается и превращается в книжный стеллаж.
ФЛИНТ:
– В ожидании Крамдена, почитаю-ка я что-нибудь об этих посмертных египетских видениях.
Он протягивает руку к книгам. КАМЕРА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ НА КОРЕШКЕ КНИГИ, название гласит: БОТАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГИПЕТСКОГО БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ. Внезапно на его месте появляется отчетливое название совершенно другой книги: ИСТОРИЯ ЕГИПТА.
Это длится всего лишь мгновение, но Флинт успевает отдернуть руку. Он гладит корешки книг, пока не находит искомый том. Медленно снимает его с полки.
ФЛИНТ:
– Должно быть, в последний раз я поставил книгу не на то место.
Он снова превращает стеллаж в стену и поворачивается к двум женщинам. Таня идет через комнату. Он внимательно следит за ней. Снова СТЫК С ДРУГИМ КАДРОМ идущей Тани, но сейчас ее походка немного иная, чуточку менее подвижная.
Теперь КАМЕРА – НАЕЗД НА ФЛИНТА, он исподтишка осматривает квартиру. Края кадра слегка размыты.
(ЛИНЗА С ТУМАННЫМ СТЕКЛОМ, или ПОКРЫТАЯ СЛОЕМ МАЗИ) ФЛИНТ:
– Ну, разве не странно, что я не поставил книгу на место? И даже вне соответствия с библиотечной системой Дьюи. Ммм…
В этот момент раздается звон дверного колокольчика, и Клаудия идет к двери. Камера удерживает ПОСЛЕДНИЙ КАДР.
58. НОВЫЙ РАКУРС – ДЕЙСТВИЕ, в квартиру входит Ральф Крамден, глава суперсекретной организации, на которую работает Флинт. Крамден осматривается, он ищет взглядом овчарку, и Флинт жестом приказывает Доктору Заркову лечь. Крамден, облегченно вздохнув, отдает шляпу и плащ Клаудии, и направляется к Флинту, протягивая тому руку.
Крамден проделывает все это с наигранной сердечностью и даже с некоторой помпезностью, с какой президент общества «Кивани» встречался бы с младшим сенатором.
ПРИМЕЧАНИЕ: одет он со вкусом и выглядит почти элегантно.
КРАМДЕН (с чрезмерной аффектацией):
– Флинт! Флинт! По-ра-зи-тель-но, просто поразительно! Ты не устаешь удивлять меня. Мои поздравления!
Флинт слегка сбит с толку, но пожимает протянутую руку.
ФЛИНТ:
– Выпьете что-нибудь? Мистер Крамден?
КРАМДЕН (потирая руки):
– Нет, нет, спасибо, Флинт, нас ждет срочное дело, мы не можем терять ни минуты.
ФЛИНТ:
– У нас здесь прекрасное шампанское, от «Брийон», урожая 1964-го.
Он поднимает бокал с вином… и на его лице появляется странное выражение. Флинт облизывает губы.
ФЛИНТ:
– Однако оно кажется мне более дымчатым, чем обычно.
Он разглядывает одержимое бокала на свет, при этом слегка взбалтывая.
У нас возникает чувство, что он обнаружил нечто такое в своем собственном мире, что явно «неправильно», или, по меньшей мере, «необычно».
КРАМДЕН (нетерпеливо):
– Флинт, хватит. Я понимаю, ситуация с этой бандой торговцев оружием была весьма опасной, но время от времени подводит даже совершенная технология. Мы спасли тебя, как только предоставилась возможность. Так что… хватит!
59. ГЛАЗАМИ ФЛИНТА – КРАМДЕН. Флинт смотрит на Крамдена, щегольски одетого. Флинт поднимает бокал с вином, смотрит на просвет и – КРУПНЫЙ ПЛАН, мы видим Крамдена через бокал с вином.
На пару секунд в бокале возникает турбулентность, Флинт опускает бокал, и мы видим Крамдена практически в той же позе, но теперь он одет иначе. Теперь он выглядит помятым, как рассеянный профессор колледжа. На нем мешковатый пиджак, галстук-бабочка, съехавший набок, на рубашке пятна соуса, одним словом, это тот же Крамден, но в совершенно ином свете. Флинт снова поднимает бокал, и – переход к КАДРУ 60 –
– МЫ ВИДИМ ТО ЖЕ, ЧТО БЫЛО В КАДРЕ 58, Крамден снова безукоризненно одет.
ФЛИНТ (задумчиво):
– Должен признаться, вы выглядите весьма элегантно, мистер Крамден. Я бы сказал, изящно. Новый костюм?
КРАМДЕН:
– Флинт! (Пауза.) С Оружейниками, как с организацией, покончено. В контратаке мы стерли их с лица земли. Теперь нам ничего не угрожает. Так что, Флинт… Доставайте свой черный алмаз, чтобы я передал его нашей службе безопасности.
ФЛИНТ (очень серьезно):
– А вам удалось схватить Президента Гильдии?
Крамден протягивает руку с выражением лица «Дайте же мне алмаз!»
КРАМДЕН (приказным тоном):
– Флинт! Алмаз!
61. МОНТАЖНАЯ ПЕРЕБИВКА – МЫ ВИДИМ ГЛАЗАМИ ФЛИНТА. Он смотрит на руку Крамдена и впервые замечает, что на его руке шесть пальцев.
ПЕРЕХОД НА 62. ОБЩИЙ ПЛАН – КОМНАТА – ФЛИНТ, который заметил, что у Крамдена шесть пальцев на руке, но он не подает вида, что увидел последнее явное доказательство тому, что в королевстве Датском что-то прогнило. Он идет через всю комнату к Тане.
ФЛИНТ:
– Алмаз здесь. Он в сейфе.
КРАМДЕН (нетерпеливо):
– Ближе к делу, доставай его, быстро. Каждая секунда на счету!
ФЛИНТ:
– Замок закодирован. Он откроется, среагировав только на голос Тани.
Положив руку на плечо девушки, он ведет ее к металлической скульптуре у одной из стен комнаты, наигрывает какую-то индийскую мелодию на струнах скульптуры – и круглая верхушка пьедестала (на котором покоится металлическая скульптура) отъезжает в сторону, и падает на пол. При этом открывается внутренняя оболочка, и обнажается сейф – колонна из молибденовой стали, с цифровым диском-замком и дверцей в верхней части.
ФЛИНТ (обращаясь к Тане):
– Повторяй за мной: «Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове[11]».
ТАНЯ:
– «Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.»
И… ничего не происходит.
КРАМДЕН (раздраженно):
– В чем дело, почему сейф не открывается?
ФЛИНТ (с улыбкой):
– Все очень просто. Кем бы ни была эта юная леди, она – не Таня. Потому ничего и не происходит.
Крамден начинает пыхтеть и фыркать. Таня, шокированная, отодвигается от Флинта, словно он внезапно сошел с ума.
КЛАУДИЯ:
– Дерек! Какие ужасные вещи ты говоришь!
ТАНЯ:
– Дерек, ты расстроил мистера Крамдена. У него уже лицо пошло пятнами.
КРАМДЕН:
– Черт дери, Флинт! Это невероятно, это совершенно немыслимо! (Он движется по направлению к Флинту). Сейчас же прекрати весь этот цирк, открой проклятый сейф и отдай мне черный алмаз!
Он уже стоит вплотную к Флинту и замахивается, явно стремясь уложить Флинта одним ударом. Тот продолжает мило улыбаться, но когда Крамден отступает на шаг, чтобы сделать замах мощнее, Флинт решает, что пора прекратить всю эту комедию. Одним плавным движением он разворачивается и наносит удар, от которого ложный Крамден влетает в прикрытую стеклом полку с китайским фарфором. Всё, включая Крамдена, обрушивается на пол. Шум, грохот, кусочки фарфора летят во все стороны.
ФЛИНТ (Крамдену):
– Если бы эти китайские безделушки были настоящими, мне было бы жаль потерять их. Как-никак, династия Тан.
63. НОВЫЙ УГОЛ СЪЕМКИ – ЗЕРКАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. Флинт снова крутится на месте и видит наступающих на него двух девушек. Их руки в атакующей позе дзюкэндо (об этом спросите Брюса Ли, это и в самом деле выглядит угрожающе).
Первой прыжок делает Таня, издав агрессивный крик. Флинт легко отбивает ее атаку, отшвыривая ее к стене. И очень вовремя, потому что его уже атакует Клаудия. Он наносит удар (который девушка отбивает локтем), такой удар мог бы нокаутировать менее подготовленного бойца. Теперь противники обмениваются молниеносными ударами: удар, выпад, удар, защита, удар – и, наконец, Флинт сбивает ее с ног. Но на него снова бросается Таня.
Бой продолжается. Фантастическая дуэль на троих, где Флинт старается обезвредить – но не убить, ведь он джентльмен – двух девушек (которые не такие уж девушки, что в какой-то степени оправдывает человека, который вытирает пол двумя дамами).
ПРИМЕЧАНИЕ: Автор с удовольствием расписал бы всю хореографию этой эпической схватки (в которой отражена вся суть Второго Акта), но из собственного печального опыта Автор знает, что «Режиссер боев» и «Режиссер сегмента» любят сами выстраивать такие сцены. И кто я такой, чтобы лишать ребят их законного удовольствия? А потому – «Бой продолжается.» Прописывайте действие сами, но, бога ради, сделайте так, чтобы все выглядело серьезно и смертельно опасно.
Наконец Флинт уложил обеих нападавших. Он связывает их волосы вместе, поднимает их как два мешка с картошкой и швыряет на диван, так, чтобы они не могли освободиться от связки.
Он поворачивается в тот самый момент, когда Крамден открывает по нему огонь из автомата. Не надо спрашивать, откуда у него взялось это оружие. Очень скоро и вы, и публика поймете. Все поймете.
Флинт откатывается в сторону, уходя с линии огня – как борец, отталкивающийся от канатов, он мчится от стены к стене, взбегает по одной стене и отталкивается от нее, бежит через комнату, чтобы отскочить от второй стены, меняя направление и все время издавая леденящие кровь крики дзен-воина… Бравурное действие, от которого у зрителя должна отвиснуть челюсть. И, когда Крамден вертится на месте, пытаясь угадать, в каком направлении рванет Флинт, он внезапно теряет равновесие, и Флинт наносит резкий удар ногой, после которого Крамден взлетает в воздух, врезается в окно пентхауза и вылетает вместе с тучей осколков. В течение оооочень долгого времени слышен ВОПЛЬ, пока Крамден летит вниз – на тротуар.
КАМЕРА МЕДЛЕННО НАЕЗЖАЕТ НА ФЛИНТА, который стоит потрясенный тем, что ему пришлось убить своего «босса». Он пытается прийти в себя, потирая виски и веки закрытых глаз, и потому не видит то, что
64. МЫ ВИДИМ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗА СПИНОЙ ФЛИНТА. А там «Крамден» воспаряет с улицы, влетает в окно, хватает тяжелую вазу и наносит Флинту удар по затылку. Флинт падает, как носорог, на которого налетел тяжеленный грузовик.
65. КОМНАТА – ГЛАЗАМИ ФЛИНТА. Когда он начинает терять сознание, комната расфокусируется, изображение размывается, туманится по краям, и мы СМЕШИВАЕМ изображение квартиры с интерьером лаборатории Оружейников. Потом веки Флинта начинают подрагивать, но он еще не потерял сознания, и потому изображение лаборатории становится более резким, и Флинт видит Двоих в Черном. Их костюмы задраны, словно вывернутые и перекрученные чулки, связаны вместе – и мы понимаем, что две «девушки» были ничем иным, как галлюциногенным вариантом Двоих в Черном, а их «волосы», которые он связал вместе, были капюшонами их костюмов. Бармайер пытается развязать узел.
Когда Флинт начинает терять сознание, на краю его исчезающего мира появляется Калиста. Она недовольно смотрит на него.
КАЛИСТА (словно издалека):
– Даже эта галлюцинация не сработала. (Пауза.) Похоже, нам придется прибегнуть к менее приятным процедурам.
И Флинт расплывается, а мы ВИДИМ его обмякшее тело, которое поднимают над головами развязавшие наконец свои узлы Двое в Черном, которые уносят Флинта, так, словно готовятся принести его в жертву богу Солнца.
ЗАТЕМНЕНИЕ и ВЫХОД ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ.
КОНЕЦ ВТОРОГО АКТА. ТРЕТИЙ АКТ. ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ:
66. ИНТЕРЬЕР КОМНАТЫ – УДЛИНЕННЫЙ КАДР, СНЯТЫЙ ШИРОКОУГОЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ вдоль всей комнаты, которая не намного меньше Латвии, благодаря искажению картинки, которую дает наш объектив. Стены белые или серые, с черными линиями, которые сходятся на большом расстоянии от зрителя. В ровном, мягком ГОЛОСЕ ЗА КАДРОМ мы СЛЫШИМ английский акцент. Не карикатурный, но достаточно культурный, чтобы было ясно: говорит образованный англичанин из хорошего общества, примерно как тот тип, что озвучивает рекламу в стиле старика ШЕКСПИРА. Все это время ГОЛОС ЗВУЧИТ ЗА КАДРОМ, а КАМЕРА В РОВНОМ РИТМЕ ДВИЖЕТСЯ к тому месту, где сходятся черные линии, а в точке этой находится кресло в стиле Сааринена, с изогнутой спинкой, очень современное, очень уютное и манящее. (Если нужно, автор готов предоставить такое кресло для съемки.)
ШЕКСПИР (З.К.):
– Мистер Флинт, меня попросили немного побеседовать с вами. (Пауза, и далее, с самоироничной легкостью). Я полагаю, они хотят, чтобы я убедил вас спасти собственную жизнь или, по меньшей мере, сохранить рассудок. Может быть и то, и другое суть синонимы, впрочем, я никогда не был в этом уверен. Мне кажется, что малая толика креативного сумасшествия – это именно то, что не позволяет нам окончательно превратиться в сонных тюленей.
КАМЕРА ПРОДОЛЖАЕТ РОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ в течение всего диалога, пока не останавливается – СРЕДНИЙ ПЛАН, кресло вращается, не позволяя увидеть, кто же в нем расположился – нам мешает спинка, но вот последнее движение, и мы видим Флинта, сидящего в кресле, спокойного и внимательно слушающего голос за кадром. Он одет точно так же, как и в начале фильма: элегантный смокинг, скрещенные ноги, выглядит он весьма щеголевато и собранно.
ФЛИНТ:
– Если я не ошибаюсь, вы еще одна галлюцинация.
ПЕРЕХОД НА:
67. ОБРАТНЫЙ РАКУРС НА ФЛИНТА – ЕГО ГЛАЗАМИ. Комната с противоположной точки зрения, сходящиеся в перспективе черные линии, и напротив Флинта такое же кресло в стиле Сааринена. В кресле, попивая эль из стакана «пол-ярда», в костюме елизаветинской эпохи, восседает УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. Не Бармайер, не кто-то одетый в стиле Барда, но сам Шекспир. О Боже! Бард кивает, отвечая на вопрос Флинта, и поднимает бокал, словно собирается провозгласить тост за дружбу.
ПРИМЕЧАНИЕ: В течение всей сцены Бард ни в коем случае не должен выглядеть угрожающе. Он дружелюбен, воспитан – то, что мы и ожидали бы от Шекспира.
ШЕКСПИР:
– Увы. Боюсь, что так оно и есть.
ФЛИНТ:
– Так с какой стати мне вообще обращать на вас внимание?
ШЕКСПИР:
– Потому что я гораздо более интересный собеседник, чем вся эта шайка хулиганов, придурков и мелких воришек.
ФЛИНТ:
– Согласен. И фразы вы строите гораздо изящнее.
ШЕКСПИР (улыбаясь):
– Так давайте же побеседуем как… Как интеллигентные люди. Всего лишь пару минут.
ФЛИНТ:
– Выбирайте тему.
ШЕКСПИР (подмигивая):
– Вас не огорчит, если я стану говорить о геммологии? И уж тем более об алмазах?
ФЛИНТ:
– Ни в малейшей степени.
ШЕКСПИР:
– Давайте поговорим о патриотизме.
68–75. СРЕДНИЙ ПЛАН, ПООЧЕРЕДНО, ФЛИНТ, БАРД и КАМЕРА, ДВИЖУЩАЯСЯ МЕЖДУ НИМИ, не позволяя кадру стать визуально статичным. Но ПЕРСПЕКТИВА СОХРАНЯЕТСЯ так, чтобы мы воспринимали эту дискуссию в огромном отрыве.
Как физически, так и интеллектуально.
ШЕКСПИР:
– Как вы считаете, должен ли человек умирать за свою страну?
ФЛИНТ:
– Я считаю, что он должен жить ради своей страны.
ШЕКСПИР:
– А! Отличное начало. Значит, вы не считаете, что человек должен жертвовать жизнью за свои убеждения?
ФЛИНТ (осторожно и медленно, словно читая заклинание):
– Я считаю, что жизнь священна, и ее следует сохранять любой ценой. (Пауза.) Если уж человек готов умереть, то он делает это во имя идей, а не убеждений.
ШЕКСПИР:
– То есть, вы отрицаете смерть во имя лозунгов?
ФЛИНТ:
– Идею нельзя убить. Убить можно носителей идеи (Пауза.) Христианские мученики погибали сотнями, но это было время христианства, и ничто не могло его остановить. Во всяком случае, императорскому Риму это не удалось.
ШЕКСПИР:
– Получается, по-вашему, что им следовало выживать, даже ценой отречения?
ФЛИНТ:
– В случае Галилея это сработало, а идеи его живы. Да, я думаю, что именно это хотел сказать.
ШЕКСПИР:
– Но если это так, разве мы не побеждаем несправедливость и зло уже тем, что боремся с ними?
ФЛИНТ:
– О чем и речь. Оставаясь живыми, мы сохраняем способность продолжать борьбу. (Пауза.) Шесть миллионов евреев пошли на смерть в крематории и газовые камеры, многие из них без малейшего сопротивления. Их смерть ничем и никому не помогла, не смогла прекратить эту чудовищную бойню.
ШЕКСПИР:
– Вы осуждаете их смерть как соучастие из-за бездействия? Мне это кажется слишком жестоким, мистер Флинт.
ФЛИНТ:
– Я, конечно же, не осуждаю их. Я просто считаю, что, если бы они сражались, яростно цепляясь за жизнь, их убийцам было бы не так легко все это провернуть.
ШЕКСПИР:
– Развивая эту мысль, не думаете ли вы, что вам следовало бы сохранить вашу жизнь в этой безнадежной ситуации?
ФЛИНТ:
– Я думал, что мы не будем обсуждать проблему черных алмазов.
ШЕКСПИР (пожимая плечами):
– Я просто привожу ваш аргумент к логическому завершению.
ФЛИНТ:
– Это гораздо лучше, чем все, что я когда-либо делал.
ШЕКСПИР:
– Какая чудесная мысль! Можно мне ею воспользоваться?
ФЛИНТ:
– Ее уже использовали.
ШЕКСПИР:
– О! И кто же?
ФЛИНТ:
– Чарльз Диккенс.
ШЕКСПИР (задумчиво):
– Не думаю, что слышал о таком человеке.
ФЛИНТ:
– Да, был такой смекалистый паренек. Быстро пробился в высшую лигу. Говорят, у него большой талант.
ШЕКСПИР:
– А что вы скажете о Марло?
ФЛИНТ (осклабившись):
– Что вы думаете о Марло?
ШЕКСПИР:
– Он забавный тип.
ФЛИНТ:
– А как вам нравится предположение о том, что Марло написал ваши пьесы?
ШЕКСПИР:
– Давайте не опускаться до бестактности, мистер Флинт. (Пауза.) Но продолжим. Теперь… Фома Аквинский о мужестве и вере.
ПЕРЕХОД НА:
76–80. СВЯЗАННЫЕ друг с другом СЕРИИ НАПЛЫВОВ – ТОТ ЖЕ РАКУРС, ЧТО И В СЦЕНАХ 68–75. Собеседники сидят в разных позах, иногда один из них встает, чтобы размять ноги, но они безостановочно дискутируют, продолжая свой спор в самом высоком стиле. Мы словно ПОДСЛУШИВАЕМ фрагменты и кусочки диалога, но НАПЛЫВЫ снимаются мягко и гладко, что указывает на то, что прошло довольно много времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти фрагменты диалога не должны быть синхронизированы с действием.
ШЕКСПИР:
– Но вы не можете использовать Ницше для подкрепления своих аргументов!
ФЛИНТ:
– Тейяр де Шарден настаивает на том, что…
ШЕКСПИР:
– Региональный шовинизм может лежать у истоков всех экспансионистских войн…
ФЛИНТ:
– Аквинат сказал: «Закон человеческий не обязателен для человека совестливого. И если он противоречит высшему закону, закону человеческому не должно подчиняться».
И наконец, НАПЛЫВ НА:
81. СРЕДНИЙ ПЛАН – КАДР РАЗДЕЛЕН НАДВОЕ – ФЛИНТ И ШЕКСПИР.
Бард выглядит усталым. Но и Флинт тоже. Шекспир вздыхает и поднимает руки, словно сдаваясь.
ШЕКСПИР:
– Как долго мы уже беседуем? Дни, месяцы, годы? Время для нас превращается в прах, Дерек.
ФЛИНТ:
– Я не мог бы себе представить более приятного разговора, Билл.
ШЕКСПИР:
– К несчастью для нас обоих, я испробовал все мыслимые интеллектуальные подходы, но ничто не в состоянии опровергнуть твою безупречную логику.
ФЛИНТ:
– Я польщен.
ШЕКСПИР:
– Должен признать, Дерек, ты просто чудо. Полагаю, ты сумел бы перехитрить самого дьявола в аду. Великолепно! Грандиозно! И ведь ты ни разу не прибег к reductio ab absurdum[12] или deus ex machina[13]. (Пауза.) К сожалению, этот раунд ты выиграл. Я вскоре снова растворюсь в тумане, и тебе… или, точнее, вам придется выступать без меня. Мисс Гриффен просила меня помочь ей в следующей фазе твоего, кгм, лечения, и я надеюсь, что разработанная мною тема тебя позабавит.
ФЛИНТ:
– Вы не устаете меня удивлять, сэр.
ШЕКСПИР:
– Ты джентльмен, Дерек. До последнего вздоха. (Пауза.) Я считаю, что у каждого грандиозного и творческого промывания мозгов должна быть своя тема. Я выбрал Великие Литературные Моменты для работы с тобой.
ФЛИНТ:
– Более чем уместно.
ШЕКСПИР:
– Прощай, Дерек. Все было очень, очень приятно. (Пауза.) Что ж, в добрый путь.
И Бард начинает размываться, подрагивать, исчезать, а СПЕЦЭФФЕКТЫ накладываются на изображение. В кадре перспектива комнаты, с двумя креслами и сходящимися черными линиями. НАЛОЖЕНИЕ – из комнаты в лабораторию, и мы РАСТВОРЯЕМСЯ В:
82. СКЛЕЙКА С СОВМЕЩЕНИЕМ – ФЛИНТ – КРУПНЫЙ ПЛАН. Мы видим его, и нам кажется, что он сидит все на том же кресле в стиле Сааринена. Потом КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, и мы обнаруживаем, что он сидит на какой-то машине, похожей на кресло. Поговорим немного об этой машине. Это машина ужаса, ребята. А это значит, что она не должна напоминать нечто из сериала 1942 года «Убийца шпионов против Скорпиона» или дурацкие игрушки из фильмов с Джеймсом Бондом. Это должно быть нечто простое, но пугающее, нечто вроде тех машин, которые нам знакомы и любимы нами, что-то вроде машин смерти, таких как электрический стул, гильотина, виселица – словом, нечто столь же простое, как нож или бомба. Эта машина несложна и не создана для комфорта. Если сможете вызвать в себе это чувство, вы поймете, о чем речь. Если человека пристегнуть к такой машине, инфаркт будет гарантирован. Представьте себе камеру для электрошоковой терапии, с резиновым покрывалом и электродами. Содрогнитесь! Машиной управляет Бармайер, которого мы видим, когда КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ от Флинта. Мы также видим Калисту и 1-го Вице-Президента. Калиста наклоняется – и целует Флинта в губы.
КАЛИСТА:
– Ты еще в сознании?
ФЛИНТ:
– Какой иннинг[14] в игре?
КАЛИСТА:
– Подходит к концу девятый, Дерек.
Бармайер становится рядом с Калистой. Похоже, ему не терпится рассказать Флинту, что с ним вот-вот произойдет.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Вы знакомы с романом Оруэлла «1984»? (Флинт не реагирует, и герр Доктор продолжает.) В книге этой просвещенное правительство старается сломать Уинстона Смита, заставить его поделиться информацией, которая им нужна…
Калиста поглаживает лицо Флинта кончиками пальцев.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Они знают, что каждым человеком владеет глубоко скрытый страх, нечто особенное и мощное, то, что прячется обычно в самых потаенных уголках мозга. Они находят этот страх Смита, они помещают это нечто в Комнату 101 (как они ее называют), потом туда же приводят Уинстона Смита, и он ломается, потому что он в состоянии вынести любую пытку, которую они могут изобрести… любую, кроме того, что он боится более всего. Ему говорят, что у правительства множество таких Комнат 101, в каждой скрыт иной немыслимый ужас, каждая разновидность которого подобрана для конкретного человека.
КАЛИСТА:
– Эта машина позволит нам заглянуть в твой таламус[15], Дерек.
Она гладит его лоб, ерошит волосы.
КАЛИСТА:
– Там мы обнаружим то, что лежит за дверями твоей Комнаты 101. Это очень страшный способ ломки человека, дорогой мой, поэтому я придерживала его на крайний случай… Но ты не оставил нам никаких альтернатив. (Пауза, и затем с дрожью в голосе) Мы должны взломать тебя, Дерек.
Она кивает Бармайеру, и тот, вернувшись к пульту управления, щелкает выключателем. Контакты искрят… и тело Флинта начинает дергаться, когда по нему проходит ток.
Боль! Бармайер наблюдает за Флинтом, и усиливает напряжение. Флинт дергается еще сильнее, и сейчас в КАДРЕ ЕГО ЗРАЧКИ, СУЗИВШИЕСЯ ДО ТОЧЕК.
РАСКРЫВАЮЩАЯСЯ РАМКА КАДРА, ПО МЕРЕ ТОГО, КАК МЫ ПЕРЕХОДИМ К СЦЕНАМ:
83–90. НАЕЗДЫ (И ОТЪЕЗДЫ) НА ЗРАЧОК. Точка света в центре зрачка расширяется и охватывает фигуру Флинта, который растянут как жертва на поддоне из палок и прутьев. Он снова обнажен, хотя тени Чистилища могут скрывать определенные части его тела, одновременно оставляя лицо освещенным. Внезапно прутья начинают воспламеняться, сначала в одном месте, потом в другом, и еще, и еще… КАМЕРА СКВОЗЬ ПЛАМЯ НАЕЗЖАЕТ на испуганное лицо Флинта. Он кричит, и одновременно мы слышим голос ПРЕЗИДЕНТА, металлический и зловещий.
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Главный страх Флинта это гибель в огне.
Снова НАЕЗДЫ (И ОТЪЕЗДЫ) НА ЗРАЧОК. Флинт, уже в новом Чистилище, прислоняется спиной к кирпичной стене. Слева и справа от него стены, впереди – вход во Тьму.
НАЕЗД КАМЕРЫ НА ЕГО ГЛАЗА, и ШУМ КРЫСИНОЙ ВОЗНИ становится громче и громче. В темноте Чистилища – тысячи горящих демонических глаз, и поток крыс рвется к Флинту. Их когти СКРЕБУТ по кирпичным стенам. КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, и мы видим Флинта, съежившегося у стены. Он вопит, когда крыса падает со стены ему на плечо.
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Флинт боится нападения крыс.
ЗРАЧОК СУЖАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ. Флинт в очередном Чистилище растянут на чем-то, что напоминает гигантскую паутину. КАМЕРА НАЕЗЖАЕТ НА ЕГО ЛИЦО и дает КРУПНЫЙ ПЛАН на пауков, на сотни мохнатых существ, воплощенного ужаса, они ползают по паутине, взбираются по его голой ноге, и мы слышим ЗА КАДРОМ ВОПЛИ ФЛИНТА, а голос Президента звучит снова, и звучит торжествующе:
– Пауки!
ЗРАЧОК СУЖАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ. Флинт, в новом Чистилище, лежит в могиле, края которой начинают обрушиваться. Он дергается, не в силах спастись, и мы СЛЫШИМ голос Президента:
– Страх быть похороненным заживо!
Снова ЗРАЧОК СУЖАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ. Теперь Флинт на краю отвесной пропасти, которая, похоже, не имеет дна. Внезапный рывок вперед – и он летит, летит и летит вниз.
ПРЕЗИДЕНТ (З.К.):
– Страх высоты!
Снова ЗРАЧОК СУЖАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ. Флинт связан, его голова поддерживается кожаным воротником, все это в круге света из Чистилища. ГЛАЗАМИ ФЛИНТА мы видим две невероятно острых иглы, направленных в его глаза. На иглах играют световые блики, а Флинт вопит, одновременно СЛЫШЕН голос Президента:
– Он боится этих игл… Достаточно. А теперь… (Пауза.) Вколоть ему психоделики, и прогнать его через все выявленные страхи… И он заговорит…
Иглы опускаются все ближе к глазам Флинта, на одной из них играют отблески света, ЗРАЧОК ВСЕ БЛИЖЕ – и ЗАТЕМНЕНИЕ…
91. ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ – СРЕДНИЙ ПЛАН – ЛАБОРАТОРИЯ. Черная рамка кадра проецируется на спину 1-го В.П. и становится отчетливее по мере того, как он отходит от КАМЕРЫ, и мы видим лабораторию Оружейников. Флинт по-прежнему сидит в демоническом кресле. По периметру комнаты стоят Бармайер, Калиста и Двое в Черном. Они явно в отчаянии.
1-й В.П. (яростно):
– Ваше отношение к этому делу, Гриффен, станет предметом расследования, уж будьте уверены! У нас акционеры, перед которыми нужно отчитываться!
ДОКТОР БАРМЕЙЕР (устало):
– Я заставил его пройти через все ужасы, которых, согласно его подсознанию, он боялся более всего. Все, с максимальной интенсивностью. И все равно он не хочет говорить.
КАЛИСТА
– Я ничего не понимаю. Ведь его сознание подсказало нам, чего он боится!
Флинт поднимает голову. Он еще слаб, кое-как выходит из-под действия наркотиков, но постепенно приходит в себя.
ФЛИНТ:
– В духе Великих Литературных Моментов… Есть, знаете ли, такая сказка старого дедушки Римуса, где Братец Кролик говорит Братцу Лису, что он может делать с ним что угодно, но только не бросать его в заросли вереска. Тут-то Братец Лис бросает его именно туда – и Кролик удирает.
Из громкоговорителя на стене несутся ШУМЫ И ТРЕСК, сквозь которые прорывается сердитый голос Президента.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Мистер Флинт, думаю, пришло время вас немножко пощекотать. (Пауза.) Вам знаком рассказ Чехова «Пари»?
ФЛИНТ:
– Я хотел бы немного размять ноги, если вы не против.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Развяжите его, но следите за каждым его движением.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Он слишком слаб от наркотиков. Нам не о чем беспокоиться.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Я сказал: следить за ним!
Один из Пары в Черном подходит к Флинту и отвязывает его от кресла ужаса. Флинт встает на ноги, а все присутствующие невольно напрягаются. Флинт прохаживается, разминается, восстанавливает самообладание.
92. В КАДРЕ ФЛИНТ, он идет к стене, на которой укреплен громкоговоритель. Флинт подходит к нему, задирает голову.
ФЛИНТ:
– Что-нибудь почитывали в последнее время, Президент?
ПРЕЗИДЕНТ:
– Чехова, мистер Флинт. «Пари». Вам знаком этот рассказ?
ФЛИНТ:
– Два человека заключают пари. Один спорит с другим, что тот не сможет оставаться в одиночестве, в закрытой комнате в течение двадцати пяти лет, ни с кем не разговаривая. Если он все-таки сможет, то выиграет крупную сумму денег.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Одиночество проделывает с ним интересные фокусы, мистер Флинт. Он задыхается в заточении, затем у него начинаются галлюцинации, он практически сходит с ума.
ФЛИНТ:
– Да, но какова концовка!.. Он начинает читать, и все эти годы тратит свое время на изучение всего, чему его могут научить книги. За пять минут до того, как истекут двадцать пять лет, и он победит, он выходит из комнаты, зная, что выиграл, став более мудрым и знающим человеком, что он не мог бы провести эти годы лучше.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Превосходно, мистер Флинт. Именно такой щекотке я вас собираюсь подвергнуть.
ФЛИНТ:
– Однако двадцать пять лет – не слишком ли долго ждать, пока я заговорю? К тому времени и лазерный триггер устареет. К тому времени у нас будут звездолеты на бурундучковой тяге, или что-то типа этого…
ДОКТОР БАРМАЙЕР (З.К.):
– О, нам не придется ждать так долго…
93. КАМЕРА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ С ФЛИНТА НА БАРМАЙЕРА, который хищно улыбается, поглядывая на громкоговоритель.
ДОКТОР БАРМАЙЕР:
– Великолепно, господин Президент. Наши галлюциногены обладают изумительным свойством растягивать субъективное ощущение времени. Три недели одиночества в комнате покажутся ему пятьюдесятью годами… Сотней лет!
Двое в Черном хватают Флинта после того, как Калиста дает им знак. Флинт пытается вырваться. Ему удается обратиться к Президенту.
ФЛИНТ:
– Господин Президент! К слову о Великих Литературных Моментах: будут ли у меня книги, чтение которых сделает меня мудрее и лучше?
Двое в Черном пытаются заставить его замолчать, но Президент останавливает их.
ПРЕЗИДЕНТ:
– Прекратите! Мистер Флинт возбудил мое любопытство. Старая задача о человеке на необитаемом острове… И только одна книга. Какую же книгу он возьмет с собой? В данном случае комната, запечатанная на пятьдесят лет. (Пауза.) Какую книгу вы выберете, мистер Флинт? «Войну и мир»? Библию? «Записки Пиквикского Клуба»? Или «Наука и здравомыслие» Коржибского?
Флинт на минуту задумывается. Все выжидательно смотрят на него.
ФЛИНТ:
– Пожалуй, «Дон Кихота».
ПРЕЗИДЕНТ:
– Прекрасный выбор. Позаботьтесь, чтобы ему дали издание в мягком переплете. Мы не станем рисковать тем, что мистер Флинт сделает отмычки из картонной обложки.
ФЛИНТ:
– Могу ли я надеяться на ваше великодушие, и смею ли просить вас присовокупить пачку сигарет и коробку спичек?
ПРЕЗИДЕНТ:
– Ну мы же не варвары! Конечно, вы получите требуемое, мистер Флинт, но должен вас предупредить, что, если вы затеете пожар в закрытой комнате, это автоматически включит разбрызгиватели, которые сделают побег невозможным. Кроме того, вы можете простудиться. (Пауза.) А провести полвека с простудой не слишком приятная перспектива.
В КАДРЕ ЛИЦО ФЛИНТА КРУПНЫМ ПЛАНОМ, и затем КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, и мы видим уже новую сцену в тот момент, когда дверь тюремной камеры открывается. В камере небольшой столик, коврик на полу и ничего больше. Флинту вручают книгу, сигареты и спички, и он входит внутрь. Дверь захлопывается, запирается на засов, и через маленькое окошко в двери Калиста обращается к Флинту.
КАЛИСТА:
– Счастливых тебе пятидесяти лет. Инъекции доктора Бармайера скоро начнут работать. (Пауза.) Теперь у тебя времени с избытком…
Она захлопывает окошко, и следует РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД НА:
95. ИНТЕРЬЕР КАМЕРЫ и НАЕЗД НА Флинта, который остается в одиночестве на полвека.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО АКТА. ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ, ЗАТЕМНЕНИЕ.
ЗАТЕМНЕНИЕ и после этого ВЫХОД ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ – В КАДРЕ ФЛИНТ. Он сидит на полу в позе лотоса. Мы слышим ШЕПЧУЩИЕ ГОЛОСА. Сначала ничего не удается понять, голоса звучат словно ниоткуда и одновременно отовсюду. В КАДРЕ ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ ПЛАН левого глаза Флинта, и в глубине глаза мы видим, когда камера переходит на:
97. СЦЕНА ВНУТРИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА – Калиста шепчет ЗАМОГИЛЬНЫМ голосом. Голос звучит все более и более отчетливо:
– Препарат доктора Бармайера скоро начнет работать… Наркотик, меняющий ощущение времени, уже бежит по всем твоим сосудам…
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ В:
98. ТОТ ЖЕ КАДР, ЧТО И 96. КАМЕРА НА ФЛИНТА, в то время как демонический шепот Калисты рассыпается в набор бессмысленных звуков.
КАМЕРА ПЕРЕНАЦЕЛИВАЕТСЯ на правый глаз Флинта – на:
99. То же, что и в 97, но с другим глазом. Сцена в глазном яблоке – Флинт, сидящий в позе лотоса, напротив ДРЕВНЕГО, гротескно высохшего старого гуру, от которого исходит шепот, становящийся все более различимым. Он говорит с Флинтом, находясь в глазном яблоке Флинта.
ДРЕВНИЙ (надтреснутым голосом):
– Сын мой, когда ты накопишь хорошую карму, то обретешь полное знание и полный контроль над своим мышлением и телом. Силой мысли ты избавишься от вредоносных испарений и жидкостей; яды в твоем организме могут быть изгнаны легко, как дурные помыслы.
ФЛИНТ:
– Я понял, о Древний. (Пауза.) Болезнь может быть психосоматической. Контролируя свои телесные функции, я смогу изолировать фракции яда в своей крови и выводить их через поры кожи.
ДРЕВНИЙ:
– Разве тебе не говорили, сын мой, чтобы ты исключил любую магию из своих медитаций?
ФЛИНТ:
– Моя вина.
ДРЕВНИЙ:
– Умолкни и медитируй, ну и потей, если хочешь.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ от глаза, следует к ПЕРЕХОДУ НАПЛЫВОМ:
100. ТОТ ЖЕ КАДР, ЧТО И 96. ФЛИНТ ЗАПОЛНЯЕТ ВЕСЬ КАДР, он внезапно покрывается обильным потом. КАМЕРА УДЕРЖИВАЕТ КАДР и МЕДЛЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА:
101. КАЛИСТА, ее ЛИЦО в таком же КРУПНОМ ПЛАНЕ, КАК И ЛИЦО ФЛИНТА в предыдущей сцене. Когда лицо Флинта РАСПЛЫВАЕТСЯ, лицо Калисты оказывается в фокусе.
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, показывая Калисту на кровати, в полупрозрачной сорочке, но она не спит, она думает о чем-то, КАМЕРА ДВИЖЕТСЯ НА ее левый глаз, и мы видим:
102. ПЕРЕХОД НАПЛЫВОМ на глаз Калисты – это точная копия сцены 7 на веранде, где Флинт впервые с ней познакомился.
Они стоят там, и Калиста ждет, когда же Флинт зажжет ее сигарету. И снова МЫ СЛЫШИМ ШЕПЧУЩИЕ ГОЛОСА.
КАЛИСТА:
– Закурите?
ФЛИНТ (щелкая зажиглкой):
– Я думал, мы оставили тему Смерти с Косой?
КАЛИСТА:
– Какое высокомерие. (Вкрадчиво.) Вы не курите, и работы у вас нет, неужели вы лишены каких-либо пороков, Дерек?
КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ, а фраза «вы не курите» повторяется снова и снова, а КАМЕРА ОТЪЕЗЖАЕТ ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ НА:
103. ТОТ ЖЕ КАДР, ЧТО И 101, демонический шепот сходит на нет, а КАМЕРА НАВЕДЕНА на правый глаз Калисты:
104. ТОТ ЖЕ КАДР, ЧТО И 102, где то, что происходит в ее левом глазу, дублирует антураж Сцены 93 в Лаборатории Оружейников, по обе стороны Флинта стоят Двое в Черном. Сам Флинт разговаривает с Президентом, повернувшись к громкоговорителю, демонические голоса становятся громче, когда Флинт говорит: «Могу ли я надеяться на ваше великодушие, и смею ли просить вас присовокупить пачку сигарет и коробку спичек?»
105. ПО МЕРЕ ОТЪЕЗДА КАМЕРЫ ЛИЦО КАЛИСТЫ УДЕРЖИВАЕТСЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Внезапно она рывком садится на кровати, до нее начинает доходить то, что задумал Дерек. Ее рот раскрыт, она кричит. И тут РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД НА:
106. ИНТЕРЬЕР ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ. ФЛИНТ пряжкой ремня соскребает бумагу с обложки «Дон Кихота».
ФЛИНТ (бормочет):
– Целлюлоза… Ммм… М…
Мы видим, что по лицу и груди Флинта стекает пот. Он настрогал достаточное количество целлюлозы, и теперь пробирается к двери камеры, где втыкает целлюлозу в замок, используя пачку сигарет как запал. Флинт поджигает заряд. И тут же ныряет обратно в камеру, и здесь РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД НА:
107. КОРИДОР ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ДВЕРИ, узкий проход, где стоит 3-й ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ с автоматом на плече. Раздается ужасающий взрыв, и дверь камеры распахивается, отшвырнув 3-го ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРНОМ к стене коридора. Флинт вылетает через открытую дверь и ловит охранника на отскоке двумя резкими ударами в стиле кун-фу. Он хватает автомат в тот самый момент, когда из-за угла выскакивают другие наемники.
РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАМЕРЫ. Флинт бросается в направлении негодяев, и двумя короткими очередями отправляет их вглубь коридора.
108. ЗЕРКАЛЬНАЯ КАМЕРА СЛЕДУЕТ ЗА ФЛИНТОМ, который пролетает в переход, отшвыривает тела ТРОИХ В ЧЕРНОМ и рвется вперед.
109. СКЛАД БОЕПРИПАСОВ – огромная камера, набитая взрывчаткой.
Флинт вылетает из перехода, срезает очередями еще нескольких охранников, которые бежали в укрытие. Он видит гору ящиков с надписью «ПЛАСТИТ» и стреляет в них. Ящики начинают взрываться, а Флинт врезается в укрытие гусеничного грузовика, припаркованного сбоку от камеры. Взрывы продолжаются, и Флинт взбирается на капот грузовика, затем на крышу, откуда бросается на перила платформы над его головой. Он вцепляется в эти перила, подтягивается, разворачивается и стреляет через комнату в очередного ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРНОМ, пытающегося расстрелять его из автомата с другой стороны платформы. ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ падает, в то время как один за другим гремят новые взрывы. Их интенсивность нарастает.
Флинт видит дверной проем на платформе и бросается к нему. Закрыто. Взрывы становятся сильнее.
ПЕРЕХОД К:
110. АРХИВНАЯ КОМНАТА ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, между полок с файлами. От резкого удара дверь раскалывается, и Флинт бросается в возникший проем в тот самый момент, когда происходит колоссальный взрыв, разрушающий склад боеприпасов внизу. Не останавливаясь ни на секунду, он пробегает через комнату и выпрыгивает с другой стороны двери, а серия взрывов разносит комнату с файлами.
