Остров накануне бесплатное чтение
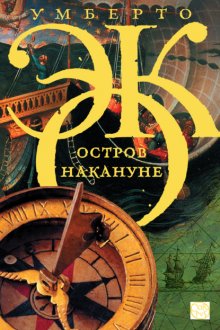
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Первый («Имя Розы», СПб, Симпозиум, 1997) и второй («Маятник Фуко», СПб, Симпозиум, 1998) романы Умберто Эко, невзирая на эрудированную насыщенность текста, печатались и в журнальном и в книжном изданиях практически без комментариев: изобилие сносок нарушило бы художественный эффект, на что Эко не соглашается.
Это правило остается в силе и в отношении третьего и на настоящий момент последнего его романа «Остров накануне» (1994).
Разумеется, нельзя забывать при чтении, что «Остров накануне» – связка цитат. В ней смонтированы куски научных и художественных произведений авторов в основном XVII века (в первую очередь Джован Баттисты Марино и Джона Донна, о чем программно заявляется в двух эпиграфах к роману, хотя внутри текста цитаты из Донна и Марине не отмечаются). Используются и Галилей, Кальдерой, Декарт и очень широко – писания кардинала Мазарини; «Селестина» Рохаса; произведения Ларошфуко и мадам де Скюдери; узнаются Спиноза, Боссюэ, Жюль Верн, Александр Дюма, от которого перебежал в текст Эко капитан гвардейцев кардинала Бискара, Роберт Луис Стивенсон, некоторые реплики Джека Лондона («…тогда же и перестал знать» – знаменитый финал «Мартина Идена») и другой литературный материал.
Широко используются сюжеты живописных полотен от Вермеера и Веласкеса до Жоржа де ла Тура, Пуссена и, разумеется, Гогена; многие описания в романе воспроизводят знаменитые музейные картины. Анатомические описания созданы на основании гравюр из медицинского атласа Везалия (XVI в.), и поэтому Страна Мертвых названа в романе Везальским островом.
Имена собственные в книге тоже содержат второй и третий планы. Автор намеренно не дает читателю подсказок. Но следует, наверно, предупредить русскоязычного читателя о том, что точно так же как в имени Вильгельма Баскервильского, философа – сыщика из «Имени Розы», сочетались отсылки к Оккаму и к Конан Дойлу (Хорхе из Бургоса не нуждался в пояснениях: этот образ символизировал Хорхе Луиса Борхеса с выдуманной им Вавилонской библиотекой), так же полны подтекстов имена в романе «Остров накануне».
Рассмотрим сложный и потаенный лингвистический сюжет: откуда взялось имя главного героя, Роберта де ла Грив Поццо да Сан Патрицио? Он, выброшенный кораблекрушением в необитаемое место, безусловно должен напоминать читателю Робинзона Крузо. Робин – уменьшительное от Роберт, и именно Робертом зовут героя нового романа. Но связь этим не ограничивается. Робин по – английски это малиновка, птица семейства дроздовых, Turdus migratorius. По – итальянски эта птица называется tordo, a на пьемонтском диалекте griva, то есть Грив. Таким образом фамилия Роберта имеет тот же смысловой подтекст, что и имя, и это дает ему полное право именоваться Робинзоном.
Но и здесь хитросплетение не кончается. Имение Роберта называется Грив Поццо ди Сан Патрицио. Выражение «Поццо (колодец) Святого Патриция» по – итальянски означает также «бездонная бочка, прорва». Раблезианская подоплека имени подкрепляет собой и богатырски – былинную фигуру отца героя, и фигуру матери, по – барочному составленную из кулинарных рецептов. Английский же эквивалент того же выражения – widow's cruse, т. e. библейский «кувшин вдовицы» или «неистощимый источник». Так выплывает слово «Крузо», и таким сложным путем имя Роберта де ла Грив Поццо ди сан Патрицио играет в прятки с именем персонажа Дефо – Робинзона Крузо!
В то же время автору важен и другой игровой момент, связанный с «птичьей» символикой. Немецкое имя «робина» – дрозда – Drossel Каспар Вандердроссель – имя иезуита, второго «живого» героя книги, единственного собеседника героя. Каспар Шотт – так звали реального исторического прототипа героя, иезуита. Ему принадлежит настоящее авторство сложных механизмов, описанных у Эко в романе.
Заметно также, что в этой книге «птичьи» фамилии почти обязательны. Медика – исследователя долгот с «Амариллиды» зовут доктор Берд. Чего еще ждать от произведения, которое, судя по одному из интервью Эко, даже называться первоначально должно было «Голубка Огненного цвета»?
Исторические прототипы героев романа поддаются разгадыванию, но нужно знать подробности их биографий. Отец Иммануил – иезуит Эмануэле Тезауро, автор широко, хотя и скрыто, цитируемого в тексте трактата «Подзорная труба Аристотеля» (1654). «Диньский каноник», читающий лекции об атомах и цитирующий Эпикура – несомненно, Пьер Гассенди. Обаятельный и гениальный Сирано де Бержерак выведен в романе почти портретно, зовут его в данном случае Сан – Савен. Это потому, что крещальное имя реального прототипа, Сирано де Бержерака (1619 – 1655), – Савиньен. Кроме того, в этой фигуре немало и от Фонтенеля. В любом случае, Эко цитирует сочинения Бержерака и при создании монологов и при написании писем к Прекрасной Даме, умело вставляя в текст фразы вымышленного Сирано из пьесы Ростана, сочиняющего письма к Роксане.
Богато содержательны не только имена героев, но и имена неодушевленных предметов. «Дафна» и «Амариллида» (так называются два корабля в романе) – названия двух лучших мелодий флейтиста XVII века Якоба ван Эйка (вспомним, что оба корабля – флиботы, flute, «флейты»). Немаловажно помнить, что флейта – именно тот музыкальный инструмент, на котором почти профессионально играет сам автор, Эко. Вдобавок дафния и амариллис – названия цветов. Цветок Amaryllis принадлежит к семейству Liliales класс Liliopsida подкласс Lillidae, a Прекрасная Дама романа носит имя Лилея… Раз начав плести подобные цепочки, трудно остановиться: потому – то автор и сам ничего не комментирует, и от издателей и переводчиков ожидает того же.
Пожалуй, единственной изначально непреодолимой лингвистической преградой явилось то обстоятельство, что по – итальянски остров, isola, так же как и корабль, nave, женского рода. Роберт по – мужски обладает своей плавучей крепостью – nave – и вожделеет встречи и объятья со своей обетованной землей, идентифицируя ее с недостижимой любовницей (будем помнить, что по – французски «остров» выговаривается как «лиль», близко к «lilia»). Ha сюжетном уровне это передано, но на словесном – непередаваемо.
И последнее. Названия глав этого романа (что мало кто замечает) являют собой каталог тайной библиотеки. Все 38 заголовков, кроме двух оригинальных («Пламяцветная голубица» и «Колофон», невзирая на то, что в большинстве случаев звучат вполне по – итальянски, могут при размышлении быть возведены к названиям реально существующих литературных и – еще в большей степени – научных произведений, созданных в период барокко в разных странах мира. Многие эти словосочетания «на слуху» у европейца, но не у русского читателя. Поэтому этот единственный аспект (и именно в силу его структурообразующей функции) переводчик позволяет себе откомментировать в сносках, сообщая также название соответствующего произведения на языке оригинала.
Кроме того, по норме русскоязычной издательской традиции даются подстраничные переводы иноязычных вкраплений, за исключением самых простых и очевидных, и за исключением тех, которые незаметно переведены внутри текста. Мы старались как можно меньше нарушать эстетику издания, предпочитаемую автором (полное отсутствие сносок).
Чтобы ярче осветить приоритетные принципы перевода, формулируемые самим Умберто Эко (с которыми его русский переводчик отнюдь не всегда солидаризируется), мы публикуем в конце тома в Приложении инструкции автора для переводчиков «Острова накануне» (по тексту У. Эко, напечатанному в журнале «Эуропео» 12 октября 1994 г.).
- Is the Pacifмque Sea my Home?
- Stolto! a cui parlo? Misero! Che tento?
- Racconto il dolor mio
- a l'insensata riva
- a la mutala selce, al sordo vento…
- Ahi, ch'altro non risponde
- che il mormorar de l'onde!
- Что, Тихий Океан – мой дом?
- Глупец! К кому реку? Бедняк! Что порываюсь?
- С печалью обращаюсь
- К бесчувственному брегу,
- Немому камню и глухому ветру.
- Увы! иного мне ответа,
- Чем говор волн, и нету!
1. ДАФНА[1]
«Тщеславлюсь униженностью, и будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль».
Роберт де Ла Грив пишет эти неисправимо витиеватые строки предположительно в июле – августе 1643 года.
Сколько дней его мотало на доске по хлябям, в дневные часы ничком, чтоб не выслепило солнце, с противоестественно вытянутой шеей, чтоб не попадала в рот вода, с ожогами соли на теле, в лихорадке? Письма не сообщают сколько, и подводят к представлению о вечности; однако дней не могло быть более двух, иначе бы он не уберегся под стрелами Феба (как пышно выражается сам), он, такой некрепкий, он, ночное животное из – за природного порока.
Он не следил за временем, но полагаю, что море утихомирилось сразу после шквала, скинувшего его с палубы «Амариллиды», и плотик, полученный от матроса, ведомый ализеями, пригнался в тихую заводь в ту пору года, когда южнее экватора стоит мягчайшая зима, и отплыл не на очень много морских миль по воле течения, тянувшего в воды залива.
Была ночь, он дремал и не сразу почувствовал, что доска прибилась к судну и стукнула о водорез «Дафны».
И вдруг при полной луне он заметил, что дрейфует под бушпритом на уровне бака, а с полубака, рядом с якорной цепью, свисает шторм – трап (Лестницей Иакова назвал бы его фатер Каспар!), и сразу обрел присутствие духа. Видимо, сила отчаяния: он сопоставил, больше ли истратит силы на крик (но глотка была вся сухой пламень) или на то, чтобы выпутаться из веревок, исполосовавших его синяками, и попытаться взойти. Думаю, что в подобные минуты умирающий становится Гераклом, душителем змей в колыбели. Роберт не четок в описании, но логика требует заключить, что если в конце концов он оказался на полубаке, значит, по тому трапу худо – бедно взлез. Пусть по ступенечке за час, изнеможенный, но перекинулся через планширь, сполз по сваленному такелажу, отыскал дверь полубака… Бессознательной побудкой нашарил в полумраке бочку, подтянулся за край, выудил кружку на цепочке. Пил сколько мог вместить и рухнул насытившийся, во всех значениях слова, поскольку в воду, вероятно, нападало столько мошек, что она давала и попить, и поесть. Проспал он не менее суток, следует думать; ибо когда он открыл глаза, была ночь, но он как будто заново родился. Значит, это была опять ночь, а не еще ночь.
Но он подумал, что не опять, а еще, потому что за день кто – нибудь да натолкнулся бы на него. Луч луны светил внутрь с бака, озарял камбуз, котелок качался над очагом.
С полубака было два хода: к бушприту и на бак. Во вторую дверь Роберт выглянул и разглядел, как днем, аккуратно уложенные снасти, кабестан, мачты с подобранными парусами, немногочисленные орудия у пушечных портов и надстройку полуюта. На шевеления Роберта не отвечал никто. Он подошел к правому фальшборту и стал смотреть вдаль. По правому борту открылся на расстоянии приблизительно одной мили абрис Острова с береговыми пальмами, колышущимися на ветру. Земля давала излучину, окаймляемую пляжем, белевшим в свете худосочных сумерек, но, как бывает с потерпевшими крушение, Роберт не умел определить, остров перед ним или континент.
Он перешел к противоположному борту. Там открывались – на этот раз далеко, почти на линии окоема – отроги других гор, тоже ограниченных мысами. Все прочее вода, все подводило к мысли, что корабль сидит на мели в широком проливе. Роберт сделал вывод, что это или два острова, или, может быть, остров, а напротив него большая земля. Не думаю, чтоб он брал в расчет иные гипотезы. Он никогда не слыхивал о таких просторных бухтах, где кажется, будто находишься меж двумя массивами земли.
Неплохая ситуация для потерпевшего: опора под ногами и суша почти под боком. Но Роберт не умел плавать. На борту не имелось ни единой шлюпки. Течение оттащило в сторону доску, доставившую его к кораблю. Так что облегчение спасшегося от гибели накладывалось на кошмарное ощущение трех пустот: пустоты моря, пустоты видимого с моря Острова и пустоты корабля. “Эй на борту”, прокричал он на известных ему языках. Крик вышел очень слабым. Молчание. Как перемерли. Редко когда он выражался – при падкости на сравнения – до такой степени буквально. Или почти буквально… Именно об этом «почти» я хотел бы рассказать, но не знаю, откуда начать.
Вообще – то, я уже начал. Человек в измождении в волнах океана; смилостивившись, воды выносят его на судно, оказывающееся опустошенным. Опустошенным, как если бы экипаж недавно его оставил. Роберт вернулся на камбуз и увидел лампу и огниво, было похоже, что кок приготовил это, укладываясь спать. Но сбоку от очага обе подвесные койки были безлюдны. Роберт засветил лампу, освоился и обнаружил солидные запасы еды: вяленая рыба и сухари, совсем немного позеленевшие, их ничего не стоило отскрести ножом. Рыба была очень соленая, но пресной воды вдостаток.
Должно быть, он быстро восстановил силы, или же погодил с отчетом, покуда не пришел в себя, настолько высокопарно он живописует роскошества этого первого пира: николи Олимповы боги не вкушаше подобного яства, о сладкая амброзия от обетованного края, о чудище, гибелью даровавшее мне жизнь… Все это писал Роберт владычице своей души:"Солнце тени моей и свет среди моей ночи, для чего небеса не истребили меня той самою бурей, которую надменно возбудили? Для того ли от прожорливого моря восхитили бренное тело, дабы в алчном одиночестве, наипаче злоключивом, неизбывно сокрушаться судилось моей душе?
Быть может, если только умилостивясь небеса не предуготовят мне помощь, вы не получите строки, кои сице начертаю, и снедаемый, факелу подобно, светом этих морей, затемнюсь я перед вашими очами, уподобившись Селене, коя, черезмерно, увы! наслаждавшись сиянием своего Солнца, соразмерно с продвижением за закрой нашей планеты, и не споспешествуемая лучами Повелителя своего – Светила, сначала утончается наподобие серпа, пресекающего ее жизнь, а затем, дотлевающий светоч, расточается на безбрежном щите лазури, где изобретательная природа разместила героические гербы и таинственные эмблемы своих тайн. Лишившийся ваших взоров, я слеп, ибо не наблюдаем вами, бессловесен, ибо вы ко мне не речете, беспамятен, ибо в вашей памяти не имею места.
Я всего только жив! Пылающая тусклота и сумеречное пламя, тащусь, как образ, который моя мысль, описывая в тождестве, хотя и при посредстве горсти несвязных противопоставлений, старается переслать мысли вашей. Спасаю естество на деревянном утесе, на плавучем оплоте, заложник моря, от моря меня обороняющего, покаранный милосердыми небесами, в сокровенном саркофаге, отверзтом всяческому солнцу, в воздушном подземелье, в неприступном карцере, пригодном на любую сторону для побега, и отчаиваюсь увидеть вас хотя бы однажды.
Госпожа, пишу Вам, поднося, недостойный подарок! бездыханную розу моей тоски. Но тщеславлюсь униженностью, и, будучи к подобному прославлению предназначен, почти что обожаю свое ужасное избавление; думаю, из человеческого рода я единственный выброшен кораблекрушением на необитаемый корабль".
Как верить глазам? Судя по дате этой первой бумаги, Роберт сел писать сразу вылезши из воды, и обзавелся писчими припасами в каюте капитана еще до того как осмотрел корабль, куда попал. Но ушло ведь хоть какое – то время у него на поправку сил, он же был как раненое животное? Вероятнее, перед нами маленькая любовная хитрость. В реальности сперва он разведал, куда его занесло, а потом, пиша, датировал задним числом.
Но зачем? Ведь он знает, полагает, страшится, что письма не дойдут, и пишет для саморастравы (растравной отрады, как выразился бы он, но не поддадимся стилю!). Нелегкое занятие – реконструировать действия и чувства героя, безусловно пышущего настоящей страстью, но неясно, выражающего ли то, что чувствует, или то, что в его времена требовалось чувствовать согласно правилам… Хотя что знаем мы о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и которая из них первична?
Значит, писал он для себя, и это не литература, а времяпрепровождение подростка, мечтающего о недостижном, страница испещряется слезами, не по той причине, что Она далече. Она составляла собою только образ даже и когда была близко, – а из сострадания к самому себе, влюбленному в любовь…
Вообще – то роман слепить из этого можно, но откуда же, откуда приступать?
Я думаю, что первое письмо он все же сочинил впоследствии, а сперва попробовал понять, где очутился, и это будет рассказано в следующих посланиях. И опять: как понимать дневник, где тщатся наделить наглядностью, при помощи проницательных метафор, нечто осмотренное слабыми глазами в ночное время суток?
По свидетельству Роберта, глаза у него страдали с тех пор, как пуля оцарапала висок в Казале. Допустим; хотя почти вслед за тем он пишет, что подслеповатость развилась из – за чумы. Роберт неоспоримо был деликатного здоровья, и, как я могу судить, вдобавок ипохондрик. Половину его светобоязни мы отнесем за счет черной желчи, а вторую половину спишем на какое – то застарелое раздражение, возможно обострившееся от препаратов господина д'Игби.
Похоже, что все плавание «Амариллиды» Роберт просидел под палубой, отчасти берегясь от света, отчасти прикидываясь, чтобы лучше приглядывать за происходившим на нижних ярусах. Многие месяцы были проведены в полной темноте или при свете лампадки – а затем три дня на деревянной руине под слепящим заревом не то экваториального, не то тропического солнца. Когда его принесло на «Дафну», то по болезни или после пережитого, но света он выдерживать не мог. Первую ночь он провел на кухне, оклемался и отправился смотреть корабль второю ночью, а потом уж так и складывается, как завелось. День его пугает, и не только глаза не терпят света, но саднит обожженная спина. Он отсиживается в логове. Луна, по его описаниям, обворожительная, дарует свежесть ночами, а днем горный свод таков же, как и в других местах. Ночью он разгадывает новые созвездия (именно их он называет героическими гербами и таинственными эмблемами природных тайн). Будто на театральном спектакле, он убеждает себя, что именно таковы будут законы его жизни на долгое время, а может быть, навсегда, и воссоздает Госпожу на бумаге, дабы не утратить ее, но сознавая, что не многое потерял, потому что не много ему принадлежало.
Поэтому он ухоранивается в ночные бодрствования, как в материно лоно, и вдвойне неколебим в намерении не видеть солнца. Может, он подражает венгерским оборотням, или тем из Ливонии либо из Валахии, которые шныряют, неугомонные, от заката до восхода, а по петушином крике укладываются в гроба.
Роберт отправился в экспедицию на второй вечер после высадки. Он накричался сколько нужно, и мог полагать, что на борту нет никого. Однако робел, что придется видеть трупы, обнаружить то, из – за чего, собственно, на борту не осталось людей. Он выступил с великой осмотрительностью, и из писем невозможно понять, откуда начал. Путано описывается корабль, его части, судовый набор. Многое на вид ему знакомо и наименование он слышал от матросов; многое другое он не умеет назвать и лишь описывает внешнюю наглядность. Но даже в отношении знакомых ему отделов судна, видно сразу, что команда на «Амариллиде» подбиралась из отребья семи морей, потому что название одних частей ему, видно, перепало от француза, других от голландца, третьи он величает по – английски. Он употребляет термин «staffe» (по – итальянски «зажимы»), имея в виду балестрилью, то есть параллактические линейки; чувствуется влияние объяснения доктора Берда, от английского «staff angle». Читающему кажется странным, что Роберт оказывается то на полуюте, то на верхней палубе, то на квартер – деке, то на шканцах, пока он не догадывается, что все это названия одного и того же места. Роберт пишет вместо «люки» «пушечные порты», но это я ему готов простить охотно, потому что так было в морских приключениях, которые я читал мальчишкой; мы находим у него парус – попугайчик, parrocchetto, в моих отроческих книжках так назывался фор – брамсель, то есть верхний парус передней мачты, фока, но не будем упускать из виду, что у французов perruche – это крюйс – брамсель и принадлежит он бизань – мачте. В то же время и эту самую бизань Роберт иногда называет artimone, подражая французам, но периодически пишет mizzana, видимо, искажая итальянское слово mezzana и не учитывая, что для французов misaine – это фок – мачта (но, прошу внимания, отнюдь не для англичан, которые называют mizzen – mast мачту, самую близкую к корме). Роберт пишет на деревенский манер gronda («сточная труба»), имея в виду шпигат, который в морском языке того времени обычно звучит как ombrinale. В общем, я намерен разобраться в нагромождении и изложить его привычными нам терминами. Даже если в чем – то ошибусь, надо надеяться, сюжет не слишком пострадает.
Итак, в ту вторую ночь, подкрепившись провизией, найденной у кока, Роберт наконец отважился при свете луны выступить на полубак.
По форме водореза, по выпуклым бокам, замеченным предыдущей ночью, осмотрев также узкую палубу, характерный форштевень и тонкий круглый ют, Роберт сопоставил это судно с «Амариллидой» и пришел к выводу, что «Дафна» тоже относилась к типу голландских «флейт» (fluyt, flute, или fluste), то есть флиботов, как обычно именуются эти торговые корабли среднего водоизмещения, вооружаемые десятком пушек, просто для очистки совести в случае взятия корабля пиратской бандой, и рассчитанные на команду в дюжину матросов, с возможностью принимать на борт к тому же много пассажиров, если не держаться за жизненные удобства (и без того скудные), навешивая койки так, чтобы в кубрике было невпроступ, – и в дорогу, не опасаясь зловредных миазмов, хватило бы урыльников. «Дафна» – флибот, но крупнее «Амариллиды», и полубак весь зарешечен, как если бы капитану нравилось зачерпывать воду при каждом ощутимом взбрызге пучин.
В любом случае то, что «Дафна» являлась флиботом, это было преимущество, потому что Роберт мог исходить из привычного размещения вещей. Скажем, на середине верхней палубы должна была быть большая шлюпка, на экипаж в полном составе; она отсутствовала, что наводило на мысль, будто экипаж отбыл на ней. Это вовсе не успокаивало Роберта. Корабль не бросают без призора на открытом рейде, даже на якоре с подобранными парусами в тихом заливе.
В тот первый вечер он направился прямиком к полуюту, осторожно и обходительно приоткрыл дверь, словно спрашивая у кого – то позволенья… Компас на вахтенном месте показывал, что пролив был ориентирован с юга на север. После этого Роберт переместился в отсек, который сейчас назвали бы кают – компанией: зал L – образной формы, а за переборкой обнаружилась командная рубка, откуда широкое окно выходило на ют поверх румпеля и имелись боковые двери на балюстраду. На «Амариллиде» командная рубка не совмещалась с каютой, где капитан ночевал, а здесь на «Дафне», похоже, старались сэкономить пространство и выгородить место для чего – то еще. И точно, притом что налево из кают – компании проходили в две офицерские каюты, справа размещался еще один отсек, даже более обширный, чем капитанский, с маленькой койкой у дальней стены, но весь отсек имел явно рабочий характер.
Стол был завален картами, Роберту показалось, что их гораздо больше, нежели кораблю потребно в плавании.
Кабинет ученого? Карты, зрительные трубы, превосходная ноттурлябия из меди, метавшая рыжие сполохи, как будто сама она содержала источник света; небесная сфера, привинченная к столешнице, листы, испещренные цифирью, и пергамент с вычерченными окружностями черной и красной тушью. Что – то подобное (но не такой тонкой работы) имелось на «Амариллиде», и назывались эти таблицы Региомонтановыми картами циклов Луны.
Он возвратился в командный отсек, вышел на галерею, увидел Остров и смог – как выражается сам Роберт – рысьим оком проницать его немоту. Попросту говоря, Остров открывался где был и раньше, на своем прежнем месте.
На корабль Роберт попал почти голым. Полагаю, что прежде всего, чтобы избавиться от соляной корки, он помылся на камбузе, не подумавши даже, не последнюю ли тратит пресную воду на борту. Вслед за этим вытащил из ларя выходное платье капитана, хранившееся к возвращению в родной порт, и покрасовался в командирской сбруе; обул сапоги и вроде снова вступил в родную среду. Лишь теперь, благородным дворянином, в должном обмундировании, а не измочаленным оборванцем, он официально принял под команду покинутый корабль, и уже не узурпаторским, а хозяйским жестом пододвинул к себе ожидавший на столе в распахнутом виде бортовой журнал вместе с гусиным пером и с чернильницей. Из первой записи ему стало известно имя корабля; все остальное – непроходимая чаща anker, passer, sterre – kyker, roer; не много радости было ему убедиться, что капитан был фламандец. В любом случае последняя запись датировалась парой недель до того. Среди неудобочитаемых письмен бросалась в глаза подчеркнутая жирной линией фраза по – латыни: pestis, quae dicitur bubonica.
Ну вот он, след, вот намек на объяснение. На корабле поразбойничал мор. Это открытие не озаботило Роберта: он переболел чумой за тринадцать лет до того, а как известно, перехворавшие пользуются неким чудодейственным попустительством; змей заразы не решается атаковать вторично чресла того, кто единожды возобладал над ним.
Тем не менее этот след не столь уж многое открывал. Скорее он открывал простор для нового беспокойства. Предположим, что умерли все. Но тогда где же, в беспорядке наваленные на верхнем деке, трупы последних, тех кто до гибели успел предать милосердному морскому погребению прах усопших товарищей?
Отсутствовала шлюпка. Остатки команды, или вся команда, покинули корабль. Что их выжило с зачумленного судна, составив непреодолимую опасность? Крысы, быть может?
Роберту показалось: промелькнуло в острой остготической скорописи капитана слово rottenest (гнездо пасюков, канавных крыс?), и он мгновенно дернулся, поднял фонарь, чтобы встретить лицом к лицу шуршащую у подножья стены нечисть, чтоб не сробеть от мерзкого писка, оледенившего ему кровь когда – то на «Амариллиде». Он передернулся при воспоминании о том, как волосатая погань щекотнула по его лицу в полудреме, и как на вопль примчался доктор Берд. Потом над Робертом потешались все, что – де на кораблях и без всякой чумы крыс должно водиться нисколько не меньше, нежели прыгает в роще пернатых, и что к ним следует относиться спокойно, если собрался ходить по морям.
Однако крыс, по крайней мере здесь на полуюте, не было заметно. Может, отсиживаются в трюме, красноватенькие глазки мерцают через мрак в ожидании свежего мяса. Роберт произнес про себя: если все дело в крысах, следует выяснить и понять обстановку. С крысами нормальными, и в нормальном количестве, можно как – то сосуществовать. «Впрочем, каким еще им быть, этим крысам?» – спросил себя Роберт, и отвечать ему не захотелось.
Роберт отыскал ружье, саблю и кинжал. Он прошел войну; ружье было типа калибер – так звали его англичане – и наводилось без рогатки. Он проверил амуницию, больше для порядка; вряд ли он собирался разгонять пулями крысьи рати. И даже зачем – то заткнул за пояс кинжал, хотя против крыс кинжал мало чем мог быть полезен.
Он собрался исследовать судно от юта до бака. Пройдя через камбуз, по трапику, уходившему вниз от крепления бушприта, спустился в провиантскую. Там были складированы припасы – вдоволь для дальнего плавания. Все это не могло лежать тут с начала рейса, экипаж явно пополнил провиант совсем недавно на гостеприимной пристани. Плетеные короба были полны свежезавяленной рыбы. Кокосовые орехи лежали пирамидами, и тут же в бочонках какие – то клубни не встречавшейся формы, но съедобного вида, безусловно годные храниться долго. Там были такие же фрукты, как те, что появлялись в свое время на борту «Амариллиды» после первых заходов на тропические острова, эти фрукты тоже не портились от лежания, снаружи страшили шипами и чешуями, однако их острый аромат выдавал сокровенную сочность, сахаристые тайные гуморы. Из какого – то островного сырья, вероятно, вырабатывалась и черноватая мука, попахивавшая гнилью, из нее были спечены уложенные рядом с мешками муки хлебы; эти хлебы напоминали те безвкусные шишки – картофель, – которые шли в пищу у индейцев Нового Света.
У дальней переборки стояло около десятка бочонков с кранами. Он отвернул один кран, потекла вода, и причем не провонявшая, а свежая, набранная совсем недавно и обработанная серой, чтоб сохраняться про запас. Воды было немного, но имея в виду, что и фрукты утоляют жажду, можно было рассчитывать на довольно долгое житье на борту. Как на грех, все эти открытия, дававшие понять, что экипаж не вымер от истощения, растревожили его еще сильнее, и это всегда случается у меланхоликов, для них любой знак судьбы – провозвестие злокачественных чудес.
Быть выброшену на опустошенный корабль уж само по себе довольно странное дело, но уж хотя бы пусть тогда корабль будет оставлен Господом и людьми как непригодная к пользованию рухлядь, не имеющая в себе ни произведений природы, ни произведений ремесел, ничем не богатая сень; это было бы в порядке вещей и в порядке тогдашнего мореплавания; но найти перед собой посудину в таком глазоутешном виде, прямо приготовленную для дорогого долгожданного гостя, прямо похожую на настоятельное подношение, вот что действительно начинало отдавать серой, и посильнее, чем бочечная вода. Роберту припомнились сказочные повести, слышанные от бабки, и другие, более изысканного плетения, читавшиеся в парижских литературных салонах, где заблудившаяся принцесса вступает в сказочный замок и находит пышно разубранные залы, видит ложа под балдахинами, гардеробные с роскошной одеждой, даже накрытые к пиршеству столы… Как известно, в этих рассказах в самой последней комнате принцессу, среди испарений серы, поджидает то исчадие ада, которое и подстроило ловушку.
Роберт потрогал кокос в нижнем слое кучи, нарушил равновесие, и щетинистые шары расскакались, будто крысы, прежде притворявшиеся неживыми, выжидавшие на полу, подобно нетопырям, оцепенело вцепляющимся в потолочные балки, покуда не настанет миг, чтобы броситься врассыпную, добежать до него, закарабкаться на тело, на плечи, внюхаться в лицо, соленое от ручьев пота.
Убедиться, что нет заклятья! Роберт за месяцы странствий научился обращению с заморскими плодами. Действуя кинжалом как секирой, одним ударом он разрубил орех, сломал скорлупу и впился в мягкую манну, открывшуюся под корой. Это яство было столь восхитительно и сладко, что ощущение коварства только усугубилось в нем. Вот, прошептал он себе, я уже во власти очарованья, мечтаю отведать плод, а на деле угрызаю грызунов, пресуществляю их сущность, вот – вот и мои руки утончатся, скрючатся и окогтятся, тело опушится кисловатыми волосиками, хребет выгнется, и я буду востребован к потустороннему апофеозу шершавых насельников этой нашей ладьи Ахерона.
Вдобавок, чтоб кончить рассказ о первой ночи, упомянем еще одно кошмарное провозвестие. Грохот катающихся кокосов, похоже, растревожил кого – то спящего на корабле. Из – за переборки послышалось, правда, не мышье попискивание, а чириканье, щебетанье, кто – то скребся коготками. Значит, чара существовала, ночные исчадия собирались на шабаш в каком – то закуте.
Роберт спросил себя, должен ли он с ружьем наперевес немедля атаковать этот их Армагеддон. Сердце колотилось, и он костерил себя за трусость, и убеждал себя, что не этою ночью так будущей, но придется ему столкнуться с Ними к лицу лицом. И все же он ретировался. Взбежал на палубу по трапу и, к счастию, языки зари уже слизывали белесый воск с металла орудий, изласканных бликами луны. Занимается день, сказал он себе с облегчением, а от дня я обязан убегать.
Подобно венгерскому вурдалаку, прыжками он промчался по шкафуту, чтобы скорее попасть на полуют, в ту каюту, которую отныне присвоил, забаррикадировался, перекрыл выходы на галереи, разложил оружие прямо под рукой и бросился в постель, чтоб не видеть солнца – палача, перерубающего лучевой алебардой тонкие шеи теней.
Разбудораженный, он видел во сне крушение судна, сон соответствовал регламенту барокко, по которому даже в грезах, даже в первую очередь в них, пропорции обязаны украшать концепт, преувеличения – оживлять, таинственные сближения – придавать рассказу содержательность, размышления – глубину, эмфазы – возвышенность, аллюзии – загадочность, а каламбуры – тонкость.
Я полагаю, что в те времена и в таких морях больше кораблей тонуло, нежели возвращалось в порт; но кому выпадало сокрушаться впервые, этот опыт, надо думать, давал последствия в виде повторяющихся кошмаров, а привычка к изящному оформлению доводила эти кошмары до живописности Страшного Суда.
С вечера воздух занедужел, простуда дулась, как небесный глаз, набухающий слезами, бессильный выносить отлив широководной глади. Кисть природы стушевала линию закроя и глаз, коему блазнились туманные далекие веси.
У Роберта мутило в кишках, пророчество неминучей морской смуты, он распростирался на ложе, баюкаемый пестуньею циклопов, задремывал среди тревожных снов, в которых грезил, будто видит сон о снах, коими чревата изумляющая космопея, о снах, которые пересказываются тут. И пробужден был вакханальей громов, стенаньем корабельщиков, струи захлестывали койку, на бегу всунулся доктор Берд и прокричал идти на шканцы и крепко держаться за что угодно, лишь бы оно держалось тверже его.
На верхней палубе смятение и вопли, безысходность, и люди будто Божией десницей воздеты в воздух и швырнуты в море. Некоторое время Роберт цепляется за исподний парус бизани (так, во всяком случае, я истолковал его рассказ), покуда мачта не валится, испепеленная громами, и рей не выгибается, подражая кривой орбите звезд, а Роберта не дошвыривает до основания грот – мачты. Там добросердечный матрос, приторочивший себя к комлю мачты, не имея места присоседить Роберта, бросает ему конец и кричит, чтоб привязался к двери, сорвавшейся с полубака и донесенной до них водою, и к счастию Роберта, дверь с ним на месте захребетника отскальзывает к планширу, потому что в это время грот – мачта перешибается пополам и разносит на две полы череп доброхотного вспомогателя.
Через пробоину в борту Роберт видит, или ему метится, будто видит, хоровод теней и молний, в волнистом луге, в прозорах света, но тут, я думаю, он просто не может удержаться от красивых цитат. Трещат реины, мачты гнутся, от натуги снасти рвутся. Слово за слово, а тем временем «Амариллида» перекашивается в сторону беженца, готового бежать, и Роберт на своей доске, как ветр растворил глубокие пещеры, соскальзывает в них. Рухая, он наблюдает над собою седого Океана, который грозные валы до облак простирает, и в мороке зениц подъятье падших пирамид, и водянистую комету, которая блудит лихой орбитой в водовороте мокрых неб, и в пучине след ее горит, пока везде громады воют, и груды брызг скрывают свет. Где гром и молния, там ярость возвещает разгневанный тайфун и море возмущает. И в безднах корабли скрывает, бурный, крут; где сошлося небо с понтом и сечется с горизонтом, брега богов зовут на брань, когда в морях шумит волнение и рев. Роберт упоминает и пенных Альп кипучие наклоны, среди которых буруны как почтальоны, и Цереру цветоносную в блистании сапфиров, и скаканье и разлет рассыпанных опалов, как будто теллурическая дочерь Прозерпина захватила главенство, взбунтовав против плодородящей матери.
В окружении разной дикой твари, рыкающей вокруг него бессчетно, пока кипят серебряны подливы средь хлопотливейших забот, в один прекрасный момент Роберт прекращает зрительствовать на спектакле и, превращаясь в действующее лицо, теряет чувства и ввиду обморока не знает больше ничего. Только впоследствии он предположит, созерцая свой сон, что доска, по благосострадательному распоряжению, или по автоматизму пловучего материала, сама сплясала ту же джигу, то припадая, то подскакивая, и утихомирилась в протяжной сарабанде, поскольку ярь стихий смешала порядок плясок на балу, и все более дальними околичностями отдалила Роберта от пупа карусели, куда все же была всосана, двусмысленный волчок в руках сынов Эола, незадачливая «Амариллида», задрав кормило к небесам. А с нею и последние живые души в ее утробе: еврей, кому удел найти в Небесном Иерусалиме тот Иерусалим земной, которого он так и не обрящет; мальтийский рыцарь, навсегда отрешенный от острова Эскондида, доктор Берд со споспешниками и, наконец избавленный доброволительной натурой от медицинского ухода, тот несчастный бесконечно израненный пес, о котором, кстати, я еще не имел возможности здесь рассказать, поскольку Роберт его описывает несколькими письмами позже.
В общем, предполагаю, что из – за бреда и из – за бури сон Роберта оказался до того неровным, что свелся к кратчайшему времени, которому сулилось замениться воинственным взбодрением. И действительно он, смирившись с мыслью, что снаружи, предположительно, день, и утешенный соображением, что мало света проницается внутрь через мутные иллюминаторы юта, и надеясь, что существует достаточно тенистый трап, ведущий с верхней на нижние палубы, приосанился, обвесился оружием и выступил в бестрепетной безнадежности на разведывание причины недавнего ночного перепуга.
Вернее, не выступил. Мне очень неловко, но виноват Роберт, который в письмах Владычице утверждает разное, то есть не передает достоверный порядок того, что происходило с ним, а старается сделать из письма новеллу, вернее первобытный вариант не то письма, не то новеллы, и ставит в ряд сюжетные ходы, не зная, который выбрать, расставляет шахматы, не решив, какой ход совершить.
Сначала он пишет, что спустился в недра «Дафны». Почти вслед за этим мы читаем, что он был разбужен утренним брезгом и отдаленным концертом. Звуки доносились, неусомнительно, с Острова. Роберт вообразил ораву туземных жителей, которые выплывают на каноэ и осаждают корабль, и ухватил мушкет. Звуки, правда, не походили на боевые кличи.
Была заря, солнце еще не било по стеклам; Роберт вынудил себя пройти на галерею, внюхался в море, сдвинул ставню и полуприкрытыми глазами попробовал разглядеть берег Острова.
На «Амариллиде» Роберт, никогда не хаживавший на мостик, слыхивал, как другие пассажиры рассказывали про огнезарные рассветы, как солнце нетерпеливо закидывает стрелами мир. А тут он бесслезным оком принимал пастельный пейзаж, пузыри тяжелых туч, легонько окаймленных перламутром, и нежный полуотлив, полуоттенок розы, лившийся из – за островного края, будто нарисованного кобальтовой акварелью на шероховатой бумаге.
Но этой почти северной палитрой живописалось перед ним довольно, чтоб уяснить, что силуэт, выглядевший ночью скалою, представлял собой лесистый холм, крутым откосом нависавший над песчаной полосой прибоя, где пальмы оттеняли белый пляж.
Постепенно песок отсверкивал все сильнее, и на его краю зашевелилось что – то вроде крупных окостенелых пауков, перебиравших черствыми конечностями по воде. Роберт на расстоянии догадался, что это перекати – водоросли, но яркость солнца нарастала, и ему пришлось оставить обзор.
Он подумал, что когда отказывают глаза, слух должен выручать, и доверился своему слуху, почти полностью завесил иллюминатор и притиснулся ухом к щели, воспринимая шумы, поступающие с Острова.
Хотя ему и помнились восходы солнца среди родных холмов, он понял, что впервые в жизни слышит такое птичье пение; в любом случае столько песен одновременно, и до того разнообразных, он не слыхивал никогда.
Тысячами они здравствовали солнце, и ему показалось, что узнает среди голосов и вопли попугаев, и щелканье соловья, и кантилену дрозда, и крик жаворонка, и несметные чириканья разных ласточек, и вдобавок жесткое скрипенье цикады и сверчка, и он гадал, взаправду ли слышит этих животных, или их антиподных двоюродных родственников… До Острова было неблизко, но ему мерещилось, что эта музыка привеяла к кораблю на своих крыльях дурман померанцевых цветов, аромат базилика, как если бы воздух над всею бухтой налился благоуханием… С другой стороны, рассказывал же ему господин Д'Игби, что в путешествиях он узнавал о близости земли по душистым атомам, заносимым на борт ветрами.
Но, чем больше он внюхивался и слушал невидимое многоголосие, будто с башенного зубца или через амбразуру бастиона наблюдал за формированием армейского полукруга в ложбине под горой, и за дальними подступами, и за водной преградой под стеной крепости, он все сильнее ощущал, что уже видел то, что воображает вслушиваясь, и пред лицом безмерности, обложившей его, снова чувствовал себя в осаде, и рука инстинктивно тянулась зарядить мушкет. Он был в Казале. Перед ним разворачивался фрунт испанской армии, со скрежетаньем повозок, с клацаньем оружия, слышались теноры кастильцев, гоготня неаполитанцев, грубое бурчание ландскнехтов, а на их фоне какое – то острое рыдание трубы, долетавшее приглушенно, как через вату, и тупые бухания аркебузы, вроде хлопушек на деревенском празднике.
Похоже, что жизнь вся протекла между двумя осадами, и одна явилась зеркалом другой, с тем исключительным различием, что ныне, при замыкании десятилетнего круга, водная преграда была уж чересчур надежной и чересчур окружной, так чтобы сделать невозможной любую вылазку; и Роберт снова окунулся в атмосферу Казале.
2. О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В МОНФЕРРАТО[2]
О шестнадцати годах жизни до Монферрато, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает только если, по его понятиям, оно имеет отношение к «Дафне», так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь: будем разбираться в полунамеках.
Семья Поццо ди Сан – Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Грив на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а следовательно, была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрато. Глава семьи, говоривший по – французски с женой, по – монферратски с людьми и по – итальянски с посторонними, к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажной колке или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоняя голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж замок, могла оказаться сокровищницей. Брожению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в южной башне.
Так что можно сказать, что он не был полным невеждой, и даже учился у учителя, правда, нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и, по слухам (рассказывала, крестясь, мать Роберта), перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал три месяца в замке. Что он преподавал ученику, неясно, но приехавши в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно, и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал.
Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поццо когда – то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины, или от того, что попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поццо поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась.
Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба, и это гораздо целебнее снадобья, которое христианские лекари – спагирики называют unguentimi armarium. Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на железо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа, между самыми сильными силами коей существует всемирная симпатия, правящая на далеко. И добавил, что кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное как камень, тянущий к себе стружки металлов, или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвийная мазь, плотно приставая к железу, оттягивает те достоинства металла, которые железо оставило в ране, и от которых рана не заживает.
Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменилась из – за этого его интереса к притягательной способности мазей и порошков.
Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема, она проходит постоянным мотивом, который неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его – хотя и сдержанно – грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, – время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые пять Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: «Ты наш первенец! Перворожденный!» Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что подрастая, Роберт начал припоминать (или убеждать себя, будто припоминает), что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы, и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации, и что по сути это было противительное высказывание со смыслом: «Ты! Ты, а не кто иной! наш перворожденный и полноправный отпрыск».
Не кто иной или не некий Иной? В письмах Роберта фигура Иного появляется постоянно, он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе (известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, воспитывается с крестьянскими недорослями и питает свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита), вообразил существование непризнанного брата, вероятно дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом – по отцу или по матери (и так и этак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения). В любом случае брат существовал, и по какой – то, возможно, даже сверхъестественной вине он был отринут и отвергнут, и разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме.
Призрак этого противного брата (с которым тем не менее он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться) тревожил его в детстве ночами, а постарше, подростком, он перелистывал в библиотеке старинные тома, ища запрятанного портрета ли, церковной ли записи, какого – то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванные новорожденным, но неясно – годы или столетия назад.
Как – то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя, Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки со сворки. Феррант, полномочием своего небытия, действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порок приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался.
Не то чтобы Роберт лгал людям; принимая бессловесно, с комом в горле, наказание за собственные проступки, он убеждал себя в невиновности, и что он жертва злоупотребления.
Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от мастера, а по существу в отместку за какую – то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лиходейство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, от чего он решил спасаться бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдания свершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант.
Однако отец, увидев убыток, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что во избежание неукротимого его гнева, провинившемуся предлагается сознаться. Роберт ощутил порыв жалости и великодушия: если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из – за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках матери с отцом… Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого – либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, ответствовал на это, что хотя вина и была тяжчайшей и кара неотвратима, но все же невозможно не оценить, как юный синьор де ла Грив с честью следует семейному заводу, и значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока что ему только восемь лет. Затем подвел итоги: Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан – Сальваторе. Хотя приговор и не сильно радовал (в имении Сан – Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера), все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры.
На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск не лжив; с неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает несуровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец несомненно почувствовали, что виновник – это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха.
Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы; но присутствие отсутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте – по крайней мере в Роберте того сложнейшего, путаного периода, когда мы наблюдаем его на «Дафне» – отзывается полудетская игра самого с собой.
Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела.
В имение Грив новости доходили не слишком – то спешно, но за последние два года как – то узналось, что открытый вопрос мантуанского наследства принес немало огорчений герцогству Монферрато, и что – то вроде полуосады уже происходило там. Коротко говоря – историю эту рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я, – в декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Мантуанский, и у одра этого шалопута, не умевшего делать детей, разыгрался балет четырех претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен – Шармон, он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии. Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий, между охами и вздохами, женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице область.
Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя среди прочего Монферратский маркизат; столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими (то есть испанскими) владениями и землями Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщение между Миланом и Генуей, и вообще представлял собой одну из двух буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из двух больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Иммануил I Савойский постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрато к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрато оказался у любого другого хозяина, скажем у герцога Гвасталльского. Не будем уж говорить, что кое – какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало, и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что Священный и Римский Германский Император, чьим вассалом формально являлся Мантуанский герцог, не ратифицирует это наследование.
Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и, не дожидаясь, пока император решится наконец высказать свое мнение, начали осаждать Казале: первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощней французской армии, а она, занятая на северном фронте, один Бог знал, успевала ли подойти.
Примерно на такой стадии находились дела в середине апреля, когда старый Поццо выстроил на площадке напротив замка самых молодых из дворового люда и самых поворотливых крестьян своей деревни, роздал им снаряды, имевшиеся в оружейной, вызвал туда же Роберта и произнес следующую речь, заготовленную за ночь: «Слушайте, вот что я говорю. Наша с вами округа спокон века платила монферратскому маркизу, монферратцы уже давно заодно с герцогом Мантуанским, а этот герцог теперь господин Невер. Кто будет врать, что Невер не мантуанец и не монферратец, тому я лично дам кулаком в рожу, потому что вы бессмысленные твари и об этом рассуждать рылом не вышли. За вас думать буду я, так как я хозяин и хотя бы понимаю дело чести. Но поскольку вы эту честь в гробу видали, могу вам обещать попросту, что если имперцы займут Казале, они вас пряниками не накормят, с виноградниками сотворят аллилуйю, а уж с вашими женами, лучше не думать. Так что вперед на защиту Казале. Я никого не принуждаю. Если есть среди вас ничтожные прохвосты, кто со мною не согласен, пусть скажет сразу и я его вздерну на том дубу». Никто из присутствовавших на митинге, разумеется, не мог быть знаком с офортами Калло, где повешенные гроздьями свисают с мощных дубовых веток, но речь, по – видимому, проняла всех: они повскидывали на плеча мушкеты, пики, жерди с привязанными наверху серпами и закричали: виват Казале, гибель имперцам, мы победим.
«Сын мой, – сказал Поццо Роберту, когда они спускались с холма в долину, а немногочисленное войско сопровождало их сам – пеш, – этот Невер не стоит волоска из моего зада, а Викентий, когда удумал передать ему это герцогство, уже ослабел, видать, не только на передок, но и на голову, хотя на голову он не был силен и в хорошее время. Но теперь, что отдано, отдано Неверу, а не этому козлу из Гвасталлы. Наш род вассал законного хозяина Монферрато еще с Адама и Евы. И потому мы встанем за Монферрато и если надо, за Монферрато поляжем, потому что, как Бог свят, не годится, что пока все ладно, то друзья до гроба, а когда кругом дерьмо, то будь здоров. Но лучше все – таки не дать себя укокать, потому зри в оба».
Переброска наших волонтеров от границы алессандрийской земли до крепости Казале была одной из самых долгих, какие может припомнить история. Старый Поццо разработал стратагему в некотором смысле безукоризненную. «Знаем мы испанцев, – сказал он. – Они не любят утруждаться. На Казале они пойдут долиной, югом, потому что с повозками, пушками и с барахлом удобнее идти по ровному. Значит, мы сразу после Мирабелло двинем на запад и будем пробираться холмами, потратим на день – два больше, но дойдем без приключений и к тому же скорее, чем они».
К сожалению, у Спинолы имелись гораздо более затейливые соображения насчет того, как подготавливается осада, и притом что на юго – востоке от Казале он приступил к оккупации Валенцы и Оччимиано, за несколько недель до того были переброшены к западу от города отряды герцога Лермы, Октавия Сфорца и графа Гембургского, около семи тысяч воинов, и было решено разом захватить крепости Розиньяно, Понтестура и Святого Георгия, с тем чтобы перекрыть возможную подмогу со стороны французской армии; при этом разворачивался на марше, форсируя реку По, и обхватывал клещами город с севера губернатор Алессандрии, дон Иеронимо Аугустин, и с ним пять тысяч человек. Все эти силы были сосредоточены на той траектории, которую Поццо так благостно считал совершенно пустынной. И своротить с этой дороги после того, как наш полководец узнал от местных поселян реальную обстановку, уже не представлялось возможным, потому что на востоке имперцев было по крайней мере столько же, сколько на западе.
Поццо сказал по – простому: «Все остается в силе. Я знаю округу лучше их; прошмыгнем между ногами, как суслики». Это означало, что пируэтов и поворотов предстояло довольно много. Они даже налетели на французов, отступавших из Понтестуры, которые успели там сдаться и под обещание не показываться в Казале были отпущены в сторону Финале, чтоб возвратиться во Францию морем. Команда де ла Грив наскочила на них в окрестностях Оттелья, и они чуть не постреляли друг друга, а потом Поццо услышал от их командира, что среди условий сдачи имелось и такое: весь хлеб из Понтестуры скупается испанцами, и эти деньги выплачиваются осажденным жителям Казале.
«Вот что значит благородные люди, видите, детки, – сказал на это старый Поццо. – Воевать с такими одно удовольствие. Слава Господу, что сейчас не та война, как была у Карла с маврами, умри ты сегодня, а я завтра. Совсем иное дело христиане против христиан, тысяча чертей! Пока те пыхтят под Розиньяно, мы обойдем их с задницы, проскочим между Розиньяно и Понтестурой и послезавтра будем в Казале».
Сказавши эти слова в конце апреля, Поццо с людьми смог увидеть городскую стену Казале 24 мая в первой половине дня. Путь их оказался, по крайней мере в памяти Роберта, весьма увлекательным, то и дело они ретировались с дорог на тропки, а с тропинок просто в сторону и двигались напроход через посевы; наплевать, приговаривал Поццо, в войну все равно пашни не целы, не стопчем мы, так стопчут они. Пропитание добывалось в курятниках, на огородах и в амбарах. Все по правилам, комментировал Поццо, это земля монферратская и должна поддерживать защитников Монферрато. Мужику из Момбелло, который было запротестовал, велели всыпать тридцать палок, в назидание, что если – де в войну не поддерживать дисциплину, победишь не ты, а тебя.
Роберту эта война начинала казаться очаровательной. Путники рассказывали душеполезные новеллы, к примеру такие. Французский шевалье был ранен и пленен в крепости Святого Георгия. Он жаловался, что солдат ограбил его, отнял дорогой портрет. Герцог Лерма, об этом узнавши, велел вернуть портрет, вылечить французского дворянина и отпустить в Казале, дав ему коня. В то же время, со всеми витками и поворотами, от которых полностью утрачивалась ориентация в пространстве, старый Поццо действительно вел свою компанию так, что военного дела, в собственном смысле, они не нюхнули.
Так что все вздохнули почти с облегчением и с радостью, как при начале давно ожидавшегося бала, когда в прекрасный день с верхушки недальней горы под их ногами открылся тот самый город Казале, огибаемый с севера, по левой их руке, широкой полосою По, которая прямо перед замком разбивалась двумя большими островами, делившими реку на рукава, и ощетинивающийся на юге зубчатым массивом цитадели. Весело заставленный изнутри башнями и колокольнями, снаружи Казале представлялся совершенно неприступным со своими остриями, шипами и бастионами, похожий на свирепого дракона с гравюры.
И впрямь было чем полюбоваться. Вокруг города солдаты в яркоокрашенных мундирах перетаскивали осадные машины от одной до другой палатки, утыканной флажками, при постоянном скаканьи всадников в пернатых шляпах. На зеленом полотне лесов, на желтизне полей вдруг нестерпимое блистание почти царапало взор, и это оказывались рыцари в серебряных кирасах, перемигивавшихся с солнцем, и не было понятно, куда же они несутся вскачь, казалось, галопируют попросту ради картинки.
Во всей своей красоте, это зрелище совсем не понравилось Поццо, который проговорил: «Ребята, вот теперь, я думаю, мы подсели». И на вопрос Роберта о причине подобного пессимизма добавил, шлепнув того по затылку: «Не валяй дурочку, разве не видно, это имперцы, или ты думаешь, что казальцев такая куча и все гуляют снаружи города? Казальцы с французами сидят внутри обделанные от страха, потому что их не наберется даже двух тысяч, а тех голубчиков тысяч чуть ли не сотня, судя по тому, что я вижу на склонах холмов напротив». Поццо преувеличивал, войско Спинолы насчитывало только восемнадцать тысяч пехоты и шесть тысяч конных воинов, но и тех, что было, хватало и еще оставалось.
«Что будем делать, отец мой?» – вопросил Роберт. – «Не будем, – отвечал ему отец на вопрос, – проходить там, где стоят лютеране. In primis, ни холеры не понятно, что они там болбочут, a in secundis, они сперва тебя расстреляют, а потом спросят, по какому ты вопросу. Ищем, где народ похож на испанцев. С испанцами, как вам уже говорилось, дело иметь можно. И выбираем повальяжнее. В таких делах первое дело, это воспитание».
Был намечен участок, где развевались знамена христианнейших королей и где сверкало больше всего начищенных доспехов, и с верой в судьбу выступили туда. В общей суматохе довольно далеко им удалось продвинуться среди вражеского стана, никому не рекомендуясь, потому что в те времена униформу носили только отборные подразделения вроде мушкетерских, а все остальные постоянно путались, кто свои, кто чужие. Но когда уже осталось только перейти ничейную полосу, они налетели на аванпост и были остановлены офицером, который вежливо попросил их рассказать, кто они такие и куда направляются, в то время как за плечами у него нависала солдатня угрожающего вида.
«Синьор мой, – начал свою речь старый Поццо. – Окажите же любезность освободить для нас дорогу, поелику мы имеем нужду оказаться на месте, которое нам пристало, откуда сможем начать стрелять по вас и по вашим солдатам». Офицер стащил свою шляпу, погрузился в реверанс и размел перьями на два метра пыль вокруг себя, и ответил:
«Senor, no es menor gloria vencer al enemigo con la cortesia en la paz que con las armas en la guerra» [3] A потом, на недурном итальянском: «Проходите, о сударь мой, и если одна четверть наших людей будет обладать половиною вашей отваги, мы победим. Да ниспошлют небеса мне отраду повстречаться с вами на ристалищном поле и да будет мне честь лишить вас жизни».
«Типун тебе на язык, язва в душу», – пробормотал сквозь зубы Поццо, но так как требовалось что – то отвечать, он напряг все свои лингвистические таланты и из последних представлений о риторике выудил что – то вроде «Yo tambin!» [4]. Помахавши шляпой, он слегка ткнул коня шпорой, никак не более чем требовала театральность мизансцены, потому что надо же было дать подтянуться его пешеходным воякам, и все отправились к воротам.
«Суди сам: с аристократами договориться…» – начал Поццо, наклонившись к сыну на ходу, и прекрасно сделал, что наклонился, потому что с бастиона жахнули из аркебузы. «Не стреляйте, идиоты, свои, свои, Невер!» – заорал он, подняв руки, и вполголоса Роберту: «Узнаю наших. Грех говорить, но с испанцами спокойнее».
Они вступили за стены. Кто – то, по – видимому, уже оповестил об их появлении коменданта гарнизона, господина Туара. Это был давний товарищ по оружию старого Поццо. Объятия, поцелуи, ознакомление с обстановкой.
«Друг мой дорогой, – повел рассказ Туара. – По парижским реляциям выходит, будто у меня здесь имеется пять полков пехотинцев и в полку по десять рот, что составляет десять тысяч бойцов. Но у господина де Ла Гранж только пятьсот человек, у Монша двести пятьдесят, и всего я могу рассчитывать на тысячу семьсот пеших воинов. Еще у меня шесть рот кавалеристов, всего числом четыреста, правда, хорошо экипированных. Кардинал знает, что я имею меньше солдат, чем должен был бы иметь, но он утверждает, что я имею три тысячи восемьсот. Я пишу ему, доказывая обратное, но Его Высокопреосвященство делает вид, что не понимает. Я был вынужден составить полк из наемных итальянцев любого разбора, корсиканцев, монферратцев, но позвольте сказать, вас не обидев, что солдаты они плохие, и добавлю, что пришлось даже приказать офицерам набрать отдельную роту из денщиков. Ваши люди вольются в итальянский полк под команду капитана Бассиани, он хороший солдат. Пошлем туда и молодого де ла Грива, чтобы идучи под огонь он получал команды на своем языке. Что до вас, драгоценный друг, присоединитесь к почтенным моим советчикам, пришедшим в лагерь, как и вы, по собственной доброй воле и образующим мою свиту. Город вам знаком, помощь будет неоценима».
Жан де Сен – Бонне, господин де Туара, высокий, темный, светлоглазый, в расцвете опыта – сорока пяти лет, вспыльчивый и отходчивый, был приятен в общении и любим войсками. Отличившись при обороне острова Ре от англичан, двором и Ришелье он вознагражден не был. Знакомые пересказывали его беседу с канцлером, хранителем королевской печати Марийяком. Канцлер сказал, что две тысячи французских дворян распорядились бы обороной Ре не хуже Туара, а тот в ответ сдерзил, что уж хранить – то печати сколько угодно французских дворян смогут не хуже Марийяка. Офицеры приписывали ему еще одну лихую фразу (но похоже, что ее автор на самом деле один шотландский капитан). Военный совет в Ларошели, и отец Жозеф (в то время знаменитый серый кардинал) тычет пальцем в карту и предлагает: «Переправимся тут». На что Туара холодно произносит:
«Святой отец, жаль, что ваш палец не мост».
«Вот так, любезный друг, – продолжал Туара, обходя с ними бастионы и рукой обводя горизонт. – Сцена великолепна, и актеры недурны, приглашены из двух империй и из многих синьорий. Против нас выведен даже флорентийский полк, под командованием, вообразите, Медичи. Казале как город, думаю, довольно надежен. Занимаемый нами замок позволяет держать под обзором реку, хорошо укреплен и защищается хорошим рвом. К стенам мы подвели насыпи, они помогут обороне. Что касается цитадели, в ней есть шестьдесят пушек. Бастионы по всем правилам искусства. Были слабые места, но их я усилил люнетами и батареями. Все это лучше некуда против лобовой атаки, но и Спинола не мальчик, вон какое копошенье внизу. Роются минные подкопы, и когда их доведут до стен, считайте что открылись ворота. Чтоб не давать им работать, приходится воевать в открытом поле, хотя в поле мы не сильны. Как только неприятель подтащит поближе вон те пушки, начнутся бомбардировки, и тут выйдут на сцену новые герои – обыватели Казале, у которых испортится настроение. В этом отношении Казале совсем не надежен. С другой стороны, население можно понять. Им дороже их город, чем синьор де Невер и французские лилии. Будем разъяснять, что савойцы и испанцы отберут их независимость и что, переставши быть столицей, они превратятся в захудалую крепостцу вроде Сузы, которую савойцы продадут за два скуди. Во всем остальном будем импровизировать, как положено в комедии дель арте. Вчера я выезжал с четырьмя сотнями людей в сторону Фрассинето, там скапливались имперцы и мы их разогнали. Но пока мы занимались этим, неаполитанцы укрепились на том берегу. Я велел палить по ним из пушек, мы не прекращали несколько часов и, вероятно, разнесли там все на щепки, однако неаполитанцы не уходят. За кем перевес в результате дня? Клянусь Господом, не знаю, и Спинола не знает тоже. Я только знаю, что нам делать завтра. Видите вон те дома в логе? От них хорошо бы простреливались позиции врага. Мой шпион донес, что дома эти пусты; можно предположить, что там кто – то прячется; молодой друг Роберт напрасно делает возмущенное лицо, он пусть выучит первый постулат, что войны выигрываются через шпионов, и постулат второй, что шпион, предатель по натуре, с равным успехом предает тебя… Как бы то ни было, завтра отправляю пехоту на захват этих строений. Чем портить солдат бездельем, пусть поразомнутся. Рано волнуетесь, Роберт, это еще не ваш случай. Вот послезавтра полк Бассиани пойдет за реку. Видите куски стен? Это форт, который мы начали строить, пока нас не вышибли. Мои офицеры против, а я так думаю, что надо отбить, пока его не приспособили себе имперцы. Надо лупить их в долине, не давать копать ходы. Славы хватит на всех. Сейчас будет ужин. Осада еще в начале и в провизии нет недостатка. Это впоследствии мы станем есть мышей».
3. ЗВЕРИНЕЦ ЧУДЕС СВЕТА[5]
Избегнуть поедания мышей в Монферрато с тем чтобы стать на «Дафне» будущей добычею мышей… В печали разрабатывая эту изящную противительность, Роберт все – таки решился на вылазку туда, откуда ночью донеслись непостижимые звуки.
Он пошел вниз с полуюта, полагая, что корабельное устройство в точности подобно «Амариллиде», и значит, под палубой обнаружится кубрик с дюжиной пушечных портов по бортам и с тюфяками или гамаками матросов. Сойдя по трапу от вахты в нижний отсек, пронизанный поскрипывавшим румпелем, он увидел дверь в переборке, но как будто бы желая обведаться в глубинах судна, прежде чем идти на стычку с врагом, в эту дверь не пошел, а нырнул через люк в самую глубину трюма, где должны были храниться остальные запасы еды. Вместо этого он увидел притиснутые друг к другу спальные места на дюжину человек. Значит, команда спала здесь, в кокпите; выходит, что верхний ярус предназначался для иных целей. Койки были в идеальном порядке. Если мор на корабле и имел место, то, должно быть, выживавшие убирали за вымиравшими, чтоб не сеялся страх… «Но откуда явствовало, что моряки перемерли?» – снова подумал Роберт, и снова эта мысль не успокоила его. Когда чума пустошит судно, это природная напасть, или, сказали бы многие богословы, – рука Провидения; а когда экипаж оставляет корабль в столь превосходном порядке, это страшит втройне.
Объяснение, возможно, ждало на второй палубе. Собравшись с духом, Роберт возвратился на прежний ярус и толкнул дверь, которая вела в пугавшее его место.
И тут объяснились решетки на опер – деке. Через сетчатый пол на гон – дек, как в церковный неф, искоса попадали лучи денницы, перекрещиваясь со светом, проходившим через пушечные порты и янтарно отблескивавшим от стволов.
Сперва Роберт не увидел ничего, только лезвия света, в которых скакали и подпрыгивали неисчислимые частички, приведшие ему на память (до чего ж он пространно тешится высокоучеными воспоминаниями, старается произвести впечатление на Прекрасную Даму, нет чтобы сказать в простоте!) те слова, которыми Диньский настоятель растолковывал ему зрелище световых водопадов, проливавшихся в кафедральный собор, одушевляясь в своей середине множественными монадами, семенами, нерасчленимыми естествами, каплями мужского ладана, спонтанно взрывавшимися, и первоначальными атомами, затевавшими между собой свалки, потасовки, толкотню, бесконечно встречаясь и бесконечно разлучаясь; се есть наглядное подтверждение устройства нашей вселенной, которая не из иного состоит, как из первичных тел, движущихся в пустоте.
И сразу вслед за этим, как будто в подтверждение мысли, что сей мир есть результат балета атомов, у него возникло ощущение сада, и он осознал, что попавши сюда, подвергся действию полчищ запахов гораздо более крепких, нежели те, которые долетали прежде от берега через пролив.
Сад, покрытая оранжерея. Вот чем исчезнувшие обитатели «Дафны» заселили этот отсек судна, с целью переправить на родину цветы и деревья с островов, которые они открывали, и чтобы к ним проникали солнце, ветра и небесная влага. Сколько месяцев сумел бы корабль беречь свою зеленую добычу, не сожгла ли бы растения солью первая же морская буря, Роберт не знал, но несомненно: видеть эту рощу в добром здоровий означало, как и с припасами, что попала она на борт недавно.
Цветы, кустарники и деревца были выкопаны с корнями и с почвой и рассажены по корзинам и ящикам, сделанным из чего нашлось. Многие короба растрескались, на полу была земля, вывалившаяся из полных с верхом плетенок, и в эту свилеватую землю метили молодые отростки, чтобы укорениться, и тем создавалось подобие райского сада, росшего прямо из досок мореплавательной «Дафны».
Солнце било не так сильно, чтобы заболели глаза у Роберта, но его света хватало играть на расцветке стеблей и листьев и заставлять раскрываться многие цветы. Роберт увидел раздвоенный лист, походивший на раковый хвост, на нем жемчужились белые почки; в другом, нежно – зеленом, расправлялся какой – то полуцветок из пучочка сливочных дуль. Тошнотворным смрадом повеяло от желтого уха, в которое как будто был воткнут кукурузный початок, за ним гирляндами вились фарфоровые раковинки, белоснежные, с розовыми каймами, тут же торчала гроздь не то рожков, не то колокольчиков и пованивала болотной гнилью. Он увидел цветок лимонной прожелти, оказавшийся при дальнейшем знакомстве переменчивым: абрикосовым на заре, темно – красным на закате; другой, шафрановый в сердцевине, переливался к закраине лепестков в лилейную белизну. Были и шероховатые плоды, он не решился бы их даже тронуть, но один упал, расселся, обнажил гранатовую глубь. Роберт попробовал на язык, но по – видимому не на тот язык, которым осязают вкус, а на тот, коим слагают песнопения, поскольку пишет: это кладезь меда, манна, загустелая в изобилии собственной отрасли, сокровищница изумрудов, изузоренная рубиновой зернию. Осмыслив это описание, рискну заявить, что Роберт дегустировал фигу.
Ни один из этих плодов и ни одно растение не было ему прежде ведомо, каждое порождалось будто фантазиею художника, насмехавшегося над нормами природы, дабы изобрести убедительные неправдоподобия, мучительные услады и восхитительные лжи; как та корона беловатого пуха, что возвышалась с фиолетовой кокардой, походившая на сизую примулу, выставившую непристойный член, или это была маска, венчавшая седой цветок козлоборода? Кому мог прийти в голову кустарник, чьи листья, темно – зеленые по одной стороне, имели желтые и кармазинные разводы, а на другой стороне были цвета пламени, и перемежались с листьями светлыми и мясистыми, вогнутыми, так что в них неизвестно с какого времени держалась влага последнего дождя?
Роберт под впечатлением обстановки не задавался вопросом, о каком дожде речь, если за последние три дня осадков не выпадало. Ароматы оглушали его и не удивляла необычайность. Не удивляло, что мокрый разваливающийся плод пах, как испорченный сыр; что фиолетовый баклажан с дыркой в днище тарахтел твердыми семечками, не овощ, а бубенец; что какой – то цветок с одной стороны был заострен и вытянут, как спица, а с другой – закруглен и толст. Роберт никогда раньше не видел плакучую пальму, она плакала, будто ива, воздушные ее корни лишь на некоторой высоте сплетались в стволы, а побеги свисали, изнеможенные собственной плодовитостью. Другое растение, незнакомое прежде Роберту, имело листья широкие, сочные, из которых каждый пронизывался железистой жилой. Готовые блюда, подносы! И нерукотворные черпачки росли тоже неподалеку.
Гадая, в механическом ли он лесу или в земном рае, упрятанном в подпочвенной толщине, Роберт скитался внутри этого Эдема, среди одуряющих ароматов. Когда он рассказывает об этом Прекрасной Даме, он упоминает деревенские неистовства, сумасбродства огородов, где густолистые Протеи, где кедры (а может быть, не кедры, а цитроны?) шалеют от усладительного восторга… В его повести сад – это дрейфующий острог, населенный коварными автоматами, где за ограждением чудовищно свитых канатов бьются упрямые настурции, непокорные вскормленницы дикарской пущи… Он напишет об опиуме чувств, об атаке гнилостных испарений, которые нечистыми обаяниями завлекают жертву в края антиподов ума.
Сначала он приписал птичьему пению, доносящемуся с острова, свое чувство, будто выкрики пернатых излетали от цветов и от трав; но внезапно все тело его пошло мурашками от пролета нетопыря, почти зацепившего крылом его за щеку, и тут же пришлось отпрыгивать от сокола, камнем падающего на добычу и вонзающего в летучую мышь крючковатый клюв.
Продвигаясь по гон – деку и слыша далекие голоса птиц от Острова, удивляясь, как им удается проникать через щели в бортах, Роберт постепенно приходил к убеждению, что птицы поют где – то близко. Не могло это слышаться с берега. Значит, какие – то другие птицы пели прямо за деревьями, в носовой части палубы, за переборкой у провиантской, откуда предыдущей ночью раздавался опасный шум.
Он натолкнулся на какой – то ствол. Дерево, похоже, прошибло палубу и просунулось выше. Не сразу Роберт понял, что перед ним рангоутное дерево, то есть колонна мачты, и он стоит на самой середине судна, где шпор вращен в степс и мощно укоренен в кильсон. В этой точке ремесло и природа переплетались настолько тесно, что заблуждение нашего героя простительно. Еще добавим, что в точности на этом месте до его ноздрей довеяло какое – то смешение запахов, дух перегноя в сочетании со скотской вонью, что символизировало границу медленного перехода из оранжереи в хлев.
После этого, тронувшись от грот – мачты к носу, он попал на птичник.
Он не знал, как по – другому назвать скопище тростниковых клеток, пронизанных крепкими жердями, служившими для насестов, и населенных летучими существами, старательно угадывавшими по свету зари тот восход, от которого к ним просачивалось лишь нищенское подобие, и перекликавшимися, хотя пение и выходило непохоже на то, что в природе, с собратьями, свободно голосившими на Острове. Вольеры стояли на полу, висели на решетке верхней палубы; с этими сталактитами и сталагмитами гон – дек казался еще одним зачарованным гротом, где порхающие пернатые качали клетки, а те, подпрыгивая, рассекали потоки солнечных лучей, и высвечивалась карусель цветов и блистательное мельтешение радуг.
До этого дня он, пожалуй, никогда по – настоящему не слышал пенье птиц. Можно сказать также, он ни разу по – настоящему их, птиц, не видел, по крайней мере столько разных сразу, и не мог понять, этот ли облик свойствен им в природе или же рука художника разрисовала их и изукрасила к пантомиме военного парада. Каждый воин и каждый член командования красовался своими боевыми колерами и собственным флагом.
Незадачливый Адам, он не располагал названиями для этих тварей. Разве только имена, что использовались на его родном полушарии: это аист, бормотал он, а это журавль, а вот куропатка… Но с таким же успехом можно было называть гусаком лебедя.
Птицы – прелаты с широкими кардинальскими шлейфами и с носами как алхимические сосуды топырили крылья цвета трав, раздувая пурпурные зобы и выпячивая голубую грудь, причитая почти по – человечьи; в другой стороне собирался многочисленный турнир, воины разминались, и приплюснутая сводная кровля их решетчатого турнирного поля дрожала от наскоков цвета горлинки и от жарко – огненных ударов, напоминавших, как штандарт в руках знаменосца плывет над строем, взмывает и полощется на ветру. Насупленные ходулочники на долговязых нервных конечностях, зажатые в тесноте, с негодованием гоготали, поджимали то одну, то другую ногу, подозрительно озирались, тянули шею, трясли чубатой головой. Только в одной, вытянутой в высоту клетке привольно чувствовал себя крупный капитан в голубом мундире, в карминовой, под цвет очей, манишке, с лилейным султаном на кивере, и ворковал как голубка. Рядом с ним в маленькой клетке три пешехода мерили настил шагами, не имея крыльев, и подскакивали, испачканные комочки пуха: мышиные мордочки, усы у основания клювов. Клювы у них были горбатые, с крупными ноздрями, которыми эти уродцы обнюхивали червей, отщипывая от них куски. В одной клетке, вытянутой и закрученной, как кишечник, прохаживалась маленькая цапля с морковными лапами, с аквамариновой грудкой, с черными крылышками и лиловым носом, а за ней гуськом шествовали цыплята. Дойдя до окончания кишки, она со злобным карканьем пыталась разнести загородку, видимо, считая ее случайным нагромождением отростков и корешков, а потом разворачивалась и маршировала обратно со всем своим выводком, который не мог догадаться, идти ли впереди или позади родительницы.
Роберт испытывал и возбуждение от открытия, и жалость к этим пленникам, и желание отворить клетки и посмотреть, во что превратится его готический собор, наполнившись этими герольдами воздушного войска, выпущенными из осады, к которой «Дафна», в свою очередь осаждаемая полчищами им подобных, их принуждала. Потом он подумал, что птицы голодны. В клетках валялись ошметки корма, а плошки и корытца, куда заливать воду, стояли пустые. Около клеток, однако, имелись мешки с зерном и нарубленная вяленая рыба, все было заготовлено для того, чтобы птицы благополучно доехали до Европы, поскольку редкий корабль, сплавав к южному краю земного шара, не привозит ко дворам и академиям Европы редкости новых миров.
Ближе к оконечности носа он обнаружил дощатый загон, где рылась в подстилке дюжина цесарок, или вроде этого, в любом случае куриц с подобным оперением он в жизни не встречал. Они тоже, по всей видимости, испытывали голод, тем не менее куры отложили шесть яиц и торжествовали столь же бурно, как любые их товарки во всех частях света.
Роберт немедленно подобрал яйцо, продырявил скорлупу концом ножа и выпил яйцо через дырочку, как в годы детства. Другие яйца уложил за пазуху, а для успокоения матерей и плодовитейших отцов, хмуро трясших зобами, роздал корм и воду; то же самое во все прочие клетки, причем он спрашивал себя, какое провидение распорядилось прибыть ему на «Дафну», когда население птичника почти обессилело от голода. И впрямь, он провел на корабле вот уже две ночи; за птицами ухаживали в последний раз, самое позднее, днем раньше появления Роберта. Он попал на корабль будто опоздавший на праздник гость, пришедший к еще не убранному столу.
Впрочем, сказал он, с самого начала было ясно, что раньше кто – то здесь был, а теперь его нет. Были тут люди день или десять дней назад, для меня ничего не меняет, самое большее усугубляет насмешку судьбы: ведь выбрось меня море на один только день раньше, я мог бы присоединиться к экипажу «Дафны» и отправиться с ними туда же, куда они. Или нет: погибнуть вместе с ними, если все они погибли. В общем, он перевел дух (по крайней мере, дело было не в крысах) и подумал, что в его распоряжении теперь имеется курятник. Он отказался от идеи выпустить на волю более благородные породы, и решил, что если его сидение окажется очень долгим, и эти породы могут представиться съедобными. Идальго, порхавшие под стенами Монферрато, тоже были благородные и разноцветные, однако мы по ним палили, а окажись наше там сидение очень долгим, вполне могли бы начать их есть. Кто воевал в Тридцатилетнюю войну (скажу я сейчас, хотя ее прямые участники не называли ее так и, вероятно, даже не сознавали, что речь идет об одной очень долгой войне, в которой время от времени подписывался какой – нибудь мир), тот отучался от прекраснодушия.
4. НАГЛЯДНАЯ ФОРТИФИКАЦИЯ[6]
Отчего Роберту так часто приходит на язык Казале при описании его первых дней на корабле? Бесспорно, параллелизм напрашивается: осажден теперь, как осажден был тогда; но для человека его столетия как – то жидковато. Скорее уж, при подобии, его тем более зачаровывают несходства, изысканные противопоставления: в Казале он попал по желанию, дабы не допустить попасть других, а на «Дафне» оказался поневоле и мечтал только о том, чтоб выбраться. Но в наибольшей степени, думаю я, существуя в мире полутени, он тянулся памятью к истории раскаленных дней, прожитых под ярым светилом осады.
И еще. В начальную пору жизни Роберту выпадало единственных два периода, которые меняли его представления о мире и о человеческой жизни в нем. Это были несколько месяцев осады и несколько лет в Париже. Ныне он переживал третий возраст мужания, скорее всего последний, на излете которого зрелость приравняется, вероятно, уже к распаду. И он пытался расшифровать тайну этой поры, накладывая очертания прошлого опыта на современье.
Поначалу казальская жизнь сплошь состояла из вылазок. Роберт описывает эту жизнь своей адресатке, преображая стилем и будто желая ей показать: неспособный захватывать упорную твердыню льда, палимую, но не растопляемую двух ее солнц пламенами, под лучами солнца иного он невзирая ни на что оказался в высшей степени способен сопротивляться тем, кто старался захватить монферратскую твердыню.
Утром следующего дня после приезда гривской команды Туара отправил нескольких офицеров, с карабинами на плече, поглядеть, что там устраивают неаполитанцы на холмах, захваченных накануне. Офицеры подъехали слишком близко, возникла легкая перестрелка, и молодой лейтенант Помпадурского полка был застрелен. Товарищи доставили его тело в крепость и так Роберт увидел первого убитого в своей жизни. Туара отдал приказ захватить строения, о которых говорилось на день раньше.
С бастионов было удобно наблюдать вылазку десяти мушкетеров, раздвоивших свой ряд на скаку, чтобы окружить и захватить первый дом. Из крепости тем временем было пущено ядро, пролетевшее над их головами и сорвавшее с дома крышу: оттуда, как насекомые, вылетели испанские солдаты и побежали наутек. Мушкетеры дали испанцам ретироваться, захватили строение, забаррикадировались в нем и повели оттуда будоражащий огонь по склону взгорья.
Та же операция требовалась и в отношении прочих строений. С бастионов было прекрасно видно, что неаполитанцы выкапывают ямы, обкладывают фашинами, хворостяными снопами, причем ямы не опоясывают холм, а тянутся по равнине к замку. Роберту объяснили, что это входы в минные галереи, которые доводят под землей до стены, а там набивают порохом. Нельзя давать неприятелю закапываться под землю. Вот и вся война. Рушить в самом зачатке подкопы противника, а самим по возможности вести в его сторону контрподкопы и дожидаться подхода подмоги или полного расхода вооружения и припасов. Осада состоит в этих двух занятиях: гадить неприятелю и тянуть время.
На следующее утро, как и ожидалось, занимали редут. Роберт в обнимку со своей пищалью оказался в ораве наемников из Лу, Куккаро, Одаленго, соседствовавших с бессловесными корсиканцами, всех скопом набили в лодку и перевезли через По, когда две роты французов уже сошли на неприятельскую сторону. Туара и штабные наблюдали за операцией с правобережья, старый Поццо махнул сыну и предупредительно поднял палец: действуй, дескать, с головой.
Три роты захватили безлюдный форт. Он не был доделан, и начальная постройка потихоньку распадалась. День прошел в затыкании дырок в стенах. Укрепление было окружено хорошим рвом, за ров отправили нескольких впередсмотрящих. Наступила ночь, но такая светлая, что дозорные спокойно дремали, а офицеры их не одергивали в уверенности, что нападения не будет. Тут – то и раздалась команда «на приступ!» и налетели конные испанцы.
Роберт, приставленный капитаном Бассиани сторожить брешь, заделанную мешками с соломой и сеном, не успел уразуметь, как это все происходило: на крупе коня у каждого всадника находился мушкетер, и, доскакав до укреплений, лошади помчались по кругу вдоль канавы, в то время как стрелки на ходу убирали немногих часовых, а мушкетеры прыгали с коней и катились кубарем в глубину рва. Очистив место, кавалеристы полукругом сгруппировались напротив входа, загоняя защитников за стену непрерывным огнем, мушкетеры невредимые подобрались к воротам и к разбитым участкам стен.
Итальянская пехота, выставленная для караула, покидала оружие и в ужасе разбежалась, покрывая себя бесчестием; но и французский гарнизон повел себя не лучше. От начала атаки до взятия стен форта прошло только несколько минут, и для встречи атакующих, уже прорвавшихся за стены, защитники форта не успели даже вооружиться.
Неприятели, пользуясь внезапностью, резали кого попало; их было столько, что в то время как одни убивали, другие обирали убитых. Роберт, выстреливши в набегавших пехотинцев, с болью отдачи в плече перезаряжал ружье, когда налетела кавалерийская атака и копыта коня, перескакивавшего стену, сшибли Роберта и обрушили ему на голову всю кладку. Это было его счастье; под мешками он спасся от смертоносного налета и теперь из соломенного укрытия видел, как нападавшие приканчивали упавших, отрезали пальцы ради колец и кисти рук ради браслетов.
Капитан Бассиани, чтоб оборонить честь своего бегущего войска, доблестно отбивался, но его окружили и принудили к сдаче. С того берега заметили, что происходит, и полковник Ла Гранж, незадолго перед этим вернувшийся с форта с поверки, рвался на спасение гарнизона, но офицеры его удерживали до подхода городских подкреплений. С правого берега отчаливали какие – то лодки, в то время как, разбуженный дурною вестью, к месту их отплытия галопом мчался Туара. Было уже понятно, что французы в форте разбиты и что единственная им помощь была – прикрывать навесным огнем отход остающихся в живых.
В этой суматохе старый Поццо метался между штабными позициями и лодочным причалом, куда приставали спасавшиеся, но Роберта не было среди этих. Когда увиделось, что новых лодок уже не будет, он прорычал «О Господи!». После этого, не нуждаясь ни в какой лодке, зная законы речных течений, двинул коня прямо в воду чуть повыше первого острова, молотя шпорой. Конь пересек реку в месте брода, даже не поплывши, выскакал на другой берег, и Поццо с поднятою шпагой не разбирая дороги бросился на врага.
Несколько мушкетеров противника двинулись ему навстречу при светлеющем небе, не понимая, зачем этот одинокий всадник. Тот пролетел сквозь их строй уложив по меньшей мере пятерых яростною рубкой, навстречу двум конникам, и на вздыбленной лошади отклонился в сторону, избегнув удара, и откачнулся в другую, шпага его описала в воздухе круг, и левый кавалерист осел на круп, в то время как его кишечник выползал на сапоги, а правый так и застыл с вытаращенными глазами, ловя рукою ухо, которое, не вполне оторванное от щеки, повисло ему ниже бороды.
Поццо был уже около форта, в котором захватчики, занятые грабежом последних дорубленных со спины, не умели понять вообще откуда он взялся. Он влетел внутрь укреплений, выкрикивая имя сына, заколол четырех человек, работая как мельницею шпагой и разя в четыре стороны света; Роберт из – под своей соломы завидел его еще в отдалении и узнал прежде отца Пануфли, отцовского коня, с которым игрывал еще ребенком. Тогда он всадил два пальца в рот и свистнул условным свистом, который коню был издавна привычен, и верно, тот уперся, насторожил свои уши и поскакал с отцом по направлению к робертовой бреши. Поццо увидел Роберта и крикнул: «Нашел место сидеть! Прыгай на лошадь!» Роберт схватился за его пояс, и Поццо повернул коня к переправе, бормоча: «Наказание, вечно за тобой надо черт – те где бегать». Пануфли галопом несся обратно к реке.
Какие – то грабители поняли, что этот человек явно не должен здесь находиться, показывали пальцами и кричали. Офицер со вмятиной на кирасе в сопровождении трех солдат попробовал перекрыть ему путь. Поццо увидел, хотел обскакать и вдруг, натянув поводья, вскрикнул: «Вот врут про судьбу!» Роберт выглянул из – за него и узнал в офицере того самого испанского гранда, который позавчера пропустил их в крепость. Тот тоже узнал в лицо встречных, взор его блеснул, он нацелил шпагу.
Старый Поццо мгновенно перебросил шпагу в левую руку, выхватил правой пистоль и протянул руку в сторону испанца, который, сбитый с толку маневром, с разбегу оказался почти под его рукой. Но Поццо стрелял не сразу. Он нашел время произнести: «Прошу прощенья за стрельбу, но так как вы защищены кирасой, это извинительно…» Нажал курок и всадил тому в рот пулю. Солдаты, видя убийство командующего, побежали, и Поццо вернул пистолет на место за пояс со словами: «Пора обратно, пока они не потеряли терпенье… Пошел, Пануфли!»
В облаке пыли пролетели они по равнине, в ореоле брызг перенеслись по речному броду, а кто – то издалека палил и палил, стараясь попасть им в спину и не попадая.
На правом берегу их встретили плеском в ладоши. Туара сказал: «Trus bien fait, mon cher ami» – и потом Роберту:
«Ла Грив, сегодня бежали все, вы остались на посту. Добрая кровь сказывается. Вам нечего быть в этой ватаге трусливых. Займете место у меня в свите».
Роберт поблагодарил и, сходя на землю с лошади, пожал руку отцу, чтоб передать ему свою благодарность. Поццо рассеянно пожал ему руку и сказал: "Очень мне жаль этого господина испанца, он был дворянин. Сволочная война. С другой стороны, запомни себе науку, любезный сын: уж как он тебе ни размил, но если он хочет отправить тебя на тот свет, неправ он, а не ты. Мне кажется так.
Ухода за городскую стену, отец, как слышалось Роберту, продолжал бормотать "Я за ним не гонялся… " и приговаривать себе под нос.
5. ЛАБИРИНТ СВЕТА[7]
Похоже, Роберт вспоминает эту сцену в сыновней печали, улетая мыслью в счастливое время, когда защитник умел вызволить его из боевой бучи, а следом идут другие воспоминания, и Роберт не в силах от них отбиться. Тут дело не в автоматизме памяти. Я уже говорил, что Роберт переплетает свою раннюю историю с рассказом о жизни на «Дафне», как будто выслеживая связи, причины и знаки судьбы. Думаю, казальские реминисценции для него – ключевые моменты эры, когда он, юный, постепенно обнаруживал, что мир выстроен по законам причудливой архитектуры.
С одной стороны, оказаться в подвешенном виде между небом и океаном выглядело как весьма логичный результат трех пятилетий прогуливания по саду расходящихся троп. С другой стороны, именно в оглядывании былых невзгод он находил утешение сегодняшним бедам, как будто крушение снова отбросило его в земной парадиз, который он знавал в родном имении Грив и откуда удалился, вступивши в стены города в осаде.
Роберт обирал вшей уже не в солдатской казарме, а в прихожей у Туара, среди благородных особ, прибывших из Парижа, и узнавал об их выходках, минувших битвах, слышал их легковесные, блистательные беседы. С первого вечера он стал понимать, что осада Казале была не совсем то, к чему он готовился.
Он шел в Казале для увенчания рыцарской мечты, сформированной из гривских чтений. Иметь благородное рождение и, наконец, обрести оружие, стать паладином, чьей жизни цена – слово короля, спасение дамы. Он прибыл и вступил в священное воинство, это оказался гурт нерадивых мужиков, готовых смыться при первой трепке.
Затем его возвысили до совета неустрашимых, ввели как равного. Но он знал, что оказался неустрашимым по недоразумению, не сбежавши оттого, что испугался хуже бежавших. В довершение зол, когда соратники, по отбытии Туара, запоздно чесали языки, Роберт убеждался, что и казальская война составляла собой только звено бессмысленной цепочки.
Действительно, дон Викентий Мантуанский помер, отписав герцогство Неверу, но повидай его последним кто – нибудь другой, и вся быль повернула бы на другой галс. К примеру, Карл Иммануил тоже имел права на Монферрато через одну из племянниц (вся эта знать женилась между собой) и зарился на маркизат, тот торчал как шип под боком у его герцогства, подходя одним выступом почти к Турину. Гонсало де Кордова, зная это и играя на амбициях савойского владетеля, мечтающего ущучить французов, пригласил Карла Иммануила драться за Монферрато заодно с испанцами, а потом поделить. Император, у которого хватало неприятностей в остальной Европе, не давал соизволения на поход и не высказывался ни за, ни против Невера. Гонсало с Карлом Иммануилом ждали – ждали, а потом начали захватывать Альбу, Трино и Монкальво. Император, пускай незлобивый, дураком не был и немедля наложил секвестр на Мантую, посадив туда имперского комиссара.
Затяжка с решением нервировала всех претендентов, однако Ришелье воспринимал ее как персональный афронт в адрес Франции. А может быть, ему было удобно так воспринять. Но Ришелье тоже не действовал, поскольку еще не окончил осаждать протестантов в Ларошели. Испания одобряла это вымаривание еретиков; вдобавок Гонсало использовал паузу французов, чтоб пойти с восемью тысячами солдат на осаду Казале, а там защитников было чуть более двухсот. Так получилась первая казальская война.
Поскольку, однако, император не собирался никому потворствовать, до Карла Иммануила дошло, что положение деликатное, и, продолжая сотрудничать с испанцами, он завел секретные переговоры с Ришелье. Ларошель пала, Ришелье получил от мадридского двора поздравления с этой великолепной викторией истинной веры, ответил благодарностями, привел в порядок армию и, с самим Людовиком XIII во главе, двинул ее через Монженев и развернул в феврале двадцать девятого года в окрестностях Сузы. Карл Иммануил рассудил, что играя на двух столах он потеряет не только Монферрато, но и Сузу, и решил продать то, что у него отнимали: предложил обменять Сузу на какой – нибудь французский город.
Сотоварищ Роберта с хихиканьем рассказывал, как Ришелье саркастически велел спросить у герцога, что тому слаще. Орлеан или Пуатье. Французский штабной офицер явился к начальству сузанского гарнизона и велел готовить апартамент для короля Франции. Командующий савойцев, тоже не лишенный остроумия, отвечал, что его высочество герцог несомненно будет в восторге, если погостит его величество король, но поелику его величество король грядет в такой большой компании, да будет позволено прежде узнать мнение его высочества герцога. С не менее обворожительной иронией маршал Бассомпьер, гарцуя на снегу под стенами города и помавая шляпой, доложил своему монарху, что скрипачи уже готовы, плясуны собрались у ворот и ожидается позволение начинать бал. Ришелье отслужил полевой молебен, французская пехота пошла в атаку и Сузу взяли.
При подобном раскладе Карл Иммануил решил, что Людовик XIII для него приятнейший постоялец, сам приехал оказать ему хозяйские почести и просил, если можно, не утруждаться под Казале, потому что тем малым делом уже занимается он сам, а вместо этого помочь ему завоевать Геную. На что он был обходительно попрошен не говорить бессмыслицу и ему в руку было вложено здоровенное гусиное перо для росчерка под договором, согласно которому французы получали право распоряжаться Пьемонтом; в качестве чаевых ему отходил городок Трино и вдобавок мантуанскому герцогу вменялось в обязанность выплачивать Карлу Иммануилу погодовые суммы за Монферрато. «Таким образом Невер, – подытоживал рассказчик, – чтобы получить свое назад, платил квартирные тому, кому город никогда не принадлежал!»
«И ведь платил же, – хохотал другой за столом. – Quel con!»
«Невер всегда платится за свое безумие, – произнес аббат, которого Роберту указывали как духовника Туара. – Невер просто сумасброд, воображает, что он Святой Бернард. Что ему предназначено созвать христианских царей на новый крестовый поход. А мы живем в пору, когда христиане убивают христиан, кому сейчас дело до неверных. Господа казальцы, если в вашем богоблагодатном городе уцелеет хоть один кирпич, будьте уверены, что ваш новый владетель поволочет вас всех в Иерусалим!» И аббат довольно хмыкал, поглаживая светлые ухоженные усы, а Роберт размышлял: вот, нынче утром мне приходилось умирать за безумца, и безумцем его считают оттого, что он мечтал, как и мне мечталось, возродить времена прекрасной Мелисенды и Прокаженного Короля.
То, что случилось после, тоже не помогло Роберту разобраться в смысле эпопеи. Гонсало де Кордова, когда его предал Карл Иммануил, понял, что война проиграна, признал Сузанское соглашение и отвел свои восемь тысяч пешников в Миланскую область. Один французский гарнизон обосновался в Казале, другой обосновался в Сузе, остатки армии Людовика XIII возвратились за Альпы и принялись ликвидировать последних гугенотов в Лангедоке и в долине Роны.
Но никому из этих господ в голову не приходило блюсти присягу, и за столом говорили об этом, как об обычном деле, многие одобрительно кивали: «la Raison d'Estat, ah, la Raison d'Estat». Ради этого государственного интереса Оливарес (Роберт понял, что это у испанцев свой Ришелье, только меньше ласкаемый судьбою), видя, что Испания в этой истории не на высоте, бесцеремонно заместил Гонсало Амвросием Спинолой и выступил с претензией, будто обида, нанесенная Испании, ущемила Католическую Церковь. «Пустое, – отмахивался аббат. – Урбан VIII одобрил наследование Невера». Роберт же спрашивал себя, какое отношение могут иметь к папе вопросы, никак не сопряженные с католической религией.
Тем временем император (на которого давил и жал Оливарес) припомнил, что Мантуя все еще под комиссарским мандатом и что Неверу не положено ни платить, ни не платить за то, что ему пока не дадено; императорское терпение тут вдруг лопнуло и он отрядил двадцать тысяч человек народу на взятие городишки. Папа же, видя, как наемные вояки – протестанты гуляют по Италии, немедля углядел опасность нового ограбления Рима и перевел свою армию на мантуанскую границу. Спинола был честолюбивее и решительнее, чем Гонсало; он опять обложил Монферрато, на сей раз крепко. Вывод Роберта был такой: хочешь избежать войн, первое дело – не подписывай мирные договоры.
В декабре 1629 года французы снова высунулись из – за Альп, Карл Иммануил по условиям трактата должен был бы их пропустить без разговоров, а он, хорошенькая лояльность, снова запритязал на Монферрато и еще на шесть тысяч французских солдат для осады Генуи, далась ему эта Генуя. Ришелье, считавший Карла Иммануила подколодной змеей, не ответил ни да, ни нет. Один капитан, расфуфыренный, это в Казале – то, как на парижский праздник, вспоминал февраль предшедшего года. «Помню, друзья, денек, что твой бал у королевы! Не было музыки, так трубили фанфары. Его величество при войсковом эскорте скакал перед Турином, черный камзол, золотое шитье, с пером на шляпе и в начищенной кирасе!» Роберт ожидал, воспоследует рассказ о великом штурме, но нет, и на этот раз имел место только променад и фрунт. Король не стал атаковать, он неожиданно развернул строй и отправился на Пинероло и завоевал Пинероло, вернее вернул себе кровное, учитывая, что за несколько сотен лет до того город принадлежал французам. Роберт смутно представлял, где этот Пинероло, и не понимал, с какой стати надо было его штурмовать, чтоб освободился Казале. «Разве нас осаждают в Пинероло?» – недоумевал он.
Папа, обеспокоенный новосоздавшимся положением, послал представителя к Ришелье требовать город обратно савойцам. За столом у Туара долго перемывали косточки этому представителю, некоему Юлию Мазарини: сицилиец! римский простолюдин! Мало этого, горячился аббат, даже внебрачный сын какого – то никому не известного мещанина, капитаном его назначили, Бог ведает с какой стати, услужает папе, но из кожи лезет, чтоб полюбиться Ришелье, и тот в нем уже души не чает. С ним надо поосторожнее, вдобавок он едет или уехал в Регенсбург, к черту на кулички, и там почему – то должны вершиться судьбы Казале, там, а не тут, где все подкопы и контрподкопы.
Тем временем, поскольку Карл Иммануил норовил оставить без довольствия французское воинство, Ришелье наложил лапу еще и на Аннеси и на Шамбери и теперь французы резались с савойцами под Авиньяной. Партия игралась неспешная, имперцы показывали когти Франции, двигаясь вглубь Лотарингии, Валленштейн шел на подмогу Савойе, вдруг в июле несколько человек имперцев, подплывши на баржах, перекрыли шлюзы у Мантуи, войска в полном составе набились внутрь города, грабили город семьдесят часов, разнесли герцогский дворец по камушкам, а в качестве личного сюрприза папе обчистили все церкви и соборы в городе. Да, именно те ландскнехты, с которыми Роберт уже встречался по дороге в Казале, они теперь явились пособлять осадчику Спиноле.
Французская армия все еще была занята на севере и никто не мог бы сказать, успеет ли она до того, как Казале захватят. Оставалось уповать на небеса, таков был вывод аббата: «Господа, политическая мудрость в том, чтоб использовать людские ресурсы, как будто нет в запасе божеских, и в то же время божеские, как будто людские исчерпались».
«Ну, нам – то придется обходиться божескими», – произнес один собеседник. Тон его был малопочтителен, и поднимая кубок, он расплескал часть вина на камзол аббата. "Сударь, вы облили меня вином, " – вскричал аббат, бледнея. Бледнеть было положено, гневаясь, в те времена. «Ну а вы сделайте вид, – отвечал дерзкий дворянин, – будто это случилось при виносвящении. Какая разница, что то вино, что это».
«Месье де Сен – Савен, – выкрикнул аббат, вскакивая и хватаясь за шпагу. – Не в первый раз вы бесчестите собственное имя, оскорбляя Нашего Господа! Лучше бы вы, да простятся мне такие слова, оставались в Париже и бесчестили женщин, как заведено у вас, пирронианцев!»
«Ну, ну, – парировал Сен – Савен, уже заметно опьяневший, – мы, пирронианцы, когда ходили по ночам петь се�
