Фотофиниш. Свет гаснет бесплатное чтение
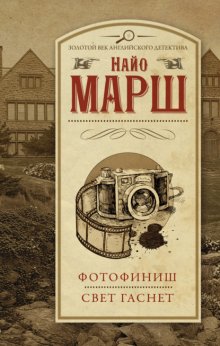
Ngaio Marsh
Photo Finish
Light Thickens
© Ngaio Marsh Ltd., 1980, 1982
© Перевод. О. Постникова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Фотофиниш
Фреданеве с любовью
Глава 1. Соммита
Одним из многих чудесных навыков пения, которыми обладала Изабелла Соммита, было дыхание: оно было совершенно незаметным. Даже во время исполнения самых трудных пассажей и самых ошеломительных взлетов ее колоратурного сопрано корсаж Изабеллы никогда не колыхался.
«Можно бросить кубик льда в вырез ее платья, — хвастался ее менеджер Бен Руби, — и даже тогда ее грудь не шелохнется».
Это замечание он отпустил, сидя в ложе прямо над дивой, выступающей в Королевском фестивальном зале — и сказал при этом истинную правду. Вне сцены, когда у Ла Соммиты случался один из нередких для нее приступов гнева, грудь ее вздымалась весьма бурно.
Именно это происходило сейчас в ее приватном номере в сиднейском отеле «Шато Австралазия». Соммита была в домашнем халате, и было совершенно очевидно, что она недовольна, и что причина ее недовольства лежит на столе: газета, сложенная так, чтобы была видна фотография на полстраницы с огромным заголовком «СВАРЛИВАЯ БАБА?» и подзаголовком «Ла Соммита недовольна!».
Фото было сделано накануне в сиднейском районе Дабл Бей. Фотограф в мягкой белой шляпе, закрывающем пол-лица белом шарфе и темных очках выскочил из переулка и щелкнул фотоаппаратом. Она не успела повернуться к нему спиной и получилась на фото с отвисшей челюстью и полуприкрытым левым глазом (с ним это часто случалось, когда ею овладевал гнев), похожей на пожилую разгневанную горгулью на приеме у дантиста. Подпись под фото гласила: «Филин».
Она стукнула по газете довольно большим белым кулаком, впечатав в бумагу кольца, украшавшие ее пальцы. Она часто и тяжело дышала.
— Выпороть бы его кнутом, — пробормотал Монтегю Реес. Он считался давним любовником Соммиты и исполнял эту роль так, как традиционно считалось правильным: это был богатый мужчина, крупный, с бледным лицом; он говорил приглушенным голосом, страдал от несварения и был в целом недоволен жизнью. Поговаривали, что в своем мире он обладает большой властью.
— Конечно, его нужно выпороть! — вскричала его подруга. — Но где тот друг, который пойдет и сделает это? — Она расхохоталась и обвела комнату презрительным жестом, включающим всех присутствующих. Газета упала на пол.
— Лично я, — сказал Бен Руби, — не знаю даже, с какой стороны браться за кнут.
Она бросила на него ледяной взгляд.
— Я не хотел острить, — сказал он.
— У тебя и не получилось.
— Нет.
Молодой человек романтического вида, сидевший на стуле поодаль позади дивы, прижал к животу папку с нотами и спросил с легким австралийским акцентом:
— Неужели ничего нельзя сделать? Разве на них нельзя подать в суд?
— За что? — спросил мистер Руби.
— Ну, за диффамацию. Ради бога, вы только взгляните на это! — воскликнул молодой человек. — Я хочу сказать, вы только посмотрите!
Двое других мужчин взглянули на него, а Соммита, не поворачивая головы, сказала: «Спасибо, дорогой», и протянула руку. Жест можно было истолковать лишь одним способом: это было приглашение; нет, даже приказ. Красивое лицо молодого человека залилось ярким румянцем, он встал и, продолжая удерживать норовившую упасть папку, подошел и почтительно наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй на пальцах Соммиты. Папку он не удержал, ее содержимое вывалилось и разлетелось по ковру: множество листков с записанными от руки нотами.
Он упал на колени и принялся ползать по полу.
— Простите, — бормотал он. — Ох, черт, мне так жаль.
Соммита обрушила на австралийскую прессу полномасштабную атаку. Руперт, сказала она, указав на молодого человека, совершенно прав. На прессу следует подать в суд. Нужно вызвать полицию. Фотографа вышвырнуть из страны. Разве можно терпеть то, как он разрушает ее жизнь, ее карьеру, ее душевное здоровье, и делает из нее посмешище для обоих полушарий планеты? (У нее была привычка вставлять в разговор географические данные.) Она согласилась на выступления в Австралии единственно ради того, чтобы сбежать от его подлого поведения — разве не так?
— Ты уверена, — спросил мистер Реес бесцветным голосом, — что это один и тот же человек? Филин?
Это замечание вызвало целую тираду. Уверена! Уверена! Разве этот мерзкий Филин не выскакивал из укрытия во всех столицах Европы, а также в Нью-Йорке и Сан-Франциско? Разве он не фотографировал Соммиту крупным планом, повергая ее в полнейшее смятение? Уверена! Грудь ее бурно вздымалась. Ну так что они собираются со всем этим делать? Ее защитят, или она должна пережить нервный срыв, потерять голос и провести остаток дней в смирительной рубашке? Ей просто хотелось бы это знать.
Двое мужчин обменялись бесстрастным взглядом.
— Мы можем нанять еще одного телохранителя, — без всякого энтузиазма предложил Монтегю Реес.
— Тот, что был в Нью-Йорке, не очень-то ей нравился, — возразил мистер Руби.
— Конечно, не нравился, — согласилась Соммита, громко дыша и раздувая ноздри. — Нет ничего веселого в том, чтобы за тобой по пятам ходил идиот в неописуемом наряде, который абсолютно ничего не сделал для того, чтобы предотвратить то безобразие на Пятой Авеню. Он просто стоял и таращил глаза. Кстати, как и вы все.
— Милая, а что еще мы могли сделать? Тот парень прыгнул на пассажирское сиденье в открытой машине, и она умчалась, как только он сделал снимок.
— Спасибо, Бенни. Я помню обстоятельства этого случая.
— Но зачем? — спросил молодой человек по имени Руперт. — Что на него нашло? Ну то есть это же бессмысленно, и к тому же очень дорого — следовать за вами по всему свету. Он, должно быть, сумасшедший.
Как только эти слова слетели с его губ, он осознал свою ошибку и принялся бормотать. Возможно, из-за того, что он стоял на коленях и в буквальном смысле был у ее ног, готовая взорваться Соммита наклонилась и взъерошила его светлые волосы.
— Бедняжка! — сказала она. — Ты говоришь совершенно, абсолютно нелепые вещи, и я тебя обожаю. Я тебя не представила, — добавила она, спохватившись. — Я забыла твою фамилию.
— Бартоломью.
— В самом деле? Что ж, Руперт Бартоломью, — провозгласила она, взмахнув рукой.
— Здравствуйте, — пробормотал молодой человек.
Остальные кивнули.
— Зачем он это делает? Он делает это ради денег, — нетерпеливо сказал Монтегю Реес, возвращаясь к фотографу. — Нет никаких сомнений, что эта идея возникла у него после инцидента с Жаклин Кеннеди. Он завел дело гораздо дальше, и весьма успешно. Весьма.
— Верно, — согласился Руби. — И чем дольше он этим занимается, тем более… — он помедлил, — тем более возмутительным получается результат.
— Он использует ретушь, — вмешалась Соммита. Он искажает действительность. Я это знаю.
Все трое поторопились с ней согласиться.
— Я пойду одеваться, — неожиданно сказала она. — Сейчас же. А когда вернусь, то желаю услышать разумное решение вопроса. Я выдвигаю свои предложения, как бы вы к ним ни относились. Полиция. Судебное преследование. Пресса. Кто владелец этой… — она пнула оскорбившую ее газету и с некоторым трудом высвободила попавшую между страницами ступню, — этой макулатуры? Займитесь им. — Она широким шагом направилась к двери в спальню. — И я предупреждаю тебя, Монти. Я предупреждаю, Бенни. Это мое последнее слово. Если мне не предоставят убедительные доказательства того, что это преследование прекратится, я не буду петь в Сиднее. Пусть засунут себе поглубже свой Сиднейский оперный театр, — добавила Соммита, проявив таким образом свое предполагаемое происхождение.
Затем она удалилась, не забыв хлопнуть дверью.
— О боже, — тихо сказал Бенджамин Руби.
— Да уж, — вздохнул Монтегю Реес.
Молодой человек по имени Руперт Бартоломью, собрав листы в папку, поднялся с колен.
— Полагаю, мне лучше…
— Да? — сказал мистер Реес.
— Удалиться. Я хочу сказать, все это вышло как-то неловко.
— Что именно?
— Ну, понимаете, мадам… Мадам Соммита попросила меня… То есть она сказала, чтобы я принес вот это… — он с сомнением указал на папку.
— Осторожно, — сказал Бен Руби, не пытаясь подавить в своем голосе нотку покорности, — у вас сейчас опять все вывалится. Это вы написали? — спросил он скорее утвердительно.
— Да, верно. Она сказала, что я могу принести ноты.
— Когда она это сказала? — уточнил Реес.
— Вчера вечером. То есть… ночью. Около часа. Вы как раз уходили с вечеринки в итальянском посольстве. Вы вернулись за чем-то — кажется, за ее перчатками, а она была в машине. Она меня увидела.
— Шел дождь.
— И очень сильный, — гордо сказал молодой человек. — Я был там совсем один.
— Вы заговорили с ней?
— Она подозвала меня кивком. Опустила стекло в машине и спросила меня, как долго я жду, и я сказал, что три часа. Она спросила, как меня зовут и чем я занимаюсь. Я ответил. Я играю на фортепиано в маленьком оркестре и даю уроки. И печатаю на машинке. А потом я сказал ей, что у меня есть все ее пластинки, и… Она была так мила. Я хочу сказать, она была мила ко мне, там, под дождем. Я вдруг обнаружил, что рассказываю ей о том, что написал оперу — короткую, одноактную, посвященную ей, написал для нее. Но не потому, что я мечтал, что она когда-нибудь ее услышит, вы же понимаете. О бог мой, конечно же нет!
— И она, — предположил Бенджамин Руби, — сказала, что вы можете показать свою оперу ей.
— Да, так и было. Сегодня утром. Мне кажется, ей было жаль меня, потому что я так промок.
— И вы сделали это? — спросил мистер Реес. — Не считая того момента, когда разбросали ноты по ковру?
— Нет. Я как раз собирался, когда пришел официант с сегодняшними газетами и… она увидела ту фотографию. А потом пришли вы. Наверное, мне лучше уйти.
— Наверное, сейчас не очень подходящий момент… — начал мистер Реес, когда дверь в спальню распахнулась и в комнату вошла пожилая женщина с черными как смоль волосами. Она указала на Руперта жестом, которым обычно подзывают официанта.
— Она хотеть вас, — сказала женщина. — Музыку тоже.
— Хорошо, Мария, — сказал мистер Руби и повернулся к молодому человеку. — Мария — костюмерша мадам. Вам лучше пойти с ней.
И Руперт по фамилии Бартоломью, сжимая в руках ноты своей оперы, вошел в спальню Ла Соммиты — так муха влетает в паутину, из которой уже не выберется, но он об этом еще не знал.
— Она сожрет этого мальчишку, — бесстрастно сказал мистер Руби, — за один присест.
— Уже наполовину заглотила, — согласился с ним ее покровитель.
— Я пять лет хотела написать портрет этой женщины, — сказала Трой Аллейн. — А теперь взгляни!
Она подтолкнула к нему письмо через стол, за которым они завтракали. Ее муж прочел письмо и вздернул бровь.
— Поразительно, — сказал он.
— Знаю. Особенно тот кусок, где речь о тебе. Как именно там написано? Я слишком разволновалась, чтобы все это отложилось у меня в голове. А кто вообще написал письмо? Оно ведь не от нее, заметь.
— Монтегю Реес, ни больше ни меньше.
— А почему «ни меньше»? Кто такой Монтегю Реес?
— Жаль, что он не слышит, как ты об этом спрашиваешь, — сказал Аллейн.
— Почему? — снова спросила Трой. — А, знаю! Он же ведь очень богат?
— Можно так сказать. В дурно пахнущих сферах. На самом деле он колосс вроде мистера Онассиса.
— Теперь вспомнила. Он ведь ее любовник?
— Точно.
— Теперь мне, кажется, все ясно. Прочти же, дорогой. Вслух.
— Целиком?
— Пожалуйста.
— Ну, слушай, — сказал Аллейн и начал читать.
«Уважаемая миссис Аллейн,
надеюсь, я правильно к вам обращаюсь. Возможно, мне следовало воспользоваться Вашим весьма знаменитым артистическим прозвищем?
Я хотел бы спросить, не согласитесь ли Вы и Ваш муж 1 ноября погостить у меня в Уэйхоу Лодж — это уединенный дом на острове, который я построил на озере в Новой Зеландии. Строительство недавно закончилось, и я смею надеяться, что дом Вам понравится. Он расположен в прекрасном месте, и я думаю, что моим гостям будет в нем удобно. В качестве студии у Вас будет удобная, хорошо освещенная комната, с видом на озеро и горы вдали, и конечно же, полная свобода в том, что касается времени и уединения».
— Звучит как текст, написанный агентом по продаже недвижимости: все современные удобства и необходимые служебные помещения. Продолжай, пожалуйста, — сказала Трой.
«Должен признаться, что это приглашение служит прелюдией к еще одному предложению: мы приглашаем Вас написать портрет мадам Изабеллы Соммиты, которая будет гостить у нас в это время. Я долгое время надеялся на это. По моему мнению, и я позволю себе сказать, что и по ее мнению также, пока что ни один из написанных портретов не показал нам облик истинной Соммиты. Мы уверены, что «Троя» прекрасно с этим справится!
Пожалуйста, скажите, что Вы с одобрением отнесетесь к этому предложению. Мы организуем транспорт — в качестве моей гостьи Вы, разумеется, полетите самолетом — и обговорим все детали, как только — я очень на это надеюсь — Вы подтвердите свой приезд. Буду признателен, если Вы любезно сообщите мне свои условия.
Я напишу отдельное письмо Вашему супругу, которого мы будем рады принять вместе с Вами в Уэйхоу Лодж.
Примите уверения в моем к Вам, дорогая миссис Аллейн, искреннем уважении.
Монтегю Реес».
После долгой паузы Трой сказала:
— Интересно, не будет ли чересчур, если я напишу ее поющей? Ну, знаешь, с широко открытым ртом, когда она берет верхние ноты.
— А это не будет выглядеть так, словно она зевает?
— Не думаю, — задумчиво сказала Трой, потом бросила на мужа косой насмешливый взгляд и добавила: — Я всегда могу пририсовать у рта кружок, в котором будет написано «Ля в альтовом ключе».
— Это, конечно, развеет все сомнения. Только, мне кажется, в этом ключе поют скорее мужчины.
— Ты еще не прочел адресованное тебе письмо. Читай же.
Аллейн взглянул на конверт.
— Вот оно. Все такое аристократическое, и отправлено из Сиднея.
Он открыл конверт.
— Что он пишет?
— Преамбула почти такая же, как в твоем, и дальше то же самое: он признается, что у него есть скрытый мотив.
— Он что, хочет, чтобы ты написал его портрет, мой бедный Рори?
— Он хочет, чтобы я высказал «свое ценное мнение» касательно того, возможно ли получить защиту со стороны полиции «в вопросе преследования мадам Соммиты со стороны фотографа, о чем я, без сомнения, осведомлен». Нет, ну и наглость! — сказал Аллейн. — Проехать тринадцать тысяч миль, чтобы сидеть на острове посреди озера и говорить ему, следует ли пригласить в компанию к гостям полицейского.
— Ах да! До меня наконец дошло. Об этом же писали в газетах, но я толком не читала.
— Ты, наверное, единственный говорящий по-английски человек, который этого не сделал.
— Ну, я вроде как читала. Но фотографии были настолько безобразны, что мне стало противно. Введи меня в курс дела — наверное, так говорят в кругах, где вращается мистер Реес?
— Помнишь, как миссис Жаклин Кеннеди преследовал фотограф?
— Помню.
— Тут та же ситуация, только гораздо масштабнее. Возможно, идея у этого парня как раз и появилась благодаря шумихе вокруг Кеннеди. Он подписывается как «Филин» и следует за Соммитой по всему миру. Где бы она ни выходила на оперную или концертную сцену — в Милане, в Париже, в Ковент-Гарден, в Нью-Йорке или Сиднее. Сначала фотографии были обычные, на них дива любезно улыбается на камеру; но постепенно они стали меняться. Они стали все более нелестными, а фотограф — все более назойливым. Он прятался в кустах, нарушал границу частной собственности и внезапно возникал там, где его меньше всего ждали. Однажды он вместе с другими журналистами слился с толпой, ожидавшей ее у служебного входа в театр, а потом каким-то образом пробрался в самый первый ряд. Когда она появилась в дверях и как обычно изобразила восторг и удивление при виде размеров толпы, он навел на нее объектив и одновременно пронзительно засвистел. Она широко открыла рот и выпучила глаза, и на фото получилась так, как будто кто-то ударил ее между лопаток.
Это понравилось ее многочисленным поклонникам, фотографии разошлись по нескольким газетам, и говорят, что этот человек заработал на них кучу денег. С того случая все превратилось в какую-то войну на изнурение противника. Потоки возмущенных писем от ее фанатов в эти газеты. Угрозы. Злобные шутки самого низкого пошиба. Ставки и пари. Абсурдные истории о том, что это месть отставного любовника или поссорившегося с ней тенора. Слухи о том, что у нее нервный срыв. Телохранители. Всё разом.
— А что ж эти слабаки его не выследят и не проучат?
— Он слишком ловок и постоянно маскируется — то бороду прицепит, то еще что-нибудь. Иногда надевает маску из чулка. Один раз прикинулся джентльменом из Сити, в другой — отморозком из трущоб. Говорят, что у него очень, очень современный фотоаппарат.
— Да, но после того, как он делает снимок, почему никто не схватит его и не отберет камеру? И как насчет ее знаменитого темперамента? Можно было бы ожидать, что она сама за него возьмется.
— Да, но пока что она только художественно вопит от возмущения.
— Что ж, — сказала Трой, — я не понимаю, чего они в таком случае ждут от тебя.
— Ждут, что я с удовольствием приму приглашение и сообщу помощнику комиссара, что отправляюсь к антиподам с моей колдуньей-женой. Ведь ты поедешь? — спросил Аллейн, положив руку ей на голову.
— Я безумно хочу попробовать ее написать: это ведь такая крупная, яркая, довольно вульгарная модель. Ее руки, — припоминая, сказала она, — выглядят просто непристойно. Белые, мягкие. Я прямо-таки вижу мазки кистью. Она такая потрясающе пышная! О да, милый мой Рори, боюсь, я должна ехать.
— Можно попробовать предложить им подождать до ее выступления в Ковент-Гарден. Нет, — добавил Аллейн, глядя на жену, — вижу, это не годится, ты не хочешь ждать. Ты должна лететь в эту удобную студию и между сеансами позирования Соммиты рисовать красивые проблески заснеженных гор, отражающиеся в прозрачных водах озера. Ты можешь подготовить картины для целой персональной выставки, пока будешь там.
— Да ладно тебе, — сказала Трой, взяв его за руку.
— Думаю, тебе стоит написать довольно официальный ответ и перечислись свои условия, как он тактично предлагает. Полагаю, я откажусь в отдельном письме.
— Было бы здорово вместе пожить какое-то время в роскоши.
— В тех случаях, когда твое искусство совпадало по времени с моей работой, не все шло как по маслу, ведь так, любимая?
— Не все, — согласилась она, — вроде бы. Рори, ты не против, если я поеду?
— Я всегда против, но стараюсь в этом не признаваться. Должен сказать, что мне не особо нравится компания, с которой тебе предстоит общаться.
— Правда? Оперная звезда с припадками гнева между сеансами позирования? Думаешь, так все и будет?
— Полагаю, тебя ждет что-то в этом роде.
— Я не позволю ей смотреть на картину, пока не закончу, а если она устроит скандал, то ее другу незачем покупать полотно. Я не стану делать только одного, — спокойно сказала Трой. — Я не стану угождать ей и соглашаться на какие-то дурацкие переделки. Если она окажется человеком такого сорта.
— Мне кажется, что она вполне может оказаться такой. Как и он.
— То есть он считает, что если уж он вступает в игру, то должен получить что-то в обмен на свои деньги? Кто он — англичанин? Новозеландец? Американец? Австралиец?
— Понятия не имею. Но мне не очень хочется, чтобы ты была его гостьей, милая, это факт.
— Вряд ли я могу предложить ему самостоятельно оплатить дорогу. Может быть, — предложила Трой, — мне следует снизить цену на работу, учитывая предоставляемый кров и стол?
— Отлично.
— Если там соберутся любители покурить травку, или еще что похуже, я всегда могу сбежать в свою прекрасную комнату и запереться на все засовы.
— А с чего это в твоей хорошенькой головке возникла идея о марихуане?
— Не знаю. А ты, случайно, не предполагаешь, что оперная дива принимает наркотики?
— Ходят смутные слухи. Возможно, ошибочные.
— Вряд ли бы он стал приглашать тебя, если бы она была наркоманкой.
— О, — беспечно сказал Аллейн, — их бесстыдство не знает границ. Я напишу вежливый ответ с сожалениями и пойду на работу.
Зазвонил телефон, и он ответил на звонок тем неопределенным тоном, которым, как знала Трой, говорил с представителями Скотленд-Ярда.
— Я буду через четверть часа, сэр, — сказал Аллейн и повесил трубку. — Помощник комиссара, — объяснил он. — Что-то задумал. Я всегда это знаю, когда он начинает разговаривать со мной будничным тоном.
— А что именно, как думаешь?
— Кто знает. Судя по всему, что-то неаппетитное. Он сказал, что это не особо срочно, но я к нему зайду, потому что говорил он как-то тревожно. Мне пора. — Он направился к двери, взглянул на жену, потом вернулся и взял ее лицо в ладони. — Хорошенькая головка, — повторил он и поцеловал ее в макушку.
Через пятнадцать минут помощник комиссара принял его в свойственной ему манере, к которой Аллейн уже привык: словно он был каким-то сомнительным экземпляром, который требуется внимательно разглядеть при плохом освещении. Причуд у помощника комиссара было так же много, как и ума — и это еще мягко сказано.
— Привет, Рори, — сказал он. — Доброе утро. Трой в порядке? Хорошо. — (Аллейн не успел ответить.) — Садись, садись. Да.
Аллейн сел.
— Вы хотели меня видеть, сэр?
— Ну, вообще ничего такого особенного. Читал утренние газеты?
— «Таймс».
— А пятничный «Меркьюри»?
— Нет.
— Просто интересно. Вся эта чушь с газетным фотографом и итальянской певицей, как там ее?
После короткой паузы Аллейн сказал деревянным голосом:
— Изабелла Соммита.
— Да, она самая, — согласился помощник комиссара, любивший притворяться, будто не запоминает имен. — Забыл. Этот парень снова принялся за свое.
— Он очень настойчив.
— В Австралии. В Сиднее, кажется. Оперный театр там, так ведь?
— Да, есть там такой.
— На ступеньках во время какого-то торжества. Вот, взгляни.
Он подтолкнул к инспектору газету, сложенную так, чтобы была видна фотография. Она и в самом деле была сделана неделю назад, летним вечером на ступеньках Сиднейского оперного театра. Соммита, одетая в платье из казавшейся золотистой ткани, стояла среди самых высокопоставленных лиц. Она явно не была готова к снимку. Фотограф щелкнул затвором раньше времени. Ее рот снова был широко открыт, но в этот раз казалось, будто она орет на генерал-губернатора Австралии или нелепо визжит от смеха. Актеры театра считают, что тех, кому больше двадцати пяти лет, нельзя фотографировать снизу. Судя по этому снимку, фотограф явно находился на половину лестничного пролета ниже дивы, и на фотографии она получилась с большим количеством дополнительных подбородков и весьма embonpoint[1]. Генерал-губернатор, по мимолетной случайности, вышел на снимке глядящим на нее с недоверием и глубоким отвращением.
Аршинный заголовок гласил: «ДА КТО ТЫ ТАКОЙ?!»
Фотограф, как обычно, подписался «Филином»; фото по договоренности скопировали из какой-то сиднейской газеты.
— Полагаю, — сказал Аллейн, — это станет последней каплей.
— Похоже на то. Взгляни вот на это.
Это было письмо, адресованное «Главе Скотленд-Ярда, Лондон», и написанное за неделю до полученных Аллейнами приглашений на плотной бумаге, снабженной витиеватой монограммой I. S., которую щедро переплетали стебли и листья. Конверт был больше, чем те, что получили Аллейны, но из той же бумаги. Письмо занимало две с половиной страницы и оканчивалось гигантской подписью. Аллейн заметил, что напечатано оно на другой машинке. Адрес — шато «Австралазия», Сидней.
— Комиссар переслал его сюда, — сказал помощник комиссара. — Вам стоит его прочесть.
Аллейн так и поступил. Напечатанная на машинке часть письма просто сообщала получателю, что автор надеется встретиться с одним из его сотрудников, мистером Аллейном, в Уэйхоу Лодж, Новая Зеландия, где миссис Аллейн будет писать заказанный ей автором портрет. Автор указал предложенные даты. Получатель, без сомнения, в курсе возмутительного преследования… — далее шли уже знакомые ему строки. Целью ее письма, говорилось в заключительной части, стала надежда на то, что на мистера Аллейна будут возложены все полномочия на то, чтобы расследовать это возмутительное дело, и засим она остается…
— Боже правый, — тихо пробормотал Аллейн.
— Там еще есть постскриптум, — заметил помощник комиссара.
Постскриптум был написан от руки и выглядел вполне ожидаемо: с огромным количеством восклицательных знаков и двойными и тройными подчеркиваниями, по сравнению с которыми письма королевы Виктории показались бы образцом холодной сдержанности. Автор письма постепенно уклонялась от темы и переходила на бессвязный текст, но общий смысл был таков: если «Глава Скотленд-Ярда» вскоре не предпримет каких-либо действий, то он один будет виноват в том, что карьера автора письма окончится катастрофой. Далее она в беспамятстве молила на коленях, а затем огромными буквами оставалась «искренне Вашей Изабеллой Соммита».
— Излагайте, — пригласил помощник комиссара, склонив голову набок. Он вел себя необычно. — Комментируйте. Объясните своими словами.
— Могу лишь предположить, что письмо напечатал секретарь, который посоветовал проявить сдержанность. Постскриптум, похоже, полностью писала она, в состоянии исступления.
— Трой действительно собирается писать портрет этой дамы? А вы намерены отправиться в самовольную отлучку?
Аллейн сказал:
— Мы получили приглашения сегодня утром. Я собирался отказаться, когда позвонили вы, сэр. Трой принимает приглашение.
— В самом деле? — задумчиво протянул помощник комиссара. — Правда? Хорошая модель, да? Для художника. Что скажете?
— Весьма, — осторожно ответил Аллейн. Интересно, к чему это он ведет?
— Да. Ну что ж, — сказал шеф посвежевшим голосом, в котором прозвучал намек на то, что сейчас он его отпустит. Аллейн начал вставать со стула. — Погодите. Знаете что-нибудь об этом мужчине, с которым она живет? Реес, так?
— Не больше того, что известно всем.
— Какое странное совпадение…
— Совпадение?
— Да. Эти приглашения. То, что Трой туда едет, и все прочее. — Он побарабанил пальцами по бумагам на столе. — Все сошлось, так сказать.
— Вряд ли это совпадение, сэр, вам не кажется? Я думаю, все эти странные письма были написаны с одной целью.
— Да я не их имею в виду, — презрительно сказал помощник комиссара. — Только в том смысле, что они появились одновременно с другими вещами.
— Какими другими вещами? — спросил Аллейн, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучала усталость.
— Разве я вам не сказал? Как глупо. Да. На международной арене торговли наркотиками сейчас происходит нечто тревожное, особенно в США. Интерпол ухватил какую-то ниточку и передал дело французам, которые поговорили с ФБР, а те много общались с нашими. Есть предположение, что эта дива, возможно, всего лишь большая-большая девочка, играющая самую незначительную роль. Все это прозвучало для меня очень туманно, но наш Большой Белый Вождь слегка разволновался. — Так шеф обычно называл комиссара полиции. — Он беседовал со спецподразделением. И с МИ6, кстати, тоже.
— А они тут при чем?
— Как-то участвуют по ходу дела. Полагаю, скрытно, как всегда. Но они все же сообщили, что была утечка от анонимного источника следующего содержания: считается, что Соммита занималась этим в прошлом.
— А Реес?
— Чист как стеклышко, насколько мне известно.
— Монтегю Реес, — задумчиво произнес Аллейн. — Кажется неправдоподобным. Как будто читаешь «Трильби»[2]. Каракулевый воротник на пальто и блестящая борода. Что-нибудь известно о его происхождении, сэр?
— Считается, что он американец родом с Сицилии.
Во время последовавшей за этим паузы помощник комиссара неуверенно напевал себе под нос хабанеру из «Кармен».
— Вы когда-нибудь слышали, как она ее исполняет? — спросил он. — Просто поразительно. У нее есть диапазон — сопрано, меццо-сопрано, и что там еще, есть внешность, в ней есть секс. Пронзает тебя, словно поросенка на вертеле, и при этом запросто заставляет получать от этого удовольствие. — Он бросил на Аллейна один из своих сбивающих с толку взглядов. — У Трой будет хлопот полон рот, а?
— Да, — согласился Аллейн, и, испытывая дурное предчувствие по поводу того, что его ожидает, добавил: — Мне не очень хочется, чтобы она туда ехала.
— Понятно. Собираешься занять твердую позицию, да, Рори?
— В том, что касается Трой, во мне нет твердости.
— Скажи это ребятам из отдела по борьбе с мошенничеством, — сказал шеф и тихонько заржал.
— Только не в том, что касается ее работы. Это необходимость. Для нас обоих.
— Тогда не буду тебя задерживать, — шеф без предупреждения перешел на деловой тон. — Мне просто кажется, что при нынешних обстоятельствах ты все же мог бы поехать. И кстати, ты ведь знаешь Новую Зеландию, так? Да? — Аллейн не ответил, и он продолжил: — Вот что я имел в виду, говоря о совпадении. Приглашения и все прочее. Все просто само идет нам в руки. Нас просят провести небольшое и очень незаметное наблюдение за этим объектом, а тут дружок этого объекта приглашает вас в гости, и вот такие складываются дела, так сказать. Случайно получается так, что ты будешь приглядывать за Трой и ее сварливой моделью. Что скажете?
— Правильно ли я понимаю, сэр, что это приказ?
— Должен сказать, — увильнул от прямого ответа помощник комиссара, — я думал, что ты обрадуешься.
— Полагаю, мне следовало бы радоваться.
— Очень хорошо! — раздраженно воскликнул шеф. — Так какого черта ты не рад?
— Сэр, вы говорили о совпадениях. Так вышло, что из-за абсурдного стечения обстоятельств Трой в большей или меньшей степени оказалась вовлеченной в четыре моих дела. И…
— И судя по всему, вела себя во всех случаях просто великолепно. Так вот в чем дело, да? Ты не хочешь, чтобы она в этом участвовала?
— В общем и целом нет, не хочу.
— Но дорогой мой, ты ведь едешь туда не для того, чтобы заниматься расследованием. Ты будешь вести наблюдение. Не исключено, что там и наблюдать не за чем. Кроме, разумеется, твоей красавицы жены. Ты не будешь ловить убийцу. Вообще никого не будешь ловить. Что?
— Я ничего не говорил.
— Ладно. Это приказ. Позвони жене и сообщи ей об этом. Доброго вам утра.
В Мельбурне все было хорошо. Успех в Сиднее был фантастическим — в артистическом, финансовом и — по крайней мере, для Изабеллы Соммиты — личном плане. Пресса восторженно писала: «Ничего подобного еще не было на нашей памяти». Один журналист отпустил тяжеловесную шутку, написав, что, если бы машины двигались за счет реальных, а не статистических лошадиных сил, то лошадей, несомненно, использовали бы для того, чтобы триумфально провезти диву по городу или пронести ее на руках через бурлящую ликованием толпу.
Оскорбительных фотографий больше не было.
Юный Руперт Бартоломью неожиданно оказался в среде, которую он не понимал, но и не критиковал и в которой с трудом барахтался, пребывая в трудном состоянии блаженства и замешательства. Изабелла Соммита заставила его сыграть свою одноактную оперу. Она слушала ее одобрительно, и это одобрение лишь выросло, когда она поняла: роль сопрано столь объемна, что все остальные актеры выступают в этой опере лишь в качестве отделки. Опера была о Руфи и называлась «Чужестранка». («Очень подходяще», — пробормотал Бен Руби, обращаясь к Монти Реесу, но так, чтобы Соммита не слышала.) Бывали минуты, когда розовые облака, в которых парил Руперт, редели, по спине у него пробегал ледяной холодок, и он задавался вопросом, хороша ли вообще его опера. Он говорил себе, что сомневаться в этом — значит, сомневаться в величайшем сопрано эпохи, и розовые облака снова приобретали прежнюю форму. Но тень беспокойства никогда его до конца не покидала.
Мистер Реес был немузыкален. Мистер Руби наоборот, хоть и не имел музыкального образования. Оба они согласились с тем, что следует проконсультироваться с экспертом; уровень все растущей решимости Соммиты поставить эту оперу на сцене был столь высок, что они подошли к этому как к делу крайней важности. Мистер Руби, притворившись, что хочет изучить произведение, взял ноты у Соммиты. Он обратился к профессионалу из среды австралийских музыкальных критиков и упросил его по старой дружбе высказать свое сугубо личное мнение об опере. Профессионал согласился и сказал, что опера никуда не годится.
— Сильно разбавленный Менотти[3], — сказал он. — Не давай ей даже прикасаться к этому.
— Ты можешь сам ей это сказать? — умоляюще спросил мистер Руби.
— Ни за что! — воскликнул великий профессионал и добавил, словно ему это только что пришло в голову: — Она что, влюбилась в композитора?
— Старина, — с чувством вздохнул мистер Руби, — ты попал в самую точку.
Это было правдой. В свойственной ей несколько свирепой манере, Соммита влюбилась. Байроновская внешность Руперта, его трогательный взгляд и чистое, беспримесное обожание, с которым он к ней относился, сложились воедино и сумели добиться цели. На этой стадии у Соммиты случился грандиозный скандал с ее австралийским секретарем, который ей воспротивился, а когда она его уволила, сказал, что он и сам собирался уходить. Тогда она спросила Руперта, умеет ли он печатать на машинке, и, услышав утвердительный ответ, тут же предложила ему эту работу. Он принял предложение, отменил все запланированные встречи, и его поселили в тот же астрономически дорогой отель, в котором остановилась его работодательница. Он имел дело не только с ее корреспонденцией. Его сделали одним из ее сопровождающих в театр; ему было позволено присутствовать, когда она занималась вокальными упражнениями. Он ужинал с ней после спектакля и задерживался дольше остальных гостей. Он был в раю.
Однажды вечером, после того как была выполнена вся эта рутина и мистер Реес ушел спать пораньше из-за приступа несварения, Соммита попросила Руперта подождать, пока она переоденется в более удобную одежду. Этой одеждой оказалось рубиновое шелковое неглиже, которое, возможно, было удобным для той, на ком было надето, но зрителя заставило задрожать от мучительного волнения.
У него не было никаких шансов. Она едва приступила к прелюдии в свойственной ей пугающей манере, как уже оказалась в его объятиях — точнее, это она его обнимала.
Час спустя Руперт Бартоломью плыл по длинному коридору в свой номер, и ему безумно хотелось петь во весь голос.
— Первая! — ликовал он. — Моя самая первая! И подумать только — Изабелла Соммита!
Он, бедняжка, был рад-радешенек.
Насколько было известно ближайшим компаньонам мистера Рееса, его не особо беспокоили шашни его любовницы. Казалось, он не придавал им никакого значения, но утверждать это наверняка было невозможно, поскольку он был на удивление неразговорчив. Много времени — а точнее, бо́льшую его часть — он проводил в обществе секретаря, управляя, как многие предполагали, рынком ценных бумаг и отвечая на междугородние звонки. К Руперту Бартоломью он относился совершенно так же, как и к остальным поклонникам Соммиты: настолько нейтрально, что это едва ли вообще можно было назвать отношением. Время от времени при мысли о мистере Реесе Руперта беспокоили внезапные приступы неприятных размышлений, но он был слишком глубоко охвачен невероятным восторгом, чтобы слишком уж тревожиться.
Именно в этой сложившейся ситуации мистер Реес полетел в Новую Зеландию, чтобы осмотреть свой новый, только что построенный дом на острове.
Вернувшись через три дня в Мельбурн, он обнаружил письма от четы Аллейнов, принявших его приглашение, и Соммиту, пребывавшую в состоянии крайнего волнения.
— Дорого-о-ой, — сказала она, — ты мне все покажешь. У тебя ведь есть фотографии дома? Мне понравится? Потому что должна сказать тебе, что у меня большие планы. Ах, какие планы! — воскликнула Соммита, таинственно жестикулируя. — Ты ни за что не догадаешься.
— И что же это за планы? — спросил Реес обычным ровным голосом.
— Ах, нет, — поддразнила его она, — тебе придется потерпеть. Сначала фотографии, и Руперт тоже должен их увидеть. Скорее, скорее, снимки!
Она открыла дверь спальни, выходящую в гостиную, и пропела двумя великолепными нотами:
— Руперт!
Руперт сражался с письмами от ее поклонников. Войдя, он увидел, что мистер Реес разложил на кровати несколько глянцевых цветных фотографий дома на острове.
Соммита была очарована. Она восклицала, мурлыкала, ликовала. Несколько раз даже начинала смеяться. Пришел Бен Руби, и фотографии снова разложили для просмотра. Она обнимала всех троих по отдельности и более или менее всех разом.
А затем, внезапно перейдя к практической стороне дела, Соммита сказала:
— Музыкальный салон. Дайте-ка взглянуть на него еще раз. Да. Какого он размера?
— Насколько я помню, — ответил мистер Реес, — шестьдесят футов в длину и сорок в ширину.
Мистер Руби присвистнул.
— Ничего себе размер, — заметил он. — Больше похоже на мини-театр, чем на комнату в доме. Ты собираешься давать концерты, дорогуша?
— Лучше! — вскричала она. — Разве я не говорила тебе, Монти, дорого-о-й, что у нас есть планы? Ах, мы составили такой план, Руперт и я! Верно, caro?[4] Да?
— Да, — сказал Руперт, бросив неуверенный взгляд на мистера Рееса. — То есть… чудесные.
Лицо у мистера Рееса было на редкость бесстрастным, но Руперту показалось, что по нему пробежала тень покорности. Лицо же мистера Руби выражало глубочайшее опасение.
Соммита величественным жестом обхватила правой рукой плечи Руперта.
— Это милое дитя, — сказала она так, словно была его матерью, — этот обожаемый друг, — вряд ли она могла выразиться еще откровеннее, — он гений. Это говорю вам я — я, которая знает. Гений. — Все молчали, и Соммита продолжила: — Я живу с этой оперой. Я изучила эту оперу. Я изучила главную партию. Руфь. Все арии, соло, дуэты — их два — и ансамбли. Все, абсолютно все они несут на себе клеймо гения. Я использую слово «клеймо», — поправилась она, — не в смысле мученичества. Наверное, лучше сказать «они несут знамя гения». Гений! — закричала она.
Глядя в эту минуту на Руперта, можно было подумать, что слово «мученичество» все же подходит больше. Его лицо побагровело, и он нервно ерзал в ее объятиях. Она не слишком нежно встряхнула его.
— Умница, умница! — воскликнула Соммита и громко его поцеловала.
— Так мы услышим твой план? — спросил мистер Реес.
Поскольку на часах было семь вечера, она погнала их в гостиную и велела Руперту приготовить коктейли. Он с радостью скрылся в недрах прохладного шкафа, где хранились напитки, лед и бокалы. Остальные обменялись несколькими отрывочными и едва слышными репликами. Мистер Руби пару раз прокашлялся. Неожиданно, так что Руперт пролил предназначенный для мистера Рееса виски с содовой, раздались звуки стоявшего в гостиной фортепиано: зазвучало вступление к тому, что, как он надеялся, станет грандиозной арией его оперы, и великолепный голос душераздирающим пианиссимо[5] запел: «Одна, одна среди чужих».
Именно в этот момент, без всякого предупреждения, Руперта с катастрофической уверенностью посетило озарение: он ошибся в своей опере. Даже самый прекрасный на свете голос не мог сделать из нее больше того, чем она была — она навсегда останется третьесортным произведением.
Бесполезно, подумал он. Опера до нелепости банальна. А потом пришла следующая мысль: она неспособна здраво ее оценить. Она немузыкальна.
Он был уничтожен.
Глава 2. Дом на острове
Прекрасным ранним весенним утром чету Аллейн встретил в новозеландском аэропорту предсказуемо роскошный автомобиль и повез их по дорогам, которые словно по линейке расчерчивали равнины до самого горизонта. Где-то по левую руку был невидимый глазу Тихий океан, а прямо перед ними начинались предгорья. Это были внешние бастионы Южных Альп.
— Нам повезло, — сказал Аллейн. — В пасмурный день гор не видно, и равнины выглядят убийственно. Ты хотела бы их написать?
— Не думаю, — ответила Трой после некоторого раздумья. — Все это выглядит каким-то жестоким. Пришлось бы искать определенный стиль. У меня такое чувство, что люди лишь передвигаются по поверхности. Они не развивались вместе с этим пейзажем. Они не включены в его анатомию. Какая дерзость! — воскликнула она. — Я едва приехала в страну, а уже делаю обобщения.
Водитель, которого звали Берт, оказался дружелюбным и очень старался впечатлить своих пассажиров. Он указал им на горы, на которых устроили свои фермы и пастбища для овец первые землевладельцы.
— А то место, куда мы едем, Уэйхоу Лодж — там разводят овец? — спросила Трой.
— Нет, что вы. Мы едем в Уэстленд, миссис Аллейн. Это Уэст-Кост. Там сплошные лесозаготовки и шахты. Уэйхоу — довольно большое озеро. А дом! Знаете, во сколько он, по слухам, ему обошелся? В полмиллиона. Или даже больше, как говорят. Такого больше нигде в Новой Зеландии нет. Вы удивитесь.
— Мы о нем наслышаны, — кивнул Аллейн.
— Да? Все равно вы удивитесь. — Он повернул голову к Трой. — А вы художница? Мистер Реес подумал, что вы захотите сделать фото на вершине перевала. Мы там пообедаем.
— Вряд ли, — сказала Трой.
— Вы будете писать портрет знаменитой леди, верно?
Тон у него был сардонический. Трой ответила утвердительно.
— Не хотел бы оказаться на вашем месте, — вздохнул водитель.
— А вы рисуете?
— Я? Конечно, нет. Мне бы не хватило терпения.
— Для этого требуется не только терпение, — мягко сказал Аллейн.
— Да? Может, и так, — согласился водитель. Последовала долгая пауза. — Значит, ей придется сидеть неподвижно?
— Более или менее.
— Думаю, получится скорее «менее», чем «более». Говорят, она прямо-таки знаменитость.
— Всемирно известная.
— Так говорят. Да-а, — сказал водитель с задумчивой усмешкой, — что ж, пусть говорят. Ну и темпераментная она! Можно ее и так назвать. — Он присвистнул. — Не одно, так другое. Вот с собакой, например. У нее была одна из этих новомодных собак, белая борзая с длинной шерстью. Босс ей подарил. В общем, собака заболела, они пригласили ветеринара, тот сказал, что она безнадежна и что ее надо усыпить, чтоб не мучилась. Из-за этого заболевает она. Кричит, стонет, просто нечто. В конце концов босс велит с этим покончить, мы с ветеринаром отнесли ее под навес, он дал ей хлороформ и потом сделал укол, и мы закопали ее. Черт! Когда ей сказали об этом, она вела себя так, как будто мы убийцы. — Он цыкнул зубом при воспоминании об этом.
— Мария, — продолжил он вскоре, — это ее личная помощница, или горничная, или как там это называется, говорила, что в Австралии случился какой-то скандал с газетчиками. Но вы-то все об этом знаете, мистер Аллейн. Мария считает, что вы взялись за это дело. Это так?
— Боюсь, что нет, — сказал Аллейн.
Трой как следует пихнула его локтем.
— Ну, она так думает. Вы же детектив. Мария ведь иностранка. Итальянка. С ними надо держать ухо востро. Они вечно волнуются.
— А вы живете там? В доме?
— Верно. Пока что. Когда они уедут, на острове останется только смотритель со своей семьей. Монти Реес построил гараж и лодочный навес на берегу озера, на его катере вы доберетесь до дома. У него, между прочим, даже свой вертолет есть. Никаких проблем — вызывает его, когда нужно.
Разговор прервался. Трой стало интересно, называет ли водитель своего работодателя «Монти Реес» в лицо, и она решила, что это вполне возможно.
Дорога через равнины неуловимо поднималась все выше на протяжении сорока миль, и, если оглянуться назад, становилось понятно, на какой высоте они находятся. Вскоре они уже глядели вниз на русло широкой реки, в которой переплетались бирюзовые и белые струи воды.
К полудню они добрались до вершины и пообедали припасами из корзины, запив их вином из сумки-холодильника. Их сопровождающий пил крепкий чай из термоса.
— Я же за рулем, — пояснил он, — а впереди еще серпантин. — И принялся развлекать Аллейнов историями о несчастных случаях в ущелье.
Воздух на вершине был чудесный: свежий, с ароматом кустов мануки, тут и там торчащих из теплой, поросшей травой земли. Теперь они были ближе к вечным снегам.
— Пора нам ехать, — сказал Берт. — Увидите, как сильно все изменится, когда проедем перевал. Оно вроде как неожиданно бывает.
На вершине стоял видавший виды указатель с надписью: «Перевал Корнишмен. 1000 метров».
На коротком отрезке дорога шла прямо, а потом нырнула в совершенно другой мир. Как и сказал водитель, это было неожиданно. Настолько неожиданно, ново и резко, что еще долгое время спустя у Трой было такое чувство, будто существовала некая согласованность между этим моментом и последовавшими затем событиями — словно, преодолев перевал, они попали в край, который подготовился и ждал их.
Это был мир очень темного тропического леса, бархатом покрывавшего изгибы скрытой под ним земли. Тут и там поблескивали водопады. Над лесом возвышались сверкавшие на солнце снежные пики, но солнце не достигало земли в самом низу, где тонкой нитью по ущелью грохотала река.
— Ее отсюда слышно, — сказал Берт, остановив машину.
Но сначала они слышали лишь пение птиц — ровные, повторяющиеся, несравненно дикие звуки. Через минуту Трой сказала, что она, кажется, слышит реку. Водитель предложил им подойти к краю дороги и посмотреть вниз. У Трой страшно кружилась голова от высоты, но она пошла, уцепившись за руку Аллейна. Словно с театральной галерки, она взглянула вниз, на верхушки деревьев, и увидела реку.
Берт, продолжавший снабжать их полезной информацией, рассказал, что можно различить крышу машины, которая шесть лет назад улетела вниз с того места, где они стоят.
— Вот как, — заметил Аллейн, обнял жену за плечи и отвел ее к машине.
Они двинулись вниз по серпантину.
Повороты этого чудовищного спуска были настолько крутыми, что казалось, будто движущиеся в одном направлении машины приближаются друг к другу и едут на разных уровнях. Они поравнялись с одной машиной и потихоньку ползли позади нее. Навстречу им из ущелья поднималась другая машина. Ее шофер съехал на самый край, и вторая машина протиснулась по внутренней стороне дороги в полудюйме от них. Водители кивнули друг другу.
Аллейн по-прежнему обнимал Трой за плечи.
— Первое место за отвагу, миссис А., — прошептал он ей на ухо. — Ты великолепно держишься.
— А чего ты от меня ожидал? Что я стану выть, словно банши?[6]
Вскоре дорога стала прямее, и Берт переключился на самую высокую скорость. Они добрались до подножья ущелья и поехали вдоль реки, ревущей так громко, что они едва могли расслышать друг друга. Внизу было холодно.
— Вот вы и в Уэстленде, — прокричал водитель.
Уже совсем ввечеру, после двухчасовой поездки через мокрый, пахнущий перегноем лес, который новозеландцы называют «буш», они выехали на более открытую местность и остановились у крошечной железнодорожной станции под названием Каи-каи. Здесь они забрали пакет с частной почтой для обитателей Уэйхоу Лодж и еще двадцать миль ехали параллельно железной дороге, а затем обогнули холм, за которым лежало огромное зеркало воды — озеро Уэйхоу.
— Ну вот, — объявил Берт. — Вот вам и озеро. И остров.
— Подкрепите меня вином![7] — воскликнул Аллейн и потер виски.
Вид открывался ошеломляющий. В этот час поверхность озера была совершенно гладкой, и в ней отражался ослепительно пылавший закат. В озеро вдавались удлиненные островки суши со стройными деревьями, отражавшимися в воде. В рамке этих деревьев, вдали, виднелся остров, а на нем — дом мистера Рееса.
Дом был спроектирован знаменитым архитектором в современном стиле, но он был построен и расположен так удачно, что казался органично вписанным в окружавший его первобытный пейзаж. Покрытое травой пространство перед домом окружали величественные деревья с темной листвой. На берегу располагалась пристань, у которой стоял катер. На фоне полыхающего заката нелепо, словно назойливое насекомое, висел в воздухе вертолет. Когда они подняли на него глаза, он исчез за домом.
— Я во все это не верю, — сказала Трой. — Это чей-то сон. Это не может быть правдой.
— Вы считаете? — спросил водитель.
— Считаю, — ответила Трой.
Они свернули на дорогу, которая шла между кустов и древовидных папоротников к берегу озера, где находился гараж, пристань, лодочный навес и колокол на миниатюрной колокольне. Они вышли из машины в вечерние запахи мокрой земли, папоротника, мха и холодной озерной воды.
Берт ударил в колокол, и через озеро полетела одна-единственная нота. Потом он заметил, что их уже увидели с острова и наверняка катер за ними уже отправили. Вечер был такой тихий, что слышался рокот мотора.
— Над водой звуки далеко слышно, — пояснил Берт.
Закат достиг высшей точки. Все видимые объекты вблизи и вдали стали резко очерченными и позолоченными. Лица у всех троих покраснели. Окна далекого дома заполыхали огнем. Через десять минут все поблекло, и пейзаж стал холодным. Трой и Аллейн немного прошлись по берегу; Трой смотрела на дом и думала о находившихся в нем людях. Почувствует ли Изабелла Соммита, что здесь самое подходящее место для демонстрации ее великолепия, и как она будет выглядеть в «удобной студии» с высокими окнами, сама такая яркая, на фоне заката, подобного тому, что только что догорел?
— Это самое настоящее приключение, — пробормотала Трой.
— Знаешь, — сказал Аллейн, — немного абсурдно, но все это напоминает мне один из викторианских романов Джорджа Макдональда, где персонажи находят зеркало и выходят из этого мира в иной, где живут странные создания и происходят необъяснимые события.
— Может бы, — задумалась Трой, — вход в этот великолепный дом окажется нашей парадной дверью, и мы вернемся в Лондон.
Они заговорили о доме и о том, как сбалансированно возвышаются над пейзажем его башни. Вскоре к пристани подплыл катер, оставляя за кормой расходящийся след на гладкой как шелк воде. Это было большое, дорогое судно. Рулевой вышел из рубки и бросил водителю причальный канат.
— Знакомьтесь, Лес Смит, — сказал Берт.
— Здорово, — поздоровался рулевой. — Как дела, Берт? Хорошо доехали?
— Без проблем, Лес.
— Ну и чудненько.
Аллейн помог им уложить багаж. Трой помогли перебраться на катер, и они поплыли обратно.
Трой и Аллейн устроились на корме.
— Ну вот, — сказал Аллейн. — Тебе нравится?
— Начало прекрасное. Здесь душераздирающе красиво.
— Будем надеяться на удачу, — весело сказал он.
Возможно, из-за того, что их первый день оказался таким длинным и трудным после перелета из Англии, первый вечер в доме прошел для Трой как во сне.
Их встретили секретарь мистера Рееса и еще один мужчина, смуглый, разодетый словно стюард на корабле, который нес их багаж. Они проводили Аллейнов в их комнату, чтобы те могли «освежиться». Секретарь, моложавый и многословный мужчина с волосами соломенного цвета, пояснил, что мистер Реес говорит по телефону, но встретит их, когда они спустятся; и что остальные переодеваются к ужину, но им можно не беспокоиться, так как остальные «вполне их поймут». Ужин будет через четверть часа. В комнате есть поднос с напитками, и он предлагает гостям ими воспользоваться; и он знает, что они сущие ангелы и простят его, но мистеру Реесу требуются его услуги. Затем он, словно спохватившись, рассыпался в приветствиях, сверкнул улыбкой и удалился. Трой посетила смутная мысль о том, что он невыносим.
— Не знаю как ты, — сказала она, — но я отказываюсь быть «вполне понятой» и собираюсь переодеться. Мне нужно как следует умыться и сменить одежду. И выпить, кстати.
Она открыла свой чемодан, порылась в нем и выудила комбинезон, который, к счастью, был сшит из немнущегося материала. Затем она пошла в ванную, оборудованную словно дворец для короля водопроводчиков. Аллейн переоделся молниеносно — в этом он был специалистом — и смешал два коктейля. Они сели рядышком на огромной кровати и осмотрелись.
— Все это сделал какой-нибудь американский супер-дизайнер интерьеров, тебе не кажется? — сказала Трой, отхлебнув коктейль из бренди с сухим мартини.
— Ты считаешь? — спросил Аллейн, передразнивая шофера Берта.
— Считаю, — сказала Трой. — Через ковер нужно пробираться, просто так по нему не пройдешь.
— Это не ковер. Это примерно двести овечьих шкур, сшитых вместе. Местный колорит.
— Мы, конечно, можем сколько угодно хихикать, но давай признаем: все это действительно производит потрясающее впечатление. Но все какое-то нечеловеческое. Вот если бы где-нибудь нашлось что-то потрепанное или неподходящее.
— Мы, — засмеялся Аллейн. — Мы подходим под оба эти определения. Допивай, нам лучше не опаздывать.
Спускаясь на первый этаж, они смогли в полной мере оценить холл с гигантским пылающим камином, с развешанным по стенам смертельным оружием всех видов, с ткаными гардинами в стиле маори и большой полуабстрактной деревянной скульптурой, изображавшей обнаженную беременную женщину с самодовольной усмешкой на лице. Из-за одной из дверей доносились звуки беседы. Один настойчивый мужской голос звучал громче остальных. Последовал взрыв общего смеха.
— Боже правый, — прошептал Аллейн, — да тут собралась целая компания гостей.
В холле стоял смуглый мужчина, относивший в их комнату багаж.
— Прошу в гостиную, сэр, — без всякой необходимости сказал он и распахнул дверь.
В дальнем конце длинной комнаты стояла группа из десятка человек, преимущественно мужчин. В центре всеобщего внимания находился персонаж с величавой седой бородой, стриженными ежиком волосами, в бархатном пиджаке с мягким галстуком, в монокле и с цветком в петлице. Он вел себя как опытный raconteur[8], который, сказав mot[9], старается сохранить бесстрастное лицо. Его слушатели едва пришли в себя после приступа веселья. Секретарь с соломенными волосами, державший в руке бокал, даже похлопал пальцами левой руки по запястью правой, изображая аплодисменты. В этот момент он как раз повернулся, увидел Аллейнов и склонился к кому-то, сидевшему на диване, повернутом спинкой к двери.
— Ах да, — сказал голос, и мистер Реес встал и подошел, чтобы поприветствовать своих гостей.
Он был небольшого роста, смуглый, и с небольшим количеством того, что иногда называют «жирком про запас». Глаза у него были большие, лицо закрытое — из тех, которые легко забываются, так как ничего не выражают.
Он пожал чете Аллейнов руки и сказал, как рад принять их в своем доме; обращаясь к Трой, он добавил, что для него честь и привилегия оказать ей гостеприимство. В его речи проскальзывал небольшой американский акцент, но в целом голос, как и сам его обладатель, казался нейтральным. Он официально представил Аллейнов остальным. Рассказчика звали синьор Беппо Латтьенцо; он поцеловал Трой руку. Полный джентльмен, который был похож на оперного тенора, им и оказался — это был знаменитый Родольфо Романо. Мистер Бен Руби пошутил: все они знают, что у Трой получится лучше, чем вот это — и указал на огромный формальный портрет, изображавший платье Соммиты, увенчанное ее маской. Затем настала очередь потрясающе красивого молодого человека, казавшегося очень встревоженным, — Руперта Бартоломью; хорошенькой девушки, чье имя Трой, которую всегда сбивали с толку массовые знакомства, не уловила; и крупной леди с глубоким голосом на диване, которую звали мисс Хильда Дэнси; и, наконец, показался джентльмен с еще более глубоким голосом и веселым загорелым лицом, который объявил, что он новозеландец и что зовут его мистер Эру Джонстон.
Выполнив свой долг хозяина и познакомив между собой гостей, мистер Реес удержал подле себя Аллейна, проследил, чтобы ему налили выпить, отвел его в сторонку и, как заключила Трой по изменившемуся и ставшему очень внимательным выражению его лица, завел с ним серьезный разговор.
— У вас был очень длинный день, миссис Аллейн, — сказал синьор Латтьенцо с сильным итальянским акцентом. — Чувствуете ли вы, что все сигналы времени, — тут он быстро повращал пухлыми руками, — совершенно перемешались?
— Именно так, — кивнула Трой. — Думаю, это последствия смены часовых поясов.
— Приятно будет лечь в постель?
— Боже, да! — выдохнула она, вынужденная горячо с ним согласиться.
— Идите сюда, садитесь, — синьор Латтьенцо повел художницу к дивану, стоявшему поодаль от того, где расположилась мисс Дэнси. — Вы не должны начинать рисовать, пока не будете готовы, — сказал он. — Не позволяйте им заставлять вас.
— О, надеюсь, завтра я буду готова.
— Я в этом сомневаюсь, а еще больше сомневаюсь в том, что в вашем распоряжении будет ваша модель.
— Почему? — быстро спросила Трой. — Что-нибудь случилось? То есть…
— Случилось? Это зависит от того, как посмотреть. — Он пристально поглядел на нее. Глаза у него были очень живые и блестящие. — Вы, очевидно, не слышали о грандиозном событии. Нет? Тогда я должен сказать вам, что послезавтра вечером мы станем слушателями самого первого представления совершенно новой одноактной оперы. Это будет мировая премьера, — объявил синьор Латтьенцо чрезвычайно сухим тоном. — Что вы об этом думаете?
— Я ошеломлена, — сказала Трой.
— Вы будете еще больше ошеломлены, когда услышите оперу. Вы, конечно, не знаете, кто я.
— Боюсь, мне известно лишь, что ваша фамилия Латтьенцо.
— Так и есть.
— Наверное, мне следовало воскликнуть: «О нет! Неужели тот самый Латтьенцо?»
— Вовсе нет. Я скромная личность — педагог по вокалу. Я беру человеческий голос и учу его узнавать самое себя.
— И вы…
— Да, я разобрал на части самый выдающийся вокальный инструмент нашего времени, снова собрал его и, вернул владелице. Я три года работал как лошадь, и наверное, я единственный человек, на которого она обращает хоть какое-то внимание в профессиональном смысле. Мне велено быть здесь, так как она желает, чтобы я впал в восторг от этой оперы.
— А вы ее видели? Или надо говорить «читали»?
Он поднял глаза к потолку и сделал отчаянный жест.
— О боже, — пробормотала Трой.
— Увы, увы, — согласился синьор Латтьенцо.
Интересно, он всегда так неосмотрителен с незнакомцами, подумала художница.
— Вы, разумеется, обратили внимание, — продолжил он, — на светловолосого молодого человека с внешностью средневекового ангела и с выражением душевной муки на лице?
— Да, обратила. У него замечательная голова.
— Задаешься вопросом, какой дьявол вселил в эту голову мысль, будто она может сочинить оперу. И все же, — сказал синьор Латтьенцо, задумчиво глядя на Руперта Бартоломью, — я полагаю, что ужас перед премьерным спектаклем, который, без сомнения, испытывает это бедное дитя, не совсем обычного свойства.
— Нет?
— Нет. Я думаю, он осознал свою ошибку и теперь чувствует себя ужасно.
— Но ведь это чудовищно. Это худшее, что может случиться.
— Значит, такое может произойти и с художником?
— Я думаю, художники еще в процессе работы понимают, что то, что они делают, плохо. Я знаю, что я это понимаю. Наверное, у сочинителей и, судя по вашим словам, у музыкантов нет этого временного промежутка, когда они могут достичь ужасного момента истины. Эта опера и в самом деле так плоха?
— Да. Плоха. Тем не менее примерно трижды можно услышать небольшие знаки, которые заставляют сожалеть о том, что ему потакают. Для него ничего не жалеют. Он будет дирижировать.
— А вы говорили с ним? О том, что не так?
— Еще нет. Сначала я позволю ему услышать эту оперу.
— Ох, — запротестовала Трой, — но зачем же?! Зачем ему проходить через это? Почему просто не поговорить и не посоветовать ему отменить представление?
— Во-первых, потому, что Соммита не обратит на это никакого внимания.
— А если бы он отказался?
— Она поглотила его, бедняжку. Он бы не отказался. Она сделала его своим секретарем, аккомпаниатором, композитором, но главное и самое разрушительное — то, что она сделала его своим любовником и поглотила его. Это очень печально, — вздохнул синьор Латтьенцо, и глаза его сверкнули. — Но теперь вы понимаете, — добавил он, — что я имею в виду, когда говорю, что Ла Соммита будет слишком engagée[10], чтобы позировать вам, пока все это не закончится. А после она, возможно, будет слишком разъярена, чтобы усидеть на месте хотя бы полминуты. Вчера была первая генеральная репетиция. А послезавтра — представление! Рассказать вам об их первой встрече и о том, как все это случилось?
— Пожалуйста.
— Но сначала вам нужно подкрепиться и чего-нибудь выпить.
И синьор Латтьенцо начал этот интересный рассказ:
— Представьте себе! Их первая встреча. Все составляющие для мыльной оперы: странный молодой человек, бледный как смерть и прекрасный как Адонис, с горящими глазами, с кончика носа стекает вода, голодным взором смотрит на свою богиню в час ночи под проливным дождем. Она подзывает его к окну своей машины. Она добра, а вскоре становится еще добрее. И еще добрее. Он показывает ей свою оперу — она называется «Чужестранка» и посвящена ей. Поскольку большую часть оперы занимает роль Руфи и едва героиня заканчивает радовать публику одной колоратурой, как начинается следующая, она впечатлена и проявляет благосклонность. Вы, конечно же, знаете ее знаменитое ля третьей октавы?
— Боюсь, что нет.
— Нет? Выше только достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса. Этот одержимый молодой человек позаботился о том, чтобы включить эту ноту в ее арию. Кстати, должен сказать вам, что, хотя это великолепное создание поет как Царица Небесная, в музыкальном смысле она глупа как пробка.
— Да бросьте!
— Поверьте мне. Это правда. Перед вами сейчас компания, собранная ради этого фарса огромной ценой. Бас — новозеландец и достойный преемник Иниа Те Виата[11]. У него роль Вооза, и поверьте мне, «Чужестранка» для него совершенно неподобающее произведение. Милая Хильда Дэнси на диване будет петь Наоми, у которой в опере лишь один дуэт, горстка речитативов и партия контральто в слабом попурри на тему Bella figlia dell’amore[12]. Там к ней присоединяется меццо-сопрано — маленькая Сильвия Пэрри, которая как раз сейчас беседует с композитором. Она, так сказать, синьора Вооз. Далее вступает романтический элемент в лице Родольфо Романо — это главный сборщик колосьев, который с первого взгляда начинает обожать Руфь. Нечего и говорить, что она доминирует в квартете. Я, наверное, кажусь вам очень черствым? — сказал синьор Латтьенцо.
— Вы кажетесь мне очень забавным, — сказала Трой.
— Но язвительным? Да?
— Ну… возможно, безжалостным.
— Если бы мы все были такими…
— Что?
— Безжалостными к Руфи, дорогая.
— Ах вот оно что! — рассмеялась Трой.
— Я очень голоден. Она, как обычно, опаздывает на двадцать минут, и наш добрый Монти смотрит на часы. Нам должны устроить настоящее представление — «Запоздалое Появление». Слушайте.
В этот момент послышались музыкальные восклицания, быстро становящиеся все громче.
— Приближается небесная пожарная машина, — громко объявил синьор Латтьенцо, обращаясь к присоединившемуся к ним Аллейну.
Дверь в холл широко распахнулась, на пороге появилась Изабелла Соммита, и Трой подумала: вот оно. «Воскликните Господу, вся земля!»[13] Вот оно.
Первое, что все замечали в Соммите, были ее глаза. Они были огромные, черные и мрачные, раскосо посаженные на ее белом и гладком лице. Над ними — две арки бровей, тонкие, но, если их предоставить самим себе, они станут густыми и грозно встретятся над переносицей. Полная нижняя губа и слегка выступающие зубы с маленькой щербинкой впереди, которая, как говорят, означает склонность легко влюбляться. На ней были бриллианты и бархатное зеленое платье, щедро открывавшее ее знаменитую грудь, сверкавшую словно мрамор.
Все сидящие встали. Аллейн подумал: еще немного, и дамы присядут в низких реверансах. Он взглянул на Трой и узнал на ее лице выражение живого внимания и беспристрастного наблюдения, которое означало, что его жену зацепило.
— Мои дороги-и-е! — пропела Ла Соммита. — Так поздно! Простите, простите. — Она обвела всех своим необыкновенно проницательным взглядом — медленно, будто лучом маяка, подумал Аллейн, и тут этот взгляд остановился на нем, а потом на Трой.
На лице Соммиты появилось выражение изумления и восторга. Она пошла им навстречу, протянув к супругам обе руки и вскрикнув от волнения, схватила их за руки и крепко пожала их, словно поздравляя с бракосочетанием, и словно ее радость по этому поводу была слишком велика, чтобы выразить ее словами.
— Вы приехали! — вскричала она наконец и обратилась к остальным. — Разве не чудесно? Они приехали! — Она словно трофеи показывала их своей вежливо слушающей публике.
Аллейн неслышно выругался, и чтобы высвободиться, поцеловал ей руку.
Последовал водопад приветствий. Ла Соммита схватила Трой за плечи, пристально посмотрела на нее, спросила, подойдет ли ей она (Соммита), и сказала, что она уже знает, что они en rapport[14] и что она (Соммита) всегда это знала. А Трой знала об этом? Она обратилась к Аллейну: Трой знала?
— О, — ответил тот, — она ужасно хитра, мадам. Вы понятия не имеете, насколько.
Последовали мелодичные восклицания и смех, вызванный этой совсем не блестящей шуткой. Аллейна игриво побранили.
Их прервал еще один похожий на стюарда человек, появившийся у входа в дальнем конце комнаты и объявивший, что ужин готов. Он держал поднос, на котором, несомненно, лежала прибывшая с Аллейнами почта; он подошел с подносом к секретарю с соломенными волосами, и тот велел: «Ко мне на стол». Мужчина что-то ответил и указал на лежавшую на подносе газету. Секретарь сильно взволновался и повторил достаточно громко, чтобы слышал Аллейн: «Нет-нет, я этим займусь. В ящик моего стола. Унесите».
Мужчина слегка поклонился и вернулся к дверям.
Гости к этому моменту пришли в движение, и сцена напоминала конец первого акта эдвардианской комедии: громкие голоса, продуманные движения и общее ощущение приближения к кульминации, которая будет развиваться в следующем акте.
Однако кульминация произошла немедленно. Бас, мистер Эру Джонстон, громогласно спросил:
— Это что, вечерняя газета? Значит, там будут результаты Кубка Мельбурна?[15]
— Полагаю, да, — сказал мистер Реес. — А что такое?
— Мы неплохо заработали, поставив на лошадь Топ Ноут. Она была явным фаворитом.
— Слушайте все! Мельбурнский кубок! — пророкотал он.
Процессия остановилась. Все оживленно болтали, но, как говорят актеры, все «перекрывал» голос Соммиты, потребовавшей дать ей газету немедленно. Аллейн увидел, как взволнованный секретарь пытается добраться до слуги, но Соммита уже схватила газету и раскрыла ее.
Последовавшая за этим сцена в течение трех-четырех секунд отдаленно напоминала прерванную схватку в регби. Гости, все еще разговаривающие друг с другом, толпой обступили примадонну. И вдруг все умолкли, попятились и оставили ее в одиночестве; она молча скосила глаза на раскрытую газету, которую держала так, словно собиралась пинком отправить ее в вечность. Как говорил потом Аллейн, он мог поклясться, что на губах у нее выступила пена.
На первой полосе газеты красовался огромный заголовок:
СОММИТА НЕ НОСИТ БЮСТГАЛЬТЕР СО ВКЛАДЫШАМИ
И ниже:
Знаменитая примадонна официально заявляет, что все ее изгибы — от природы. Но так ли это???
В широкую рамку в центре страницы были помещены примерно девять строк печатного текста, а под ними стояла огромная подпись: Изабелла Соммита.
Обед стал катастрофическим моноспектаклем Соммиты. Было бы преуменьшением сказать, что она пережила целую гамму эмоций: она начала там, где гамма закончилась, и вспышки истерии служили в этом представлении передышками. Время от времени она внезапно умолкала и начинала жадно поглощать еду, которую перед ней ставили, ибо была прожорливой дамой. Испытывавшие неловкость гости хватались за эту возможность и присоединялись к ней в более консервативной манере. Тем более что еда была превосходной.
Ее коллеги по цеху, как позже согласились друг с другом Аллейн и его жена, испытывали меньшую неловкость, чем непрофессиональная аудитория; казалось, они более или менее спокойно воспринимали ее взрывы чувств и время от времени подбрасывали подстрекательские реплики, а сидевший слева от нее синьор Романо красноречиво жестикулировал и целовал ей руку, когда ему удавалось ее поймать.
Аллейн сидел справа от Соммиты. Она часто к нему обращалась, и он получил пару мучительных тычков в ребра, когда она старалась донести до него свои доводы. Он чувствовал на себе взгляд Трой, и, улучив момент, на секунду скорчил ей гримасу ужаса. Он увидел, что она едва удержалась от смеха.
Трой сидела по правую руку от мистера Рееса. Кажется, он считал, что посреди всего этого шума на нем лежит обязанность поддерживать беседу, и заметил, что в Австралии не хватает неподкупных журналистов. Оскорбившая Соммиту газета была австралийским еженедельником с большим тиражом в Новой Зеландии.
Когда перед ним поставили портвейн, а его пассия на время погрузилась в мрачное молчание, он невыразительным тоном предположил, что дамы, возможно, хотят удалиться.
Соммита ответила не сразу, и за столом повисло неуверенное молчание, пока она сердито созерцала гостей. Да к черту это все, подумала Трой и встала. Хильда Дэнси с готовностью последовала ее примеру; после минутного колебания, с округлившимися глазами, то же самое сделала и Сильвия Пэрри. Мужчины встали.
Соммита поднялась, встала в позу Кассандры, которая вот-вот начнет вещать, но видимо, передумала и объявила, что идет спать.
Минут через двадцать Аллейн обнаружил, что находится в комнате, похожей на декорации для научно-фантастического фильма — это был кабинет мистера Рееса. Вместе с ним там находились сам мистер Реес, мистер Бен Руби, Руперт Бартоломью и секретарь с соломенными волосами, которого, как оказалось, звали Хэнли.
На столе, вокруг которого собрались мужчины, лежала та скверная газетенка. Они прочли заключенное в центральную рамку письмо, отпечатанное на машинке.
Редактору газеты The Watchman
Сэр,
я желаю посредством вашей колонки целиком и полностью отвергнуть возмутительные клеветнические обвинения, циркулирующие в этой стране. Я желаю решительно заявить, что не испытываю никакой потребности, и соответственно, никогда не прибегала к косметической хирургии или к искусственным усовершенствованиям какого бы то ни было рода. Я являюсь и предстаю перед моей публикой такой, какой меня создал Господь. Благодарю Вас.
Изабелла Соммита
— И вы говорите, что все это — фальсификация? — спросил Аллейн.
— Конечно, фальсификация! — воскликнул Бен Руби. — Не станет же она сама накладывать себе на тарелку порцию токсичной славы! Боже, это сделает ее самым большим посмешищем всех времен в Австралии. И все это станет известно и за океаном, уж поверьте.
— А слухи или сплетни подобного рода действительно ходят?
— Нам об этом ничего не известно, — сказал мистер Реес. — А если бы такие слухи широко распространились, мы бы об этом услышали. Разве не так, Бен?
— Ну послушайте, старина, любой, кто видел ее, знает, что это глупо. Я хочу сказать, вы посмотрите на ее декольте! Оно говорит само за себя. — Мистер Руби повернулся к Аллейну. — Вы видели. Вы не могли этого не заметить. У нее самый прекрасный бюст, который только можно встретить в жизни. Прекрасный! Вот! Взгляните на эту фотографию.
Он раскрыл газету на странице 30 и разгладил ее на столе. На этой фотографии Соммита стояла в профиль, запрокинув голову и опершись руками на стол за спиной. Она была одета для роли Кармен и держала в зубах искусственную розу. Декольте было очень глубоким, и, хотя на первый взгляд не возникало сомнений в естественности ее груди, при ближайшем рассмотрении можно было заметить странные небольшие отметины в этой области, наводящие на мысль о послеоперационных шрамах. Подпись гласила: «Лучше один раз увидеть!»
— Ей никогда не нравилась эта фотография, — угрюмо сказал мистер Реес. — Никогда. Но она нравилась прессе, и поэтому мы сохранили ее в информационных материалах. Вот! — воскликнул он, ткнув пальцем. — Вот, взгляните-ка на это! Это подделка. Фотографию изменили. Тут кто-то нахимичил. Эти шрамы — подделка.
Аллейн внимательно рассматривал фото.
— Думаю, вы правы, — наконец сказал он и вернулся на первую страницу. — Мистер Хэнли, — спросил он, — как вы считаете, эта печатная машинка принадлежит кому-то из ближайшего окружения мадам Соммиты? Вы можете это определить?
— А? О! — секретарь склонился над газетой. — Ну, — сказал он через минуту, — это было напечатано не на моей машинке. — Он тревожно рассмеялся. — В этом я могу вас уверить. Но насчет ее машинки я не уверен. Что скажете, Руперт?
— Бартоломью — секретарь мадам, — объяснил мистер Реес своим невыразительным голосом. — Он сделал шаг назад и знаком велел Руперту внимательно рассмотреть страницу.
Руперт, красневший всякий раз, когда мистер Реес обращал на него хоть какое-то внимание, покраснел и сейчас и склонился над газетой.
— Нет, это не наша… то есть не моя машинка. В нашей буква Р немного выступает из ряда. Да и шрифт не тот.
— А подпись? Выглядит довольно убедительно, что скажете? — спросил Аллейн хозяина дома.
— О да, — ответил тот. — Это подпись Беллы.
— Кто-нибудь из вас может назвать причину, по которой мадам Соммита могла быть вынуждена поставить свою подпись внизу чистого листа почтовой бумаги?
Все молчали.
— Она умеет печатать?
— Нет, — ответили все в один голос, а Бен Руби раздраженно добавил:
— Ох, да ради всего святого, какой смысл всем этим заниматься? Не было никаких слухов о ее груди, простите меня за прямоту, и черт побери, она не писала это чертово письмо. Это точно подделка, и, ей-богу, по-моему, за всем этим стоит этот проклятый фотограф.
Оба молодых человека промычали что-то в знак полного согласия.
Мистер Реес поднял руку, и они умолкли.
— Нам повезло, — сказал он, — что с нами здесь мистер Аллейн, а точнее, старший суперинтендант Аллейн. Предлагаю с полным вниманием выслушать его, джентльмены.
Повернувшись к Аллейну, он слегка поклонился, словно проводил заседание совета директоров.
— Вы не могли бы?
— Разумеется, если вы считаете, что я могу быть полезен, — кивнул Аллейн. — Но полагаю, мне стоит напомнить, что если речь идет о том, чтобы привлечь к этому делу полицию, то это должна быть новозеландская полиция. Уверен, вы это понимаете.
— Именно так, именно так, — сказал мистер Реес. — Скажем, мы были бы вам весьма признательны за неофициальное заключение.
— Хорошо. Но мне нечем будет вас поразить.
Мужчины расставили стулья вокруг стола; они словно собираются прослушать какую-то чертову лекцию, подумал Аллейн. Вообще вся эта ситуация, думал он, какая-то странная. Они словно договорились между собой, как нужно играть эту сцену, но не очень хорошо знали свои реплики.
Аллейн вспомнил полученные от шефа инструкции. Ему следовало наблюдать, вести себя крайне осмотрительно, подстраиваться под условия, на которых его пригласили, и заниматься делом гадкого фотографа так же, как он занимался бы любым делом, порученным ему согласно его служебным обязанностям.
— Итак, приступим. Прежде всего: если бы это было полицейское расследование, то первым делом следовало бы тщательнейшим образом изучить письмо, которое похоже на печатную копию оригинального документа. Мы бы увеличили его на экране, поискали бы на нем какие-либо отпечатки пальцев или признаки сорта исходной бумаги. То же самое было бы проделано с фотографией, причем мы уделили бы особое внимание довольно неуклюжей подделке послеоперационных шрамов. Одновременно мы бы отправили человека в редакцию газеты The Watchman, чтобы выяснить как можно больше о том, когда было получено оригинальное письмо, пришло ли оно по почте или его сунули в ящик для корреспонденции у входа в здание редакции. А также то, кто этим письмом занимался. Можно почти наверняка утверждать, что представители The Watchman были бы весьма уклончивы в своих ответах, и, если бы их попросили предоставить оригинал письма, сказали бы, что он не сохранился, что могло бы оказаться правдой — а могло и нет. Очевидно, — продолжил Аллейн, — они не запрашивали никакого подтверждения подлинности письма, и сами не предприняли никаких шагов, чтобы в ней убедиться.
— С этой газетой такое не пройдет, — сказал Бен Руби. — Вы только взгляните. Если бы мы подали на них в суд за клевету, для The Watchman в этом не было бы ничего нового. Полученная прибыль того стоила бы.
— Я, кажется, слышал, что как-то раз этот фотограф — «Филин», так? — переоделся в женщину, попросил у Соммиты автограф, а потом сделал снимок с очень близкого расстояния и скрылся.
Мистер Руби хлопнул по столу.
— Боже, вы правы! — воскликнул он. — И он его получил! Она дала ему автограф. Он получил ее подпись.
— Наверное, бесполезно спрашивать, помнит ли она, в каком блокноте она расписывалась, или подписывала ли когда-нибудь пустую страницу, или какого размера была эта страница.
— Она помнит! Еще как помнит! — закричал мистер Руби. — В тот раз блокнот действительно был очень большого размера. Был похож на тот, что специально заводят для автографов знаменитостей. Она запомнила его потому, что он был такой необычный. А подпись она, скорее всего, оставила очень большую, чтобы заполнить все свободное место. Она всегда так делает.
— Кто-нибудь из вас был с ней в это время? Она ведь выходила из театра?
— Я был с ней, — сказал мистер Реес. — И ты, Бен. Мы всегда сопровождаем ее от служебного выхода до машины. Я не видел блокнот. Я смотрел, стоит ли машина на обычном месте. Там была большая толпа.
— Я стоял позади нее, — вспомнил мистер Руби. — Я не мог ничего видеть. Не успел я опомниться, как мелькнула вспышка и началась суматоха. Она кричала, чтобы кто-нибудь остановил фотографа. Кто-то еще кричал «Остановите эту женщину!» и пытался пробраться через толпу. А потом выяснилось, что кричала сама эта женщина, которая и была этим самым фотографом Филином. Я понятно объясняю?
— Вполне, — кивнул Аллейн.
— Он всех нас одурачил; он всю дорогу нас дурачит, — пожаловался мистер Руби.
— А как он сам выглядит? Наверняка ведь кто-то что-то заметил в его внешности?
Но похоже, что это было не так. Никто не предложил надежного описания. Он всегда действовал в толпе, где все внимание было приковано к его жертве и многочисленным репортерам. Или он внезапно выскакивал из-за угла, держа фотоаппарат в обеих руках так, что он закрывал его лицо, или делал снимок из машины, которая уезжала прежде, чем кто-либо успевал что-то предпринять. Были высказаны неуверенные впечатления: у него была борода, рот закрыт шарфом, он смуглый. Мистер Руби высказал предположение, что он никогда не надевает одну и ту же одежду дважды и всегда тщательно гримируется, но подкрепить эту идею ничем не мог.
— Какие действия, — спросил Аллейна мистер Реес, — вы бы посоветовали предпринять?
— Для начала: не подавать иск о клевете. Как думаете, можно ее от этого отговорить?
— Возможно, к утру она сама будет против. Никогда не знаешь наверняка, — сказал Хэнли, а потом встревоженно обратился к своему работодателю: — Простите, сэр, но я хотел сказать, что это в самом деле невозможно предугадать, не так ли?
Мистер Реес, не меняя выражения лица, просто взглянул на своего секретаря, который нервно умолк.
Аллейн вернулся к газете и повертел ее под разными углами в свете лампы.
— Я думаю, — сказал он, — не уверен, но думаю, что бумага оригинала была глянцевой.
— Я найду человека, который займется газетой, — сказал мистер Реес и обратился к Хэнли: — Свяжитесь с сэром Саймоном Марксом в Сиднее, — приказал он. — Или где бы он ни был. Найдите его.
Хэнли отошел к телефону, стоявшему в дальнем углу, и склонился над аппаратом в беззвучном разговоре.
— Если бы я занимался этим делом как полицейский, — продолжил Аллейн, — сейчас я бы попросил всех высказать ваши мысли относительно преступника, вытворяющего эти безобразные фокусы, если на минуту предположить, что фотограф и тот, кто состряпал это письмо — одно и то же лицо. Есть ли кто-то, кто, по вашему мнению, затаил достаточно глубокую злобу или обиду, чтобы она вдохновляла его на такие настойчивые и злобные атаки? У Соммиты есть враги?
— Есть ли у нее сотня чертовых врагов? — с жаром воскликнул мистер Руби. — Конечно, есть. Например, доморощенный баритон, которого она оскорбила в Перте, или хозяйка дома из высшего общества в Лос-Анджелесе, которая устроила в ее честь грандиозную вечеринку и пригласила на нее представителя королевской семьи, бывшего там проездом, чтобы познакомить с ней.
— И что пошло не так?
— Она не пришла.
— О боже.
— Уперлась в последний момент, потому что услышала, что деньги хозяйки дома происходят из Южной Африки. Мы сослались на внезапный приступ мигрени, и эта отговорка сработала бы, если бы она не пошла ужинать в ресторан «У Анджело», и пресса не написала бы об этом на следующее утро, приложив фотографии.
— Но ведь «Филин» действовал уже тогда, разве нет?
— Так и есть, — мрачно согласился мистер Руби. — Тут вы правы. Но враги! Мать честная!
— На мой взгляд, дело тут не во вражде, — сказал мистер Реес. — Это от начала и до конца прибыльная затея. Я убедился, что «Филин» может просить за свои фотографии любые деньги. Думаю, их появление в виде книги — лишь вопрос времени. Он нашел прибыльное дело, и если мы не поймаем его в процессе, то он будет извлекать прибыль до тех пор, пока публика проявляет к этому интерес. Все просто.
— Если он подделал письмо, — сказал Аллейн, — трудно понять, как он собирается извлечь из этого выгоду. Вряд ли он может признаться в подделке документов.
— Мне кажется, письмо было написано просто назло, — встрял в разговор Руперт Бартоломью. — Она тоже так считает — вы слышали, что она говорит. Что-то вроде жестокого розыгрыша.
Он сделал это заявление с вызовом, почти с видом собственника. Аллейн увидел, как мистер Реес несколько секунд сосредоточенно смотрел на молодого человека, словно тот внезапно привлек его внимание. Этот Бартоломью точно лезет в омут.
Хэнли выпрямился около телефона и сказал:
— Сэр Саймон Маркс, сэр.
Мистер Реес взял трубку и едва слышно заговорил. Остальные погрузились в тревожное молчание; они не желали выглядеть так, словно подслушивают, но при этом были не в состоянии найти тему для разговора друг с другом. Аллейн чувствовал на себе внимательный взгляд Руперта Бартоломью, который тот торопливо отводил каждый раз, когда встречался с Аллейном глазами. Он хочет меня о чем-то попросить, подумал Аллейн, и подошел к нему. Они оказались в стороне от остальных.
— Расскажите мне о своей опере, — попросил Аллейн. — Со слов нашего хозяина я составил себе лишь скудное представление, но, похоже, все это очень интересно.
Руперт пробормотал что-то вроде того, что он не очень-то в этом уверен.
— Но для вас, — продолжил Аллейн, — это, должно быть, очень важно? Если ее будет исполнять величайшее сопрано наших дней? По-моему, это большое и чудесное везение.
— Нет, не говорите так.
— Почему же? Нервничаете перед премьерой?
Бартоломью покачал головой. Боже правый, подумал Аллейн, еще немного, и он расплачется. Молодой человек пристально посмотрел на него и хотел уже было заговорить, но тут мистер Реес положил трубку и вернулся к остальным.
— Маркс займется газетой, — сказал он. — Если оригинал письма у них, он добьется, чтобы мы его получили.
— В этом можно быть уверенным? — спросил Руби.
— Разумеется. Он владеет всей группой и контролирует политику.
Они завели отрывочный и бессвязный разговор, и Аллейну их голоса стали казаться далекими и бесплотными. Эффектный кабинет заколыхался, его обстановка поплыла, предметы стали уменьшаться и блекнуть. Я сейчас засну стоя, подумал он, и едва взял себя в руки. Он обратился к хозяину:
— Если я ничем больше не могу помочь, то могу ли я удалиться? День был долгий, а поспать в самолете мне не особо удалось.
Мистер Реес был сама заботливость.
— Какие мы невнимательные! Конечно, конечно. — Он произнес подобающие случаю фразы: он надеется, что у Аллейнов есть все необходимое, предложил доставить им поздний завтрак прямо в комнату, пусть только позвонят, когда будут готовы. Впечатление было такое, будто он проигрывает где-то внутри себя записанную кассету. Он взглянул на Хэнли, и тот сразу подошел, готовый услужить.
— Мы в полном, невероятном блаженстве, — уверил их Аллейн, едва понимая, что говорит. Затем он обратился к Хэнли: — Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Обещаю не заснуть по дороге наверх. Спокойной всем ночи.
Он прошел через тускло освещенный холл, в котором маячила скульптура беременной женщины, смотрящей на него узкими глазами. Позади нее в камине тихо мерцал почти погасший огонь.
Проходя мимо гостиной, он услышал обрывки разговора: не больше трех голосов, как ему показалось, и ни один из них не принадлежал Трой.
И действительно, когда Аллейн добрался до их комнаты, то нашел ее крепко спящей в постели. Прежде чем присоединиться к жене, он подошел к окну с тяжелыми портьерами, раздвинул их и увидел совсем близко, внизу, озеро в лунном свете, протянувшееся в сторону гор словно серебряная равнина. Как неуместно и нелепо, подумал он, что эта кучка шумных, самовлюбленных людей с их самопровозглашенной роскошью и трагикомическими заботами, расположилась в сердце такой необъятной безмятежности.
Аллейн опустил портьеру и лег.
Он и Трой возвращались на землю в самолете мистера Рееса. Бесконечная дорога летела им навстречу. Ужасно далеко внизу грохотала река, и вода плескалась у борта катера. Он тихо опустился в нее и немедленно оказался на огромной глубине.
Глава 3. Репетиция
Трой спала крепким сном, а когда проснулась, обнаружила, что Аллейн уже встал и оделся, а комната залита солнечным светом.
— Никогда не думал, что тебя так трудно разбудить, — сказал он. — Сон у тебя глубокий, как само это озеро. Я попросил принести нам завтрак.
— Ты давно встал?
— Пару часов назад. В ванной полно всяких приспособлений. Струи воды бьют из таких мест, откуда их меньше всего ожидаешь. Я спускался вниз. Там ни души, кроме старого слуги, который посмотрел на меня так, будто я помешанный. Так что я вышел из дома и немного побродил вокруг. Трой, тут в самом деле необычайно красиво; так спокойно — озеро прозрачное, деревья не шелохнутся, все такое новое и свежее, и все же возникает чувство, что все кругом необитаемое и принадлежит к первобытной эпохе. Боже, — сказал Аллейн, потирая нос, — мне лучше не пытаться это описать. Давай расскажем друг другу, что происходило после вчерашнего кошмарного ужина.
— Мне нечего рассказать. Когда мы вас оставили, дива просто сказала голосом рокочущего вулкана: «Прошу извинить меня, дамы», и помчалась наверх. Я дала ей время исчезнуть и тоже поднялась наверх. Я едва помню, как добралась до кровати. А у тебя что?
Аллейн рассказал ей обо всем.
— Как по мне, — сказала Трой, — случись еще раз нечто столь же возмутительное, это ее окончательно сломит. Ее всю буквально трясло, словно у нее озноб. Она так дальше не выдержит. Ты не согласен?
— Вообще-то нет. Ты когда-нибудь видела, как два итальянца что-то обсуждают на улице? Яростные жесты, пронзительные крики, сверкающие глаза, лица близко друг к другу. Думаешь, что в любой момент начнется потасовка, и тут они без предупреждения начинают хохотать и хлопать друг друга по плечу в дружеском согласии. Я бы сказал, что она родом из чистокровных итальянских — возможно, сицилийских — крестьян, и совершенно не умеет сдерживаться. Добавь к этому склонность всех публичных исполнителей выходить из себя и закатывать истерики налево и направо, когда им кажется, что к ним проявили неуважение — и вот тебе портрет Ла Соммиты. Вот увидишь.
Но Трой успела лишь ошеломленно полюбоваться пейзажем за окном, на остальное ей не дали времени. Вместо этого мистер Реес повел ее и Аллейна осматривать дом, начав со студии, которая оказалась на том же этаже, что и их спальня. Рояли были для мистера Рееса мелочью, так что в студии тоже стоял рояль; Трой дали понять, что Соммита репетирует за ним, и что обладающий множеством талантов Руперт Бартоломью аккомпанирует ей, заменяя в этом качестве одну австралийскую даму. Она с изумлением обнаружила, что для ее удобства в комнате установили огромный мольберт изысканного дизайна и стол для рисования. Мистер Реес очень хотел знать, подойдут ли они. Трой так и подмывало спросить, были ли они куплены на распродаже или взяты напрокат, но она лишь сказала, что подойдут, хоть и была обескуражена их новизной. В комнате также был специальный подиум с прекрасной лаковой ширмой. Мистер Реес выразил некоторое неудовольствие по поводу того, что подиум недостаточно широк, чтобы на нем мог поместиться рояль. Трой, которая уже решила, что она хочет делать со своей моделью, сказала, что это неважно. Когда она сможет начать? Ей показалось, что мистер Реес ответил как-то уклончиво. Он сказал, что этим утром еще не говорил с мадам, но, насколько он понял, большая часть дня будет занята репетициями. Должен прибыть на автобусе оркестр. Они репетировали под регулярным присмотром приезжавшего к ним Бартоломью. Остальные гости ожидаются завтра.
Окно в студии было огромное, из витринного стекла. Из него открывался новый вид на озеро и горы. Прямо под ним к дому примыкало патио, а рядом с ним располагался бассейн; в нем и вокруг него можно было увидеть вчерашних гостей. Справа, отделенные от бассейна зарослями деревьев, располагались открытая площадка и ангар, в котором, по словам мистера Рееса, находился вертолет.
Мистер Реес заговорил о виде, уныло сообщив несколько фактов: он сказал, что озеро настолько глубокое в некоторых местах, что глубину его никогда не измеряли, и что этот регион знаменит ураганом, который местные называют «Россер» и который внезапно зарождается в горах, заставляет озеро бесноваться и является причиной многих несчастных случаев.
Он также сделал пару замечаний относительно потенциала для «развития», и Аллейн увидел, как на лице его жены появилось выражение ужаса и недоверия. К счастью, законодательные сложности касательно землевладения и ограничение на ввоз рабочей силы воспрепятствовали бы тому, что мистер Реес назвал «стоящим туристическим планированием», так что этим первобытным берегам не угрожала перспектива возникновения пристаней для яхт, многоэтажных отелей, быстроходных катеров, громкой музыки и залитых светом бассейнов. С дневной мошкой и ночными москитами можно справиться, считал мистер Реес, и Трой мысленно представила, как низко летящий самолет распыляет миллионы галлонов керосина над безупречной поверхностью озера.
Без всякого предупреждения на нее вновь навалилась усталость, и она почувствовала, что совершенно не способна вынести продолжительное путешествие по этому бесконечному особняку. Видя ее состояние, Аллейн спросил мистера Рееса, может ли он принести и распаковать ее инструменты. Тут же зашла речь о том, чтобы позвать «человека», но этого им удалось избежать. А потом «человек» все же появился — смуглый, похожий на итальянца мужчина, который принес их завтрак. Он принес также и сообщение для мистера Рееса. Мадам Соммита желает видеть его немедленно.
— Думаю, мне нужно этим заняться, — сказал мистер Реес. — В одиннадцать мы все встречаемся в патио, чтобы выпить. Надеюсь, вы оба к нам присоединитесь.
И на этом их оставили в покое. Аллейн принес и распаковал инструменты Трой. Он открыл ее старую, видавшую виды коробку с красками, развязал крепления на холстах, выложил ее альбом для набросков и целую коллекцию материалов, которые словно служили подписью, отмечавшей любое место, где Трой работала. Она сидела у окна, наблюдая за ним, и ей становилось лучше.
— Эта комната станет менее стерильной, — заметил Аллейн, — когда здесь запахнет скипидаром, на краях этого мольберта появятся пятна свинцовых белил, а на столе — полосы краски.
— Да, сейчас не скажешь, что она позвала меня поработать. С тем же успехом они могли развесить везде таблички «Руками не трогать».
— Когда начнешь, перестанешь это замечать.
— Думаешь? Может, ты и прав, — сказала Трой, приободрившись, и взглянула на компанию у бассейна. — Это нечто. Очень живые цвета, и обрати, пожалуйста, внимание на живот синьора Латтьенцо. Разве он не великолепен?
Синьор Латтьенцо растянулся на оранжевом шезлонге. На нем был зеленый банный халат; его полы разошлись в стороны на объемистом торсе, на котором он держал книгу в алой обложке. Он весь сиял.
Внезапно, словно почувствовав, что на него смотрят, он запрокинул голову, увидел Трой и Аллейна и энергично помахал им. Они помахали в ответ. Он по-итальянски красноречиво жестикулировал, и в конце послал Трой воздушный поцелуй сразу двумя руками.
— Ты пользуешься успехом, дорогая, — сказал Аллейн.
— Кажется, он мне нравится. Но боюсь, он довольно злобный. Я тебе не рассказала: он считает, что опера этого красивого молодого человека ужасна. Разве это не печально?
— Так вот в чем дело с парнем! — воскликнул Аллейн. — А он сам знает, что она никуда не годится?
— Синьор Латтьенцо считает, что это возможно.
— И все-таки они продолжают заниматься всем этим расточительством.
— Полагаю, она настаивает.
— А!
— Синьор Латтьенцо говорит, что Соммита глупа как пробка.
— В музыкальном смысле?
— Да. Но я так поняла, что и в общем смысле тоже.
— Похоже, тонкости отношения к хозяйке дома не слишком беспокоят синьора Латтьенцо.
— Ну, если говорить точнее, то полагаю, для него она не хозяйка дома. Она его бывшая ученица.
— Верно.
— Этот мальчик совсем не в своей стихии. Она поставила его в совершенно нелепое положение. Она чудовище, и я жду не дождусь, когда смогу выразить это на холсте. Чудовище, — повторила Трой со смаком.
— А его нет с остальными, — обратил внимание Аллейн. — Наверное, он озабочен приездом оркестра.
— Невыносимо думать об этом. Ты только представь себе: все эти важные музыкальные персоны собрались в одном месте, а он знает — если действительно знает — что это будет фиаско. И при этом будет дирижировать. Ты только представь себе!
— Ужасно. Его ткнут носом в его же промах.
— Нам придется при этом присутствовать.
— Боюсь, что так, дорогая.
Трой отвернулась от окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь тихо закрывается.
— Что такое? — быстро спросил Аллейн.
— Дверь. Кто-то только что ее закрыл, — прошептала Трой.
— Правда?
— Да. Правда.
Аллейн подошел к двери, открыл ее и посмотрел направо.
— Доброе утро. Вы случайно не Трой ищете?
Последовала пауза, а потом раздался голос Руперта Бартоломью — с австралийским акцентом, неровный и не очень хорошо слышный:
— О, доброе утро. Я… да… вообще-то… сообщение…
— Она здесь. Входите.
Он вошел, бледный и неуверенный. Трой поприветствовала его с сердечностью, которая ей самой показалась несколько преувеличенной, и спросила, для нее ли его сообщение.
— Да, — сказал он, — да, для вас. Она… то есть мадам Соммита… попросила меня передать, что ей очень жаль, но, если вы ее ожидаете, то она не может… Она боится, что не сможет позировать вам сегодня, потому что…
— Из-за репетиций и всего прочего? Разумеется. Я и не ожидала, что мы начнем сегодня; вообще-то, я и сама бы этого не хотела.
— О! Да. Понимаю. Тогда хорошо. Я передам ей.
Бартоломью сделал движение к двери, но заметно было, что ему хочется остаться.
— Садитесь, — сказал Аллейн, — если вы, конечно, не спешите. Мы надеялись, что кто-нибудь… что вы, если у вас есть время, расскажете нам немного подробнее о завтрашнем вечере.
Он развел руками, словно хотел зажать ими уши, но спохватился и спросил, не против ли они, если он закурит. Он достал портсигар — золотой, украшенный драгоценными камнями.
— Желаете? — обратился он к Трой, а когда она отказалась, повернулся к Аллейну.
Открытый портсигар выпал из его неуверенной руки. Бартоломью извинился с таким видом, будто его застукали за кражей в магазине. Аллейн поднял портсигар. На внутренней стороне крышки располагалась уже знакомая ему размашистая подпись: Изабелла Соммита.
Бартоломью весьма неуклюже закрыл портсигар и закурил сигарету. Аллейн, словно продолжая начатый разговор, спросил у Трой, куда поставить мольберт. Они разыграли импровизированный спор по поводу освещения и бассейна как темы для картины. Это дало им обоим возможность выглянуть в окно.
— Очень трудный предмет, — сказала Трой. — Не думаю, что я этим займусь.
— Думаешь, лучше мастерски побездельничать? — весело спросил Аллейн. — Может, ты и права.
Они отвернулись от окна и увидели, что Руперт сидит на краю подиума для модели и плачет.
Он обладал настолько поразительной мужской физической красотой, что в его слезах было что-то нереальное. Они лились по идеальным чертам его лица и были похожи на капли воды на греческой маске. Зрелище было печальное, но при этом нелепое.
— Дорогой мой, в чем дело? — спросила Трой. — Не хотите поговорить? Мы не станем об этом распространяться.
И он заговорил. Сначала бессвязно, то и дело прерывая свою речь извинениями: им незачем все это выслушивать; он не хочет, чтобы они думали, будто он навязывается; наверное, это им неинтересно. Бартоломью вытер слезы, высморкался, глубоко затянулся сигаретой и заговорил яснее.
Сначала он просто заявил, что «Чужестранка» никуда не годится, что он осознал это совершенно внезапно, и абсолютно в этом убежден.
— Это было ужасно. Я делал коктейли и вдруг, ни с того ни с сего, я понял. Ничто теперь не изменится: опера дрянь.
— А представление в тот момент уже обсуждалось? — уточнил Аллейн.
— У нее все было спланировано. Это должен был быть… ну, большой сюрприз. А самое отвратительное, — сказал Руперт, и его поразительно красивые голубые глаза расширились от ужаса, — я ведь считал, что все просто потрясающе. Как в сентиментальном фильме про то, как юный гений добивается успеха. Я был, как бы это сказать… в эйфории.
— Вы сразу ей об этом сказали? — спросила Трой.
— Нет, не сразу. Там были еще мистер Реес и Бен Руби. Я был… Понимаете, я был так раздавлен, или что-то вроде того. Я подождал, — сказал Бартоломью и покраснел, — до вечера.
— Как она это восприняла?
— Никак. То есть она просто не стала меня слушать. Она просто отмахнулась от моих слов. Она сказала… О боже, она сказала, что у гениев всегда случаются такие минуты — минуты, как она выразилась, божественного отчаяния. Она сказала, что у нее такое бывает. По поводу ее пения. А потом, когда я стал настаивать, она… ну, она очень рассердилась. И вы понимаете — у нее были на это причины. Все ее планы и договоренности. Она написала Беппо Латтьенцо и сэру Дэвиду Баумгартнеру, договорилась с Родольфо, Хильдой и Сильвией и со всеми остальными. И пресса. Знаменитости. Все такое. Я какое-то время упирался, но…
Он умолк, бросил быстрый взгляд на Аллейна и опустил глаза.
— Было и кое-что другое. Все сложнее, чем кажется по моему рассказу, — пробормотал он.
— Взаимоотношения между людьми иногда бывают ужасно трудными, да? — сказал Аллейн.
— И не говорите! — пылко согласился Руперт и выпалил: — Я, должно быть сошел с ума! Или даже заболел. Как будто у меня была лихорадка, а теперь она прошла, и… Я выздоровел, и мне остается лишь ждать завтрашнего дня.
— Вы в этом уверены? — спросила Трой. — А труппа и оркестр? Вам известно их мнение? А синьор Латтьенцо?
— Она заставила меня пообещать, что я не покажу ему оперу. Не знаю, показывала ли она ее сама. Думаю, показывала. Он, конечно же, сразу понял, что опера ужасна. А труппа еще как об этом знает. Родольфо Романо очень тактично предлагает внести изменения. Я видел, как они переглядываются. Они умолкают при моем появлении. Знаете, как они ее называют? Они думают, что я не слышал, но это не так. Они говорят, что это пошлая банальщина. Ох, — воскликнул Руперт, — ей не следовало этого делать! Это нечестно: у меня не было никакой надежды. Ни малейшего шанса. Боже, и ведь она заставляет меня дирижировать! И я буду стоять перед этими знаменитостями, размахивать руками словно чертова марионетка, а они не будут знать куда глаза девать от неловкости.
Воцарилось долгое молчание, которое наконец нарушила Трой.
— Так откажитесь, — энергично сказала она. — Плевать на знаменитостей, на всю эту суету и поддельную славу. Это будет очень неприятно и потребует большого мужества, но, по крайней мере, это будет честно. И к черту их всех. Откажитесь.
Бартоломью встал. Перед тем как прийти сюда, он купался, и его короткий желтый халат распахнулся. Трой заметила, что кожа у него абрикосового оттенка, а не цвета темного загара, и не огрубевшая, как у большинства любителей солнца. Он и правда весьма лакомый кусочек. Неудивительно, что Соммита в него вцепилась. Бедняжка, да он просто экземпляр для коллекции.
— Не думаю, — сказал Руперт Бартоломью, — что я трусливее прочих. Дело не в этом. Дело в ней — в Изабелле. Вы ведь видели вчера, какой она бывает. А тут еще это письмо в газете… Послушайте, она либо сорвется и заболеет, либо впадет в бешенство и убьет кого-нибудь. Предпочтительно, чтобы это был я.
— Ой, да перестаньте!
— Нет, — сказал он, — это не глупости. Правда. Она ведь сицилийка.
— Не все сицилийки — тигрицы, — заметил Аллейн.
— Такие как она — тигрицы.
Трой поднялась:
— Оставлю вас с Рори. Думаю, тут потребуется мужской шовинистический разговор. Посплетничайте.
Когда она ушла, Руперт вновь принялся извиняться. Что подумает о нем миссис Аллейн!
— Даже не думайте об этом беспокоиться, — сказал Аллейн. — Ей вас жаль, она не шокирована и, уж конечно, вы ей не докучаете. Я думаю, она права: как бы это ни было неприятно, вам, возможно, следует отказаться. Но боюсь, решение это придется принимать только вам, и никому другому.
— Да, но вы не знаете самого худшего. Я не мог говорить об этом при миссис Аллейн. Я… Изабелла… Мы…
— Вы любовники, так?
— Если это можно так назвать, — пробормотал Руперт.
— И вы думаете, что если выступите против нее, то вы ее потеряете? Дело в этом?
— Не совсем. То есть, конечно, я думаю, она меня вышвырнет.
— Это было бы так уж плохо?
— Это было бы чертовски хорошо! — выпалил он.
— Ну, тогда…
— Я не жду, что вы меня поймете. Я сам себя не понимаю. Сначала это было чудесно, просто волшебно. Я чувствовал себя способным на что угодно. Прекрасно. Бесподобно. Слышать, как она поет, стоять за кулисами театра, видеть, как две тысячи человек сходят по ней с ума, и знать, что выходы на поклон, цветы и овации — это еще не конец, что для меня все самое лучшее еще впереди. Знаете, как говорят про гребень волны? Это было прекрасно.
— Могу себе представить.
— А потом, после того… Ну, после того момента истины по поводу оперы, вся картина изменилась. Можно сказать, то же самое случилось и в отношении нее. Я вдруг увидел, какая она на самом деле, и что она одобряет эту чертову провальную оперу, потому что видит себя успешно выступающей в ней, и что никогда, никогда ей не следовало меня поощрять. И я понял, что у нее нет настоящего музыкального вкуса, и что я пропал.
— Тем более это причина… — начал было Аллейн, но Руперт перебил его, закричав:
— Вы говорите мне то, что я и сам знаю! Но я влип. По самые уши. Подарки — как вот этот портсигар. Даже одежда. Потрясающая зарплата. Поначалу я настолько погрузился в… наверное, можно назвать это восторгом… что все это не казалось мне унизительным. А теперь, хоть я и вижу все в истинном свете, я не могу выбраться. Не могу.
Аллейн молча ждал. Руперт Бартоломью встал. Он расправил плечи, убрал в карман свой ужасный портсигар и издал нечто похожее на смех.
— Глупо, правда? — сказал он, сделав печальную попытку говорить легко. — Простите, что я вас побеспокоил.
— Вы знакомы с сонетами Шекспира?
— Нет. А что?
— Есть один очень известный его сонет, который начинается со слов «Издержки духа и стыда растрата — вот сладострастье в действии»[16]. Думаю, это самое потрясающее описание ощущения деградации, которое сопровождает страсть без любви. По сравнению с ним La Belle Dame Sans Merci[17] — просто сентиментальный вздор. В этом и есть ваша беда, так ведь? С имбирного пряника облезла позолота, но съесть его все равно неудержимо хочется. И поэтому вы не можете решиться на разрыв.
Руперт сцепил кисти рук и кусал костяшки пальцев.
— Можно и так сказать, — ответил он.
Последовавшее за этим молчание нарушил внезапный гул голосов в патио внизу: восклицания, звуки, сопровождающие чей-то приезд, и безошибочно различимые музыкальные вскрики, которыми Соммита выражала приветствие.
— Это музыканты, — пояснил Бартоломью. — Я должен спуститься. Нам нужно репетировать.
К полудню усталость Трой, вызванная сменой часовых поясов, начала постепенно проходить, а с ней стало исчезать и ощущение нереальности окружающего. На смену этим чувствам пришло знакомое беспокойство, и, как всегда, оно выразилось в сильном желании взяться за работу. Они с Аллейном обошли остров и обнаружили, что, если не считать вертолетной площадки и похожего на лужайку пространства перед фасадом с деревьями-часовыми, практически весь остров был занят домом. Умелый архитектор оставил небольшие участки девственного леса там, где они доставили бы гуляющим наибольшее удовольствие. Если подходить к дому спереди, от озера, то лес и сам дом помогали скрыть столб, провода от которого тянулись через озеро к поросшей деревьями отмели, вдававшейся в озеро на дальнем конце острова.
— Давай пока не будем думать, во что все это обошлось, — сказала Трой.
Они пришли к бассейну к одиннадцати часам. Там уже подавали напитки. В это же время прибыли два или три гостя и квартет музыкантов, которые оказались участниками Регионального оркестра Южного острова. Руперт старательно представил остальным гостям музыкантов — трех мужчин и одну даму, державшихся вместе и явно испытывавших благоговейный страх. Соммита, одетая в блестящий гладкий купальник, тактично прикрытый туникой, побеседовала с ними очень de haut en bas[18], а потом завладела Аллейнами, в особенности Трой: крепко взяв ее за руку, она подвела ее к двухместному дивану под балдахином и не отпустила ее руку даже после того, как они сели. Трой все это казалось ужасно неловким, но, по крайней мере, это дало ей возможность заметить выраженно асимметричное строение лица Соммиты: расстояние между углами тяжелого рта и уголками горящих глаз было больше с левой стороны. Верхняя губа была чуть темнее и слегка отличалась цветом от нижней. Для Кармен лучшего лица и не придумаешь, решила Трой.
Соммита говорила об ужасном письме и подделанной фотографии, о том, что эти происшествия с ней сделали, и как ее потрясло то, что деятельность этого мерзкого фотографа — ибо за всем этим стоит именно он — докатилась и до Новой Зеландии и даже до острова, на котором она наконец-то почувствовала себя в безопасности от его преследований.
— Но ведь это всего лишь газета, — заметила Трой. — Ведь его самого здесь нет. Вы не думаете, что теперь, когда ваши выступления в Австралии закончились, он вполне мог отправиться в свою родную страну, где бы она ни была? Может быть, это письмо было его последней попыткой? Вы уехали, он больше не мог вас фотографировать и поэтому состряпал это письмо.
Соммита так долго и пристально смотрела на нее, что Трой начала испытывать неловкость; потом сжала ее пальцы и отпустила ее руку. Трой не знала, как следует понимать этот жест.
— Но, — сказала Соммита, — мы ведь должны поговорить о вашей живописи, разве нет? И о портрете. Мы начнем послезавтра, да? И я надену свое алое платье с декольте, которое вы еще не видели. Оно от Ив Сен-Лорана, и оно сенсационное. А поза — вот такая.
Она вскочила, закинула роскошную правую руку за голову, левую ладонь положила на бедро, откинула голову назад и в духе испанских танцовщиц мрачно уставилась на Трой из-под нахмуренных бровей. Эта поза щедро открывала взору ее фасад и обличала всю лживость намеков на пластическую хирургию.
— Думаю, — сказала Трой, — эту позу будет трудновато сохранять. И если можно, я хотела бы сделать несколько рисунков в качестве разминки. Без позирования. Просто небольшие наброски. Вот если бы мне можно было незаметно находиться рядом и набросать кое-что углем.
— Да? А! Хорошо. Сегодня днем будет репетиция. Это будет только подготовка к вечерней генеральной репетиции. Вы можете присутствовать. Но должны быть очень незаметны, вы понимаете?
— Идеально. Это мне отлично подходит.
— Мой бедный Руперт, — внезапно провозгласила Соммита, снова вперив в Трой тот же тревожный взгляд, — нервничает. Он чувствителен, как истинный артист, у него творческий темперамент. Он натянут, словно скрипичная струна.
Она что-то подозревает, подумала Трой. Она пытается что-то у меня выведать. Черт.
— Могу себе представить.
— Уверена, что можете, — сказала Соммита с нажимом, который показался Трой более чем многозначительным. — Руперт, дорогой, — позвала она его, — если твои друзья готовы, то может, пора показать им…
Музыканты торопливо допили свои бокалы и объявили, что они готовы.
— Пойдемте! — пригласила Соммита, внезапно превратившись в само оживление и веселость. — Сейчас я покажу вам наш музыкальный салон. Кто знает, может, там вы, как и мы, найдете вдохновение. Мы также возьмем с собой нашего великого отгадчика, который спасет меня от моих преследователей.
Она потащила Трой к Аллейну и изложила ему это предложение. При этом она вела себя так, словно намекала на приятную возможность с его стороны попытаться соблазнить ее при первой же возможности.
— Так вы пойдете в салон, — спросила она, — чтобы услышать музыку?
Произнесенное бархатным голосом слово «музыка» было наполнено практически тем же смыслом, что и слово «фарфор» в «Деревенской жене»[19].
Трой поспешила за своим альбомом для набросков, углем и карандашом Конте[20]. Аллейн дождался ее, и они вместе пошли в музыкальный салон.
В комнату вели двойные двери, расположенные в дальней части главного холла. Как однажды заметил мистер Руби, она больше походила на небольшой концертный зал, чем на обычную комнату. Было бы утомительно вновь и вновь говорить о помпезности Уэйхоу Лодж; достаточно сказать, что один конец этой огромной комнаты занимала сцена, к которой вели три широкие ступени: сначала на авансцену, а потом на основную часть. На заднем плане симметрично располагались прекрасные колонны, обрамляющие занавешенные двери. Музыканты столпились у рояля, стоявшего в зрительном зале в углу авансцены. Они настраивали инструменты; выглядевший больным Руперт был с ними. Вошли певцы и сели рядом в зрительном зале.
В Соммите произошла перемена: теперь у нее был вид человека, находящегося в своей профессиональной среде и относящегося к этому серьезно. Она была погружена в беседу с Романо, когда вошли Аллейны. Она увидела их и указала им на стулья в середине зала. Затем сложила руки и встала лицом к сцене. Время от времени она сердито выкрикивала указания. Словно по указанию театрального режиссера, ее нашел луч света, проникший в открытое окно. Эффект был поразительный. Трой принялась рисовать.
Маленький оркестр заиграл, сначала неуверенно и с остановками, во время которых они консультировались с Рупертом Бартоломью, затем с другими солистами, повторяя отдельные пассажи и внося изменения. Наконец Соммита сказала:
— Возьмем арию, дорогой, — и вылетела на середину сцены.
Руперт стоял спиной к залу и лицом к музыкантам. Он по традиции задал им ритм. Они заиграли, но их остановила Соммита:
— Больше властности! Мы должны вступить словно лев. Еще раз.
Руперт мгновение подождал. Трой видела, что он сжал левую руку так сильно, что побелели костяшки. Он откинул голову назад, поднял правую руку и громко отбил ритм. Короткое вступление сыграли во второй раз гораздо более убедительно, и когда оно достигло чего-то вроде кульминации, весь мир наполнился одним-единственным звуком.
— Ах! — пропела Соммита. — А-а-ах! Какая радость здесь, какой покой и изобилие!
Поначалу невозможно было подвергнуть сомнению это великолепие — настолько поразительным был звук ее голоса, в столь полной мере она им владела. Аллейн подумал: возможно, не имеет значения, что именно она поет. Возможно, она могла бы петь «Пчела-а-а се-е-ла на сте-е-ну-у-у» и извлекать из этого чистую магию. Но прежде чем ария закончилась, он осознал, что, даже не будучи предупрежденным, понял бы, что в музыкальном смысле это не бог весть что. Ему показалось, что он может различить некоторые клише и банальности. А слова! Он считал, что в опере они не имеют особого значения, но ему пришло в голову, что более уместно было бы спеть «Какая радость здесь, какой покой и тривиальность!».
Трой сидела через два ряда от Аллейна, затаив дыхание и делая наброски углем. Он видел, как из-под ее руки появляются похожие на изгибы кнута линии, запрокинутая голова и широко открытый рот. Совсем не похоже, что Соммита зевает, подумал он, вспомнив об их шутке; сам рисунок пел. Трой вырвала лист из альбома и начала новый набросок. Теперь ее модель говорила с оркестрантами, жадно и с уважением слушавшими ее, и Трой изобразила их свойственной только ей графической скорописью.
Если Бартоломью был прав, считая, что музыканты обнаружили несостоятельность его музыки, то Соммита заставила их принять ее; интересно, подумал Аллейн, удастся ли ей все-таки пронести эту магию через все представление и сохранить лицо бедняги Руперта.
Вдруг на плечо Аллейна легла рука. Он повернул голову и увидел рядом с собой бесстрастное лицо мистера Рееса.
— Не могли бы вы выйти? — очень тихо спросил он. — Кое-что произошло.
Когда они выходили, Соммита и Родольфо Романо начали петь свой дуэт.
Слуга, который приносил Аллейнам завтрак, был в студии и выглядел встревоженным и виноватым.
— Это Марко, — сказал мистер Реес. — Он сообщил об инциденте, о котором, я думаю, вам следует знать. Расскажи старшему суперинтенданту Аллейну в точности то, что ты рассказал мне.
Марко слегка испугался, услышав чин Аллейна, но изложил свою историю вполне внятно, и в ходе рассказа, казалось, вновь обрел уверенность. Он бурно жестикулировал, как все итальянцы, но говорил почти без акцента.
Он рассказал, что его послали в вертолетный ангар, чтобы принести оттуда ящик привезенного накануне вина. Он вошел через боковую дверь, и, открыв ее, услышал какую-то возню в ангаре. Послышался безошибочный звук убегающих ног.
— Кажется, сэр, я сказал «Эй», или что-то в этом духе, когда открыл дверь пошире. Я успел увидеть мужчину в плавках, который выбегал из открытого конца ангара. Там не очень много места, когда там стоит вертолет. Мне пришлось оббежать вокруг хвоста, и когда я выбежал из ангара, этого человека уже не было.
— Ангар, разумеется, выходит на расчищенную площадку для взлета, — заметил Аллейн.
— Да, сэр. И окружен лесом. Удобный подход идет вокруг дома к фасаду. Я пробежал по нему футов шестьдесят, но там никого не было видно, и я вернулся и осмотрел подлесок. Он сильно разросся, и я сразу понял, что человек не мог пробраться через него, не наделав шума. Но ничего не было слышно. Я посмотрел кругом, на случай если он лег на землю, а потом вспомнил, что на противоположной стороне площадки есть еще одна тропа через кусты, которая ведет к озеру. И я пошел туда. Но результат тот же: ничего. То есть, сэр, — поправил себя Марко, и на его лице появилось выражение удовлетворения, если не самодовольства, — я говорю «ничего», но это не совсем правильно. Кое-что было. Лежало у тропы. Там было вот это.
С прекрасным умением выбрать момент он протянул руку. На раскрытой ладони лежала маленькая круглая крышка, то ли металлическая, то ли пластиковая.
— Используют для защиты линзы, сэр. Это от фотоаппарата.
— Не думаю, — сказал Аллейн, — что нам стоит делать скоропалительные тревожные выводы, но за этим, разумеется, нужно будет проследить. Полагаю, — сухо добавил он, — что все, касающееся фотографии — щепетильная тема в этом доме.
— И на то есть причины, — кивнул мистер Реес.
— Несомненно. Итак, Марко. Вы очень четко рассказали нам о том, что произошло, и вы, наверное, сочтете меня безосновательно требовательным, если мы пройдемся по вашему рассказу еще раз.
Марко развел руками.
— Тогда первое: этот мужчина. Вы уверены, что это не был один из гостей или кто-то из персонала?
— Нет, нет, нет, нет, нет, — быстро заговорил Марко, тряся из стороны в сторону пальцем, словно его ужалила оса. — Невозможно. Нет!
— Или, к примеру, рулевой катера?
— Нет, сэр. Нет! Никто из этого дома. Я уверен. Я готов поклясться.
— Волосы темные или светлые?
— Светлые. Он был без головного убора. Точно блондин.
— Обнаженный до пояса?
— Конечно. Разумеется.
— И у него даже фотоаппарат не был перекинут через плечо?
Марко закрыл глаза, соединил кончики пальцев и прижал их ко лбу. Он оставался в таком положении несколько секунд.
— Ну так что? — спросил мистер Реес с некоторым нетерпением.
Марко открыл глаза и разъединил пальцы.
— Он
