Камо грядеши бесплатное чтение
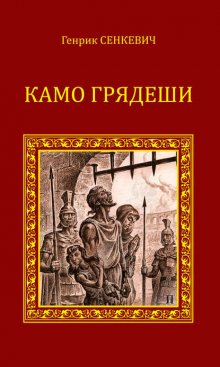
Глава I
Петроний пробудился лишь около полудня, и, как обычно, с ощущением сильной усталости. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся до глубокой ночи. Здоровье его в последнее время стало сдавать. Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одеревенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренняя ванна и растирание, которое усердно проделывали хорошо вышколенные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы, и из элеотезия[1], последнего отделения бань, он выходил будто воскресший — глаза сверкали остроумием и весельем, он снова был молод, полон жизни и так неподражаемо изыскан, что сам Отон не мог бы с ним сравниться, — истинный arbiter elegantiarum[2], как называли Петрония.
В общественных банях он бывал редко: разве что появится какой-нибудь вызывающий восхищение ритор, о котором идет молва в городе, или когда в эфебиях[3] происходили особенно интересные состязания. В усадьбе у Петрония были свои бани, которые Целер, знаменитый сотоварищ Севера[4], расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом, — сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани, хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью.
И после этого пира — на котором он, когда всем наскучило шутовство Ватиния[5], затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенеционом[6] спор, есть ли у женщины душа, — Петроний встал поздно и, по обыкновению, принял ванну. Два могучих бальнеатора[7] уложили его на покрытый белоснежным египетским виссоном[8] кипарисовый стол и руками, умащенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело — а он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика[9] и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость.
Но через некоторое время Петроний заговорил — открыв глаза, спросил о погоде, потом о геммах, которые обещал прислать ему к этому дню ювелир Идомен для осмотра… Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны Альбанских гор[10] и что геммы не доставлены. Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в тепидарий[11], но тут из-за завесы выглянул номенклатор[12] и сообщил, что молодой Марк Виниций, недавно возвратившийся из Малой Азии, пришел навестить Петрония.
Петроний распорядился провести гостя в тепидарий, куда перешел сам. Виниций был сыном его старшей сестры[13], которая когда-то вышла замуж за Марка Виниция, консула при Тиберии. Молодой Марк служил под началом Корбулона в войне против парфян[14], и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость, даже привязанность, — Марк был красивый юноша атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего.
— Приветствую тебя, Петроний! — воскликнул молодой человек, пружинистой походкой входя в тепидарий. — Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепий и Киприда[15], — ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло.
— Добро пожаловать в Рим, и пусть отдых после войны будет для тебя сладостен, — ответил Петроний, протягивая руку меж складок мягкого полотна, которым его обернули. — Что слышно в Армении и не случилось ли тебе, будучи в Азии, заглянуть в Вифинию?
Петроний был когда-то наместником Вифинии[16] и управлял ею деятельно и справедливо. Это могло показаться невероятным при характере этого человека, известного своей изнеженностью и страстью к роскоши, — потому он и любил вспоминать те времена как доказательство того, чем он мог и сумел бы стать, если б ему заблагорассудилось.
— Мне довелось побывать в Гераклее[17], — сказал Виниций. — Послал меня туда Корбулон с приказом собрать подкрепления.
— Ах, Гераклея! Знавал я там одну девушку из Колхиды[18], за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Поппеи. Но это давняя история. Лучше скажи, как дела там, у парфян. Право, наскучило уж слушать обо всех этих Вологезах, Тиридатах, Тигранах[19], об этих дикарях, которые, как говорит юный Арулен[20], у себя дома еще ходят на четвереньках и только перед нами притворяются людьми. Но теперь в Риме много о них говорят, верно потому, что о чем-нибудь другом говорить опасно.
— В той войне дела наши были плохи, и, когда бы не Корбулон, мы могли потерпеть поражение.
— Корбулон! Клянусь Вакхом! Да, он истинный бог войны, настоящий Марс, великий полководец, но вместе с тем запальчив, честен и глуп. Мне он симпатичен, хотя бы потому, что Нерон его боится…
— Корбулон отнюдь не глуп.
— Возможно, ты прав, а впрочем, это не имеет значения. Глупость, как говорит Пиррон[21], ничуть не хуже мудрости и ничем от нее не отличается.
Виниций начал рассказывать о войне, но, когда Петроний прикрыл глаза, молодой человек, глядя на его утомленное и слегка осунувшееся лицо, сменил тему разговора и стал заботливо расспрашивать о здоровье.
Петроний опять открыл глаза.
Здоровье!.. Нет, он не чувствует себя здоровым. Конечно, он еще не дошел до того, до чего дошел молодой Сисенна[22], который настолько отупел, что, когда его по утрам приносят в бани, он спрашивает: «Это я сижу?» И все же он нездоров. Виниций поручил его покровительству Асклепия и Киприды. Но он в Асклепия не верит. Неизвестно даже, чьим сыном был Асклепий — Арсинои или Корониды[23], — а если нельзя с уверенностью назвать мать, что уж говорить об отце! Кто нынче может поручиться, что знает даже собственного отца!
Тут Петроний рассмеялся, потом продолжал:
— Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр[24] три дюжины живых серых дроздов и чашу золотых монет, но знаешь почему? Я себе сказал так: поможет или нет — неизвестно, но не повредит. Если люди еще приносят жертвы богам, все они, думаю, рассуждают так, как я. Все! За исключением, может быть, погонщиков мулов, которые предлагают свои услуги путникам у Капенских ворот[25]. Кроме Асклепия, пришлось мне также иметь дело с его служителями — асклепиадами, когда в прошлом году у меня была болезнь мочевого пузыря. За меня тогда они совершали инкубацию[26]. Я-то знал, что они обманщики, но тоже сказал себе: чем это мне повредит! Мир стоит на обмане, и вся жизнь — мираж. Душа — тоже мираж. Надо все же иметь достаточно ума, чтобы отличать миражи приятные от неприятных. Я приказываю в моем гипокаустерии[27] топить кедровыми дровами, посыпанными амброй, ибо в жизни предпочитаю ароматы смраду. Что ж до Киприды, которой ты меня также поручил, я уже столько пользовался ее покровительством, что в правой ноге колотье началось. Впрочем, это богиня добрая! Полагаю, теперь и ты — раньше или позже — понесешь белых голубей на ее алтарь.
— Ты угадал, — молвил Виниций. — Стрелы парфян меня не тронули, зато ранила меня стрела Амура… и совсем неожиданно, в нескольких стадиях[28] от ворот города.
— Клянусь белыми коленами Харит![29] Ты расскажешь мне об этом на досуге, — сказал Петроний.
— Я как раз пришел спросить у тебя совета, — возразил Марк.
Но в эту минуту явились эпиляторы[30] и занялись Петронием, а Марк, сбросив тунику[31], вошел в бассейн с теплой водой — Петроний предложил ему искупаться.
— Ах, я и спрашивать не буду, пользуешься ли ты взаимностью, — сказал Петроний, глядя на юное, словно изваянное из мрамора тело Виниция. — Видел бы тебя Лисипп[32], ты был бы теперь украшением ворот Палатинского дворца[33] в образе статуи юного Геркулеса.
Молодой человек удовлетворенно улыбнулся и начал окунаться в бассейне, обильно выплескивая теплую воду на мозаику с изображением Геры[34], просящей Сон усыпить Зевса. Петроний смотрел на него глазами художника.
Но когда Марк вышел из бассейна и отдал себя в распоряжение эпиляторов, вошел лектор с висевшим у него на животе бронзовым футляром, из которого торчали свитки папируса.
— Хочешь послушать? — спросил Петроний.
— Если произведение твое, то с удовольствием! — ответил Виниций. — Но если не твое, лучше побеседуем. Поэты теперь ловят слушателей на каждом углу.
— Еще бы! Возле каждой базилики, возле терм, библиотеки или книжной лавки нельзя пройти, чтобы не встретить поэта, который жестикулирует, как обезьяна. Агриппа[35], когда приехал сюда с Востока, принял их за одержимых. Но такие нынче времена. Император пишет стихи, и все подражают ему. Не дозволяется только писать стихи лучше, чем император, и по этой причине я слегка опасаюсь за Лукана… Я-то пишу прозой — правда, не щадя ни самого себя, ни других. А лектор собирался нам читать «Завещание» бедняги Фабриция Вейентона[36].
— Почему бедняги?
— Потому что ему приказали сыграть роль Одиссея и не возвращаться к домашнему очагу до нового распоряжения. Эта «одиссея» окажется для него куда менее трудной, чем некогда для самого Одиссея, ибо его жена не Пенелопа. Словом, я не должен тебе говорить, что поступили глупо. Но у нас здесь ни о чем особенно не задумываются. Книжонка довольно дрянная и скучная, ее начали с увлечением читать лишь тогда, когда автора изгнали. Теперь же вокруг только и слышно: «Скандал! Скандал!» Возможно, Вейентон кое-что присочинил, но я-то знаю город, знаю наших отцов сенаторов и наших женщин и уверяю тебя, что все его выдумки меркнут перед действительностью. Ну, понятно, каждый в этой книге что-то ищет — себя со страхом, других с удовольствием. В книжной лавке Авирна сотня писцов переписывает ее под диктовку — успех обеспечен.
— Твои делишки там не описаны?
— Есть и они, но тут автор оплошал — на самом деле я и хуже, и не столь примитивен, как он меня изобразил. Видишь ли, мы тут давно утратили чувство того, что пристойно и что непристойно; мне самому уже кажется, что тут нет различия, хотя Сенека, Музоний[37] и Тразея притворяются, будто его видят. Мне на это наплевать! Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю! Но я все же превосхожу их кое в чем, я знаю, что безобразно и что прекрасно, а это, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, танцор и актер не понимает.
— Все же мне жаль Фабриция! Он славный товарищ.
— Его погубила собственная его любовь. Все это подозревали, никто не знал точно, но он сам не мог сдержаться и по секрету разбалтывал всем. Историю с Руфином слышал?
— Нет.
— Тогда перейдем во фригидарий[38], охладимся немного, и я тебе все расскажу.
Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Несколько минут оба молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам.
— Он поступает правильно, — сказал Марк. — Это лучшее, что есть в жизни.
— Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе — потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый[39] любит пенье, особенно свое собственное, а старик Скавр — свою коринфскую вазу[40], которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится. Уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?
— Нет, я ни разу не сочинил полного гекзаметра[41].
— И на лютне не играешь и не поешь?
— Нет.
— А колесницей правишь?
— Когда-то участвовал в ристаниях в Антиохии[42], но неудачно.
— Тогда я за тебя спокоен. А к какой партии на ипподроме ты принадлежишь?
— К зеленым.
— Тогда я совершенно спокоен, тем более что, хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Паллант или Сенека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку, но еще лучше, а главное, безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное — уметь восхищаться, когда все это делает Меднобородый. Ты красивый юноша — стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя влюбится Поппея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досыта насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты знаешь, этот дурак Отон до сих пор любит ее безумно. Бродит там по испанским скалам и вздыхает — он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает трех часов в день. Кто бы мог этого ожидать от нашего Отона?
— Я его понимаю, — возразил Виниций. — Но я на его месте поступал бы иначе.
— А именно?
— Я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев. Иберы — храбрые воины.
— Виниций, Виниций! Мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь, почему? Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят, даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Поппеей, смеялся над Меднобородым и сколачивал бы себе легионы — но не из иберов, а из ибериек. Ну, самое большее, писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина.
— Ты хотел рассказать его историю.
— Расскажу в унктории[43].
Но в унктории внимание Виниция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. Две из них, негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умащать тела господ тончайшими аравийскими благовонными маслами, другие, фригиянки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змеи, руках шлифованные стальные зеркала и гребни, еще две, прелестные, как богини, девушки — гречанки с острова Коса[44], вестиплики[45], ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки тог[46] на обоих мужчинах.
— Клянусь Зевсом Тучесобирателем! — сказал Марк Виниций. — Какой тут у тебя цветник!
— А я больше забочусь о качестве, чем о числе, — отвечал Петроний. — Вся моя фамилия[47] в Риме составляет не более четырехсот человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги.
— Пожалуй, и у Меднобородого нет таких прекрасных тел, — сказал, раздувая ноздри, Виниций.
Петроний на это ответил с любезной небрежностью:
— Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Басс[48], и не такой педант, как Авл Плавтий[49].
Виниций, однако, услыхав последнее имя, забыл на миг о девушках с Коса и, быстро взглянув на Петрония, спросил:
— Почему тебе вспомнился Авл Плавтий? Знаешь, подъезжая к городу, я сильно разбил себе руку и провел в его доме больше десяти дней. Когда со мной это случилось, Плавтий как раз проезжал по дороге, он увидел, что мне худо, и забрал меня к себе; там его раб, лекарь Мерион, вылечил меня. Именно об этом я и хотел с тобою поговорить.
— Чего это вдруг? Не влюбился ли ты случайно в Помпонию? Тогда мне тебя жаль: она немолода и добродетельна! Худшего сочетания не могу себе представить. Бр-р!
— Не в Помпонию, увы! — ответил Виниций.
— Тогда в кого же?
— Если б я сам знал в кого! Но я даже не знаю точно ее имени — Лигия или Каллина? В доме ее называют Лигией, потому что она из народа лигийцев[50], и у нее есть свое варварское имя: Каллина. Странный дом у этих Плавтиев! Народу много, а тишина, как в лесах Сублаквея[51]. Более десяти дней я не знал, что там живет богиня. Но раз на заре я увидел, как она умывалась у фонтана в саду. И клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари пронизывали ее тело насквозь. Мне думалось, когда взойдет солнце, она растворится в его свете, как исчезает из глаз утренняя звезда. С той поры я ее видел еще два раза, и с той поры, поверь, я не знаю другого желания, мне не в радость все утехи города, я не хочу женщин, не хочу золота, не хочу коринфской бронзы, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни пиров, хочу только Лигию. Говорю тебе, Петроний, чистосердечно, я тоскую по ней, как тосковал Сон, изображенный на мозаике в твоем тепидарии, по Пасифее[52], тоскую днем и ночью.
— Если она рабыня — купи ее.
— Она не рабыня.
— Кто же она? Вольноотпущенница Плавтия?
— Она никогда не была невольницей и не могла быть отпущена на волю.
— Так кто же она?
— Сам не знаю — царская дочь или что-то в этом роде.
— Ты пробудил мое любопытство, Виниций.
— Но если тебе будет угодно меня выслушать, я его быстро удовлетворю. История не слишком длинная[53]. Ты, возможно, был знаком с Ваннием, царем свебов[54], — народ его изгнал, он долго жил в Риме и даже прославился удачливой игрой в кости и счастливой судьбой. Цезарь Друз[55] вернул ему трон. По сути, Ванний был человеком твердым, вначале он правил неплохо и воевал успешно, но потом начал слишком ретиво грабить не только соседей, но и своих свебов. Тогда Вангион и Сидон, два его племянника, сыновья его сестры и Вибилия, царя гермундуров[56], решили вынудить его опять отправиться в Рим… искать счастье в игре.
— А, помню, это было при Клавдии, совсем недавно.
— Вот-вот. Началась война. Ванний призвал на помощь язигов[57], а его любезные племяннички — лигийцев, которые, прослышав о богатствах Ванния и надеясь на жирную добычу, явились с такими полчищами, что сам император Клавдий встревожился. Вмешиваться в войну варваров Клавдий не хотел, но все же написал Ателию Гистру, командовавшему придунайским легионом[58], чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не позволил нарушить наш покой. Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить границу, на что они не только согласились, но еще дали заложников, среди которых были жена и дочь их вождя. Ты же знаешь, варвары отправляются на войну с женами и детьми. Так что моя Лигия — дочь того вождя.
— Откуда ты все это знаешь?
— Мне рассказал сам Авл Плавтий. Лигийцы тогда действительно границу почти не нарушали, но ведь варвары налетают, как буря, и, как буря, исчезают. Так исчезли и лигийцы с турьими рогами на головах. Свебов и язигов Ванния они разбили, но их царь погиб, и они ушли с добычей, а заложники остались во власти Гистра. Мать вскоре умерла, дочку Гистр, не зная, что с нею делать, отослал правителю всей Германии Помпонию. Закончив войну с хаттами[59], Помпоний возвратился в Рим, где Клавдий, как тебе известно, разрешил ему триумфальные почести. Девушка шла за колесницей победителя, но когда торжества кончились, Помпоний тоже не знал, что с нею делать, — ведь заложницу нельзя было считать пленницей, — и в конце концов отдал ее своей сестре, Помпонии Грецине, жене Плавтия. В этом доме, где всё, начиная с господ и кончая птицей в курятнике, преисполнено добродетели, девушка выросла, увы, столь же добродетельной, как сама Грецина, и стала такой красавицей, что даже Поппея рядом с нею выглядела бы, как осенняя фига рядом с яблоком Гесперид[60].
— Ну, и дальше что?
— Повторяю тебе, с той минуты, что я увидел ее у фонтана, увидел, как лучи солнца пронизывают насквозь ее тело, я без памяти влюбился.
— Выходит, она прозрачна, как медуза или как маленькая сардинка?
— Не шути, Петроний, а если тебя ввело в заблуждение то, что я так свободно говорю о своем увлечении, знай, что под нарядным платьем часто скрываются глубокие раны. Еще должен тебе сказать, что по пути из Азии я провел одну ночь в храме Мопса[61], надеясь получить оракул. И вот во сне мне явился сам Мопс и изрек, что в моей жизни произойдет большая перемена вследствие любви.
— Слыхал я, как Плиний говаривал[62], что не верит в богов, но верит в сны, и, возможно, он прав. Несмотря на все мои шутки, я и сам временами думаю, что существует лишь одно вечное, всемогущее, творящее божество — Венера Родительница. Она соединяет души, соединяет тела и предметы. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо ли он поступил, это другой вопрос, но раз уж так случилось, мы должны признать его могущество, хотя можем и не благословлять его.
— Ах, Петроний, куда легче услышать философское рассуждение, чем добрый совет.
— Но скажи, чего ты собственно хочешь?
— Хочу получить Лигию. Хочу, чтобы вот эти мои руки, которые сейчас обнимают только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Будь она рабыней, я бы дал за нее Авлу сотню девушек, у которых ноги выбелены известью в знак того, что они в первый раз выставлены на продажу. Хочу иметь ее у себя в моем доме до тех пор, пока голова моя не побелеет, как вершина Соракта[63] зимою.
— Она не рабыня, но все-таки принадлежит к фамилии Плавтия, а поскольку она покинутое дитя, ее можно считать воспитанницей. Если бы Плавтий захотел, он мог бы тебе ее уступить.
— Ты, наверно, не знаешь Помпонии Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней, как к родной дочери.
— Помпонию я знаю. Уныла, как кипарис. Не будь она женою Авла, ее можно было бы нанимать в плакальщицы. Со дня смерти Юлии она не снимает темной столы[64], и вообще вид у нее такой, будто она уже при жизни бродит по лугам, где растут асфодели[65]. Вдобавок она — одномужняя жена, а стало быть, среди наших женщин, разводившихся по четыре-пять раз, истинный феникс. Да, слышал ты, будто в Верхнем Египте недавно вылупился из яйца феникс, что с ним случается не чаще чем раз в пятьсот лет?
— Ох, Петроний, Петроний, о фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз.
— Что же сказать тебе, милый мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, он, хотя и осуждает мой образ жизни, все же питает ко мне известную слабость, а может быть, даже уважает меня больше, чем других, зная, что я никогда не был доносчиком, как, к примеру, Домиций Афр[66], Тигеллин и вся свора дружков Агенобарба. Я не притворяюсь стоиком, а между тем порицал не раз такие поступки Нерона, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты считаешь, что я могу чего-нибудь добиться для тебя у Авла, — я к твоим услугам.
— Да, считаю, что можешь. Ты имеешь на него влияние, к тому же твой ум неисчерпаемо изобретателен. Если бы ты все это хорошенько обдумал и поговорил с Плавтием…
— У тебя преувеличенное представление о моем влиянии и изобретательности, но, коль дело только в этом, я поговорю с Плавтием, сразу как они приедут в город.
— Они вернулись вот уже два дня.
— В таком случае идем в триклиний, там нас ждет завтрак, а потом, подкрепившись, прикажем отнести нас к Плавтию.
— Я всегда тебя любил, — с живостью ответил на это Виниций, — но теперь, пожалуй, прикажу поставить твою статую среди моих ларов[67] — такую же прекрасную, как вот эта, — и буду приносить ей жертвы.
Говоря это, он повернулся к статуям, украшавшим целую стену наполненной благоуханием залы, и указал на статую Петрония в виде Гермеса с посохом в руке.
— Клянусь светом Гелиоса! — прибавил Марк. — Если «божественный» Александр[68] был схож с тобою, я не дивлюсь Елене.
В возгласе этом звучала не просто лесть, но искреннее восхищение, — хотя Петроний был старше и не столь атлетического сложения, он был красивее даже Виниция. Женщины в Риме восхищались его острым умом и вкусом, доставившим ему прозвище «арбитра изящества», но также его телом. Восхищение было заметно даже на лицах девушек с Коса, которые теперь укладывали складки его тоги и одна из которых, по имени Эвника, тайно в него влюбленная, смотрела ему в глаза покорно и восторженно.
Но Петроний на это не обращал внимания и, с улыбкой обернувшись к Виницию, начал цитировать ему в ответ сентенцию Сенеки о женщинах:
— «Animal impudens»[69], — и т. д.
Затем, обняв его за плечи, повел Марка в триклиний.
В унктории две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышалось тихое «тсс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадывался о них и Петроний, но, как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы.
Осталась в унктории одна Эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина.
Ункторий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены.
Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками; затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония.
Глава II
После угощенья, которое называлось завтраком и за которое оба друга уселись в час, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов — после полудня, однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на Форум[70] искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии[71] и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес.
Виниций не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на Палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул[72], но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ею руки и виски.
— Ты не поверишь, — сказал он, — как это освежает и бодрит. Теперь я готов.
Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин[73], поэтому кратчайший путь лежал ниже Форума; Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн.
Гиганты негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы-педисеквы[74]. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки — казалось, он о чем-то размышляет.
— Мне пришло в голову, — сказал он, — что, если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей.
Марк отрицательно покачал головой.
— Нет? — спросил Петроний. — На самый худой конец дело это будет представлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону.
— Ты не знаешь Лигии! — возразил Виниций.
— А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?
— Я видел ее сперва у фонтана, потом встречал еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей, — и с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином — и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказы о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Столон[75]. Вообще я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом, и нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке, она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на наши манипулы[76] шли с воем полчища парфян, но у той цистерны они задрожали. И я, смущенный, как мальчик, который еще носит буллу[77] на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить.
Петроний взглянул на него с легкой завистью.
— Счастливец! — сказал Петроний. — Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле, одно благо пребудет вечно — молодость!
Немного помолчав, он спросил:
— И ты с ней не заговорил?
— Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли, но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье. Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафранно-желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить, — и вдруг убежала, как гамадриада[78] от глупого фавна.
— У нее, наверное, красивые глаза?
— Глаза как море — и я утонул в них, как в море. Поверь, море Архипелага[79] не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавтия и стал что-то спрашивать. Но я не понимал, чего ему надо.
— О Афина! — воскликнул Петроний. — Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос, не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры. — И, снова обратясь к Виницию, продолжал: — О ты, весенний бутон на древе жизни, ты, первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для не знающих жизни мальчишек.
— Чего ты надо мною смеешься?
— А что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог бы понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки!
— Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, — сказал Виниций. — Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?
— Если что другое, я, пожалуй, не угадаю.
— Рыбу.
— Как ты сказал?
— Говорю, рыбу. Должно ли это было означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь, — не знаю! Но ты, назвавший меня весенним бутоном на древе жизни, — ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак?
— Дорогой мой! Об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается. Будь еще жив старик Апиций[80], он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь сказать — за свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе.
Но на этом беседа прервалась — их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. С Аполлоновой улицы они повернули на Римский Форум, где в погожие дни, перед заходом солнца, толпился праздный люд, чтобы побродить между колонн, рассказать и послушать новости, поглазеть на носилки с известными особами, посетить лавки ювелирные, книжные, меняльные, лавки с шелковым товаром, бронзовыми изделиями и всяческие другие, которых было превеликое множество в домах, окаймлявших часть Форума напротив Капитолия. Находившаяся у самых склонов Капитолийского холма половина Форума уже была погружена в тень, тогда как колонны храмов, расположенных выше, золотились в закатном свете на голубом небе. Колонны же, стоявшие внизу, отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, и так много было этих колонн, что взор терялся, как в лесу. Казалось, всем этим колоннам здесь тесно — они тянулись кто выше, разбегались направо и налево, взбирались вверх по склонам, прижимались к крепостной стене или друг к другу, похожие на древесные стволы, — одни повыше, другие пониже, толстые и тонкие, золотистые и белые, то расцветая под архитравами цветками аканта[81], то увенчанные ионическими закрученными рогами, то завершаясь простым дорическим квадратом. Над этим лесом блестели разноцветные триглифы, из тимпанов[82] выпячивались скульптурные фигуры богов, крылатые позолоченные квадриги, казалось, вот-вот взлетят с высоких кровель в воздух, в голубое небо, мирно осенявшее этот город бесчисленных храмов. Посреди Форума и по его окружности двигался людской поток: толпы людей проходили под арками храма Юлия Цезаря, другие сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса[83] или сновали вокруг небольшого святилища Весты[84], напоминая на фоне всего этого нагромождения мрамора рои разноцветных мотыльков или жуков. По гигантским ступеням, ведущим от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo»[85], спускались сверху все новые людские волны: у ростральной[86] трибуны слушали случайных ораторов, громко кричали торговцы фруктами, вином или водой, смешанной с соком смокв; тут были и шарлатаны, выхвалявшие чудодейственные снадобья, и предсказатели будущего, и угадчики зарытых кладов, и толкователи снов. Местами среди гомона и выкриков слышались звуки систра, египетской самбуки[87] или греческих флейт. Люди больные, благочестивые или чем-то озабоченные несли в храмы свои жертвы. На каменных плитах собирались, жадно клюя жертвенное зерно, стайки голубей, напоминавшие подвижные пестрые и темные пятна; они то вдруг с громким шумом крыльев взлетали в воздух, то опять опускались на не занятые людьми места. Время от времени толпа расступалась давая дорогу носилкам, из которых выглядывали холеные женские лица или лица сенаторов и всадников[88] с застывшим на них выражением равнодушия и пресыщенности. Разноязычная толпа громко повторяла их имена, прибавляя язвительные или хвалебные прозвища. Между беспорядочными группами кое-где проходили чеканным военным шагом отряды солдат или стражей, наблюдавших за порядком на улицах. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский.
Виниций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на Римский Форум, господствующий над миром и вместе с тем настолько затопленный его волнами, что Петроний, угадав мысль своего спутника, назвал Форум «гнездом квиритов[89] — без квиритов». И действительно, местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галлов и германцев, косоглазых серов[90], людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта[91] с черными, томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменной равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбоннской Галлии[92]. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздношатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал; были тут и пришлые свободные люди, привлеченные в огромный город легкой жизнью и возможностью разбогатеть; то и дело попадались на глаза разносчики мелкого товара, жрецы Сераписа[93] с пальмовыми ветвями в руках, и жрецы Исиды[94], на алтарь которой приносилось больше жертв, чем в храм Юпитера Капитолийского, и жрецы Кибелы[95] с золотистыми колосьями риса в руках, и странствующие жрецы, и восточные танцовщицы в ярких митрах, и продавцы амулетов, и заклинатели змей, и халдейские маги, и, наконец, множество людей без какого-либо занятия, которые каждую неделю приходили к зернохранилищам на берегу Тибра за своей долей зерна, дрались за лотерейные таблички в цирках, проводили ночи в часто обрушивавшихся домах квартала за Тибром, а теплые, солнечные дни — в крытых портиках, в грязных харчевнях Субуры[96], на Мульвиевом мосту или возле особняков богачей, где время от времени им выбрасывали объедки со стола рабов.
Петрония толпа хорошо знала. До слуха Виниция то и дело доносилось «Hic est!» — «Это он!» Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Педания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга[97]. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует и что говорил он с императором только как частное лицо, как «арбитр изящества», чье эстетическое чувство оскорбляла столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью.
Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии[98], предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубеллия Плавта[99], которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне: как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору[100] на уличных перекрестках и в перистилях, недостойны были в его глазах называться людьми.
Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле Педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора[101]. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться — выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Виницию.
— Это тебе подарок, — сказал он.
— Благодарю, — ответил Виниций. И, взглянув на название, спросил: — «Сатирикон»? Что-то новое. Чье произведение?
— Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина[102], чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Вейентона, — поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись.
— Ты сказал, что не пишешь стихов, — заметил Виниций, заглядывая в середину рукописи, — а тут, как я вижу, проза густо ими усеяна.
— Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона[103]. Что ж до стихов, они мне опротивели с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителлий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку, другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца, — я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их — коль не с чистой совестью, то с чистым желудком.
Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорись насчет гемм, велел нести себя прямо к Авлу.
— По дороге расскажу тебе историю Руфина как пример того, к чему приводит авторское тщеславие, — сказал он.
Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев и вскоре оказались у дома Авла. Молодой мускулистый привратник открыл им дверь в остий — первую прихожую, — над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие «Salve»[104].
Проходя из этой первой прихожей в атрий, Виниций сказал:
— Ты заметил, что привратник здесь без цепи?
— Странный дом, — вполголоса ответил Петроний. — Наверно, тебе известно, что Помпонию Грецину[105] подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла[106], которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. Унивира!..[107] Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика![108] Ее судили домашним судом.
— Ты прав, дом странный. Немного погодя расскажу тебе, что я тут слышал и видел.
Тем временем они пришли в атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый «атриенсис»[109], послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресла и скамеечки для ног. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние, и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением — атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся «имплувий», был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии, их было множество — и белых, и красных; обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна отлитая также из бронзы лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в атрии был мозаичный, стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью, в простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородства и уверенности в себе.
Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус; этой мыслью он тут же поделился с Виницием, но вот раб-веларий[110] отодвинул завесу, отделявшую атрий от таблиния[111], и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл.
Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, быть может, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника.
Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которой окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность — единственный повод его прихода, на который он отважился, памятуя о давнем знакомстве с Авлом.
Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, а что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петроний, наверно, и не догадывается.
Петроний и впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Виницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли.
— Я сердечно люблю и высоко ценю Веспасиана, — молвил Авл, — а ты спас ему жизнь, когда однажды, на свое несчастье, он заснул, слушая стихи императора.
— Напротив, то было его счастье, — возразил Петроний, — ибо он их не слышал, но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены.
— А ты, Петроний, тогда его высмеял.
— Да, верно, а точнее, наоборот, ему польстил: я сказал, что, ежели Орфей[112] умел песнею усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. Агенобарба можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа, Поппея, превосходно это понимает.
— К сожалению, такие ныне времена, — сказал Авл. — У меня недостает двух передних зубов, они выбиты камнем, брошенным рукою бритта, и с тех пор я говорю с присвистом, но в Британии я провел счастливейшие дни своей жизни…
— Потому что победоносные, — вставил Виниций.
Но тут Петроний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. Вот, говорят, в окрестностях Пренесты[113] крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны — дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями.
Выслушав эту новость, Авл сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного, стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны.
— Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик, — отвечал на это Петроний, — хотя живет в нем великий человек; мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде Проходного Дома[114], то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?
Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония — хотя ему несвойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.
— Дом этот старый, — сказал Плавтий, — и я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его.
После того как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину — через таблиний, через расположенный за ним перистиль[115] и следовавшую далее залу, или экус, взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.
— Ах, доблестный вождь, — сказал Петроний, — разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок.
— С удовольствием, — ответил, вставая, Плавтий. — Там играют в мяч сын мой Авл и Лигия. Что ж до смеха, Петроний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем.
— Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь, — отвечал Петроний, — но у вас тут смех звучит по-другому.
— Кроме того, — прибавил Виниций, — Петроний не то чтобы смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи.
Так беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи с земли и подавали играющим. Петроний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом, маленький Авл, увидев Виниция, подбежал с ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мячом в руке разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами.
Но так как в садовом триклинии, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грецина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петроний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал — встречал ее у Антистии, дочери Рубеллия Плавта, и в доме Сенеки, и у Поллиона[116]. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненная благородства осанка, движения, речь вызвали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпонии настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек, славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Виниции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина»[117], которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспиниллой, со Скрибонией, с Валерией, Солиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявлений благодарности Петроний перешел к упрекам — он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях, ее не встретишь ни в цирке, ни в амфитеатре, на что она, положив руку на руки мужа, спокойно ему отвечала:
— Мы стареем и оба все больше ценим домашнюю тишину.
Петроний хотел что-то возразить, но Авл Плавтий, говоря, как всегда, с легким присвистом, дополнил слова жены:
— И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами.
— Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами, — небрежно возразил Петроний, — а поскольку риторике нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести «Гера», чем «Юнона».
При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти ему на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости.
— О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни; кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает.
Это было сказано даже с долей искренности — Помпония Грецина, хотя и достигла послеполуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны, и, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины.
Между тем маленький Авл, подружившийся с Виницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в триклиний и Лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петронию красивее, чем при первом взгляде, и действительно напоминающей нимфу. Он встал, склонил перед нею голову и вместо обычных приветствий — а он ведь еще не сказал ей ни слова — обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал Навсикаю[118]:
- Руки, богиня иль смертная дева, к тебе простираю,
- Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба,
- То с Артемидою только, великою дочерью Зевса,
- Можешь сходна быть лица красотою и станом высоким;
- Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
- То несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны
- Братья твои…[119]
Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что ж до Лигии, та слушала его в смущении и, краснея, не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка, на лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить — и, видимо, это желание победило: глянув в упор на Петрония, она ответила ему словами Навсикаи, произнеся их единым духом, будто заученный урок:
- Странник, конечно, твой род знаменит: ты, я вижу, разумен.
После чего, быстро повернувшись, упорхнула, точно спугнутая птица.
Теперь пришел черед Петрония удивляться — он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от Виниция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала — в эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла.
Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии, как к родной дочери, и вдобавок, несмотря на свои древнеримские предрассудки, побуждавшие его метать громы и молнии против греческого влияния и его распространения в Риме, греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности. Сам Авл так и не овладел им, о чем втайне сокрушался, и теперь ему было приятно, что знатному гостю, да кстати и писателю, видимо считавшему его дом чуть ли не варварским, ответили на языке Гомера и его стихами.
— У нас в доме есть учитель-грек, — сказал он, обращаясь к Петронию, — он учит нашего мальчика, а девушка слушает. Она еще воробышек, но милый воробышек, и мы оба к ней привыкли.
Петроний смотрел сквозь переплетение плюща и каприфолии на игравшую в саду юную тройку. Виниций сбросил тогу и в одной тунике подбрасывал мяч, а стоявшая напротив него с поднятыми руками Лигия старалась мяч поймать. При первом взгляде девушка не произвела на Петрония большого впечатления. Она показалась ему слишком худощавой. Но, приглядевшись в триклинии поближе, он подумал, что, пожалуй, именно такой можно себе представить юную Аврору, — и как знаток женщин отметил в ней нечто необычное. Он все увидел и все оценил: и розовое, будто светящееся личико, и свежие, точно для поцелуя сложенные, губки, и голубые, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышные темные волосы, отливающие на извивах янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную линию плеч, и всю ее гибкую, тонкую фигуру, юную и свежую, как майский день, как только что распустившийся цветок. В нем пробудился художник и почитатель красоты, который почувствовал, что к статуе этой девушки можно было бы сделать надпись «Весна». Тут ему вдруг вспомнилась Хрисотемида, и он едва не рассмеялся вслух. С золотистой пудрой на волосах, с подведенными черною краской бровями, она показалась ему такой безнадежно увядшей, какой-то пожелтевшей, осыпающейся розой. А ведь из-за Хрисотемиды ему завидовал весь Рим. Затем он вспомнил Поппею — да, всеми восхваляемая Поппея, подумал он, похожа на бездушную восковую маску. А в этой девушке с фигурой танагрской статуэтки[120] дышит не только весна — в ней живет лучезарная Психея, светясь в ее розовом теле, как огонь светится в лампе.
«Виниций прав, — подумал Петроний, — а моя Хрисотемида стара, стара… как Троя!»
И, оборотясь к Помпонии Грецине, он указал рукою в сад.
— Теперь я понимаю, домина, — сказал он, — что, имея такую пару, вы предпочитаете быть дома, чем на пиру в Палатинском дворце или в цирке.
— Да, верно, — ответила Помпония, устремив взгляд на играющих Авла и Лигию.
А старый полководец начал рассказывать историю девушки и то, что когда-то слышал от Ателия Гистра о живущем на сумрачном севере народе лигийцев.
В саду тем временем закончили играть в мяч, и все трое стали прохаживаться по песчаным дорожкам, выделяясь на темном фоне миртов и кипарисов наподобие трех белых статуй. Лигия держала маленького Авла за руку. Немного погуляв, они уселись на скамью у бассейна в центре сада. Маленький Авл тут же вскочил с места и стал пугать рыбок в прозрачной воде. Виниций же продолжал разговор, начатый во время прогулки.
— Было так, — говорил он тихо, с дрожью в голосе. — Едва я снял претексту, меня отправили в азиатский легион. В городе я почти не жил — не изведал ни жизни, ни любви. Я знаю наизусть кое-что из Анакреонта и Горация[121], но не сумел бы, как Петроний, читать стихи, когда ум от удивления немеет и неспособен найти собственных слов. Мальчиком ходил я в школу Музония, который говорил нам: счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, — и потому зависит от нашей воли. Я же думаю, что есть другое, большее и более ценное счастье, которое не зависит от воли, ибо его может дать только любовь. Этого счастья сами боги ищут, вот и я, о Лигия, до сих пор не знавший любви, подражаю им и также ищу ту, которая пожелала бы дать мне счастье…
Он умолк, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Авл кидал камешки, пугая рыб. Наконец Виниций снова заговорил голосом мягким и приглушенным:
— Ты, конечно, знаешь Тита, сына Веспасиана? Говорят, он, едва выйдя из детского возраста, так полюбил Беренику[122], что любовная тоска чуть не высосала из него жизнь. И я бы сумел так полюбить, о Лигия! Богатство, слава, власть — все это дым, суета! Богатый встретит еще более богатого, славного затмит чужая, еще более великая слава, могучего одолеет более могучий. Но разве сам император или даже кто-либо из богов может испытывать большее наслаждение, быть счастливее, чем простой смертный в тот миг, когда у его груди дышит дорогая ему грудь или когда он целует любимые уста? Ведь любовь делает нас богоравными, о Лигия!
А она слушала с тревогой, с изумлением, но также и с упоением, как слушала бы звуки греческой флейты или кифары. Порою ей чудилось, будто Виниций поет какую-то дивную песнь, которая льется ей в уши, приводит в волнение кровь и наполняет сердце томлением, страхом и непонятной радостью. И еще ей чудилось, будто он говорит то, что было и раньше в ней самой, только она не могла это выразить. Казалось, он будит в ней что-то до сих пор спавшее, и в эту минуту туманные сновидения обретают контуры, все более отчетливые, манящие и притягивающие.
Между тем солнце уже давно передвинулось за Тибр и стояло низко над Яникулом[123]. Багряный свет падал на неподвижные кипарисы — им был пронизан воздух. Лигия подняла свои голубые, словно пробудившиеся от сна глаза на Виниция, и вдруг, в вечерних этих лучах, склонившийся над нею с мольбой во взоре, он показался ей прекраснее всех людей, всех греческих и римских богов, чьи статуи она видала на фронтонах храмов. А он, нежно взяв ее руку повыше запястья, спрашивал:
— Неужто ты не догадываешься, почему я говорю тебе это?
— Нет! — шепнула она так тихо, что Виниций едва расслышал.
Но он ей не поверил и все сильнее притягивал к себе ее руку — еще немного, и он привлек бы девушку к своей груди, в которой сердце стучало как молот от желания, разбуженного этим прелестным существом, и обратился бы к ней с жгучими словами страсти, если бы на окаймленной миртами дорожке не показался старик Авл.
— Солнце заходит, — молвил он, приближаясь к ним, — берегитесь вечерней прохлады и не шутите с Либитиной![124]
— О нет, — возразил Виниций, — я даже тоги не надел и холода не чувствую.
— Глядите, уже только половина солнечного диска видна из-за холмов, — отвечал старый воин. — Вот если бы у нас был мягкий климат Сицилии!.. Там по вечерам народ собирается на рынках, чтобы хоровыми напевами прощаться с заходящим Фебом.
И, позабыв, что сам только что пугал Либитиной, Авл начал рассказывать о Сицилии, где у него были поместья и большое, дорогое его сердцу земледельческое хозяйство. Не преминул он также заметить, что у него не раз появлялась мысль переехать на Сицилию и там спокойно доживать век. Зимний иней уже не радует того, кому зима убелила голову. Пока еще листья с деревьев не осыпались и над городом милостиво улыбается ясное небо, но, когда виноград пожелтеет, когда в Альбанских горах выпадет снег и боги нашлют на Кампанию пронзительные ветры, тогда, кто знает, не переселится ли он всем домом в свое уютное сельское имение.
— Ты бы хотел покинуть Рим, Плавтий? — с внезапной тревогой спросил Виниций.
— Желание такое у меня есть давно, — ответил Авл, — жизнь там спокойней и безопасней.
И он снова принялся расхваливать свои сады, стада, окруженный зеленью дом и поросшие тмином и чабрецом холмы, над которыми жужжат рои пчел. Но Виниция эти буколические картины не трогали, он думал лишь о том, что может потерять Лигию, и глядел туда, где сидел Петроний, точно от него одного ждал спасения.
А Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и стоявших у бассейна людей. Их белые одежды на темном фоне миртов золотились в закатных лучах. Западная часть неба окрасилась в пурпурные и фиолетовые тона, переливчатые, как опал. Остальная часть небосвода была сиреневого цвета. Черные силуэты кипарисов вырисовывались еще отчетливей, чем днем, — в людях, в деревьях, во всем саду воцарился вечерний покой.
Покой этот поразил Петрония, особенно покой в людях. От лиц Помпонии, старика Авла, мальчика и Лигии исходило нечто такое, чего он никогда не видел на тех лицах, которые его окружали каждый день, а вернее, каждую ночь, — в них были свет, умиротворенность и ясность, видимо, от той жизни, которую все они здесь вели. И с легким удивлением он подумал, что, оказывается, могут существовать красота и наслаждение, которых он, вечно ищущий красоты и наслаждения, не знает. Не в силах скрыть эту мысль, он сказал Помпонии:
— Я думаю о том, насколько отличается ваш мир от того мира, которым правит наш Нерон.
Она подняла свое небольшое лицо к закатному небу и ответила с удивительной простотой:
— Миром правит не Нерон, а бог.
Наступила минута молчания. Вблизи триклиния послышались шаги старого военачальника, Виниция, Лигии и маленького Авла, но, прежде чем они вошли, Петроний успел спросить:
— Значит, ты веришь в богов, Помпония?
— Верую в бога единого, справедливого и всемогущего, — отвечала жена Авла Плавтия.
Глава III
— Она верит в бога единого, всемогущего и справедливого, — повторил Петроний, уже снова сидя в носилках рядом с Виницием. — Если ее бог всемогущ, стало быть, он властен над жизнью и смертью; а если он справедлив, стало быть, ниспосылает смерть правильно. Так почему же Помпония носит траур по Юлии? Скорбя о Юлии, она ропщет на своего бога. Сие рассуждение мне надо бы повторить перед нашей меднобородой обезьяной — полагаю, что в диалектике я не слабее Сократа[125]. А что касается женщин, я согласен, что каждая из них обладает тремя или четырьмя душами, но ни у одной нет души разумной. Пусть себе Помпония рассуждает вместе с Сенекой или Корнутом[126] о том, что такое их великий Логос. Пусть себе призывают тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые в киммерийских пределах скучают[127], как чижи в клетке. Совсем о другом хотел я поговорить с нею и Плавтием. Клянусь священным лоном египетской Исиды! Но скажи я им так попросту, зачем мы явились, их добродетель, вероятно, зазвенела бы, как медный щит от удара палкой. И я не решился! Поверишь ли, Виниций, не решился! Павлины — красивые птицы, да кричат слишком пронзительно. Я убоялся крика. Но твой выбор я одобряю. Поистине «розовоперстая Аврора»[128]… И знаешь, что еще она мне напомнила? Весну! Причем не нашу здесь, в Италии, где лишь изредка увидишь яблоню в цвету и где оливковые рощи все такие же серые, как были зимою, но весну, которую я когда-то видел в Гельвеции[129], — юную, свежую, ярко-зеленую. Клянусь этой бледной Селеной[130], я тебе не удивляюсь, Марк, но ты должен знать, что влюбился в Диану[131] и что Авл и Помпония готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона[132].
Не подымая головы, Виниций с минуту помолчал, потом заговорил прерывающимся от волнения голосом:
— Я хотел ее и раньше, но теперь хочу еще больше. Когда я взял ее руку, меня обожгло огнем. Она должна быть моей. Будь я Зевсом, я бы окутал ее облаком, как он окутал Ио, или дождем на нее пролился, как он — на Данаю.[133] Я хочу целовать ее уста до боли! Хочу слышать ее стон в моих объятиях. Хочу убить Авла и Помпонию, а ее похитить и отнести на руках в мой дом. Сегодня я не буду спать. Прикажу наказывать какого-нибудь раба и буду слушать его вопли.
— Успокойся, — молвил Петроний, — у тебя прихоти, достойные плотника из Субуры.
— Ах, мне все равно. Она должна быть моей. Я обратился к тебе за помощью, но если ты не найдешь выхода, я сам его найду. Авл считает Лигию дочерью, почему же мне смотреть на нее как на рабыню? Уж если нет иного пути, пусть она обовьет пряжей дверь моего дома, смажет ее волчьим жиром и сядет у моего очага как жена.
— Успокойся, безумный потомок консулов. Не для того тащили мы варваров на веревках за нашими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Бойся всего окончательного. Прибегни сперва к простым, пристойным способам и оставь себе и мне время на размышление. Мне тоже Хрисотемида казалась дочерью Юпитера, а все же я на ней не женился — как и Нерон не женился на Акте, хоть ее сделали дочерью царя Аттала[134]. Успокойся. Подумай о том, что, коль она захочет ради тебя покинуть дом Авла, они не вправе ее удерживать, и знай, что не только ты пылаешь, но и в ней Эрос зажег огонь. Я это видел, а мне ты можешь верить. Имей терпение. Все можно преодолеть, но сегодня я уже и так слишком много думал, это меня утомило. Зато обещаю тебе завтра еще поразмыслить о твоей любви, и верь — Петроний не будет Петронием, если не найдет какого-нибудь выхода.
Оба помолчали. Но вот Виниций заговорил уже спокойнее:
— Благодарю тебя, и пусть Фортуна будет к тебе благосклонна.
— А ты будь терпелив.
— Куда ты приказал себя отнести?
— К Хрисотемиде.
— Счастливец, ты владеешь той, которую любишь.
— Я? Знаешь, что меня еще забавляет в Хрисотемиде? То, что она изменяет мне с моим же вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил, а теперь меня забавляют ее ложь и глупость. Пойдем к ней вдвоем. Если она начнет тебя завлекать и чертить тебе на столе буквы омоченным в вине пальцем, помни, что я не ревнив.
И он приказал нести их обоих к Хрисотемиде.
В прихожей Петроний, положив руку на плечо Виницию, вдруг сказал:
— Постой, мне кажется, я нашел способ.
— Да вознаградят тебя все боги!
— Да, да, конечно! Думаю, способ будет верный. Слышишь, Марк?
— Внимаю тебе, моя Афина.
— Так вот, через несколько дней божественная Лигия будет в твоем доме вкушать зерна Деметры[135].
— Ты могущественнее императора! — с восторгом воскликнул Виниций.
Глава IV
И Петроний обещание выполнил.
После посещения Хрисотемиды он, правда, целый день проспал, однако вечером приказал нести себя на Палатин, где у него состоялась доверительная беседа с Нероном, вследствие которой на другой день перед домом Плавтия появился центурион во главе отряда из полутора десятка преторианцев.
Время было смутное, страшное. Подобные гости бывали обычно и вестниками смерти. Поэтому с минуты, когда центурион ударил молотком в дверь Авла и смотритель дома доложил, что воины уже в прихожей, смятение воцарилось в доме. Вся семья окружила старого полководца — никто не сомневался, что опасность прежде всего грозит ему. Обвив руками шею мужа, Помпония судорожно прильнула к нему, ее посиневшие губы, быстро шевелясь, шептали что-то невнятное; Лигия с бледным как полотно лицом целовала его руку, маленький Авл цеплялся за тогу, а из коридоров, из комнат, расположенных в верхнем этаже и предназначенных для прислуги, из людской, из бань, из сводчатых нижних помещений, словом, со всех концов дома сбегались рабы и рабыни. Слышались возгласы: «Heu, heu, me miserum!»[136], женщины плакали в голос, некоторые, покрыв головы платками, уже царапали себе щеки.
Один только старый воин, издавна привыкший смотреть смерти в глаза, оставался невозмутим; лишь его небольшое, с орлиным профилем лицо словно окаменело. Довольно скоро он, успокоив рыдавших и приказав челяди удалиться, промолвил:
— Пусти меня, Помпония. Если пришел мой конец, у нас еще будет время проститься.
И он слегка отстранил ее.
— Дай бог, чтобы твоя судьба, — сказала она, — была также и моею, о Авл!
После чего, упав на колени, принялась молиться с таким жаром, какой придает лишь страх за дорогое существо.
Авл вышел в атрий, где его ждал центурион. Это был немолодой воин Гай Хаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войнам.
— Здравствуй, Авл, — произнес центурион. — Я принес тебе приказ и привет от императора — вот таблицы и знак, что я явился от его имени.
— Благодарю императора за привет, а приказ исполню, — ответил Авл. — Здравствуй, Хаста, говори же, с каким поручением ты пришел.
— Авл Плавтий, императору стало известно, что в твоем доме живет дочь царя лигийцев, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал во власть римлян в залог того, что лигийцы никогда не нарушат границ империи. Божественный Нерон благодарит тебя, Авл, за то, что ты столько лет давал ей приют у себя, но, не желая долее обременять твой дом, а также памятуя, что девушка, будучи заложницей, должна пребывать под опекой самого императора и сената, — приказывает тебе выдать ее мне.
Как бывалый воин и закаленный невзгодами муж, Авл не мог себе позволить, чтобы ответом на приказ были тщетные слова обиды или жалобы. Лишь складка гнева и скорби вдруг появилась на его челе. При виде этой складки дрожали некогда британские легионы — и даже в эту минуту на лице Хасты выразился испуг. Однако теперь Авл Плавтий, выслушав приказ, почувствовал свое бессилие. Поглядев на таблицы, на знак, он поднял взор на центуриона и уже спокойно сказал:
— Подожди, Хаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана.
После чего он пошел на другой конец дома, в залу, где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге и страхе.
— Никому не грозит ни смерть, ни ссылка на далекие острова, — сказал Авл, — и все же посланец императора — вестник горя. Дело идет о тебе, Лигия.
— О Лигии? — с изумлением воскликнула Помпония.
— Да, о ней, — ответил Авл и, обращаясь к девушке, продолжал: — Ты, Лигия, воспитывалась у нас в доме как родное наше дитя, и мы с Помпонией оба любим тебя как дочь. Но ты знаешь, что ты не наша дочь. Ты заложница, которую твой народ дал Риму, и опека над тобою возложена на императора. Посему император забирает тебя из нашего дома.
Полководец говорил спокойно, но каким-то странным, необычным голосом. Лигия слушала его слова, недоуменно моргая, точно не понимая, о чем речь; Помпония побледнела; в дверях, выходивших из залы в коридор, снова начали появляться взволнованные лица рабынь.
— Воля императора должна быть исполнена, — молвил Авл.
— О Авл! — воскликнула Помпония, обеими руками прижимая к себе девушку, как бы порываясь защитить ее. — Лучше бы ей умереть!
А Лигия, припав к ее груди, повторяла: «Матушка! Матушка!», не в силах среди рыданий вымолвить что-либо иное.
На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби.
— Будь я один на свете, — угрюмо произнес он, — я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертвы Юпитеру Освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, быть может, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага.
Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие, но, когда Лигия обратила к нему залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя:
— Прощай, радость наша, свет очей наших!
И он поспешил обратно в атрий, дабы не позволить волнению, недостойному римлянина и военачальника, овладеть его душой.
Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню, кубикул, и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же, в соседней горнице, еще помещались ларарий[137] и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древний обычай, приносил жертвы домашним богам. Да, пробил час испытания. Вергиний некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия[138]; еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор[139]. — «Но мы с тобою, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя руки!» Не вправе! Однако закон, которому обе они повинуются, закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище земля наша, но, к счастью, жизнь — это всего лишь миг, а воскресение ждет нас на том свете, где царит уже не Нерон, но Милосердие, — там вместо горя будет радость, вместо слез — веселье.
Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, еще не пролился на него луч света. И сына она не властна воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней и что может настать миг разлуки с ними, во стократ более страшной, непоправимой, чем эта, временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, — она и вообразить не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет господу — и ждет, верит, надеется. А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой — есть милосердие, которое сильнее его злобы.
И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее пеплума[140], долго молчала, но, когда наконец выпрямилась, лицо ее было уже более спокойно.
— Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубило бы вас всех. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда.
Она еще раз обвила руками шею Помпонии и, когда обе они вышли в экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком-греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами.
Один из них, высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией.
— О госпожа! — сказал он. — Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора.
— Ты слуга не наш, а Лигии, — возразила Помпония Грецина. — Но вряд ли тебя допустят во дворец. И каким образом сумеешь ты ее оберегать?
— Не знаю, госпожа, знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево…
Вошедший в эту минуту Авл Плавтий, узнав, о чем речь, не только не воспротивился желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать. Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить и ее свиту — та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпонии, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она, Помпония, сочтет уместным, — центурион не вправе отказаться взять их.
Для Лигии это было некоторым утешением, и Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку-горничную, двух кипрских девушек, искусных причесывальщиц, и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения — Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, — так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины.
Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущенницы Акты. Правда, на собраниях верующих в новое учение она Акту не встречала, но слышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послания Павла из Тарса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением.
Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту, и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец — напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощанья. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами, Авл еще раз положил руку на головку девушки, и минуту спустя воины, за которыми, пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец.
Старый полководец между тем приказал приготовить себе носилки и, уединившись с Помпонией в смежной с экусом пинакотеке, сказал:
— Выслушай меня, Помпония. Я отправляюсь к императору, хотя думаю, что понапрасну, и, хотя слова Сенеки уже для него не имеют веса, побываю также и у Сенеки. Ныне обладают влиянием Софроний, Тигеллин, Петроний, Ватиний… Что ж до императора, он, возможно, в жизни не слыхал о народе лигийцев и потребовал выдать Лигию как заложницу лишь потому, что кто-то его подговорил, а кто мог это сделать, угадать нетрудно.
Тут Помпония вскинула на него глаза.
— Петроний?
— Разумеется.
Оба они помолчали, затем старый воин продолжил:
— Вот что значит пустить в дом кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклят тот миг, когда Виниций ступил на порог нашего дома! Это он привел к нам Петрония. Горе нашей Лигии — ведь им нужна вовсе не заложница, а наложница.
И от гнева, от бессильной ярости и боли за отнятое дитя в его речи еще сильнее слышался присвист. Прошло несколько минут, пока он овладел своими чувствами, и лишь по его судорожно сжимавшимся кулакам можно было судить, сколь тяжкой была эта внутренняя борьба.
— До сих пор я чтил богов, — молвил он, — но сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один злобный, бешеный изверг, имя которому Нерон.
— О Авл! — вздохнула Помпония. — Пред богом Нерон — только горсть смрадного праха.
Муж ее начал расхаживать широкими шагами по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни было немало больших деяний, но больших несчастий не случалось, и к ним он не имел привычки. Старый воин был привязан к Лигии сильнее, чем сам думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что ее потерял. Вдобавок он чувствовал себя униженным. Им распоряжалась сила, которую он презирал, в то же время понимая, что против этой силы он ничто.
Когда ж ему наконец удалось подавить гнев, мутивший его мысли, он сказал:
— Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для императора, он вряд ли захотел бы рассердить Поппею. Стало быть — либо для себя самого, либо для Виниция… Сегодня же я это выясню.
Вскоре носилки его уже двигались по направлению к Палатину. А Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который все еще плакал по сестре и грозил императору.
Глава V
Авл не ошибся, полагая, что его не допустят пред лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пеньем с лютнистом Терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызвал сам. Это означало, что Авлу нечего пытаться и впредь увидеть Нерона. Зато Сенека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим почетом; выслушав, однако, о чем тот хлопочет, Сенека горько усмехнулся.
— Могу тебе оказать лишь одну услугу, добрый мой Плавтий, — никогда не открывать императору, что мое сердце сочувствует твоему горю и что я желал бы тебе помочь; если бы у императора появилось на этот счет хоть малейшее подозрение, поверь, он никогда бы не отдал Лигию, не имея для этого никаких иных поводов, кроме желания поступить мне назло.
Сенека также не советовал обращаться ни к Тигеллину, ни к Ватинию, ни к Вителлию. Возможно, с помощью денег от них удалось бы чего-то добиться, они, пожалуй, охотно бы сделали неприятное Петронию, чье влияние стараются подорвать, но уж наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога Лигия семье Плавтиев, и тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому:
— Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит! Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пеньем, декламацией, искусством править колесницей и его стихами! Как это ты не прославлял гибели Британника, не произнес похвальной речи в честь матереубийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии! Да, не хватает тебе, Авл, благоразумия, которым мы, счастливо при дворе живущие, обладаем в достаточной степени.
С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, зачерпнул воды в имплувии, освежил запекшиеся губы и продолжал:
— О, у Нерона благодарное сердце. Он любит тебя, потому что ты служил Риму и пронес славу его имени на край света, любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых Альбанских гор, и, чтобы ее отравить, пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело.
И это была правда. Сенека не обладал той силой духа, которой отличались, например, Корнут или Тразея, — поэтому его жизнь была рядом уступок перед злодейством. Он сам это чувствовал, он сознавал, что последователь принципов Зенона из Китиона[141] должен идти иным путем, и страдал от этого даже больше, чем от страха смерти.
Но старый воин прервал его полное горечи рассуждение.
— Благородный Анней, — сказал Авл, — я знаю, как тебе отплатил император за заботу, которою ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти — Петроний. Скажи мне, как на него подействовать, кто может оказать на него влияние. Но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне.
— Петроний и я, — отвечал Сенека, — мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать, он не поддается ничьим влияниям. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, — пустая трата времени: Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен, тогда он устыдится. При встрече я скажу ему: «Твой поступок достоин вольноотпущенника». Если это не поможет, ничто не поможет.
— И на том благодарствуй, — молвил старый военачальник.
После чего он приказал нести себя к Виницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Авл пришел в ярость, и, едва за учителем опустилась завеса, гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Виниций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Авл ни на мгновение не мог заподозрить его в соучастии. Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волною бросилась в лицо, глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство бушевали в его груди. Ему казалось, что если Лигия переступит порог императорского дворца, она для него навеки потеряна, а когда Авл произнес имя Петрония, в мозгу молодого воина молнией блеснуло подозрение, что Петроний над ним подшутил и либо хотел, доставив императору Лигию, снискать новые милости, либо намеревался удержать ее для себя. Чтобы кто-то, увидав Лигию, не пожелал тотчас ею завладеть, этого Виниций не мог себе представить.
Горячность, наследственная черта в его роду, понесла его, как взыгравший конь, и отняла способность рассуждать.
— Авл, — сказал он прерывающимся голосом, — возвращайся домой и жди меня. Знай, что если бы Петроний был моим отцом, я и то отомстил бы ему за Лигию. Возвращайся домой и жди меня. Она не будет принадлежать ни Петронию, ни императору.
И, подняв сжатые кулаки к стоявшим на полках в атрии восковым маскам, Виниций вскричал:
— Клянусь этими посмертными масками! Прежде я убью ее и себя.
Он быстро повернулся и, еще раз бросив Авлу: «Жди меня», — выбежал как безумный из атрия, спеша к Петронию и расталкивая по дороге прохожих.
Авл воротился домой несколько утешенный. Если Петроний, полагал он, убедил императора забрать Лигию, с тем чтобы отдать ее Виницию, то Виниций приведет ее обратно в их дом. Немалым утешением была также мысль, что если Лигию и не удастся спасти, она будет отомщена, и смерть защитит ее от позора. Видя ярость Виниция и зная о присущей всему его роду вспыльчивости, Авл был уверен, что юноша исполнит все, что обещал. Он сам, хоть и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы ее убить, чем отдать императору, и, когда бы не мысль о сыне, последнем потомке их рода, Авл совершил бы это, не колеблясь. Он был воином, о стоиках знал только понаслышке, но характером был не чужд им, и гордость его легче мирилась с мыслью о смерти, чем о позоре.
Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Виниция. Послышатся в атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, это Виниций ведет к ним любимое их дитятко, и в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было. Только вечером раздался стук молотка в ворота.
Минуту спустя появился раб и вручил Авлу письмо. Старый воин, обычно любивший показывать свое самообладание, взял табличку слегка дрожащей рукой и начал читать с такой поспешностью, точно речь шла о судьбе всего его дома.
Внезапно лицо его омрачилось, как будто упала на него тень быстро летящего облака.
— Читай, — сказал он, обращаясь к Помпонии.
Помпония взяла письмо и прочла следующее:
«Марк Виниций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, пред которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний».
Наступило долгое молчание.
Глава VI
Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить Виниция, влетевшего в атрий как вихрь; узнав, что хозяина надобно искать в библиотеке, он столь же стремительно помчался в библиотеку; Петроний что-то писал, Виниций выхватил у него из рук стиль[142], сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи, приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом:
— Что ты с нею сделал? Где она?
Но тут случилось нечто удивительное. Утонченный, изнеженный Петроний сжал впившуюся ему в плечо руку молодого атлета, оторвал ее от себя, затем оторвал другую и, держа их обе в своей одной с силою железных клещей, промолвил:
— Я только по утрам размазня, а вечером ко мне возвращается прежняя сила. А ну-ка, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, видно, обучал ткач, а манерам — кузнец.
На его лице не было и тени гнева, лишь в глазах мелькнула искорка былой отваги и энергии. Минута, и он выпустил руки Виниция, который стоял униженный, сконфуженный и разъяренный.
— Рука у тебя стальная, — сказал Виниций, — но, клянусь всеми богами ада, если ты меня предал, я всажу тебе нож в горло, пусть даже в палатах императора.
— Поговорим спокойно, — отвечал ему Петроний. — Как видишь, сталь сильней железа — хотя из одной твоей руки можно сделать две моих, мне тебя нечего бояться. Но я огорчен твоей грубостью, и, если бы меня могла еще удивлять неблагодарность человеческая, я удивился бы твоей неблагодарности.
— Где Лигия?
— В лупанарии[143], сиречь в доме императора.
— Петроний!
— Успокойся, сядь. Я высказал императору две просьбы, которые он обещал исполнить: во-первых, извлечь Лигию из дома Авла и, во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя там ножа в складках тоги? Может быть, проткнешь меня? Но я советую тебе подождать с этим день-другой, ведь тебя заточили бы в тюрьму, а Лигия тем временем скучала бы в твоем доме.
Виниций молча с изумлением смотрел на Петрония и наконец произнес:
— Прости меня. Я ее люблю, и любовь помутила мой разум.
— Восхищайся мною, Марк. Третьего дня я сказал императору следующее: «Мой племянник Виниций так влюбился в некую тщедушную девицу, которая воспитывается у Авла, что его дом от жарких вздохов уподобился паровой бане. Ни ты, император, сказал я, ни я, знающие, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерциев, но этот мальчишка всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел окончательно».
— Петроний!
— Если ты не понимаешь, что я сказал это с целью уберечь Лигию от опасности, я готов поверить, что сказал ему правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красавицей, и Нерон, который пока не решается смотреть на вещи иначе, чем моими глазами, не найдет в ней и следа красоты, а не найдя, не пожелает ею завладеть. Надо ведь было обезопасить обезьяну, посадить ее на веревочку. Лигию теперь будет оценивать не он, а Поппея, а уж та, бесспорно, постарается побыстрее спровадить ее из дворца. Я же, будто нехотя, говорил Медной Бороде: «Возьми Лигию у Авла и отдай ее Виницию! Ты имеешь на это право, потому что она заложница, а заодно досадишь Авлу». И он согласился. У него не было повода не согласиться, тем паче что я указал ему способ досадить порядочным людям. Тебя назначат государственным стражем заложницы, отдадут в твое распоряжение это лигийское сокровище, а ты как союзник доблестных лигийцев и вдобавок верный слуга императора не только не растратишь сокровище, но постараешься его приумножить. Для приличия император подержит ее несколько дней у себя во дворце, а потом отошлет в твой дом, ты счастливец!
— Это правда? Ей и в самом деле ничего не грозит во дворце?
— Если бы ей пришлось там жить постоянно, Поппея поговорила бы о ней с Лукустой[144]. Но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает десять тысяч человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более что он все доверил мне — недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку во дворец и передал ее Акте. Акта — добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грецина, кажется, такого же мнения об Акте, даже написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией.
— Прости мне, Гай, мою горячность, — сказал Виниций. — Я думал, ты приказал ее забрать для себя или для императора.
— Горячность я могу тебе простить, но куда труднее простить эти жесты мужлана, бесцеремонные крики и тон игроков в мору. Мне это не по душе, Марк, предупреждаю тебя. Знай, сводником при императоре служит Тигеллин, и еще знай, что пожелай я взять девушку себе, я бы сейчас, глядя прямо тебе в глаза, сказал бы следующее: «Виниций, я забираю у тебя Лигию и буду держать ее, пока она мне не наскучит».
Говоря это, он глядел своими глазами цвета орехового дерева в глаза Виницию, глядел холодно и надменно.
— Я виноват, — сказал молодой человек, вконец смущенный. — Ты добр, ты благороден, и я благодарю тебя от всего сердца. Позволь только задать еще один вопрос. Почему ты не приказал отвести Лигию прямо в мой дом?
— Потому что император хочет соблюсти приличия. В Риме будут об этом говорить, а так как Лигию мы забираем в качестве заложницы, то, пока будут идти разговоры, она поживет во дворце императора. Потом ее отошлют к тебе без шума, и делу конец. Меднобородый — трусливый пес. Он знает, что власти его нет пределов, и все же старается пристойно обставить каждый свой шаг. Ну как, остыл ты уже настолько, чтобы немного пофилософствовать? У меня не раз появлялась мысль — почему злодейство, даже у таких могущественных особ, как император, и, как он, уверенное в своей безнаказанности, всегда тщится соблюсти видимость справедливости и добродетели? К чему эти усилия? Убить брата, мать и жену — это, по-моему, деяния, достойные азиатского царька, а не римского императора; но, случись такое со мной, я бы не писал сенату оправдательных писем. А Нерон пишет — Нерон заботится о приличиях, потому что Нерон трус. Но вот Тиберий же не был трусом и тоже старался оправдаться в каждом своем поступке. Почему это происходит? Что за удивительная вынужденная дань, приносимая злом добродетели? И знаешь, что я думаю? Происходит такое, по-моему, оттого, что поступки эти безобразны, а добродетель прекрасна. Ergo[145], истинный эстет — тем самым добродетельный человек. Ergo, я — добродетельный человек. Сегодня я должен совершить возлияние теням Протагора, Продика и Горгия[146]. Оказывается, и софисты могут на что-то сгодиться. Но слушай, я продолжаю. Я отнял Лигию у Авла, чтобы отдать ее тебе. Это так. Лисипп создал бы из вас дивную скульптурную группу. Вы оба красивы, но ведь и мой поступок красив, а раз он красив, он не может быть дурным. Гляди, Марк, вот перед тобою сидит сама добродетель, воплощенная в Петронии! Живи теперь Аристид[147], он должен был бы прийти ко мне и наградить меня сотней мин[148] за краткую лекцию о добродетели.
Однако Виниций, как человек, которого действительность волнует больше лекций о добродетели, сказал:
— Завтра я увижу Лигию, а потом она будет жить в моем доме, и я буду видеть ее каждый день, всегда, до самой смерти.
— У тебя будет Лигия, а у меня — Авл, отныне мой злейший враг. Он призовет на мою голову месть всех богов подземного царства. И хотя бы этот дурень загодя взял урок декламации! Куда там! Он будет браниться так, как бранил моих клиентов бывший привратник, которого я, впрочем, за это отослал в деревню в эргастул[149].
— Авл был у меня. Я обещал сообщить ему, что узнаю о Лигии.
— Напиши ему, что воля божественного императора высший закон и что твой первенец будет наречен Авлом. Надо же чем-то утешить старика. Я готов просить Меднобородого, чтобы он пригласил Авла на завтрашний пир. Пусть бы старик увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.
— Не делай этого, — возразил Виниций. — Мне все-таки жаль их, особенно Помпонию.
И он сел писать то письмо, которое отняло у старого полководца последнюю надежду.
Глава VII
Перед Актой, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись знатнейшие головы Рима, но даже и тогда она не желала вмешиваться в публичную жизнь, и если порою пользовалась своим влиянием на молодого государя, то лишь для просьб о милосердии. Тихая, скромная, она снискала благодарность многих и не сделала своим врагом никого. Даже Октавия не сумела ее возненавидеть. Завистники не почитали ее опасной. Было известно, что Акта продолжает любить Нерона любовью печальной и страдальческой, которая питается уже не надеждой, но лишь воспоминаниями о тех днях, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но был лучше. Все знали, что к этим воспоминаньям прикованы ее душа и помыслы, но что она ничего уже не ждет, а так как можно было не опасаться, что император к ней вернется, на Акту смотрели как на вполне безобидное существо и не трогали ее. Для Поппеи она была лишь смиренной прислужницей, настолько безвредной, что она даже не требовала удалить Акту из дворца.
Но так как император когда-то ее любил и расстался с нею без оскорблений, спокойно, почти по-дружески, Акта продолжала пользоваться уважением. Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покои во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Паллант и Нарцисс, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за трапезу, но как могущественные его министры занимали почетные места, и Акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пира. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Были среди них сенаторы, но главным образом такие, которые заодно могли быть шутами. Были старые и молодые патриции, жаждавшие забав, роскоши и наслаждений. Бывали там женщины, носившие громкие имена, но не стыдившиеся надевать вечером белокурые парики и отправляться на поиски приключений в темных закоулках города. Бывали и высокие сановники, и жрецы, которые за полными чашами охотно насмехались над своими богами, а наряду с ними толпился всяческий сброд — певцы, мимы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали о сестерциях, что, возможно, им перепадут за восхваления стихов императора, голодные философы, провожавшие жадными взглядами подаваемые на стол блюда, наконец, прославленные возницы, фокусники, чудотворцы, краснобаи, остряки да всевозможные, модой или глупостью людской вознесенные знаменитости-однодневки, проходимцы, среди которых было немало прятавших под длинными волосами продырявленные уши рабов.
Более знаменитые прямо садились к столу, прочие развлекали пирующих во время еды, поджидая минуту, когда слуги разрешат им наброситься на остатки еды и напитков. Подобных гостей доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителлий, и частенько им приходилось позаботиться и о приличествующей императорским палатам одежде для всего этого сброда — впрочем, императору такое общество нравилось, в нем он чувствовал себя вполне непринужденно. Придворная роскошь все золотила, всему придавала блеск. Великие и ничтожные, потомки знатных родов и голытьба с римских мостовых, вдохновенные артисты и жалкие бездарности, все стремились во дворец, чтобы насладиться зрелищем ослепительной роскоши, превосходящей воображение человеческое, и приблизиться к подателю всяческих милостей, богатств и благ, прихоть которого могла, конечно, унизить любого, но также могла безмерно вознести.
В тот день предстояло и Лигии присутствовать на таком пиру. Страх, робость и понятная при столь резкой перемене ошеломленность противостояли в ее душе желанию воспротивиться насилию. Она боялась императора, боялась людей, боялась дворца, шум которого доводил ее до дурноты, боялась пиров, о бесстыдстве которых наслушалась от Авла, от Помпонии Грецины и их друзей. Несмотря на молодость, Лигия многое понимала — впрочем, в те времена отголоски окружающего зла доходили даже до детских ушей. И Лигия знала — в этом дворце ее ждет гибель, о чем в миг расставанья предупреждала ее, впрочем, и Помпония. Но юное сердце девушки, незнакомое с развратом и глубоко усвоившее уроки, преподанные названой матерью, было готово защищаться от грозящей гибели: Лигия давала в этом обет матери, себе, а также тому божественному учителю, в которого она не только верила, но которого полюбила своим полудетским сердцем за сладость его учения, за муки его кончины и за славу воскресения из мертвых.
Теперь она была к тому же уверена, что ни Авл, ни Помпония Грецина не будут в ответе за ее поступки, и она раздумывала, не лучше ли воспротивиться и не пойти на пир. Страх и тревога владели ее душою, но они не могли заглушить все возраставшую жажду выказать мужество, стойкость, пойти на муки и на смерть. Ведь так учил божественный учитель. Ведь сам он явил тому пример. Ведь Помпония рассказывала ей, что наиболее ревностные приверженцы его учения всею душой жаждут такого испытания, молят о нем. И Лигией, когда она еще жила в доме Авла, порою овладевало такое желание. Она видела себя мученицей, видела раны на своих ладонях и ступнях, видела, как ее, с лицом белее снега, сияющим неземною красотой, уносят такие же белоснежные ангелы в голубое небо, и воображение ее упивалось этими грезами. Тут много было детской мечтательности, но была также доля самолюбования, за что ее корила Помпония. А теперь, когда сопротивление воле императора могло навлечь жестокую кару и когда грезившиеся ей муки могли стать действительностью, к упоительным ее мечтам, к этим страстным стремленьям примешивалось, наряду со страхом, известное любопытство — как же ее покарают, какие муки для нее придумают.
Подобные мысли смущали во многом еще детское сердце Лигии. Но Акта, узнав о них, взглянула на нее с таким удивлением, точно девушка говорит в лихорадочном бреду. Противиться воле императора? С первой же минуты навлечь его гнев? Для этого надо быть сущим ребенком, не ведающим, что он лепечет. Да ведь из слов Лигии ясно, что она не заложница, а просто забытая своим народом девушка. Ее не охраняет никакой закон, а если бы и охранял, император достаточно могуществен, чтобы в минуту гнева растоптать любой закон. Императору было угодно взять ее, и отныне он ею распоряжается. Отныне она в его власти, выше которой нет на свете ничего.
— Да, конечно, — говорила Акта, — я тоже читала послания Павла из Тарса и знаю, что в небесах, над землею, есть бог и есть сын божий, который воскрес из мертвых, но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я, и что вам, как и стоикам, о которых мне рассказывал Эпиктет[150], когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве не слышала ты о дочери Сеяна[151], которая была еще девочкой и по приказу Тиберия для соблюдения закона, запрещающего карать смертью девственниц, должна была перед своей гибелью подвергнуться бесчестью? О Лигия, Лигия, бойся прогневить императора! Когда настанет решающий миг, когда тебе придется выбирать между позором и смертью, ты поступишь так, как велит тебе твоя истина, но не ищи гибели добровольно и не раздражай по пустячному поводу земного и притом жестокого бога.
Акта говорила с чувством глубокой жалости, даже со страстью, — немного близорукая, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, как бы приглядываясь, какое впечатление производят ее слова.
— Какая ты добрая, Акта! — сказала Лигия, с детской доверчивостью обняв ее.
Польщенная похвалой и доверием, Акта прижала девушку к своей груди, а затем, высвободясь из ее объятия, сказала:
— Счастье мое миновало, и радость миновала, но злой я не стала.
Быстро прохаживаясь по комнате, она заговорила как бы сама с собою, и отчаяние слышалось в ее голосе:
— Нет, он не был злым. Он сам тогда считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю лучше, чем кто-либо. Все пришло потом… когда он перестал любить… Это другие сделали его таким, какой он теперь, да, другие — и Поппея!
Тут на ее ресницах блеснули слезы. Лигия водила вслед за ней своими голубыми глазами и наконец спросила:
— Ты о нем тоскуешь, Акта?
— Да, тоскую, — глухо ответила гречанка.
И снова принялась ходить по комнате, заломив руки, словно от боли, и на лице ее была скорбь.
— Ты его еще любишь, Акта? — робко спросила Лигия.
— Люблю… — И минуту спустя прибавила: — Ведь его никто, кроме меня, не любит.
Наступило молчание. Акта, видимо, старалась обрести нарушенное воспоминаниями спокойствие и, когда на ее лицо вернулось обычное выражение тихой грусти, сказала:
— Поговорим о тебе, Лигия. Ты и не думай противиться императору. Это было бы безумием. А впрочем, ты не тревожься. Я хорошо знаю здешние нравы и полагаю, что со стороны императора тебе ничто не грозит. Если бы Нерон приказал тебя похитить для себя самого, тебя бы не привели на Палатин. Тут повелевает Поппея, и с тех пор как она родила дочь, Нерон еще больше подпал под ее власть. Да, Нерон приказал, чтобы ты была на пиру, но он же до сих пор тебя не видел, не спрашивал о тебе, значит, он тобою не интересуется. Возможно, он забрал тебя у Авла и Помпонии только оттого, что зол на них. Петроний написал мне, чтобы я тебя опекала, но, как ты знаешь, писала мне и Помпония — так может быть, они меж собой договорились. Может быть, он это сделал по ее просьбе. Если так, если он, по просьбе Помпонии, будет заботиться о тебе, тогда тебе ничто не угрожает и, возможно, что Нерон, склонясь на его уговоры, отошлет тебя обратно в дом Авла. Я не знаю, очень любит ли Нерон Петрония, но знаю, что император редко решается противиться его мнению.
— Ах, милая Акта, — отвечала Лигия, — Петроний был у нас перед тем, как меня забрали, и матушка моя была уверена, что Нерон потребовал выдать меня по его наущению.
— Это было бы печально, — сказала Акта. Но, минуту подумав, снова продолжала в утешающем тоне: — А может быть, Петроний проговорился перед Нероном как-нибудь за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев, и Нерон, ревниво оберегающий свою власть, потребовал тебя потому, что заложники принадлежат императору. Вдобавок он Авла и Помпонию терпеть не может. Нет, я не думаю, чтобы Петроний, если бы захотел отнять тебя у Авла, прибег бы к такому способу. Не знаю, можно ли сказать, что Петроний лучше тех, кто окружает императора, но он другой. А может быть, ты найдешь и кроме него кого-нибудь, кто пожелает за тебя заступиться. Не случалось ли тебе в доме Авла познакомиться с кем-то из приближенных императора?
— Я там видела Веспасиана и Тита.
— Император их не любит.
— И Сенеку.
— Стоит Сенеке дать совет, чтобы Нерон поступил наоборот.
Нежное личико Лигии начало заливаться румянцем.
— И Виниция.
— Я его не знаю.
— Это родственник Петрония, недавно вернулся из Армении.
— Ты полагаешь, Нерон будет рад его видеть?
— Виниция все любят.
— И он захочет заступиться за тебя?
— Да.
— Так на пиру ты, наверно, его увидишь, — ласково улыбаясь, сказала Акта. — А быть там ты должна прежде всего потому, что иначе нельзя. Только такое дитя, как ты, могло рассудить по-другому. И потом, если ты хочешь вернуться в дом Авла, на пиру тебе может представиться возможность попросить Петрония и Виниция, чтобы они своим влиянием добились для тебя разрешения вернуться. Будь они сейчас здесь, они оба сказали бы тебе то же, что я, — что попытка сопротивления была бы безумием и гибелью. Император, конечно, может и не заметить твоего отсутствия, но если бы заметил и подумал, что ты посмела противиться его воле, спасения для тебя уже не было бы. Но пойдем, Лигия. Слышишь, как шумно стало во дворце? Солнце уже опускается, скоро начнут собираться гости.
— Ты права, Акта, — отвечала Лигия, — и я послушаюсь твоего совета.
Что в этом решении было от желания увидеть Виниция и Петрония, а что от женского любопытства, от стремления хоть разок поглядеть на такой пир, на императора, на его двор, на знаменитую Поппею и других красавиц, на всю эту неслыханную роскошь, о которой рассказывали в Риме всякие небылицы, — сама Лигия вряд ли могла бы отдать себе отчет. Но и доводы Акты были разумны, девушка это хорошо понимала. Надо было идти, и, когда необходимость и здравый смысл подкрепили затаившийся в ее душе соблазн, Лигия перестала колебаться.
Акта провела ее в свой собственный ункторий, чтобы умастить и нарядить — рабынь в императорском доме было достаточно, и у самой Акты не было недостатка в прислужницах; однако из сочувствия девушке, чья красота и невинность тронули ее сердце, Акта решила сама ее одеть, и тут сразу стало ясно, что в молодой гречанке, при всей ее грусти и увлечении посланиями Павла из Тарса, много еще осталось от прежней эллинской души, которой красота тела говорит больше, чем что-либо иное на земле. Раздев Лигию донага, при виде ее гибкого и в то же время мягко округлого стана, словно изваянного из жемчужно-белой массы и роз, Акта не могла сдержать восхищенного возгласа и, отойдя на несколько шагов, стала любоваться этой несравненной, полной весеннего очарования красотой.
— Лигия, — воскликнула она наконец, — да ты во сто раз прекраснее Поппеи!
Но девушка, воспитанная в строгом доме Помпонии, где соблюдалась скромность даже тогда, когда женщины были одни, стояла неподвижно — прекрасная, как дивный сон, исполненная гармонии, как творение Праксителя[152] или как чудная песня, но смущенная, порозовевшая от стыда, стояла, сдвинув колени, прикрывая руками грудь и опустив веки. Но вот Лигия внезапно подняла руки, выдернула шпильки, и в одно мгновение, слегка тряхнув головою, прикрылась волосами, как плащом.
— О, какие у тебя волосы! — сказала Акта, подойдя к ней и касаясь ее темных локонов. — Я не стану посыпать их золотой пудрой, они сами на изгибах светятся золотом. Разве кое-где добавлю золотистого блеска, но слегка, чуть-чуть, как если бы их озарял луч солнца. Прекрасен, наверно, ваш край, где родятся такие девушки.
— Я его не помню, — ответила Лигия. — Только Урс мне рассказывал, что у нас все леса, леса да леса.
— А в лесах цветут цветы, — приговаривала Акта, окуная руки в вазу с вербеновым настоем и увлажняя им волосы Лигии.
Покончив с этим делом, Акта принялась умащать ее тело благовонными аравийскими маслами, а затем надела на нее мягкую золотистую тунику без рукавов, поверх которой полагалось надеть белоснежный пеплум. Но прежде надо было причесать Лигию, и Акта, окутав ее широким одеянием, называвшимся синтесис, и усадив в кресло, отдала девушку на время в руки рабынь, чтобы самой издали наблюдать за их работой. В это же время две рабыни стали надевать на ножки Лигии белые, вышитые пурпуром туфли и прикреплять их, обвязывая крест-накрест золотой тесьмой алебастровые лодыжки. Когда наконец прическа была готова, пеплум на Лигии уложили красивыми легкими складками, после чего Акта застегнула на ее шее жемчужное ожерелье и, слегка тронув ее локоны золотой пудрой, приказала наряжать себя, не сводя с Лигии восхищенных глаз.
Акту одели быстро, а так как перед главными воротами уже начали появляться первые носилки, обе пошли в боковой криптопортик[153], откуда были видны главные ворота, внутренние галереи и дворцовая площадь, окаймленная колоннадой из нумидийского мрамора.
Все больше и больше гостей проходило под высоким сводом ворот, над которыми великолепная квадрига Лисиппа, казалось, увлекала ввысь Аполлона и Диану. Лигия была поражена зрелищем, какого она в скромном доме Авла не могла даже вообразить. Был час заката, последние лучи солнца ложились на желтый нумидийский мрамор колонн, который в их свете отливал золотистыми и розоватыми тонами. Между колоннами, мимо белых статуй Данаид[154] и статуй богов и героев, двигались группы мужчин и женщин, похожих на эти статуи, ибо все они были в тогах, пеплумах и столах, красиво ниспадавших до земли мягкими складками, на которых угасали лучи заходящего солнца. Гигант Геркулес, чья голова еще была освещена, а торс уже погрузился в тень колонны, взирал с высоты на толпу. Акта указывала Лигии сенаторов в тогах с широкою каймой, в цветных туниках и с полумесяцами на обуви, и всадников, и знаменитых актеров, и римских дам, одетых то на римский лад, то на греческий, то в фантастические восточные наряды, с прическами в виде башен и пирамид, а у иных волосы были зачесаны гладко, как у статуй богинь, и украшены цветами. Многих мужчин и женщин Акта называла по именам, прибавляя короткие и порой ужасные истории, наполнявшие Лигию недоумением, изумлением и страхом. Странен был ей этот мир, чьей красотою упивались ее глаза, но чьих контрастов не мог постигнуть ее девичий ум. В звездах на небе, в рядах неподвижных колонн, уходящих куда-то в глубину, и в этих, подобных статуям, людях было удивительное спокойствие; казалось, среди мраморных этих громад должны обитать чуждые забот и тревог, блаженные полубоги, а между тем тихий голос Акты открывал Лигии одну за другой жуткие тайны и этого дворца, и этих людей. Вон там, вдали, виден криптопортик, на колоннах которого и на полу еще темнеют пятна крови, брызнувшей на белый мрамор из тела Калигулы, когда он упал, заколотый Кассием Хереей; там убили его жену, там размозжили о камни голову ребенка; а вон под тем крылом есть подземелье, где от голода грыз собственные руки Друз[155]; там отравили его старшего брата[156], там извивался от ужаса Гемелл[157], там бился в конвульсиях Клавдий, там — Германик[158]. Все эти стены слышали стоны и хрипенье умирающих, а люди, что спешат теперь на пир в тогах, в ярких туниках, украшенные цветами и драгоценностями, — они, быть может, завтрашние смертники; быть может, у многих из них улыбка на лице скрывает тревогу, страх, неуверенность в завтрашнем дне; быть может, в эти минуты лихорадочная страсть, алчность, зависть гложут сердца этих с виду беспечных, увенчанных цветами небожителей. Смятенный ум Лигии не мог поспеть за словами Акты, и, хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга, и внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимой Помпонии Грецине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство.
Тем временем со стороны улицы Аполлона волнами надвигались все новые толпы гостей. Из-за ворот доносились шум и возгласы клиентов, провожавших своих патронов. По всей усадьбе и в колоннадах замелькали несчетные императоровы рабы, рабыни, мальчики и охранявшие дворец солдаты-преторианцы. Среди светлокожих и смуглых лиц чернели здесь и там физиономии нумидийцев с большими золотыми кольцами в ушах и в шлемах с перьями. Во дворец несли лютни, кифары, охапки искусственно выращенных поздней осенью цветов, ручные серебряные, золотые и медные лампы. Все нараставший гул голосов смешивался с шумом фонтанов — розовеющие в закатном свете их струи, падая с высоты на мрамор, разбивались с плеском, похожим на рыданья.
Акта умолкла, но Лигия все всматривалась в толпу, будто ища там кого-то. Вдруг лицо ее заалелось. Между колонн показались Виниций и Петроний, они направлялись в большой триклиний, оба великолепные, невозмутимые, похожие в своих белых тогах на богов. Когда среди всех этих чужих людей Лигия увидела два знакомых, дружеских лица, особенно же когда увидела Виниция, ей показалось, будто огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она почувствовала себя не такой одинокой. Охватившая было тоска по дому Авла и Помпонии стала вдруг не такой мучительной. Соблазн увидеть Виниция, поговорить с ним заглушил в ее сердце все прочие голоса. Напрасно старалась она вспомнить все дурное, что слышала об императорском доме, и слова Акты, и предостережения Помпонии. Вопреки этим словам и предостережениям Лигии внезапно стало ясно, что она не только должна быть на пиру, но хочет на нем быть; при мысли, что через минуту она услышит милый, любезный ей голос, который говорил ей о любви и о счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал, словно песня, в ее ушах, радость объяла ее.
Но Лигия тут же испугалась этой радости. А не предает ли она в этот миг и то чистое учение, в котором воспитана, и Помпонию, и себя самое? Одно дело идти по принуждению, другое — радоваться такой необходимости. Она почувствовала себя виновной, недостойной, погибшей. Отчаяние овладело ею, слезы подступили к глазам. Будь она одна, она бы упала на колени и била бы себя в грудь, повторяя: моя вина, моя вина! Но Акта взяла ее за руку и повела через внутренние покои в большой триклиний, где должен был состояться пир, а меж тем у Лигии темнело в глазах, шумело от волнения в ушах и сердце так билось, что мешало дышать. Будто сквозь сон увидела она тысячи мерцающих ламп на столах и на стенах, будто сквозь сон услышала возглас приветствия императору, будто сквозь сон заметила его самого. Возглас оглушил ее, свет ослепил, закружилась голова от благовоний, и она, почти теряя сознание, с трудом различала Акту, которая, уложив Лигию у стола, сама возлегла рядом.
Но минуту спустя зазвучал низкий знакомый голос по другую сторону от Лигии.
— Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и из звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Каллина!
Немного придя в себя, Лигия обернулась: рядом с нею возлежал Виниций.
Он был без тоги — ради удобства и по обычаю тоги на пирах снимали. Тело его прикрывала только алая туника без рукавов, с вышитыми серебром пальмами. Руки юноши были обнажены и по восточной моде украшены выше локтей двумя широкими золотыми браслетами — гладкие, тщательно очищенные от волос, но чересчур мускулистые, настоящие руки солдата, созданные для меча и щита! На голове у него был венок из роз. Сросшиеся густые брови, сверкающие глаза, смуглый цвет лица делали Виниция воплощением молодости и силы. Он показался Лигии таким красивым, что она, уже оправившись от первого испуга, все же еле сумела ответить:
— Приветствую тебя, Марк…
— Счастливы глаза мои, что тебя видят; счастливы уши, что слышали твой голос, который для меня слаще флейт и кифар. Предложили бы мне выбирать, кого я хочу видеть рядом с собою на этом пиру, тебя, Лигия, или Венеру, я выбрал бы тебя, о божественная!
И он вперил в нее свой взор, будто желая насытиться ее видом, — его глаза прямо жгли ее. Они скользили по ее лицу, по шее, по обнаженным рукам, ласкали ее прелестную фигуру, любовались ею, обнимали ее, вбирали в себя, но вместе с желанием в них светились счастье, и страстная любовь, и безграничное восхищение.
Мысли Лигии прояснились, и она, чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он единственное близкое ей существо, начала говорить с ним, расспрашивать обо всем, что было ей непонятно и пугало. Откуда он знал, что найдет ее во дворце императора, и зачем она здесь? Зачем император отнял ее у Помпонии? Ей здесь страшно, она хотела бы вернуться домой. Она бы умерла от тоски и тревоги, если бы не надежда, что Петроний и он заступятся за нее перед императором.
Виниций объяснял ей, что о ее уводе он сам узнал от Авла. А зачем она здесь, он не знает. Император никому не дает отчета в своих распоряжениях и приказах. Но все равно ей не надо бояться. Он, Виниций, рядом с нею и останется с нею. Он предпочел бы лишиться глаз, чем ее не видеть, лишиться жизни, чем ее покинуть. Она — его душа, вот он и будет ее беречь, как собственную душу. Он соорудит в своем доме ей алтарь, как своему божеству, и будет приносить в жертву мирру и алоэ, а весной — анемоны и яблоневый цвет. И если ей страшен дом императора, он, Виниций, обещает ей, что она в этом доме не останется.
И хотя Виниций говорил уклончиво, а порою лгал, голос его звучал искренне, потому что чувство было подлинным. И жалость его к девушке была чистосердечной, а ее слова так трогали юношу, что, когда она стала его благодарить и уверять, что Помпония его полюбит за доброту, а сама она всю жизнь будет ему благодарна, Виниций не мог подавить волнения, и ему начало казаться, что он будет не в силах устоять перед ее мольбой. Сердце его таяло от нежности. Красота Лигии опьяняла его, он желал ее и чувствовал, что она ему безмерно дорога, что он и впрямь мог бы поклоняться ей, как божеству; и еще он ощущал неукротимую потребность говорить о ее красоте и о своем преклонении перед нею, но шум пиршества становился все оглушительней, и Виниций, подвинувшись ближе, начал шептать Лигии нежные, сладостные, из глубины души лившиеся слова, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино.
И они опьяняли ее. Среди окружавших ее чужих людей Виниций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что ее не покинет, что будет ей служить. Прежде, в доме Авла, он говорил с нею о любви вообще и о счастье, которое может дать любовь, а теперь уже прямо говорил, что любит ее, Лигию, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, они как будто пробуждали что-то спавшее в ее душе, ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись, точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно из его слов. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Виниция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще!» Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросши в Риме, Лигия свыклась с римским обычаем возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла, а теперь рядом с нею возлежал Виниций, молодой, могучий, влюбленный, пылающий страстью, и она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Ею овладевали сладостное бессилие, томность, забытье, будто она засыпает.
Но и Виниция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, и его сердце под алой туникой билось с необычной силой — дыхание стало частым, речи прерывистыми. Ведь он тоже впервые был так близко от нее. Мысли его начали путаться, по жилам пробегал огонь, который он тщетно пытался погасить вином. Но сильнее вина опьяняли его прелестное ее лицо, ее голые руки, девичья грудь, вздымающаяся под золотистой туникой, вся ее фигура, прикрытая белыми складками пеплума — он пьянел все больше и больше. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, притянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами:
— Я люблю тебя, Каллина… божественная моя!
— Пусти меня, Марк, — молвила Лигия.
Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом.
— Божественная! Люби меня!
В эту минуту раздался голос Акты, возлежавшей по другую сторону рядом с Лигией:
— Император смотрит на вас.
Виниция вдруг охватил гнев — на императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным, и юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией.
Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал:
— Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и говорят, тебе угрожает слепота. Как же ты можешь его разглядеть?
— И все же я его вижу… — как бы с печалью ответила Акта. — Он тоже близорук, и он смотрит на вас сквозь изумруд.
Все, что ни делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей — Виниций тоже встревожился, поостыл и начал украдкой поглядывать на императора. Лигия, которая от смущения в начале пира видела императора, будто в тумане, а потом, взволнованная присутствием Виниция и его речами, вообще на Нерона не смотрела, теперь также обратила на него любопытный и испуганный взор.
Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей про драконов, живущих в горных ущельях, и теперь ей померещилось, что на нее вдруг глянул зеленый глаз дракона. Как перепуганное дитя, ухватилась она за руку Виниция, и в голове у нее замелькали беспорядочные, отрывочные мысли. Значит, это он, этот страшный, всесильный владыка? Она его никогда не видела и воображала себе другим. Ей представлялось ужасное лицо с окаменевшими от злости чертами, а тут она увидела крупную, сидевшую на толстой шее голову, действительно страшную, но немного и смешную, потому что издали она напоминала детскую. От туники аметистового цвета — что было запрещено обычным смертным — ложился синеватый отсвет на широкое, квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные, по заведенной Отоном моде, четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарения, хотя потихоньку шептались, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего всемогущества, но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзгшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лигии он показался недобрым, но прежде всего омерзительным.
Наконец император отложил изумруд и перестал смотреть на Лигию. Тогда она увидела его выпуклые голубые глаза, щурившиеся от яркого света, — они были как стеклянные, без всякого выражения, похожие на глаза мертвеца.
А Нерон, обратясь к Петронию, спросил:
— Это и есть та заложница, в которую влюблен Виниций?
— Да, она, — подтвердил Петроний.
— Как называется ее народ?
— Лигийцы.
— Виниций считает ее красивой?
— Наряди в женский пеплум трухлявый ствол оливы, и Виницию он покажется прелестным. Но на твоем лице, о несравненный знаток, я уже читаю ей приговор! Тебе незачем его объявлять! Да, да! Слишком тощая! Худющая, сущая маковая головка на тонком стебельке, а ведь ты, божественный эстет, ценишь в женщине стебель, и ты трижды, четырежды прав! Лицо само по себе ничего не значит. Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Туллием Сенеционом[159] на его любовницу, что, хотя на пиру, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал: «Слишком узка в бедрах».
— Слишком узка в бедрах, — закрыв глаза, повторил Нерон.
На устах Петрония появилась еле заметная усмешка, и Туллий Сенецион, занятый разговором с Вестином[160], точнее, издевками над снами, в которые Вестин верил, повернулся к Петронию и, хотя понятия не имел, о чем речь, сказал:
— Ты ошибаешься! Я заодно с императором.
— Превосходно, — согласился Петроний. — Я как раз доказывал, что у тебя есть кроха ума, а вот император утверждает, что ты осел без всякой примеси.
— Habet![161] — рассмеялся Нерон и опустил вниз большой палец, как делали в цирке в знак того, что гладиатор получил удар и его надо добить.
Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул:
— А я верю в сны, и Сенека мне когда-то говорил, что он тоже верит.
— Прошлой ночью мне приснилось, что я стала весталкой[162], — сказала, наклонясь через стол, Кальвия Криспинилла.
Тут Нерон захлопал в ладоши, остальные последовали его примеру, и зал загремел от рукоплесканий — ведь Криспинилла, несколько раз уже разведенная, славилась в Риме баснословной распущенностью.
Ничуть не смущаясь, она сказала:
— Ну и что! Они все старые да уродливые. Одна Рубрия еще похожа на человека, а так нас было бы две, хотя у Рубрии летом бывают веснушки.
— Прости меня, пречистая Кальвия, — заметил Петроний, — но весталкой ты могла бы стать разве что во сне.
— А если бы император приказал?
— Тогда я бы поверил, что даже самые удивительные сны сбываются.
— Они и впрямь сбываются, — сказал Вестин. — Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить снам?
— А гаданьям? — спросил Нерон. — Мне когда-то предсказали, что Рим перестанет существовать, а я буду царить над всем Востоком.
— Гаданья и сны часто совпадают, — сказал Вестин. — Как-то один проконсул, ни во что не веривший, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, запретив его вскрывать, — он хотел проверить, сумеет ли бог ответить на содержавшийся в письме вопрос. Раб провел ночь в храме, чтобы ему приснился вещий сон, потом возвратился и сказал следующее: «Мне снился юноша, светозарный, как само солнце, который промолвил только одно слово: «Черного»». Услыхав это, проконсул побледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, сказал: «Знаете, что было в письме?»
Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить.
— Что же там было? — спросил Сенецион.
— В письме был вопрос: «Какого быка я должен принести в жертву: белого или черного?»
Но впечатление от рассказа нарушил Вителлий, который явился на пир уже навеселе, — без всякого повода он разразился глупейшим хохотом.
— Чего хохочет эта бочка сала? — спросил Нерон.
— Смех отличает людей от животных, — молвил Петроний, — а у него нет иного доказательства, что он не кабан.
Вителлий так же внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимися от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел.
Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел:
— У меня свалился с пальца всаднический перстень, от отца унаследованный.
— Который был сапожником, — прибавил Нерон.
Но Вителлий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспиниллы.
Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и развратными глазами, громко заметила:
— Ищет то, чего не терял.
— И что ему никак не пригодится, даже если найдет, — заключил поэт Лукан.
Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые яства, из больших ваз, наполненных снегом и увитых плющом, вынимали менее крупные кратеры с винами всевозможных сортов. Все много пили. С потолка на столы и на гостей то и дело сыпались розы.
Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пеньем. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекивался. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отказывается от них, надо ведь что-то делать для искусства, и если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь — не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций[163], чтобы подышать морским воздухом.
Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием[164], — вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром. Столь милостивый государь не должен причинять мучений своим подданным. «Не будь жестоким, император!»
— Не будь жестоким! — повторили хором все, кто находился поближе.
Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору. Но он еще приказал известить Поппею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Поппея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пенье помогает ей как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такого случая.
Поппея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что, когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал, прекрасная, как богиня, в одеждах такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Масиниссы[165], — златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки.
Ее приветствовали громкими криками, называя «божественной Августой». Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам — ведь Поппея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпонии, что Поппея заставила императора умертвить мать и жену, об этом также говорили гости Авла и слуги; слышала, что статуи Поппеи в городе по ночам опрокидывают, слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Поппею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия, ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от «божественной», и невольно из ее уст вырвался вопрос:
— Ах, Марк, возможно ли это?
А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекают ее внимание от него и его речей, возразил:
— Да, она красива, но ты во сто раз красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как Нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверно, искупала Венера в своем собственном молоке. Нет, ты себя не знаешь, ocelle mi! Не смотри на нее. Обрати взор на меня, ocelle mi! Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами.
И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали — император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались «дельта», другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, наблием[166]; оперши свою дельту о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и с минуту в триклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз.
Наконец император запел, а точнее, начал напевно и ритмично декламировать в сопровождении двух лютен гимн Венере. И глуховатый голос его, и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения — гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом венке и с возведенным кверху взором — более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира.
Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы: «О, небесный голос!» Кое-кто из женщин, воздев руки вверх, так и застыли в порыве восхищения, другие утирали слезы на глазах, весь пиршественный зал гудел, будто улей. Склонив златокудрую головку, Поппея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании, а юный Пифагор, красавец грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал фламинам[167] обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног.
Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной.
— Если говорить о музыке, — сказал Петроний, — то Орфей в этот миг, должно быть, пожелтел от зависти, так же как наш сотрапезник Лукан; что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши и я не в силах найти слова для достойной похвалы.
Лукана ничуть не обидел намек на его зависть, напротив — он взглянул на Петрония с благодарностью и, притворяясь опечаленным, пробормотал:
— Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе[168], а так я померкну, как светильник при свете солнца.
Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петрония свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия, не только граничащего с глупостью, но вполне с нею тождественного. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи, потом начал утешать Лукана — не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь, но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам.
Затем он поднялся, чтобы проводить Поппею, которой действительно нездоровилось. Но вставшим было сотрапезникам император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в триклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелища, которые он, Петроний или Тигеллин обычно устраивали для гостей.
Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумия, сколько желания поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру, сотрясаемую судорогами блаженства. То была не пляска, а картина, ярко рисовавшая таинство любви, картина чарующая и бесстыдная, а когда это закончилось и в зал вбежали корибанты с сирийскими девушками и под звуки кифар, флейт, кимвалов и бубнов закружились в вакхической пляске с дикими выкриками и еще более непристойными телодвижениями, Лигии показалось, что она сейчас сгорит со стыда, или же молния испепелит этот дом, или потолок обрушится на головы пирующих.
Но из подвешенной к потолку золотой сети сыпались только розы, а полупьяный Виниций рядом с нею вел дальше свои речи:
— Я видел тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Было это на заре, ты думала, что никто не смотрит, а я тебя видел. И такой вижу сейчас, хотя этот пеплум скрывает тебя. Сбрось пеплум, как Криспинилла. Видишь? И боги, и люди ищут любви. Кроме нее, нет на свете ничего! Положи головку мне на грудь и закрой глаза.
Лигия ощущала биение пульса в висках и в руках — чудилось ей, будто летит она в бездну, а этот Виниций, который представлялся ей прежде таким родным и надежным, не спасает ее, а, напротив, тянет ее туда. И он ей стал неприятен. Она опять начала бояться и пира этого, и Виниция, и себя самой. Некий голос, схожий с голосом Помпонии, еще взывал в ее душе: «Лигия, спасайся!», но тут же что-то в ней говорило, что слишком поздно — и что тот, кого обжигало таким огнем, кто видел творившееся на этом пиру, у кого сердце колотилось так, как у нее от речей Виниция, и кого пронизывал такой трепет, как ее, когда он приближался к ней, — тот погиб и спасенья ему нет. Силы ее покидали. Минутами ей казалось, что она лишится чувств, а потом произойдет что-то ужасное. Она знала — никто не смеет, под страхом навлечь гнев императора, подняться с ложа, пока не поднимется он, но у нее и без того уже не хватило бы сил встать на ноги.
А до конца пира было еще далеко. Рабы продолжали вносить новые блюда, наполняли кувшины вином, а перед столами, расположенными покоем, появились два атлета, чтобы потешить гостей зрелищем борьбы.
Началось состязание. Могучие, блестящие от масла тела сплетались в единый узел, хрустели кости в железных объятьях, стиснутые челюсти зловеще скрежетали. Временами слышались быстрые, глухие удары ног о побрызганный шафраном пол, а то оба вдруг застывали в неподвижности, и перед зрителями была словно бы высеченная из камня скульптура. Глаза римлян сладострастно следили за игрою набухших в страшном напряжении мышц на спинах, бедрах, руках. Борьба, впрочем, была недолгой — Кротон, учитель и начальник школы гладиаторов, недаром слыл самым сильным человеком в стране. Противник Кротона начал дышать все чаще, потом захрипел, потом лицо его посинело — вдруг кровь хлынула из его рта, и он поник.
Конец борьбы был встречен громом рукоплесканий — Кротон, поставив ногу на спину поверженному и скрестив на груди могучие руки, обводил зал торжествующим взором.
Его сменили потешники, подражавшие повадкам животных и их голосам, жонглеры и шуты, но на них уже почти не смотрели — в глазах у пьяных зрителей мутилось. Пир все больше превращался в попойку, в разнузданную оргию. Сирийские девушки, прежде участвовавшие в вакхических плясках, рассыпались среди гостей. Вместо музыки раздавался нестройный, дикий шум кифар, лютен, армянских цимбал, египетских систров, труб и рогов, — а там кое-кому из гостей захотелось поговорить, и музыкантам закричали, чтобы они убирались. Воздух был насыщен ароматами цветов, благовонных масел, которыми во время пира красивые мальчики кропили столы, запахами шафрана и разгоряченных тел, становилось очень душно, лампы горели тускло, венки на головах пирующих сбились набок, лица были бледны и усеяны каплями пота.
Вителлий свалился под стол. Обнажившаяся до пояса Нигидия приникла своей пьяной девичьей головкой к груди Лукана, и он, не менее пьяный, сдувал золотую пудру с ее волос, то и дело подымая кверху светящиеся блаженством глаза. Вестин с пьяным упрямством в десятый раз повторял ответ Мопса на запечатанное письмо проконсула. А насмехавшийся над богами Туллий прерывистым от икоты голосом рассуждал:
— Видишь ли, ежели Сферос Ксенофана[169] круглый, то ведь такого бога можно катить перед собою ногами, как бочку.
Слыша такие речи, Домиций Афр, гнусный, старый доносчик, возмутился и от негодования облил свою тунику фалернским. Уж он-то всегда верил в богов. Вот люди говорят, что Рим погибнет, а некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так! Но ежели это произойдет, так лишь оттого, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. К тому же старинные строгие обычаи пришли в упадок, никому и в голову не приходит, что эпикурейцам не устоять против варваров. Ничего не поделаешь! Что до него, он сожалеет, что дожил до таких времен, и вынужден искать в наслаждениях лекарство от огорчений, которые иначе быстро бы его прикончили.
И, обняв сирийскую танцовщицу, он принялся целовать беззубым ртом ее затылок и спину, при виде чего консул Меммий Регул[170] засмеялся и, подняв плешивую голову в надетом набекрень венке, заметил:
— Кто говорит, что Рим гибнет? Ерунда! Я, консул, лучше других знаю. Videant consules…[171] Тридцать легионов… охраняют нашу pax romana[172]!
Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал:
— Тридцать легионов! Тридцать легионов! От Британии до страны парфян! — Но вдруг остановился и, приставив палец ко лбу, уточнил: — Пожалуй, даже тридцать два…
После чего повалился под стол. Вскоре его стошнило, и он начал извергать языки фламинго, жареные рыжики, замороженные грибы, саранчу в меду, куски рыбы, мяса, — словом все, что съел и выпил.
Но Домиция не успокоило число легионов, охраняющих покой Рима. Нет, нет! Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и строгость нравов! Рим должен погибнуть, а жаль — ведь жизнь хороша, император милостив, вино вкусно! Ах, как жаль!
И, уткнувшись головою в лопатки сирийской вакханки, он разрыдался:
— Какой толк от будущей жизни! Ахиллес был прав[173]: лучше быть батраком в подлунном мире, чем царствовать в киммерийских пределах. Да еще вопрос, существуют ли какие-нибудь боги, — и в то же время неверие губит молодежь.
Лукан между тем сдул всю золотую пудру с волос Нигидии, которая спьяну уснула. Сняв несколько стеблей плюща со стоявшей перед ним вазы, он обвил ими спящую и, совершив этот подвиг, обвел присутствующих радостным вопрошающим взглядом. Затем украсил и себя плющом, повторяя с глубокой убежденностью:
— Никакой я не человек, я фавн.
Петроний не был пьян, зато Нерон, который, оберегая свой «небесный» голос, вначале пил мало, разошелся потом и, осушая один кубок за другим, сильно опьянел. Он даже вздумал снова петь свои стихи, теперь уже греческие, но забыл их и по ошибке затянул песню Анакреонта. Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но у всех у них ничего не получалось, и вскоре они умолкли. Тогда Нерон принялся восхвалять как знаток и эстет красоту Пифагора и в восторге целовать его руки. Такие прекрасные руки он где-то видел однажды… У кого бишь?
И, приложив ладонь к мокрому лбу, стал вспоминать. Вдруг на лице его изобразился страх.
— Ах, да! У матери, у Агриппины! — пробормотал он и, одолеваемый мрачными виденьями, продолжал: — Говорят, будто она ночами при луне ходит по морю, между Байями и Бавлами…[174] Вот просто ходит и ходит, будто чего-то ищет. А если приблизится к лодке, так поглядит и уйдет, но рыбак, на которого она взглянула, умирает.
— Недурная тема! — сказал Петроний.
А Вестин, вытянув, как журавль, длинную шею, таинственно прошептал:
— В богов я не верю, но в духов верю… О!
Не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал:
— Но ведь я справил Лемурии[175]. Я не хочу ее видеть! Уже пятый год пошел. Я должен был, должен был ее покарать, она подослала ко мне убийцу, и, если бы я ее не опередил, не слушать бы вам нынче моего пения.
— Благодарим, император, от имени Рима и мира, — воскликнул Домиций Афр. — Эй, вина! И пусть ударят в тимпаны!
Снова поднялся шум. Стараясь его перекричать, увитый плющом Лукан встал и завопил:
— Я не человек, а фавн, я живу в лесу. Ээ-хооо!
Наконец напились до бесчувствия и император, и все мужчины и женщины вокруг. Виниций охмелел не менее других, но у него вместе с похотью разгорелось желание буянить, что случалось с ним всегда, когда он выпивал лишнее. Смуглое лицо стало совсем бледным, язык заплетался.
— Дай мне твои губы! — говорил он возбужденным и повелительным тоном. — Сегодня ли, завтра ли, какая разница! Довольно хитрить! Император забрал тебя у Авла, чтобы подарить мне. Поняла? Завтра, как стемнеет, я пришлю за тобой. Поняла? Император мне обещал еще до того, как тебя забрал. Ты должна быть моей! Дай губы! Не хочу ждать до завтра! Ну, поскорее, дай губы!
И он обнял Лигию. Акта начала защищать девушку, да и та пыталась обороняться из последних сил, чувствуя, что гибнет. Но тщетно старалась она обеими руками оторвать от себя его руки, тщетно дрожащим от обиды и страха голосом умоляла не быть таким жестоким, сжалиться над нею. Хмельное его дыхание обдавало ее все ближе, лицо было уже рядом с ее лицом. Но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Виниций, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение.
Лигия все больше слабела. Как ни уклонялась она, как ни отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно. Виниций встал, схватил ее обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, тяжело дыша, начал разжимать губами ее побледневшие уста.
Но в эту минуту какая-то неимоверная сила оторвала его руки от шеи девушки с такой легкостью, будто руки ребенка, а его самого отстранила от Лигии как сухую ветку или увядший листок. Что случилось? Виниций, пораженный, протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла.
Лигиец стоял спокойно, но смотрел на Виниция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя Урс взял свою царевну на руки и ровными, мягкими шагами вышел из триклиния.
Акта последовала за ним.
Виниций минуту сидел, будто окаменев, потом вскочил и побежал к выходу с криком:
— Лигия! Лигия!
Однако похоть, изумление, бешенство и вино едва не свалили его с ног. Он пошатнулся раз, другой и, ухватясь за голые плечи одной из вакханок, недоуменно захлопал веками.
— Что случилось? — спросил он.
А она подала ему кубок с вином, затуманенные глаза ее улыбались.
— Пей! — сказала вакханка.
Виниций выпил и свалился в бесчувствии.
Большинство гостей уже лежали под столами, другие нетвердыми шагами бродили по триклинию, иные спали на ложах, громко храпя или изрыгая в полусне излишек выпитого вина, — и на охмелевших консулов и сенаторов, на перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицианок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы.
Занимался рассвет.
Глава VIII
Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал под столом, разбрелись по залу, а челядь, видя гиганта, несущего на руках гостью императора, полагала, что это раб уносит свою опьяневшую госпожу. К тому же рядом шла Акта, и ее присутствие устраняло подозрения.
Так они прошли из триклиния в соседний покой, а оттуда — на галерею, которая вела в покои Акты.
Лигия настолько обессилела, что лежала на плече Урса будто мертвая. Но когда ее обдало прохладным, чистым утренним воздухом, она открыла глаза. Становилось все светлее. Пройдя вдоль колоннады, они свернули в боковой портик, выходивший не во двор, а в дворцовый сад, где верхушки пиний и кипарисов уже алели в лучах зари. В этой части дворца было пусто, отголоски музыки и пиршественного веселья становились все менее слышными. Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет божий. Было все же в мире что-то, кроме этого омерзительного триклиния. Были небо, заря, свет, тишина. Девушка внезапно разрыдалась и, прижавшись к плечу великана, стала, всхлипывая, повторять:
— Домой, Урс, домой, к Плавтиям!
— Мы туда идем! — ответил Урс.
Покамест они, однако, очутились в небольшом атрии, принадлежавшем к покоям Акты. Там Урс усадил Лигию на мраморную скамью возле фонтана. Акта принялась ее успокаивать и убеждать, чтобы отдохнула, — ведь сейчас ей ничто не угрожает, пьяные гости будут после пира спать до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжимая руками виски, лишь повторяла, как ребенок:
— Домой, к Плавтиям!
Урс был готов исполнить ее просьбу. Конечно, у ворот стоят преторианцы, но он все равно пройдет. Выходящих солдаты не задерживают. Перед входной аркой носилок видимо-невидимо. Гости будут выходить толпами. Никто их не остановит. Они выйдут вместе с другими и прямо направятся домой. А впрочем, он тут не указ! Как царевна повелит, так и будет. Для того он здесь.
— Да, Урс, мы выйдем, — повторяла Лигия.
Пришлось Акте проявить благоразумие за них обоих. Выйдут! О да! Никто их не задержит. Но бежать из дома императора не дозволено, и кто это сделает, совершит преступление, государственную измену. Да, они выйдут, а вечером центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грецине, а Лигию опять заберет во дворец, и тогда уже ей не будет спасенья. Если семья Авла примет ее под свой кров, их наверняка ждет смерть.
У Лигии опустились руки. Выхода не было. Надо было выбирать между гибелью семьи Плавтиев и своей. Отправляясь на пир, она надеялась, что Виниций и Петроний выпросят ее у императора и вернут Помпонии, но теперь она знала, что именно они и уговорили императора отнять ее у Плавтиев. Выхода не было. Только чудо могло спасти ее из этой бездны. Чудо и всемогущество божие.
— Акта, — с отчаянием молвила она, — ты слышала, как Виниций говорил, что император подарил меня ему и что нынче вечером он пришлет за мною рабов и заберет меня в свой дом?
— Слышала, — ответила Акта.
И, разведя руками, замолчала. Звучавшее в голосе Лигии отчаяние не находило отклика в ее душе. Ведь она прежде была любовницей Нерона. Сердце ее при всей ее доброте не могло проникнуться чувством стыда за такие отношения. Сама недавняя рабыня, Акта слишком свыклась с рабской долей, к тому же она продолжала любить Нерона. Пожелай он вернуться к ней, она бы встретила его с распростертыми объятьями, была бы счастлива. Понимая, что Лигия либо должна стать любовницей молодого красавца Виниция, либо навлечь на себя и на семью Плавтиев погибель, Акта не могла взять в толк, как девушка может колебаться.
— Оставаться в доме императора, — помолчав, сказала она, — тебе не более безопасно, чем в доме Виниция.
Ей и в голову не пришло, что, хотя она права, слова ее означали: «Смирись со своим жребием и стань наложницей Виниция». Но Лигии, еще ощущавшей на своих устах его дышащие животной страстью и жгучие, как раскаленный уголь, поцелуи, краска стыда бросилась в лицо при одном воспоминании о них.
— Ни за что! — пылко воскликнула она. — Я не останусь ни здесь, ни у Виниция, ни за что не останусь!
— Неужели Виниций так тебе ненавистен? — спросила Акта, удивленная этой вспышкой.
Но Лигия не могла ответить, рыдания опять сотрясали ее. Акта прижала девушку к своей груди и принялась ее утешать. Урс тяжело дышал и сжимал огромные кулаки — преданный, как пес, своей любимой царевне, он не мог снести вида ее слез. В его лигийском полудиком сердце росло желание вернуться в зал и задушить Виниция, а коль понадобится, и императора, но он боялся, что может погубить свою госпожу, и вдобавок не был уверен, что такой поступок, показавшийся ему сперва совсем простым, приличествовал приверженцу распятого агнца.
— Неужели он тебе так ненавистен? — повторила свой вопрос Акта, обнимая Лигию.
— Нет, нет, — возразила Лигия, — я не должна его ненавидеть, ведь я христианка.
— Я знаю, Лигия. Знаю также из посланий Павла из Тарса, что запрещено мириться с бесчестьем и страшиться смерти больше, чем греха, но скажи мне, дозволяет ли твое учение причинять смерть.
— Нет.
— Так как же можешь ты навлекать месть императора на дом Авла?
Наступило минутное молчание. Опять перед Лигией разверзалась бездонная пропасть.
— Я спрашиваю это, — заговорила опять молодая вольноотпущенница, — потому что мне жаль тебя и жаль добрую Помпонию, и Авла, и их мальчика. Я-то давно живу в этом доме и знаю, чем грозит гнев императора. Нет, бежать отсюда вам нельзя. У тебя остается один путь: умолять Виниция, чтобы он отдал тебя Помпонии.
Но Лигия уже опустилась на колени, обращаясь с мольбой к другому. Рядом с нею преклонил колени Урс, и оба начали молиться — молиться в доме императора при свете утренней зари.
Акта впервые видела такую молитву и не могла оторвать глаз от Лигии — обращенная к ней в профиль девушка, подняв лицо и руки к небесам, глядела ввысь, словно ожидая оттуда спасения. Лучи зари освещали темные волосы и белый пеплум, отражались в зрачках — вся в их сиянии, она сама, казалось, светилась. В побледневшем лице, приоткрытых губах, в поднятых к небу руках и глазах было что-то экстатическое, неземное. И Акта вдруг поняла, почему Лигия не может стать ничьей наложницей. Перед бывшей любовницей Нерона как бы приоткрылся уголок завесы, скрывавшей мир, совершенно отличный от того, к какому она привыкла. Ее изумляла эта молитва в доме злодеяний и срама. Раньше она думала, что для Лигии нет спасенья, но теперь начала верить, что может произойти нечто необыкновенное, что на помощь девушке может явиться такая могучая сила, с которой самому императору не справиться, что с неба спустится вдруг крылатое воинство либо солнце поднимет ее своими лучами и увлечет к себе. Она слыхала о многих чудесах, совершавшихся у христиан, и теперь подумала, что, видимо, все это правда, если Лигия так молится.
Но вот Лигия наконец поднялась с колен, лицо ее светилось надеждой. Урс тоже встал и, присев на корточки возле скамьи, смотрел на свою госпожу, ожидая, что она скажет.
Глаза девушки подернулись туманом, и две крупные слезы медленно потекли по щекам.
— Да благословит господь Помпонию и Авла, — сказала Лигия. — Я не вправе накликать на них гибель, а стало быть, я больше никогда их не увижу.
Потом, оборотясь к Урсу, она сказала ему, что теперь он один у нее остался на целом свете и должен быть ей отцом и опекуном. Им нельзя искать убежища у Авла, чтобы не навлечь на стариков гнев императора. Но она также не может оставаться ни во дворце императора, ни в доме Виниция. Пусть же Урс выведет ее из города, пусть спрячет где-нибудь, где ее не найдут Виниций и его слуги. Она пойдет за Урсом куда угодно, за моря и за горы, к варварам, где не слышали слова «Рим» и куда не достигает власть императора. Пусть заберет ее отсюда и спасет, он один у нее остался.
Лигиец был готов на все — в знак покорности он склонился и обнял ее ноги. Но на лице у Акты, которая ожидала от молитвы чуда, изобразилось разочарование. Только и всего? Бежать из дворца императора — значит совершить преступление, именуемое государственной изменой, кара за него неминуема, и даже если Лигия сумеет спрятаться, император отомстит Авлу. Хочет она бежать, пусть лучше бежит из дома Виниция. Тогда император, который не любит заниматься чужими делами, возможно, не пожелает помогать Виницию в поисках, и во всяком случае не будет совершена государственная измена.
Но Лигия и сама так думала. Семья Авла даже знать не будет, где она, даже Помпонии они не скажут. Только бежать ей надо не из дома Виниция, а по дороге. Он спьяну сообщил ей, что вечером пришлет за нею рабов. Наверно, он говорил правду, которой не сказал бы, будь он трезв. Видимо, Виниций, один или с Петронием, был перед пиром у императора и добился обещания, что на другой день вечером император ее отдаст. А если сегодня они забудут, так пришлют за нею завтра. Но Урс ее спасет. Он придет, возьмет ее из носилок, как взял из триклиния, и они пойдут странствовать по свету. Урса никто не одолеет. С ним не справился бы даже тот страшный борец, который вчера в триклинии победил. Но Виниций может прислать за нею очень много рабов, поэтому Урс сейчас же пойдет за советом и за помощью к епископу Лину. Епископ пожалеет ее, не оставит во власти Виниция и прикажет христианам идти за Урсом ее спасать. Они ее отобьют и уведут, а потом Урс постарается вывести ее из города и спрятать где-нибудь от римского всемогущества.
И лицо Лигии зарумянилось, повеселело. Она снова ободрилась, точно надежда на спасение стала действительностью. Бросившись на шею Акте и припав своими прелестными губками к ее щеке, Лигия зашептала:
— Ты же нас не выдашь, Акта, правда?
— Клянусь тенью моей матери, — отвечала вольноотпущенница, — я вас не выдам, только проси своего бога, чтобы Урсу удалось тебя отбить.
Голубые, детски чистые глаза великана сияли счастьем. Вот он, как ни ломал свою бедную голову, ничего не мог придумать, а уж это он сумеет. Хоть днем, хоть ночью, ему все равно! Он пойдет к епископу, ведь епископ читает в небесах, что надо делать и что не надо. Но собрать христиан он бы и так собрал. Разве мало у него знакомых рабов, гладиаторов да и свободных людей в Субуре и за мостами. Тысячу человек соберет, а то и две. И он отобьет свою госпожу, а вывести из города тоже сумеет и дальше пойти сумеет. Они пойдут вместе хоть на край света, хоть туда, откуда оба они родом, где никто и не слыхивал о Риме.
Тут глаза его уставились в пространство, словно он пытался разглядеть что-то исчезнувшее, страшно далекое.
— В бор? — пробормотал он. — Гей, какой бор, какой там бор!
Еще мгновенье, и он вернулся к действительности.
Да, сейчас он пойдет к епископу, а вечером, уже с какой-нибудь сотнею друзей, будет поджидать носилки. И пусть Лигию сопровождают не просто рабы, но сами преторианцы! Он никому не советует попасть под его кулак, даже в железных доспехах. Разве железо такое уж крепкое! Если по железу стукнуть хорошенько, так голова под ним не уцелеет.
Но Лигия с глубокой и вместе детской важностью подняла указательный палец.
— Урс! «Не убий!» — молвила она.
Лигиец закинул за голову огромную, похожую на дубинку руку и стал, ворча, скрести себе затылок с весьма озабоченным видом. Он ведь должен отбить ее, царевну, свет свой. Она сама сказала, что теперь его черед действовать. Конечно, он будет стараться. Но если случится что против его воли? Он ведь должен ее отбить! Но уж если случится, он так будет каяться, что распятый агнец смилуется над ним, горемычным. Он не хотел бы агнца обидеть, да что делать, когда рука у него такая тяжелая.
И глубокое волнение отразилось на его лице. Желая скрыть его, Урс поклонился со словами:
— Ну что ж, пойду к святому епископу.
Акта, обняв Лигию, расплакалась.
Она еще раз почувствовала, что есть некий мир, где даже страдание дает больше счастья, чем все утехи и наслажденья во дворце императора; еще раз приоткрылась перед нею дверь к свету, однако она сознавала, что недостойна в эту дверь войти.
Глава IX
Лигии было жаль Помпонию Грецину, которую она сердечно любила, жаль всю семью Плавтиев, но отчаянье прошло. Ей даже доставляла некую приятность мысль о том, что вот она, ради истины, жертвует богатством, удобствами и избирает незнакомую ей, скитальческую жизнь. Возможно, тут была и доля детского любопытства — какой же будет эта жизнь в дальних краях, среди варваров и диких зверей, — но, конечно, гораздо больше было глубокой, беззаветной веры, что она поступает так, как велит божественный учитель, и что отныне он сам будет опекать ее, как послушное, любящее дитя. А если так, что дурного может с нею приключиться? Суждены ли ей страдания — она перенесет их во имя его. Суждена ли внезапная смерть — ее заберет к себе он, и когда-нибудь, когда умрет Помпония, они будут вместе всю вечность. Много раз, еще в доме Авла, ее детскую головку мучил вопрос — почему она, христианка, ничего не может сделать для распятого, о котором с таким умилением говорил Урс? Но теперь этот миг настал. Лигия была почти счастлива и начала рассказывать о своем счастье Акте, но та не могла ее понять. Покинуть все, покинуть дом, богатство, город, сады, храмы, портики, все прекрасное в жизни, покинуть солнечный край и близких людей — для чего? Для того, чтобы сбежать от любви молодого, красивого воина? Это в голове у Акты не укладывалось. Минутами она чувствовала, что какая-то правда тут есть, что, возможно, есть даже великое, таинственное счастье, но понять это до конца она не могла, тем более что Лигии еще предстояло подвергнуться похищению, которое могло окончиться неудачей, могло даже стоить ей жизни. Акта по натуре была боязлива и со страхом думала о том, что принесет этот вечер. Но Лигии она о своих опасениях говорить не хотела, а тем временем стало совсем светло, солнце заглянуло в атрий. Акта начала убеждать Лигию отдохнуть — ведь это так необходимо после бессонной ночи. Лигия не сопротивлялась, и обе они пошли в кубикул, просторную опочивальню, убранную с роскошью, достойной бывшей любовницы императора. Обе легли рядом, но Акте, несмотря на усталость, не спалось. Жить в печали и тоске она давно привыкла, однако теперь душу ее смущало прежде неведомое ей беспокойство. До сих пор ее жизнь виделась ей просто безрадостной и лишенной надежды на лучшее завтра, теперь же она вдруг показалась Акте позорной.
Мысли ее все больше приходили в смятение. Дверь к свету то опять приоткрывалась, то закрывалась. Но в тот миг, когда она приоткрывалась, свет был так ослепителен, что Акта ничего не могла различить. Она скорее лишь догадывалась, что в этом сиянии таится безмерное блаженство, рядом с которым всякое другое настолько ничтожно, что, если бы, например, император удалил Поппею и снова полюбил ее, Акту, то даже это было бы сущей мелочью. И вдруг ей подумалось, что император, которого она любила и невольно почитала неким полубогом, такое же жалкое существо, как любой раб, и что дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. В конце концов смутные эти чувства и мысли стали для нее невыносимы. Ей хотелось уснуть, но тревога отгоняла сон.
Думая, что Лигия, которой грозило столько опасностей и неожиданностей, тоже не спит, Акта повернулась к ней, чтобы поговорить о предстоящем побеге.
Но Лигия спала спокойно. В затемненный кубикул из-за неплотно задернутого занавеса проникала узкая полоска света, и в его лучах плясали золотые пылинки. Акта разглядела нежное личико Лигии, покоившееся на обнаженной руке; веки были опущены, рот слегка приоткрыт. Лигия дышала ровно, как дышат во сне.
«Она спит, она может спать! — подумала Акта. — Она еще дитя».
Минуту спустя ей, однако, пришло на ум, что дитя это предпочитает бежать, чем стать любовницей Виниция, нищету предпочитает позору, скитания — великолепному дому в Каринах, нарядам, драгоценностям, звукам лютен и кифар.
«Почему?»
И она стала приглядываться к Лигии, словно пытаясь прочитать ответ на лице спящей. Акта смотрела на ее чистый лоб, на изящные дуги бровей, на темные ресницы, на приоткрытые уста, на колеблемую спокойным дыханием девическую грудь.
«Как она отличается от меня!» — подумала Акта.
Лигия представилась ей неким чудом, божественным видением, любимицей богов, во сто раз более прекрасной, чем все цветы в императорских садах и все статуи в его дворце. Но зависти в сердце гречанки не было. Напротив, при мысли о грозящих девушке опасностях глубокая жалость объяла ее. В ней пробудилось материнское чувство: Лигия казалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но была бесконечно дорогим существом, и, припав губами к темным волосам девушки, Акта принялась ее целовать.
А Лигия спала спокойно, как дома, под кровом Помпонии Грецины. И спала довольно долго. Полдень уже миновал, когда она раскрыла голубые свои глаза и с изумлением стала осматриваться. Ее, вероятно, удивляло, что она не дома, не у Плавтиев.
— Это ты, Акта? — спросила она наконец, разглядев в полумраке лицо гречанки.
— Да, я.
— Уже вечер?
— Нет, дитя мое, но время уже после полудня.
— Урс не вернулся?
— Он и не говорил, что вернется, он только сказал, что будет вечером вместе с христианами поджидать носилки.
— Да, верно.
Они встали и обе пошли мыться. Акта помогла Лигии в бане и повела ее завтракать, а потом — в дворцовый сад, где можно было не опасаться нежелательных встреч, так как император и его приближенные еще спали. Лигия впервые в жизни видела эти великолепные сады, где в изобилии росли кипарисы, пинии, дубы, оливы и мирты, меж которыми белело множество статуй, блестели спокойные зеркала прудов, красовались заросли роз, орошаемых водяной пылью фонтанов; где входы в чарующие гроты были увиты плющом или виноградом; где в прудах плавали серебристые лебеди, а посреди статуй и деревьев бродили прирученные газели из пустынь Африки да порхали разноцветные птицы, привезенные со всех концов света.
В садах было пустынно, только здесь и там трудились с лопатами в руках рабы, вполголоса напевая; другие поливали розы и бледно-сиреневые цветы шафрана, а те, которым разрешили минуту отдыха, сидели у прудов или в тени дубов, сквозь листву которых пробивались солнечные лучи и ложились на всё дрожащими бликами. Акта и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всяческие диковины, и хотя дух Лигии был угнетен, она была еще настолько ребенком, что интерес, любопытство и восхищение взяли верх. Она даже подумала, что, будь император добрым человеком, то в таком дворце и среди таких садов мог бы чувствовать себя очень счастливым.
Наконец, слегка утомившись, они присели на скамью, скрытую в зарослях кипарисов, и заговорили о том, что более всего волновало их сердца, — о предстоящем вечернем побеге Лигии. Акта была гораздо меньше, чем Лигия, уверена в успехе. Минутами ей даже казалось, что это безумная затея, которая не может осуществиться. Ее все сильнее томила жалость к Лигии и не покидала мысль, что во сто крат безопасней было бы попытаться переубедить Виниция. И она принялась выспрашивать у Лигии, давно ли та знакома с Виницием и не думает ли, что он мог бы склониться на их просьбы и возвратить ее Помпонии.
— О нет, — сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой. — Дома, у Плавтиев, Виниций был другой, очень добрый, но после вчерашнего пира я его боюсь и лучше хотела бы бежать к лигийцам.
— Но в доме Плавтиев он был тебе мил? — продолжала спрашивать Акта.
— Да, — ответила Лигия, потупившись.
— Все же ты не рабыня, как была я, — молвила Акта после минутного размышления. — Виниций мог бы на тебе жениться. Ты заложница и дочь царя лигийцев. Авл и его супруга любят тебя, как родное дитя, и я уверена, что они охотно бы тебя удочерили. Да, Виниций мог бы на тебе жениться, Лигия.
На это Лигия ответила совсем тихо и еще печальней:
— Лучше я убегу к лигийцам.
— Скажи, Лигия, хочешь, я сейчас пойду к Виницию, разбужу его, если он спит, и скажу то, что говорю тебе в эту минуту? Да, дорогая, я пойду к нему и скажу: «Виниций, она царская дочь и любимое дитя достойного Авла. Если ты ее любишь, возврати ее Авлу, а потом возьми как жену из его дома».
Но девушка ответила уже так тихо, что Акта с трудом расслышала:
— Лучше к лигийцам.
И на опущенных ее ресницах блеснули две слезы.
Беседу их прервал шум приближающихся шагов, и прежде чем Акта успела разглядеть, кто идет, вблизи их скамьи появилась Сабина Поппея с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев на золотых прутьях и слегка шевелили этими опахалами, заодно защищая госпожу от еще жаркого осеннего солнца, а черная, как эбеновое дерево, эфиопка с торчащими, набухшими от молока грудями несла перед нею на руках младенца, завернутого в пурпур с золотою бахромой. Акта и Лигия привстали, полагая, что Поппея пройдет мимо их скамьи, не обратив внимания, но она, поравнявшись с ними, остановилась.
— Акта, — сказала Поппея, — бубенчики, которые ты пришила на куклу, были плохо пришиты — ребенок оторвал один бубенчик и поднес ко рту, еще счастье, что Лилит вовремя заметила.
— Прости, божественная, — отвечала Акта, скрестив руки на груди и опустив голову.
— А это что за рабыня? — спросила Поппея, глядя на Лигию.
— Она не рабыня, о божественная Августа, а воспитанница Помпонии Грецины и дочь царя лигийцев, который отдал ее как заложницу Риму.
— Она пришла к тебе в гости?
— Нет, Августа. С позавчерашнего дня она живет во дворце.
— Она была вчера на пиру?
— Была, Августа.
— По чьему приказанию?
— По приказанию императора.
Поппея стала еще внимательнее разглядывать Лигию, которая стояла перед нею, склонив голову, то с любопытством вскидывая свои лучистые глаза, то опуская веки. Вдруг брови Августы сдвинулись, лоб прорезала вертикальная складка. Ревниво оберегая свою красоту и власть, Поппея жила в постоянной тревоге, что какая-нибудь счастливая соперница может погубить ее так, как сама она погубила Октавию. Поэтому всякое красивое лицо во дворце пробуждало в ней подозрения. Опытным глазом она вмиг охватила всю дивную фигуру Лигии, оценила каждую черточку лица и испугалась. «Да это нимфа! — сказала она себе. — Ее родила сама Венера». И в уме у нее мелькнула мысль, никогда еще не посещавшая ее при виде других красавиц, — что она намного старше! Самолюбие Поппеи было больно задето, беспокойство пронзило душу, и тревожные предположения вихрем закружились в мозгу. «Может быть, Нерон ее не видел или, глядя сквозь изумруд, не оценил. Но что будет, если он встретит ее днем, при свете солнца, такую прелестную? К тому же она не рабыня! Она царская дочь, правда, из племени варваров, но все же царская дочь! О бессмертные боги! Она так же хороша, как я, но она моложе!» И складка между бровями стала глубже, а глаза из-под золотистых ресниц блеснули холодным огнем.
С притворным спокойствием, обращаясь к Лигии, она стала ее расспрашивать.
— Ты говорила с императором?
— Нет, Августа.
— Почему же ты хочешь жить здесь, а не у Авла?
— Я не хочу, госпожа. Это Петроний уговорил императора забрать меня у Помпонии, но я здесь против воли, о госпожа!
— И ты хотела бы вернуться к Помпонии?
Последний вопрос Поппея произнесла более мягким и ласковым голосом, так что в сердце Лигии затеплилась надежда.
— Госпожа, — сказала девушка, простирая руки к Поппее, — император обещал отдать меня, как рабыню, Виницию, но ты заступись за меня и верни Помпонии.
— Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Виницию?
— Да, госпожа. Виниций уже сегодня пришлет за мною, но ты, милосердная, пожалей меня.
С этими словами она поклонилась низко и, ухватясь за подол платья Поппеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Лицо Поппеи осветилось злой усмешкой, она в упор поглядела на Лигию.
— Ну, так я тебе обещаю, что уже сегодня ты станешь рабыней Виниция, — промолвила Поппея.
И она удалилась — восхитительное, но злобное видение. До слуха Лигии и Акты донесся лишь крик ребенка, который почему-то вдруг заплакал.
У Лигии глаза тоже налились слезами, но минуту спустя она взяла Акту за руку и сказала:
— Пойдем обратно. Помощи надлежит ждать только оттуда, откуда она может прийти.
И они вернулись в атрий, где и остались уже до вечера. Когда стемнело и рабыни внесли светильники, каждый с четырьмя большими языками огня, обе были очень бледны. Разговор ежеминутно прерывался, они все прислушивались не идет ли кто. Лигия твердила, что ей, конечно, жаль покидать Акту, но ведь Урс там, в темноте, ждет, и ей бы хотелось, чтобы все произошло сегодня же. Дыхание ее выдавало тревогу, оно становилось все более частым и напряженным. Акта лихорадочно собирала свои драгоценности и, увязывая их в узелок, заклинала Лигию не отказываться от ее дара, который может сгодиться при побеге. Временами воцарялось мертвое молчание, и тогда обеим чудилось, будто они слышат шепот за завесой, или плач ребенка, или лай собак.
Внезапно отделявшая прихожую завеса бесшумно отодвинулась, и в атрии появился высокий, черноволосый мужчина с изрытым оспою лицом. Лигия вмиг узнала Атацина, вольноотпущенника Виниция, — он бывал в доме Авла.
Акта испуганно вскрикнула, но Атацин с низким поклоном сказал:
— Привет божественной Лигии от Марка Виниция, который ждет ее на ужин в убранном зеленью доме.
Губы девушки побелели как полотно.
— Иду, — промолвила она.
И на прощанье обвила руками шею Акты.
Глава Х
А дом Виниция и в самом деле был убран зеленью мирта и плюща, развешанной по стенам и над дверями. Колонны были увиты виноградными лозами. В атрии, где над верхним отверстием натянули для защиты от ночного холода пурпурно-красную шерстяную ткань, было светло как днем. Ярко горели светильники с восемью и двенадцатью огнями, они имели форму кувшинов, деревьев, животных, птиц или статуй, поддерживавших лампы с ароматным маслом, сами же лампы были из алебастра, мрамора, позолоченной коринфской бронзы, не такие великолепные, как знаменитый светильник из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, но весьма красивые и изготовленные знаменитыми мастерами. Некоторые лампы были прикрыты александрийским стеклом или прозрачными тканями с берегов Инда, красными, голубыми, желтыми, фиолетовыми, — весь атрий переливался разноцветными огнями. Воздух был напоен ароматом нарда, полюбившегося Виницию на Востоке. В глубине дома, где сновали фигуры рабов и рабынь, тоже было много света. В триклинии стол был накрыт на четырех человек — кроме Виниция и Лигии, ужинать должны были Петроний и Хрисотемида.
Виниций во всем следовал советам Петрония, который убедил его не идти за Лигией, а послать Атацина с полученным
