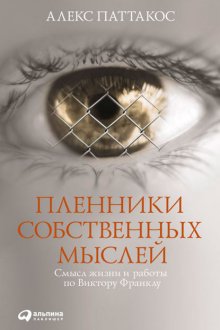Переводчик М. Суханова
Руководитель проекта А. Деркач
Технический редактор Н. Лисицына
Корректор О. Ильинская
Компьютерная верстка М. Поташкин, Ю. Юсупова
Художник обложки О. Белорус
© Alex Pattakos PhD, 2004, 2008
Впервые издано Berret-Kochler Publishers, Inc., San Francisco, CA, USA
Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Бизнес Букс», 2009
© Электронное издание. ООО «Альпина», 2012
Паттакос А.
Пленники собственных мыслей: Смысл жизни и работы по Виктору Франклу / Алекс Паттакос; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
ISBN 978-5-9614-2197-2
Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Предисловие
Незадолго до кончины Виктора Франкла, последовавшей в сентябре 1997 г., я, узнав, что он совсем слаб и находится в больнице, поспешил к нему. Мне обязательно нужно было встретиться с этим человеком и выразить ему глубочайшую благодарность за все, что он сделал для миллионов людей, включая и меня. Меня предупредили, что Виктор Франкл ослеп и не сможет меня увидеть. Никогда не забуду, как вошел в палату, услышал его голос и сразу же почувствовал, что передо мной — носитель великого и благородного духа.
Франкл терпеливо и благосклонно выслушал мои слова признательности, уважения и любви, а потом ответил: «Стивен, вы говорите со мной так, как будто я готов умереть. А это не так — у меня еще осталось два важных проекта, и мне надо их закончить». Как это было точно! Как похоже на него! Как созвучно принципам логотерапии!
Желание и решимость продолжать работу, которые я увидел у Франкла, заставили меня вспомнить о его сотрудничестве со знаменитым канадским физиологом доктором Гансом Селье, известным своей концепцией стрессов. По Селье, напряженная деятельность укрепляет нашу иммунную систему и замедляет разрушительные процессы старения при условии, что она осмысленна и направлена на реализацию значимых проектов. Селье назвал это явление «эустрессом» — в противоположность дистрессу, полному моральному истощению, наступающему, когда жизнь лишена цельности и внутреннего содержания. Я уверен, что именно благодаря взаимному влиянию двух ученых логотерапия — поиск смысла — стала столь мощным методом преодоления физических и психических расстройств.
Когда Алекс Паттакос любезно обратился ко мне с просьбой написать предисловие к «Пленникам собственных мыслей» и добавил, что делает это по предложению семьи Виктора Франкла, я был польщен и взволнован: ведь такое приглашение означало, что моя работа с менеджерами и руководителями организаций отвечает франкловским принципам, составляющим стержень этой книги. И мое желание участвовать еще усилилось после получения письма от Паттакоса, где говорилось: «За год до смерти Франкла я сидел с ним в его кабинете, и он, взяв меня за руку, сказал: “Алекс, ваша книга — та, которую непременно надо написать!”».
То глубокое впечатление, которое произвели на меня в 1960-е гг. книги Франкла «Человек в поисках смысла» и «Доктор и душа», никогда не изгладится у меня из памяти. Эти и другие его работы и лекции помогли мне сформировать свой «душевный кодекс», основанный на свободе выбора, уникальной человеческой способности к самоосознанию и главном, что у нас есть, — воле к смыслу. Я находился тогда в творческом отпуске на Гавайях, много размышлял на разные темы и перерывал горы литературы в университетской библиотеке. В какой-то момент в одной из книг мне попались на глаза три строчки, которые меня буквально потрясли.
Между стимулом и реакцией есть зазор.
В этом зазоре — наша свобода, наша способность ответить на обстоятельства.
В нашем ответе — наша судьба, наше счастье.
Увы, я не записал тогда ни названия, ни имени автора, поэтому не могу указать источник цитаты. Позднее, снова попав на Гавайи, я попытался разыскать ту книгу, но неудачно — оказалось, что старого здания библиотеки больше нет.
Слова о зазоре между событиями, происходящими с нами, и нашей реакцией на них, о свободе выбора и зависимости нашей судьбы от принимаемых нами решений прекрасно выражают ту мысль, что человек — не обязательно продукт внешних условий и в состоянии сам формировать себя. Они иллюстрируют три группы ценностей, которые выделял Франкл: ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. В нашей власти выбрать, как поступить в сложившейся ситуации. Мы способны, а в действительности и обязаны влиять на обстоятельства. Если же пренебрегать этим зазором, этой свободой, этим долгом, наша жизнь может не состояться, и мы ничего после себя не оставим.
Однажды меня пригласили на военную базу преподавать принципы лидерства. Когда я, завершив курс, прощался с полковником, командовавшим базой, то спросил его: «Что побудило вас к переходу на жизнь и лидерство в соответствии с принципами? Ведь это очень серьезное дело, и вы не можете не понимать, что должны будете двигаться против течения, преодолевая сопротивление мощных сил нашей культуры! В конце этого года вы уходите в отставку по возрасту. Что помешает вам в дальнейшем просто пользоваться плодами успешной военной карьеры, принимая заслуженные почести и рукоплескания?» Ответ полковника глубоко врезался мне в память. Вот что он сказал: «Недавно ушел из жизни мой отец. Зная, что скоро умрет, он подозвал мою мать и меня к своей постели, а потом жестом попросил меня приблизить ухо прямо к его губам. Мать стояла рядом, глядя на нас, вся в слезах. Отец прошептал мне на ухо: “Сын, обещай мне, что не будешь жить так, как я. Сын, я не сделал добра ни тебе, ни твоей матери, я вообще не сделал в жизни ничего стоящего. Обещай, что не будешь таким, как я”. Потому-то я и предпринял эту попытку, потому-то и стараюсь вывести всю нашу команду на качественно новый уровень результативности и достижений. Я стремлюсь изменить жизнь и впервые в жизни искренне надеюсь, что мои последователи преуспеют больше моего. До сих пор мне хотелось быть самым лучшим, теперь уже нет. Моя цель — утвердить эти принципы, сделать их прочной и долговечной частью культуры. Я знаю, что мне предстоит борьба, и может быть, даже попрошу о продлении срока службы, чтобы довести начатое дело до конца. Но я обязан правильно распорядиться наследством, которое оставил мне отец, — а он завещал мне стремление совершить нечто значимое».
Как показывают слова полковника, мужество — это не отсутствие страха, а понимание того, что на свете есть нечто более важное, чем страх. Не менее трети своей жизни мы проводим в работе или в подготовке к ней, обычно в какой-то организации. Даже после ухода от дел наша жизнь должна быть наполнена значимыми проектами, выполняемыми для организации, семьи, общества. В труде и любви заключается сущность нашей смертной природы.
Великий психолог-гуманист Абрахам Маслоу, автор теории об иерархии человеческих побуждений, пришел под конец жизни к идеям, очень созвучным франкловской концепции «воли к смыслу». Маслоу чувствовал, что в его теории потребности человека слишком сильно детерминируют поведение, причем самоактуализация — далеко не главная потребность, и в итоге сделал вывод вполне в духе Франкла — о том, что высшей потребностью человеческой души является самотрансценденция, выход за пределы собственного «я». Эти идеи нашли выражение в итоговом труде Маслоу «Дальние пределы человеческой психики», подготовленном при участии жены ученого, Берты, и одного из коллег.
В моей собственной работе с людьми и организациями очень большую роль играет выработка формулировок миссии — индивидуальных и коллективных. По моим наблюдениям, когда достаточное количество людей собирается для свободного совместного труда, причем эти люди хорошо представляют себе свою отрасль, профессию, корпоративную культуру, у них начинает вырабатываться некое коллективное сознание. Каждый стремится принести пользу, оставить после себя что-то существенное, т.е. действует в системе ценностей, нацеленной на развитие сделанного предшественниками. Цели и средства неразделимы; фактически цели заложены в средствах. Ни одна достойная цель не может быть реально достигнута с помощью недостойных средств.
На мой взгляд, самая возвышенная, волнующая и побуждающая к действию идея, над которой когда-либо всерьез задумывались люди, заключается в возможности выбора, в том, что лучший способ предсказать будущее — создать его. В основе своей это личная свобода, идущая не извне вовнутрь, а изнутри наружу, свобода поступка, а не «свобода от». Чтобы ее обрести, нужно научиться задавать вопрос Виктора Франкла: чего хочет от меня жизнь? Чего хотят эти конкретные обстоятельства?
Оказалось, что когда человек сознает себя свободным в этом смысле, когда он задает себе подобные вопросы и за ответом обращается к своей совести, его задачи и ценности почти всегда трансцендентны, т.е. выходят за сферу личных интересов и направлены на то, чтобы внести нечто важное и положительное в жизнь других людей. Вспомним Виктора Франкла в нацистских лагерях смерти. Смысл жизни такого человека больше, чем сама его жизнь. Люди этого типа разрушают устоявшиеся циклы и создают новые, с новыми источниками позитивной энергии. Они порывают с бездумными стереотипами поведения и оценки, унаследованными из прежней культуры, и становятся проводниками изменений.
Пределы того, что мы видим и делаем,
Ограничены тем, что мы упускаем из виду.
А поскольку мы упускаем из виду
И само наше невнимание,
Мы мало что можем изменить,
Пока не заметим,
Как наше невнимание
Определяет наши мысли и дела.
Рональд Лэйнг
Понимание того, как важно замечать обычно не замечаемое, и семь прекрасных принципов, предлагаемых доктором Паттакосом, помогают развить качества выдающейся личности, у которой гармонично сочетаются, усиливая друг друга, работа над собой и труд для других, любовь и чувство долга, выбор и смысл. Выдающаяся личность — не обязательно знаменитость, и наоборот. Ряд страниц этой книги посвящен людям, которые добились успеха в глазах общества, но не удовлетворены своей жизнью.
В заключение позвольте мне предложить вам две идеи о том, как извлечь из этой книги максимум пользы. Во-первых, по мере знакомства с основными принципами делитесь ими с окружающими, с теми, кто живет и работает рядом с вами и кого это может заинтересовать. Во-вторых, следуйте этим принципам. Знание, которое не применяется, — не настоящее знание. Если же основные принципы будут для нас только игрой ума и набором красивых фраз, если мы не будем жить по ним и побуждать к тому же других, то уподобимся слепорожденному, который, прослушав курсы оптики и физиологии человека, теперь пытается объяснить кому-то, что значит видеть. Читая книгу, пробуйте пользоваться свободой выбора и определять свое отношение к каким-либо обстоятельствам, стремиться к смыслу, выявлять значение тех или иных моментов, не работать против себя, смотреть на себя со стороны, переключать внимание и выходить за пределы собственного «я». Стоит изучать этот материал последовательно: прочитывать принцип, усваивать его, начинать применять, после чего переходить к следующему и т.д. Другой возможный вариант — прочитать всю книгу сразу и составить о ней общее представление, а затем вернуться к началу и прорабатывать принципы по одному. Вы станете проводником изменений, будете останавливать дурные циклы и запускать позитивные. Ваша жизнь наполнится содержанием и совершенно преобразится. Я знаю об этом и по собственному опыту, и по работе с очень многими организациями и отдельными людьми. Как учили меня мой дед и Виктор Франкл, жизнь — это миссия, а не карьера.
Стивен Кови
Эта книга посвящается Виктору Эмилю Франклу (1905–1997), великому ученому, жизнь и наследие которого вечно будут нести свет людям, и моему постоянному спутнику в поисках смысла, Элейн, чья любовь и поддержка никогда не перестанут
наполнять теплом мою жизнь
Предисловие
Случалось ли вам делать работу, которая вам не нравилась? Которая, быть может, даже вполне устраивала вас по таким параметрам, как зарплата или стабильность положения, но не приносила удовлетворения? Еще шире — не приходило ли вам в голову, что ваша жизнь целиком состоит из происходящих с вами событий? Не казалось ли, что несчастья прямо-таки сыплются на вас, а вы бессильны что-либо предпринять? Если ответ хотя бы на один из этих вопросов утвердительный и если вы уже задумывались прежде над чем-либо подобным, то знайте — вы вовсе не одиноки. Таких, как вы, очень много: все мы — люди, а потому испытываем естественный интерес к фундаментальным основам своей жизни и работы.
Поскольку моя книга посвящена поискам смысла, которые ведет человек, я писал ее, думая о вас и ваших вопросах. Она базируется на философии и методике Виктора Франкла, великого психиатра, автора классического труда «Человек в поисках смысла», переведенного на множество языков и включенного Библиотекой Конгресса в десятку наиболее влиятельных книг Америки. Франкл, переживший во время Второй мировой войны заключение в нацистских концлагерях, создал логотерапию — подход к лечению психических заболеваний, основанный на принципах осмысленности и гуманизма. Идеи Франкла о поиске смысла, подкрепленные опытом применения логотерапии, оказали огромное влияние на людей во всем мире. В этой книге вы найдете изложение основных идей Франкла и практическое руководство по поиску ответов на вопросы о смысле работы и повседневной жизни.
Цель книги в том, чтобы наполнить содержанием работу, т.е. сделать для сферы трудовой жизни то же, что Франкл как психиатр сумел сделать для психотерапии. Поскольку понятие «работа» определяется очень широко, аудитория, которой адресована книга, тоже самая широкая. Это работники любых отраслей; волонтеры и работающие за плату; пенсионеры и люди, только что начавшие трудовую жизнь, а также те, кто ищет или меняет работу. Кроме того, я показываю, что принципы Франкла фактически универсальны и, следовательно, то, что говорится здесь о работе, справедливо и для повседневной жизни. Книга носит практический характер и помимо введения в учение Франкла содержит массу примеров, описаний конкретных случаев, упражнений и практических инструментов, помогающих найти путь к обретению смысла в работе и жизни в целом.
В августе 1996 г. я посетил Франкла в его доме в Вене и впервые поделился с ним замыслом книги, где бы его основные принципы и методики в явном виде прилагались к работе и рабочему месту, к миру бизнеса. Франкл горячо одобрил мою идею, сказав об этом в своей обычной манере — напрямик и эмоционально. Он перегнулся через стол, взял меня за руку и произнес:
«Алекс, ваша книга — та, которую непременно надо написать!» Можете себе представить, как глубоко запечатлелись его слова в моей душе. В тот самый момент я принял твердое решение осуществить свой план. И вот книга перед вами.
Я впервые познакомился с логотерапией почти сорок лет назад и, подобно многим другим, не перестаю восхищаться Франклом и его трудами. Огромным счастьем для меня была возможность лично встретиться с ним и спросить его совета. В своей профессиональной деятельности по охране душевного здоровья людей я в большой мере опирался на основополагающие работы Франкла по экзистенциальному анализу, логотерапии и поиску смысла, применяя выдвинутые им принципы в разнообразных рабочих средах и ситуациях. Со временем моя убежденность в действенности франкловских идей развивалась и крепла. Я использовал (и проверял) элементы его философии и методов в широком диапазоне организаций и со многими людьми, мучимыми экзистенциальной дилеммой на работе или в личной жизни. Конечно, я серьезно размышлял также о собственном жизненном пути, и мудрость Франкла нередко мне помогала. О некоторых своих значимых проблемах и ситуациях, связанных с выбором, я пишу в этой книге.
Важно подчеркнуть, что у самого Виктора Франкла слово никогда не расходилось с делом. А это, как я знаю по себе, далеко не всегда легко.
В академических кругах говорят, что мы учим, чтобы учиться, иными словами, не догадываемся о том, что не знаем предмета, пока не попробуем его преподавать. То же и с книгами. Процесс создания текста сравнительно прост. Сложности начинаются тогда, когда пытаешься делать то, о чем пишешь. Франклу это удавалось: он умел наполнить смыслом и свою жизнь, и свои произведения. Я, как могу, стараюсь следовать его примеру и надеюсь, что работа над книгой, «которую непременно надо написать», стала для меня самого уроком обретения смысла в жизни и труде.
Должен сказать, что это касается и вас, мой читатель. Призываю вас, прочитав эту книгу, не отставлять ее на дальнюю полку и не выбрасывать из головы. Пожалуйста, не поступайте с ней таким образом: основные принципы, которые я выделил из обширного корпуса трудов Франкла, недостаточно просмотреть один раз. Содержание книги заслуживает большего внимания — его стоит «проводить в жизнь». Попробуйте выполнять упражнения, разбирать — столько раз, сколько понадобится, — концепции и примеры, действовать согласно предложенным принципам в повседневной жизни. Тогда, и только тогда эта книга действительно поможет вам найти подлинный смысл своей работы и жизни, а слова Франкла о том, что ее непременно надо написать, осуществятся в том смысле, какой он имел в виду.
Алекс Паттакос
Санта-Фе, Нью-Мексико, США
Август 2004 г.
Благодарности
Эта книга, если такое определение вообще применимо к книгам, более процесс, чем результат. И в ее создании участвовали очень многие люди, причем вклад каждого был по-своему значимым, — их в действительности столько, что не стоит и пытаться перечислить всех поименно. И все-таки скажу о тех, кто сыграл в моем проекте особенно важную роль, помогая мне в критические моменты работы над книгой, — я хочу, чтобы они знали, как я им признателен. Это:
Элейн, моя супруга и партнер по бизнесу, которая была рядом со мной во всех испытаниях и поддерживала меня в работе. В мире нет слов, способных в полной мере выразить мою благодарность. Спасибо тебе за то, что ты есть, и за все, что ты сделала, чтобы эта книга увидела свет.
Семья Виктора Франкла, которая с самого начала верила в эту книгу и поддерживала проект. Я навеки вам благодарен.
Стив Пьерсанти, издатель и Дживан Сивасубраманьям, главный редактор издательства Berrett-Koehler. Вы не отказались ни от меня, ни от проекта, продолжавшегося много лет, и обеспечили самую лучшую подготовку и оформление книги.
Вся команда Berrett-Koehler. Вы поверили, что поиск смысла в работе — это больше чем просто книга.
Другие авторы Berrett-Koehler, разделяющие позицию издательства о «создании мира, работающего для всех»; вы, все вместе и каждый в отдельности, изменяете наш мир к лучшему.
Дженет Томас, не жалевшая сил, чтобы придать моим мыслям форму связного письменного текста, и вложившая в книгу массу своего писательского таланта и опыта.
Многочисленные рецензенты, читавшие рукопись на разных стадиях. Вы не просто помогли мне улучшить текст, благодаря вам я узнал многое о себе самом.
Патти Хавенга-Кётцер, друг и коллега, в сердце которой всегда жив дух Виктора Франкла.
Джеффри Зейг, преданный хранитель наследия Франкла.
Мои клиенты и студенты, которые, в разное время делясь со мной своими мыслями и опытом, помогли мне выразить и воплотить на практике идеи, вошедшие в эту книгу.
Все мои друзья, коллеги, родные и близкие, которые ободряли меня, даже если не вполне понимали, в чем суть моей работы и что я имею в виду, говоря о поисках смысла.
1
Жизнь — не просто то,
что с нами происходит
В конечном счете человек не должен спрашивать: «В чем смысл моей жизни?», но должен отдавать себе отчет в том, что он сам и есть тот, кого спрашивают. Жизнь ставит перед нами проблемы, и мы можем отвечать только ответственностью за свою жизнь; единственный способ ответить жизни — это быть ответственным1.
Каждый день Вита приносит мне почту и всегда весела. Это ее фирменная марка. Однажды в плохую погоду я услыхал, как она насвистывает, разнося письма и газеты, и крикнул ей вслед: «Спасибо вам, вы делаете огромное дело!» Она замерла в изумлении, потом проговорила: «Спасибо. Как здорово, я не привыкла к таким словам. Я в самом деле очень рада».
Мне захотелось расспросить ее подробнее: «Как вам удается изо дня в день сохранять бодрость и хорошее настроение, занимаясь доставкой почты?»
«А я, — отвечала Вита, — считаю, что не просто доставляю почту. Я поддерживаю связь между людьми, помогаю их объединять. Кроме того, люди зависят от меня, и я не хочу их подводить». Ее слова звучали вдохновенно и гордо.
Отношение Виты к ее работе почтальона заставляет вспомнить девиз, начертанный на здании Главного почтамта в Нью-Йорке: «Ни снег, ни дождь, ни ночной мрак не помешают этим гонцам быстро пройти назначенный круг». Это цитата из Геродота, древнегреческого историка, жившего в V в. до н.э. Доставка вестей от одного человека к другому, появившаяся в далеком прошлом, сейчас стала сердцем нашего информационного общества; и все-таки словосочетание «пойти в почтальоны» вызывает совсем другие ассоциации.
Справедливо это или нет, но оно стало символом всего самого плохого, что может быть в работе: скуки, однообразия, риска встречи с хулиганами или злыми собаками, грубости клиентов и автоматизма, который в конце концов оборачивается взрывом накопившегося раздражения, диким бешенством в ответ на все несправедливо причиняемые страдания.
Современному человеку угрожает предполагаемая бессмысленность его жизни, или, как я это называю, экзистенциальный вакуум. В чем же проявляется этот вакуум, столь часто скрытый, чем он заявляет о себе? Состоянием скуки2.
Каково бы ни было наше мнение о достоинствах той или иной карьеры или профессии, смысл работе придает всегда тот человек, который ее выполняет. Пример Виты доказывает, что слова древнего историка живы и в XXI в.
Но Вита видит свое дело не только в том, чтобы «быстро проходить назначенный круг», как гонцы у Геродота, а ощущает его как служение более высокой цели. Она идет дальше выработки позитивного мышления, способного примирить почтальона со всей «тягомотиной», свойственной этой работе. Обязанность доставлять почту стала для нее жизненно важной миссией, которую она, и только она может выполнить. Она знает, что от нее зависят люди, — пусть даже презирающие ее работу, — а это кое-что да значит. Она вносит в свою работу смысл, и та становится осмысленной, значимой.
Я убежден, что при тщательном анализе в любой ситуации обнаружится зерно смысла3.
Почему некоторые люди, такие как Вита, мой почтальон, преданно и вдохновенно относятся к своей работе — даже самой что ни на есть рутинной? Почему они легче других справляются с тяжелыми и запутанными обстоятельствами на работе и дома, не теряются в изменившихся обстоятельствах? Они находят смысл там, где другие его не видят, — каким же образом? Это сложные вопросы, и на них нет простых ответов — зато есть ответы осмысленные. Цель книги в том, чтобы помочь вам к ним прийти, осветить ваши поиски смысла, ваш путь к его обретению в работе и повседневной жизни.
О чем эта книга
Привычка, как известно, вторая натура. Стремясь к жизни, которая была бы предсказуемой и позволяла нам постоянно пребывать в «зоне комфорта», мы вырабатываем для себя стереотипы поведения, а часто и мышления. Фактически в сознании «протаптываются тропинки», как на покрытом травой поле в тех местах, где все время ходят. А поскольку мы следуем этим стереотипам автоматически, у нас может создаться впечатление, что в нашей жизни «от нас ничего не зависит», что она — лишь череда происходящих с нами событий. В результате мы не только оправдываем свои действия в ответ на каждое событие, но и становимся жертвой сил, работающих на ограничение нашего человеческого потенциала. Тот, кто рассматривает себя как относительно слабое существо, находящееся во власти инстинктов, вряд ли способен создать собственную реальность — или даже принять участие в ее создании. Он сам себя запирает в ментальной тюрьме и теряет из виду свой естественный потенциал, а также потенциал других людей.
У каждого из нас — свой внутренний концлагерь... по отношению к которому мы должны проявлять снисходительность и терпение, — как полноценные человеческие существа; как те, кто мы есть, и те, кем хотим стать4.
Способы, какими мы держим себя в плену собственных мыслей, хорошо исследованы и описаны в ряде работ, посвященных психической и духовной жизни человека. Врач Дипак Чопра в аудиокниге «Жизнь без ограничений» говорит: «Мы возводим тюрьму и, что трагично, даже не видим ее стен»5.
Но мы можем изменить устоявшийся образ мыслей, «разморозить» себя и расширить ограниченный кругозор, найти ключ и отпереть камеру своей метафорической тюрьмы. В этом нам помогут поиски смысла.
Виктор Франкл, психиатр, переживший во время Второй мировой войны ужасы нацистских концлагерей, нашел смысл вопреки — и благодаря — перенесенным страданиям. Трудом его жизни стала терапевтическая методика, называемая логотерапией, которая проложила нам путь к пониманию смысла как основы человеческого существования. Франкл оговаривается: страдания вовсе не обязательное предварительное условие для того, чтобы найти смысл жизни. Но если (и когда) они присутствуют, то, какими бы чудовищными они ни были, мы всегда можем отыскать в сложившейся ситуации некий смысл и, делая так, вступаем на путь, ведущий к осмысленной жизни. А осмысленная жизнь предполагает осмысленную работу.
В этой книге исследуются семь основных принципов, которые я взял из работ Франкла: 1) что бы с нами ни случалось, мы свободны выбрать, как относиться к происходящему; 2) мы стремимся к смыслу, поэтому сознательно придерживаемся осмысленных ценностей и преследуем осмысленные цели; 3) мы способны выявить смысл каждого момента собственной жизни; 4) в наших силах научиться определять, как мы работаем против себя; 5) мы умеем смотреть на себя со стороны, — что помогает нам лучше понять себя и свое положение, — а также смеяться над собой; 6) мы можем переключать внимание, когда нужно справиться со сложной ситуацией; 7) мы в состоянии выйти за пределы своих личных интересов и изменять мир к лучшему. Эти принципы, составляющие, на мой взгляд, фундамент учения Франкла, применимы везде и всегда. Они ведут нас к смыслу, свободе и более глубокой связи с собственной жизнью и жизнями других людей, близких и далеких.
Чтобы мы стали считать, что жизнь в основе своей осмысленна и обладает поистине неограниченным потенциалом, в нашем сознании должен произойти сдвиг. Кроме того, с нашей стороны необходим самостоятельный и ответственный поступок, поскольку смысл, заложенный во всяком моменте нашего существования, можно искать и находить только индивидуально. Эта ответственность, пишет Франкл, «лежит на каждом из нас постоянно, даже в самом отчаянном положении и буквально до последнего дыхания»6.
В жизни самого Франкла, действительно исполненной смысла вплоть до последнего дыхания, философия и терапевтическая методика были неотделимы от практики. Его личный опыт — а он побывал и узником концлагеря, и знаменитым врачом, уважаемым главой влиятельного научного направления — показывает всю безграничность человеческих возможностей. Биография Виктора Франкла — лучшее доказательство того, что ключи к освобождению из «тюрьмы жизни» — реальной или воображаемой — находятся у нас и в пределах нашей досягаемости.
Но захотим ли мы выйти на свободу? Это зависит только от нас, от нашего выбора, за который мы отвечаем целиком и полностью. Отыскивая и выявляя подлинный смысл своего существования, своего опыта, мы обнаруживаем, что жизнь вовсе не сводится к происходящим с нами событиям. Мы совершаем поступки и делаем жизнь осмысленной.
Гуманизация труда
Перемены в сфере труда, произошедшие в XXI в., во многих отношениях отражают тенденцию к гуманизации, к появлению нового сознания, предполагающего нечто большее, чем просто баланс между работой и личной жизнью. Налицо стремление считаться с индивидуальностью каждого и полностью задействовать в работе — в чем бы она ни заключалась — духовный потенциал человека. Сама по себе идея сделать работников сильными телом, разумом и духом, безусловно, не нова — ново ее реальное применение. Характер труда изменился в сторону большей адаптации к человеческому фактору; кое в чем этому способствовал технический прогресс. И сегодня труд нуждается в подъеме человеческого духа.
Цель этой книги — привнести в работу смысл и, говоря без обиняков, сделать для феномена труда то, что Франкл как психиатр сумел сделать для психотерапии. Многие называют Франкла создателем гуманистической медицины и психиатрии, а его уникальная методика известна во всем мире как система гуманистической психотерапии. Логотерапия дает пациенту осознать, что он свободен в своей реакции на все превратности судьбы, помогая ему таким образом найти конкретный смысл в собственной жизни. Терапевтический эффект достигается путем укрепления веры в безусловную осмысленность жизни и в человеческое достоинство. Применяя тот же подход к ситуации работы, мы можем в еще большей степени гуманизировать свою трудовую жизнь и придать более глубокий смысл тому, что делаем.
С подходом, основанным на логотерапии, мы можем найти безусловный смысл в ситуациях, возникающих в работе и повседневной жизни, научиться ценить в каждом из коллег неповторимую человеческую личность. Это непростая задача, но мы лучше срабатываемся, когда отмечаем различия между нами так же радостно, как и сходные черты, и результатом становится мощная синергия. Стивен Кови, автор знаменитой книги «Семь навыков высокоэффективных людей», который, как и я, испытал большое влияние идей Франкла, проницательно замечает, что «разница — начало синергии»7. Осознав и начав использовать этот факт, руководители и менеджеры становятся проводниками фундаментальных изменений в работе своих предприятий. У каждого расширяются возможности для поиска и нахождения смысла — на работе, дома и во всех аспектах жизни в целом.
Однако безусловному смыслу соответствует безусловная ценность каждой личности. Именно она гарантирует неотъемлемость человеческого достоинства. Точно так же, как жизнь остается потенциально осмысленной при любых, даже самых ужасных условиях, ценность личности всегда остается при ней8.
Определить свой путь
Конечно, очень сложно быть человеком всегда и во всем, ведя соответствующую жизнь и дома, и в игре, и в работе. Для этого нужна готовность к самоанализу, опирающемуся в первую очередь на то наше свойство, которое Франкл в своих работах называет «волей к смыслу», — способность вести поиски смысла в любых обстоятельствах. Стремление находить смысл в любом моменте жизни красной нитью проходит через все аспекты нашего существования. И оно определяет процесс, а не результат, путь, а не конечную точку, достигнув которой всё успокаивается, — такой точки нет в человеческой жизни. Эта книга рассказывает о вехах на пути к смыслу.
В главе 2, «Жизнь и наследие Виктора Франкла», дается краткое изложение биографии великого ученого и его теории. Создав логотерапию, он принес в лечение психических заболеваний новые мощные методы, основанные на понимании и сострадании. Книги и лекции Франкла во многом определили мой образ мыслей, род занятий и всю жизнь.
Многочисленные пути к смыслу — тема главы 3, «Лабиринты смысла». В ней я также обращаюсь к семи основным принципам учения Франкла, введенным ранее. Эти жизненно важные принципы разбираются по одному в последующих главах: «Быть всегда свободным» (4), «Стремиться к смыслу» (5), «Выявлять в жизни значимые моменты» (6), «Не работать против себя» (7), «Смотреть на себя со стороны» (8), «Переключать внимание» (9) и «Выходить за пределы собственного “я”» (10).
Можно сказать, что инстинкты передаются посредством генов, а ценности — посредством традиций. Но смыслы уникальны, их каждый открывает для себя сам9.
Глава 4, «Быть всегда свободным», посвящена понятию свободы воли в логотерапии. Лучше всего оно описывается в знаменитых словах Франкла: «можно отнять у человека все, кроме одного: последней из человеческих свобод — свободы в любых обстоятельствах выбрать, как к ним отнестись, выбрать свой путь»10. Ключевой момент здесь тот, что ответственность за выбор лежит на нас и ни на ком другом.
В главе 5, «Стремиться к смыслу», рассматривается франкловская концепция «воли к смыслу» и то, как мы воплощаем свои ценности в нашей работе и жизни. По Франклу, логотерапия «рассматривает человека как существо, главная забота которого состоит в том, чтобы придать своей жизни смысл и актуализировать свои ценности, а не только в следовании собственным побуждениям и в удовлетворении инстинктов»11. В контексте этих слов осмысленная работа представляет собой нечто большее, чем выполнение определенных задач ради конкретного вознаграждения, такого как деньги, влияние, положение в обществе или престиж. Сохраняя верность ценностям и целям, которые могут казаться неясными, но тем не менее «реальны» и осмысленны, мы удовлетворяем глубочайшую из своих потребностей.
И мы только сами можем отвечать за свою жизнь, осмысливая каждое мгновение собственного существования и сплетая из этих мгновений неповторимый узор, — таков основной тезис главы 6, «Выявлять в жизни значимые моменты». В ней мы продвинемся в сферу высшего смысла, заключенного в любви. Целостные воззрения Франкла на значение интуитивного дара любви и совестливости помогают лучше понять, как проявляет себя смысл в работе и повседневной жизни. Франкл писал: «Любовь есть последняя и высшая цель, к которой может стремиться человек. <...> Спасение человека — в любви и благодаря любви»12. Но наша способность сделать любовь частью своей жизни, а особенно работы, не только прискорбным образом ограничена, но и считается в нынешнем мире «измеримого» труда чем-то подозрительным.
Иногда исполнению наших самых пламенных желаний мешает наша же одержимость результатом. В главе 7, «Не работать против себя», анализируется техника так называемой «парадоксальной интенции» и возможности ее применения к ситуациям, возникающим на работе и в повседневной жизни. Имеются в виду случаи, которые Франкл называет «гиперинтенцией». Например, стремление по мелочам вмешиваться в работу окружающих, давая им указания, может привести к сильнейшему стрессу, страху перед аудиторией, даже скрытому, а то и открытому саботажу и в итоге — результату, противоположному тому, которого добивался менеджер. Чрезмерная фиксация на проблеме подчас не дает нам увидеть решение, и точно так же фиксация на определенном результате становится на пути наших лучших намерений.
Глава 8, «Смотреть на себя со стороны», сосредоточивается на самоотстранении и на том, как оно, среди прочего, способно помочь нам правильно оценивать значимость задач и не тратить слишком много сил на мелочи. Франкл отмечал, что «только человек обладает способностью отделиться от себя и взглянуть на себя с некоторого расстояния или с определенной точки зрения»13. Это включает и такую чисто человеческую черту, как чувство юмора. Как писал Франкл, «ни одно животное не умеет смеяться, тем более над самим собой»14. Самоотстранение освобождает нас для большей открытости и восприимчивости по отношению к пространству возможного в нашей жизни.
Находясь в концлагере, Виктор Франкл боролся со стрессами, страданиями, конфликтами, переключая внимание с невыносимых обстоятельств на другие, не столь ужасные. В главе 9, «Переключать внимание», этот прием исследуется с точки зрения его применения в различных ситуациях на работе.
В главе 10, «Выходить за пределы собственного “я”», говорится о самотрансценденции. Самотрансценденция — это нечто большее, чем переключение внимания с одной вещи на другую, здесь мы вступаем в духовную сферу высшего смысла и ощущаем неразрывную связь между собственной жизнью и жизнями других людей. Мы видим высший смысл, заключенный в служении — неважно, какого масштаба.
В главе 11, «Увидеть смысл в жизни и работе», я соединяю собственные воззрения и учение Франкла в концепцию, которая может применяться в повседневной работе и жизни, наполняя индивидуальным и высшим смыслом каждое мгновение нашего существования. Наконец, глава 12, «Принципы в действии», содержит примеры практического применения семи принципов в самых разных жизненных и рабочих ситуациях.
Итак, давайте обратимся к биографии доктора Франкла, к основам его учения, в центре которого находится смысл, и посмотрим, как можно соотнести эту философию с работой, рабочими проблемами и жизнью каждого из нас.
Вспомните ситуацию, в которой вы испытывали резко отрицательные чувства по поводу своей работы или должности. Например, вам совершенно не нравилось то, чем вы занимались, был неприятен непосредственный начальник, шеф, коллеги (быть может, это и сейчас так). Рассматривали ли вы себя как «жертву» не зависящих от вас обстоятельств или считали, что в определенном смысле «сами виноваты» в создавшейся ситуации и, следовательно, разбираться в ней — ваша задача? Предприняли ли вы что-нибудь, если да, то что? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Что вы можете предпринять, чтобы сделать свою нынешнюю работу более осмысленной?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Спросите себя честно, находитесь ли вы в плену у собственных мыслей. Что можно сказать об окружающих вас людях, в том числе о коллегах, товарищах по работе?
2
Жизнь и наследие
Виктора Франкла
Я никогда не забываю сделанного мне добра и не держу зла на своих обидчиков15.
Я, кажется, знал Виктора Франкла бóльшую часть своей жизни. Впервые я познакомился с его трудами в конце 1960-х гг., когда прочел книгу — теперь классическую — «Человек в поисках смысла». Находясь на действительной службе в американской армии, я получил специальность социального работника и психолога в военном госпитале имени Уолтера Рида в Сан-Антонио (штат Техас). Там мне довелось работать бок о бок с замечательными врачами-психотерапевтами, и я заинтересовался различными теориями и методиками, существующими в психологии и психиатрии. Работа Франкла произвела на меня особенно сильное впечатление, а со временем она прочно вошла в мою личную и профессиональную жизнь.
Последующие годы дали мне массу шансов применить учение Франкла на практике, в том числе в ситуациях, где проверялась моя собственная «прочность на разрыв». Так что я многократно проводил «полевые испытания» основных франкловских принципов, причем часто мог сопоставить их с точки зрения действенности и надежности с тем, что предлагали другие школы. Быстро убедившись в эффективности теории и методов Франкла, я стал де-факто практиковать логотерапию — задолго до того, как в моем уме зародилась идея этой книги.
Течение моей жизни, в том числе профессиональной, не раз становилось бурным и напряженным. Подобные «переломные моменты» (фактически многие из них были довольно продолжительными периодами), в которые определялась моя дальнейшая судьба, требовали от меня серьезного самоанализа и ответов на трудноразрешимые вопросы; хорошо помню охватывавшее меня тогда чувство неуверенности — и даже, пожалуй, растерянности. Кстати, как я недавно узнал, Томас Мур, известный психотерапевт, автор знаменитой книги «Забота о душе», считает, что состояние беспокойства более способствует раскрытию души человека, чем психическое равновесие. В любом случае именно в эти моменты я концентрировался на смысле, применяя на деле философию и методы Франкла.
Позвольте мне теперь привести пример того, как моя стойкость подверглась испытанию в связи с работой и как я применил некоторые из основных принципов Франкла, чтобы решиться на ответственный поступок. Речь шла о моем найме на полный день (правда, только на лето) в большую инженерно-строительную фирму в Нью-Джерси. Я недавно закончил колледж и планировал после армии специализироваться в области юриспруденции. Отец, инженер по специальности, устроил меня в отдел контрактов этой фирмы, рассчитывая, что я приобрету полезный опыт, который пригодится мне в дальнейшей карьере. Желание отца заключалось в том, чтобы я изучал договорное право и, завершив образование, стал поверенным по контрактам в его собственной компании.
Надо сказать, что такая карьера была далека от моих собственных устремлений, как небо от земли: единственным, что меня интересовало тогда в законодательстве, были пути его использования в качестве инструмента социальной политики и для проведения изменений в обществе. Шла вьетнамская война, и, разумеется, отец и наниматель были отнюдь не в восторге от моих взглядов. А я содрогался при мысли о карьере поверенного и чувствовал, что попал в ловушку. Чтобы пережить ближайшее лето, мне срочно нужно было что-то предпринять. И, поскольку я читал книгу Франкла, в моей голове немедленно начал вырисовываться план побега из отдела контрактов. Конечно, мой отец был очень властным человеком и я ему с детства во всем подчинялся, но все-таки это принуждение нельзя было сравнить с нацистским концлагерем!
Таким образом, именно Франклу я обязан тем, что смог оценить ситуацию и отреагировать на нее. Во-первых, я заранее решил, что буду относиться к своему положению позитивно, — ведь я же твердо верил, что в конце концов сумею избежать уготованной мне участи. Во-вторых, ситуация определенно давала мне шанс прояснить для себя, что я ценю в работе, чем хочу заниматься, а чем нет. Я решил, пользуясь терминологией Франкла, проявить свою волю к смыслу и выполнять только ту работу, которая отвечает моим главным ценностям.
В-третьих, в течение краткого периода работы в фирме в Нью-Джерси мне удавалось осознанно применять технику как дерефлексии, так и самоотстранения (соответственно, переключая внимание на то, что имело для меня значение, и сохраняя чувство юмора). В-четвертых, опыт пребывания в той конкретной фирме и на той конкретной должности помог мне выявить и соединить вместе несколько принципиально важных характеристик работы и образа жизни. И я осознал, что готов отстаивать эти ценности в самых яростных спорах с отцом (которые действительно происходили), что ради них стоит и стараться, и рисковать!
В итоге мое стремление к осмысленному существованию вылилось в ссору и разрыв отношений с отцом, я уволился из фирмы и изменил программу обучения. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что, избрав тогда — в решающей точке жизненного пути — именно такой образ действий, я приобрел стойкость, которая в дальнейшем помогала мне справляться с другими сложными ситуациями.
Как видите, идеи Виктора Франкла помогли мне настоять на выборе рода занятий, который я считал правильным, и тем самым на многие годы определили мой жизненный путь. Позднее мне посчастливилось лично встретиться с Франклом и спросить у него совета. Так что эта книга действительно и вдохновлена, и одобрена великим психологом.
Жизнь, полная смысла
Виктор Франкл очень рано осознал свое призвание. Его собственные поиски смысла начались задолго до того, как Холокост собрал свою чудовищную дань и стал почвой, на которой взошла главная книга великого психолога — «Человек в поисках смысла». В шестнадцатилетнем возрасте Франкл впервые выступил с публичной лекцией, которая называлась «О смысле жизни», а два года спустя в качестве выпускного сочинения написал эссе «О психологии философской мысли». Он как будто на каком-то уровне готовился к трагедии, ожидавшей его в будущем, и к той роли, которую ему предстояло сыграть в возвращении людям надежды после той безнадежности и отчаяния, в которое Холокост поверг все человечество. Совсем молодым Франкл пришел к убеждению, что уникальность человека заключена в его духе и нельзя умалять или вовсе отрицать значение духа, сводя жизнь к иным, более примитивным факторам или побуждениям, как делали многие экзистенциалисты — философы и психологи.
Но логотерапию он создал только после того, как прошел через ад отчаяния, внушаемого очевидной бессмысленностью жизни, и поборол пессимизм, связанный с такими редукционистскими, а в конечном итоге нигилистическими взглядами на жизнь. В 1980 г. на конференции в Сан-Диего Франкл сказал, что боролся с этими взглядами, как Иаков с ангелом, до тех пор, пока не смог «все-таки сказать жизни “да”». Интересно, что эти слова он вынес в заглавие одной из ранних редакций книги «Человек в поисках смысла».
Франкл родился в Вене 26 марта 1905 г. и был вторым из трех детей. 26 марта — дата смерти Бетховена, и Франкл в автобиографии с юмором вспоминает, как его одноклассник по этому поводу в шутку цитировал поговорку: «Беда никогда не приходит одна»16. Отец Виктора, государственный служащий, которому нехватка денег не дала завершить медицинское образование, 35 лет проработал в департаменте защиты детей и подростков. Сыну он дал спартанское воспитание, привив ему рационализм и твердое чувство социальной справедливости. Под влиянием матери, с которой Виктор был очень близок, формировалась эмоциональная сторона его личности — чувства и межчеловеческие связи, — не менее значимая, чем рационализм и логичность.
В ранние годы он стремился к совершенству во всем и не на шутку сердился на себя за промахи. «Я даже не разговариваю с собой по несколько дней», — говорил он, объясняя, до какой степени недоволен каким-либо своим недостатком. На удивление рано заинтересовавшись психоанализом, он написал Зигмунду Фрейду, а затем переписывался с ним все то время, что учился в старших классах. Письма не сохранились — они были уничтожены гестапо, когда самого Франкла отправили в концлагерь.
В 1924 г. Франкл по предложению Фрейда опубликовал в «Международном журнале психоанализа» свою первую статью. 19-летний юноша развивал в ней две идеи. Первая заключалась в том, что мы сами должны ответить на вопрос о смысле своей жизни, что этот вопрос задает нам жизнь и мы в ответе за собственное существование. Вторая — что высший смысл для нас непостижим и должен таковым оставаться, но нам следует верить в него и стремиться к нему. Эти идеи, сформировавшиеся в молодости, служили основой для его наблюдений в годы заключения и выдержали самые суровые испытания, какие только можно вообразить.
В том же 1924 г. Франкл начал изучать медицину и вскоре сблизился с кружком знаменитого психиатра Альфреда Адлера. Адлер предложил Франклу опубликовать еще одну статью — на сей раз в «Международном журнале индивидуальной психологии». В тот момент Франклу было 20 лет.
Еще год спустя, выступая с публичной лекцией в Германии, Франкл впервые употребил слово «логотерапия». Его не привлекал бесчеловечный по сути редукционистский подход в психотерапии, и он, признавая человеческие слабости, видел за ними глубинный смысл, возможность извлечь из них урок, превратить слабость в силу. «Я убежден, — говорил Франкл, — что при тщательном анализе в любой ситуации обнаружится зерно смысла»17. Этот юношеский идеализм стал основой логотерапии, которая и по сей день вдохновляет нас на то, чтобы сражаться за смысл, искать и находить его в своей жизни.
Научный путь Франкла не был гладким и бесконфликтным. В 1930 г., когда он получил медицинскую степень, его уже не принимали в кружке Адлера, поскольку расхождения во взглядах стали слишком очевидными. Но Франкл успел приобрести международную известность консультированием молодежи и с 1930 по 1938 г. состоял в штате университетской психиатрической клиники в Вене. Когда в 1938 г. немцы захватили Австрию, он был частнопрактикующим врачом-неврологом и психиатром.
В первые годы войны Франкла и его семью до некоторой степени защищало то, что он занимал пост заведующего неврологическим отделением в больнице Ротшильда — единственной еврейской больнице в Вене. Работая там, Франкл спасал жизни пациентов, рискуя собственной: нацисты требовали эвтаназии душевнобольных, а он саботировал распоряжение, ставя неправильные диагнозы. Именно в это время он начал писать свою первую книгу, «Доктор и душа», впоследствии конфискованную нацистами.
В сентябре 1942 г. Франкл вместе со всей семьей был арестован и отправлен в концлагерь Терезин неподалеку от Праги. Так начались для него три года заключения в лагерях смерти, когда он потерял жену Тилли, обоих родителей и брата. Из Терезина Франкл попал в Освенцим, затем в Дахау и, наконец, в Тюркхайм, где чуть не умер от тифа и держался, восстанавливая рукопись своей книги на клочках бумаги, украденных из лагерной конторы. Вспоминая об этом, Франкл пишет в автобиографии: «Я убежден, что своим выживанием обязан, среди прочего, решению непременно восстановить утраченную рукопись»18.
О том, что ему довелось пережить в концлагерях, Франкл рассказывает в книге «Человек в поисках смысла». Не преувеличивая и не преуменьшая, он повествует о жестоком обращении с узниками, о пытках, убийствах — и о красоте человеческого духа, о том, как людям удавалось в самых невообразимых условиях преодолеть ужас и найти смысл жизни. Опыт и наблюдения укрепили приверженность Франкла принципам, к которым он пришел еще в юности. И в конце войны он, выживший узник концлагеря и врач-психиатр, знал, что его теория логотерапии получила мощнейшее подтверждение и приобрела еще более глубокий смысл. Он писал о постоянных кошмарах, преследующих бывших узников, но ценил пережитое как по-настоящему твердый фундамент для своей веры в самотрансценденцию и волю к смыслу.
За жалким положением мне видна возможность раскрыть заключенный в нем смысл и тем обратить очевидно бессмысленное страдание в подлинно человеческое достижение. Я убежден, что при тщательном анализе в любой ситуации обнаружится зерно смысла19.
После окончания войны Франкл вернулся в Вену, где стал директором Венской неврологической поликлиники. На этом посту он проработал 25 лет. Франкл также начал долгую и плодотворную преподавательскую деятельность. Он читал курсы в Венском университете, Гарварде и многих других университетах разных стран, 29 раз стал почетным доктором и написал 32 книги, которые были переведены на 37 языков мира. «Человек в поисках смысла» считается одной из десяти книг, оказавших наибольшее влияние на американцев.
В 1992 г. в Вене был создан Институт Виктора Франкла. Сегодня это центр всемирной сети научных и образовательных учреждений и обществ, занимающихся продвижением философии и терапевтической системы Франкла. Франкл умер 2 сентября 1997 г. в возрасте 92 лет. До конца жизни он продолжал активно и плодотворно работать. Само его присутствие действовало на других и помогало им. Психолог Джеффри Зейг, которому посчастливилось знать Франкла и его семью, выразил свои впечатления от общения с ним цитатой из «Первого человека» Альбера Камю: «Есть люди, которые оправдывают существование этого мира, которые помогают другим самим фактом своего присутствия». Вне всякого сомнения, Виктор Франкл был именно таким человеком.
Наследие смысла
Значение исключительной жизни Франкла и его работ трудно переоценить. Одни лишь его книги оказали огромное влияние на представителей всех слоев общества — профессоров и студентов, политиков и религиозных лидеров (включая папу Павла VI), философов, психологов, психиатров и миллионы других людей, стремящихся отыскать смысл жизни. Но сам Франкл был скромным человеком, слава и популярность его не совершенно не интересовали.
Он обладал способностью воодушевлять тех, чья жизнь накрепко соединилась с борьбой. Так, Джерри Лонг, житель Техаса, в 17 лет в результате травмы при прыжке в воду получил паралич четырех конечностей. Он мог только печатать на машинке, зажав в зубах палочку размером с карандаш. Но молодой человек стремился стать психологом и помогать людям. Прочтя книгу «Человек в поисках смысла» он написал Франклу, упомянув, что считает свои трудности далеко не такими серьезными, как те, с которыми пришлось встретиться Франклу и его товарищам.
Перечитывая книгу, Джерри каждый раз делал для себя новые открытия. Он говорил: «Я страдал, но знаю, что многого не мог бы достичь без страданий». Позднее, встретившись с доктором Франклом лично, Джерри сказал ему: «Несчастный случай сломал мою спину, но не сломал меня».
Цитируя Франкла: «не обязательно страдать, чтобы чему-то научиться. Но если страдание, не подвластное вашей воле, ничему вас не учит, ваша жизнь становится поистине бессмысленной. <...> То, как человек принимает свою судьбу — вещи, которые не подвластны его воле, — может придать его жизни более глубокий смысл. Он контролирует свою реакцию20.
В гитлеровских лагерях смерти Франкл встречал людей, которые, проходя по баракам, подбадривали окружающих, делились с ними последним куском хлеба. «И пусть таких было немного, — пишет он, — их пример подтверждает, что можно отнять у человека все, кроме одного: последней из человеческих свобод — свободы в любых обстоятельствах выбрать, как к ним отнестись, выбрать свой путь»21.
Эти слова — пожалуй, самое цитируемое высказывание Франкла. Так, с них начинается предисловие к книге «Вера моих отцов» сенатора США Джона Маккейна. Маккейн считает, что в значительной степени именно благодаря Франклу, его опыту и урокам, сумел выдержать семь лет во вьетнамском плену.
Ссылки на Франкла многочисленны в специальной и популярной литературе, где обсуждается тема самореализации человека в работе. Особенно сильное влияние взгляды Франкла оказали на Стивена Кови, автора бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей». В книге «Главное внимание — главным вещам: жить, любить, учиться и оставить наследие», написанной Кови в соавторстве с Роджером и Ребеккой Мерриллами, цитируется следующее высказывание из «Человека в поисках смысла», относящееся к лагерному опыту Франкла: «Самым важным фактором было чувство будущего — мобилизующая убежденность тех, кому предстояло выжить, в том, что у них есть некая миссия, некая важная работа, которая должна быть сделана»22.
Наследие Виктора Франкла весьма обширно. Его биография и труды напоминают нам, что у каждого из нас есть важное дело — в чем бы оно ни заключалось, — и что смысл присутствует всегда и во всем.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы чувствовали себя в ловушке или в плену (быть может, это и сейчас так). Возможно, у вас просто не было (нет) достаточной свободы или полномочий, чтобы действовать так, как вы считали бы правильным. Предприняли ли вы что-нибудь, если да, то что? В чем состоял ваш план побега? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы представляете себе то дело, которым действительно хотели бы заниматься?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте о трудностях, с которыми встречались на работе. Мог ли бы лагерный опыт Франкла как-то помочь вам с ними справиться? Чем бы он вам пригодился?
3
Лабиринты смысла
Хочу подчеркнуть, что человек должен открыть подлинный смысл жизни в окружающем мире, а не внутри себя или своей души, рассматриваемой как замкнутая система23.
В одной из серий популярного комедийного телесериала «Фрейзьер» главный герой, доктор Фрейзьер Крейн, узнает, что его работа в качестве врача-психиатра и ведущего программы на радио удостоилась премии «За прижизненные достижения». Перед церемонией награждения он отправляется за советом к другому психиатру — своему наставнику, — поскольку в связи с получением премии испытывает беспокойство и двойственные чувства. На консультации выясняется, что Фрейзьер, несмотря на профессиональные успехи, ощущает душевную опустошенность, а при вручении премии он произносит необычайно краткую благодарственную речь, которую заканчивает экзистенциальным вопросом: «И что мне теперь делать с оставшейся жизнью?» Ситуация, конечно, вымышленная, но проблема вполне реальна. Фрейзьер достиг критической точки своего жизненного пути. И, как в лабиринте, полном изгибов и поворотов, он не видит, куда идет.
Лабиринт — не головоломка, которую надо один раз решить. Его проходят и переживают. Он весь состоит из витков и поворотов, но в нем нет тупиков. В нем один вход, один путь внутрь и один наружу. Мы блуждаем там по коротким и длинным дугам, то приближаясь к внешней границе, то кружа около центра. Ориентация никогда не теряется полностью, но то, что впереди, постоянно от нас скрыто. На каких-то участках мы движемся легко и уверенно, на каких-то — крадемся с опаской, где-то ощущаем потребность остановиться и подумать, а то и повернуть назад. Лабиринт во многом похож на жизнь. Центр совсем рядом, но путь к нему петляет и кружит. Иногда мы оказываемся в зале, к которому стремились, иногда — в прихотливом изгибе, иногда у нас есть спутники, иногда нет. Как бы то ни было, мы в лабиринте, и там находится весь наш трудовой и жизненный опыт.
Многие великие соборы возведены на месте древних лабиринтов. Знаменитый лабиринт из одиннадцати витков, выложенный на мозаичном полу Шартрского собора во Франции, считается символическим изображением паломничества в Иерусалим. Но вместе с тем он еще и метафора человеческой жизни в целом. В кругах и изгибах старинного рисунка содержится все, что мы испытываем. Там наши разум и чувства, физическая и духовная сущность, потери и приобретения, удачи и провалы, радости и горести. Входя внутрь, мы несем с собой свое бремя, размышляя или молясь в центре, просим о милосердии, прощении и понимании, выходя, чувствуем облегчение, радость и готовность вновь принять вызов, который бросает нам жизнь.
Меня самого, грека по происхождению, с детства завораживает Критский лабиринт. Это классический лабиринт из семи витков, построенный более 4000 лет назад. Некоторые археологи предполагают, что его форма восходит к спиралям, встречающимся в природе, но моим воображением всегда владел миф о Тесее и Минотавре. Ребенком я стремился исследовать неведомое, хотел быть полезным даже тогда, когда бунтовал против родительской власти, отстаивая собственный путь. И этот путь, подчас извилистый, остался моим и только моим. Оглядываясь назад, я вижу в нем гармонию, которую не мог бы тогда предсказать.
Более 30 лет назад я впервые познакомился с трудами Виктора Франкла. И хотя род моих занятий с тех пор резко переменился, содержание моей работы по-прежнему основано на учении Франкла о смысле. Служба в армии в конце 1960-х гг. показала мне, сколь необходимо найти смысл для исцеления ран, которые война нанесла и военным, и штатским. В 1970-е гг. в Чикаго, работая в сфере охраны психического здоровья, я наблюдал, как шизофреники, сумевшие придать смысл своему существованию, без лекарств, хирургического вмешательства и электрошоковой терапии начинали жить полноценной жизнью. В 1980-е мне стало ясно, что для настоящей жизни необходимо соединить противоречия между теорией и практикой бизнеса, а в 1990-е — что бизнес может стать настоящим лидером преобразований в обществе и мире.
Лабиринт моей жизни, таким образом, вел меня от частного и практического к общему и теоретическому, и обратно. Но глубокая вера в учение Франкла о присущем жизни внутреннем смысле оставалась со мной постоянно.
Когда мы исследуем свой путь в работе как лабиринт смысла, устроенный по образцу классических лабиринтов (о свойствах которых говорилось выше), мы углубляем свой опыт. Рассматривая свою работу как выражение способностей нашего тела, разума и духа, мы воздаем должное собственной внутренней жизни и связям, соединяющим нас с другими людьми и внешним миром. Смысл есть во всем. Это справедливо независимо от того, водим ли мы автобус или управляем корпорацией.
Не так давно, будучи на конференции в Новом Орлеане, я познакомился с Уинстоном, водителем заказного автобуса, обслуживающего участников крупных мероприятий, и увидел его работу. Для клиентов, по крайней мере поначалу, Уинстон всего лишь водитель, тот, кто обеспечивает их безопасное и своевременное перемещение из отеля в место проведения заседаний и обратно. Со стороны Уинстона всё иначе: для него клиенты — лабиринт опыта, важнейший источник смысла труда и жизни в целом.
«Добро пожаловать в Новый Орлеан», — этими словами он приветствовал каждого, кто садился в его автобус. По дороге Уинстон не только предлагал нам взглянуть туда, где, по его ощущению, находилось что-то заслуживающее нашего внимания, но и спрашивал, что мы хотели бы узнать о городе, и с готовностью давал рекомендации по поводу тех или иных городских достопримечательностей. Он шутил, и все пассажиры смеялись, а под конец, высаживаясь на месте прибытия, мы до того развеселились, что даже скандировали хором: «Ничего не оставляйте в автобусе!» Уинстону удалось создать у нас поистине необыкновенное впечатление от обыкновенной поездки на автобусе.
Как легко догадаться, не всех участников конференции радовали гостеприимные речи, шутки и советы — кто-то, безусловно, предпочел бы ехать в тишине, особенно рано утром. Но Уинстон старался узнать больше о своих клиентах — кто они, откуда, чем занимаются, для чего приехали, — и удивительным образом устанавливал с ними полное взаимопонимание. Его общительность и искренность придали конференции еще одно измерение, запоминающееся и значимое.
Уинстон, очевидно, проявляет подлинный интерес к людям и находит смысл в общении с клиентами. Работа водителя — тот способ, которым он исследует свой личный лабиринт, свой внутренний автобусный маршрут. И чем дальше он проходит по лабиринту, тем более глубокий смысл приобретает его работа и для него, и для тех, с кем он связан.
Высшим менеджерам и главам предприятий весьма стоило бы следовать примеру Уинстона. Но им приходится труднее, так как работа не слишком балует их «смысловыми» моментами. Итоговые показатели — суровые надсмотрщики, а отчетность часто бывает невеселой. И все же, хотя в рамках отлаженных процессов возможности для личных контактов и добрых слов весьма ограниченны, руководителю необходимо то и другое. Он, как всякий человек, нуждается в удовлетворении от работы, в том, чтобы его ценили и понимали. Тем самым ему следует прилагать сознательные усилия к установлению «внешних» связей — связей с миром за стенами зала совета директоров. И даже когда успешный бизнесмен осознает важность задачи, ему нелегко увязать свой внутренний мир с достижениями предприятия. Их переплетение — запутанный узор, извилистый лабиринт.
Тому Чаппеллу, президенту, генеральному директору и сооснователю (вместе со своей супругой Кейт) компании Tom’s of Maine, понадобилось более 30 лет, чтобы достичь гармонии между двумя призваниями — бизнесом и служением Богу. Начав с производства экологически безопасных моющих средств и зубной пасты, Том прошел по лабиринту смысла через сокровенные глубины своего внутреннего мира. Вот как это произошло.
В 1960–1970-х гг., когда возникло движение за охрану окружающей среды, одним из первых поводов для беспокойства стало загрязнение почвы (а вслед за ней — грунтовых вод, озер, морей, океанов) химическими отходами. Отвечая на запрос времени, Том Чаппелл разработал Clearlake — жидкое моющее средство, не содержащее фосфатов; и сам продукт, и его упаковка были экологически безопасными. Потом появилась зубная паста Tom’s of Maine из натуральных компонентов, не содержащая сахара и полезная для зубов. Она продавалась в магазинах здорового питания, т.е. за ней надо было ходить специально — в то время в обычных продовольственных магазинах не было секции натуральных продуктов.
О пасте Tom’s of Maine заговорили, и в этих разговорах паста символизировала заботу о здоровье и об окружающей среде. (Зачем использовать сахар при чистке зубов, если зубы от него разрушаются? Зачем портить природу, если можно не портить?) Том Чаппелл взял свои личные принципы отношения к окружающей среде и «как есть» применил их в собственном бизнесе, распространив и на продукцию, и на технологический процесс. Основанная в 1970 г. компания Tom’s of Maine быстро добилась успеха. Она выпускала зубную пасту, которая стала ее флагманским продуктом, а также воду для полоскания рта, зубную нить, дезодоранты, мыло, шампуни, крем для бритья, капли для носа, тоники и травяные экстракты. Все это продавалось теперь в любом продовольственном магазине, приносило компании хороший доход и создавало ей высокую репутацию.
Но 30 лет — это долгий срок, и человек за такое время не может не измениться. Том Чаппелл не был исключением. В середине 1980-х для него настало время определить, во-первых, как будет дальше развиваться Tom’s of Maine, а во-вторых, следует ли ему оставаться в компании. Достаточно ли стремиться только к коммерческому успеху или прибыли должны стать средством для достижения чего-то большего? И другая, еще более важная и сложная проблема волновала Тома: действительно ли его место — в компании? Он чувствовал призвание к церковному служению и подумывал о том, чтобы расстаться с бизнесом и поступить в семинарию.
Его путь в лабиринте смысла достиг точки, где требовалось решение — этическое и личное. Бизнес Tom’s of Maine вырос во много раз. В компанию пришли новые высокопрофессиональные сотрудники с «ментальностью MBA»: на первом месте в их иерархии ценностей стояли высокие финансовые показатели, и своей главной задачей они считали наращивание прибылей. Некоторые даже предлагали добавить в зубную пасту сахарин, чтобы сделать ее более приятной на вкус и тем самым более подходящей для основной массы потребителей. Это означало, что погоня за прибылями начинает разрушать заложенный при создании компании принцип — использовать только натуральные компоненты. Том больше не воспринимал компанию как отражение себя и своих ценностей, не получал удовлетворения от пребывания там. Источник вдохновения требовалось искать где-то еще.
В 1988 г. он, не бросая бизнес, поступил в Гарвардскую школу богословия. Следующие три года он из каждой рабочей недели проводил два с половиной дня в Кеннебанке, штат Мэн, занимаясь делами компании, а оставшиеся два с половиной — в Кеймбридже, штат Массачусетс, посвящая их учебе. Идеи, почерпнутые из трудов великих философов, теологов и моралистов, Том Чаппелл старался соотнести с бизнесом вообще и бизнесом своей компании в частности.
Ему оказались близки мысли немецко-еврейского философа XX в. Мартина Бубера, учившего, что существуют два типа отношений между людьми: «Я–Оно» и «Я–Ты». В первом случае мы рассматриваем другого как средство достижения своих целей, хотим что-то от него получить. Во втором — ведем с ним диалог на основе уважения, дружбы, любви. Иначе говоря, мы ценим окружающих либо как объекты, которые можем использовать в собственных интересах, либо как таковых, безотносительно к их полезности для нас. Том Чаппелл осознал, что они с Кейт инстинктивно вели компанию по пути «Я–Ты», в то время как профессиональные менеджеры смотрели на нее с точки зрения модели «Я–Оно».
Другим автором, оказавшим большое влияние на Чаппелла, был Джонатан Эдвардс, американский философ XVIII в. Эдвардс считал, что личность человека существует не сама по себе, а лишь в отношениях с другими людьми. Ухватившись за эту идею, Чаппелл попробовал применить ее к ситуации Tom’s of Maine. Действительно, он воспринимал свою компанию не изолированно, а как предприятие, непосредственно связанное со своими сотрудниками, клиентами, поставщиками, финансовыми партнерами, с правительственными учреждениями, с общественностью и даже со всей Землей.
Взгляд на компанию как на коммерческую организацию и в то же время социальную и моральную сущность лучше согласовывался с религиозными представлениями Чаппелла, и благодаря этому упрочились его связи с внешним миром. Бизнес Tom’s of Maine по-прежнему успешен в самом широком смысле слова: утоляет духовную жажду Чаппелла, отвечает на его стремление к смыслу — и приносит солидный доход. Компания, воплотившая юношеские идеалы основателя, в зрелые годы стала для него местом служения. И, следуя Франклу, можно сказать, что это поистине служение смысла.
Смысл есть в любом моменте — его надо только найти. Уинстон, водитель автобуса, реализует свое духовное «я» благодаря тому, что в каждом мгновении поездки и в каждом пассажире видит возможность для установления связи и для сопереживания. Общение с клиентами, мимолетное, но несмотря на это содержательное, наполняет его работу глубоким смыслом. Том Чаппелл, нестандартно мыслящий глава компании, приносит в свой многомиллионный бизнес смысл, поддерживая связи с сотрудниками, клиентами, продуктами, планетой и творчески выражая себя через эти связи.
На своем рабочем месте мы можем либо активно искать — и находить — смысл, либо считать то, что мы делаем, внешним по отношению к «настоящей» жизни. Выбирая второе, мы сами себя обкрадываем, лишая гигантского пласта переживаний. Даже ненависть здесь может стать плодотворной, коль скоро мы дадим себе труд задержаться и осмыслить свои внутренние и внешние связи. Вопрос лишь в том, захотим ли мы устанавливать такие связи. Что делать, если у нас нет ни высоких устремлений, как у Тома Чаппелла, ни энергии сопереживания, как у Уинстона? Если у нас скучная и однообразная рутинная работа?
В первую очередь надо перестать хныкать. Будем откровенны: все мы знаем, как приятно бывает найти в работе что-нибудь, на что (или кого-нибудь, на кого) можно посетовать. Еще лучше, если у нас есть для этого реальные основания. Часто мы с помощью жалоб придаем некий смысл своему пребыванию на работе. Такое поведение приносит нам ненадолго некоторое удовлетворение, но в конечном итоге серьезно вредит: переживания теряют целостность, работа и отношение к ней полностью обессмысливаются. Это не означает, что нужно раз и навсегда запретить себе любые жалобы. Но мы должны всякий раз понимать, почему жалуемся. Движет ли нами желание просто облегчить душу? Или негативное восприятие всего, что имеет отношение к работе, уже вошло у нас в привычку?
Бывают люди, склонные по любому поводу ругать свою работу. Возьмем, например, Боба — финансового работника с многолетним стажем. В действительности в его карьере было немало моментов явного «успеха» — он занимал руководящие должности в нескольких банках, включая даже тот, услугами которого пользовался президент США. Но двигаясь по лабиринту смысла и проходя крутые виражи, Боб никогда (или почти никогда) не смотрел с оптимизмом на происходящее на работе и, как следствие, в жизни. Поэтому он постоянно жалуется на обилие обязанностей, на коллег, на клиентов и на весь белый свет, а если бы попробовал рассказать обо всех впечатлениях, полученных в течение карьеры (т.е. в лабиринте смысла), мы услышали бы скорбное повествование о горестях, невзгодах и отчаянии. Боб, кажется, до сих пор не сумел (или не захотел) реализовать собственный потенциал обретения смысла, причем виной тому в значительной степени его негативное отношение к работе и привычка жаловаться.
Когда сотрудники ведут друг с другом недовольные разговоры возле кулера или прямо в офисе, между ними возникает определенное чувство товарищества. Однако такое общение не привносит в жизнь нового смысла. Его участники исходят из того, что работа не доставляет удовольствия, не приносит удовлетворения и иначе быть не может, а потому упускают возможность увидеть смысл в своем деле. Привыкнув жаловаться, мы быстро привыкаем к бессмысленности, и прочно укоренившаяся неприязнь к работе не оставляет нам ни малейшего шанса взглянуть на связанные с ней переживания как на важную составляющую жизни в целом. Вместо того чтобы искать смысл, мы тратим время на поиск бессмысленного и сосредоточиваем на нем свое внимание. Поэтому спросите себя прямо сейчас, что заставляет вас жаловаться и, главное, какую отдачу от этого получаете.
Помните: недовольство не объединяет. У каждого — своя заунывная песня, неотличимая от остальных. Сетования делают наши впечатления тривиальными — это касается и работы, и личной жизни. Жалуясь, мы изолируемся, поскольку объект нашего недовольства становится как бы щитом между нами и окружающими. Древнее и вечное сообщество беспомощных жертв состоит из одиночек. А вот если нам удастся по-настоящему поделиться с кем-то своим страхом и неуверенностью, возникнет подлинная связь, связь более глубокого уровня. Эти отношения становятся основой для иного сообщества, где нет места безысходности и разобщенности, где люди поддерживают друг друга. И их взаимопомощь распространяется, конечно, далеко за пределы комнаты с кулером.
Стоит нам задержаться, задуматься, обратить внимание на того, кто рядом, — и смысл уже тут как тут. Он караулит нас возле каждого кулера и в каждом лифте, в любом офисном закутке, такси, переговорной и в зале заседаний совета директоров. Когда нашей работе недостает смысла, ей недостает жизни. А на безжизненной работе мы неизбежно попадаем в плен к стереотипам — становимся заключенными своего внутреннего концлагеря.
Виктор Франкл исследовал глубины самого черного отчаяния и обнаружил там смысл — не создал, а именно обнаружил: смысл был там и ждал, пока его найдут. То же и с нашей работой. Открывая себя смыслу, давая себе труд по достоинству оценить то, что делаем мы сами и что делают другие, мы сразу же повышаем качество жизни — своей и окружающих.
Это не значит, что мы отрицаем свое бремя, горести, тревоги и обязываемся впредь смотреть на мир через розовые очки. Наоборот. Франкл, переживший ужасы нацистских концлагерей, понимал смысл неизбежного страдания. Он сталкивался в одно и то же время и с чудовищной низостью, и с невероятной духовной красотой. Он знал, что возможно и то и другое, и это знание сделало глубже его гуманистические воззрения, укрепило его веру. Он видел людей, которые поднимались из глубин порока и предлагали другим все, что у них было. Он наблюдал каждодневные и ежеминутные проявления человеческого духа.
Безусловно, каждый из нас встречался в жизни с благородством и великодушием. Кто-то делал для нас или говорил нам как раз то, что было правильно, помогал яснее увидеть, что происходит, утешал в трудный момент. Так почему же подобному вниманию друг к другу не может быть места и на работе, где проходит огромная часть нашей жизни?
Наша работа, как и наша жизнь, предлагает нам лабиринт смысла, часто очень непростой. Создаются, развиваются и изменяются взаимоотношения с окружающими, меняемся и мы сами. Иногда нам нравится, как мы живем и что делаем, иногда мы решаем все бросить и начать с начала. Это одинаково справедливо и для работы, и для личной жизни: они обе — части одного лабиринта. Путь петляет и изгибается, ведя нас через неудачи и удачи, боль и наслаждение, потери и приобретения. Он формирует нас, заставляет обнаруживать свои страхи и проявлять мужество, — в том числе и в данный момент. Он священен для нас, и никому, кроме нас, не дано его пройти.
В лабиринте нелегко сохранить верность убеждениям. Но независимо от того, во что мы верим и верим ли во что-то вообще, мы должны уважать свой путь, если хотим понять, в чем смысл нашей жизни. И только зная смысл жизни, можно узнать смысл работы. Стремление к смыслу, — а не к удовольствиям или власти — озаряет подлинной свободой нашу жизнь. Исключительно важно иметь в виду это разграничение, исследуя пути достижения цели в жизни и работе. В конечном счете мы всегда свободны в выборе реакции на всё, что случается в нашей жизни, — включая и события, происходящие на работе. Это центральный момент учения Франкла и первый из предлагаемых здесь основных принципов. Мы обсудим его в следующей главе.
Вспомните ситуацию на работе, в которой у вас возникла необходимость принять важное решение об изменении направления (быть может, это и сейчас так). Например, начальник или кто-то из коллег возражал (возражает) против вашего стиля или метода выполнения работы; или причина смены направления — этическая дилемма, ценностный конфликт и т.д. Предприняли ли вы что-нибудь, если да, то что? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы справляетесь с негативным отношением к работе и постоянными жалобами на нее?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Как метафора лабиринта могла бы помочь вам найти в работе больше смысла и удовлетворения? Подумайте о путях конструктивного использования этой метафоры вместе с коллегами и сотрудниками.
4
Быть всегда свободным
Можно отнять у человека все, кроме одного: последней из человеческих свобод — свободы в любых обстоятельствах выбрать, как к ним отнестись, выбрать свой путь24.
Близилась полночь. Пора было кратко записать последние мысли, пока вокруг не сомкнулась тьма. Через какие-то минуты свет погаснет, и комнатка превратится из «кабинета писателя» в мрачную тюремную камеру с голыми стенами. Почти 20 лет это место служило ему жилищем, местом работы и заключения. Но даже зная, что вряд ли когда-нибудь увидит вновь настоящую свободу, он хранил верность своим идеалам и ценностям, много писал, поддерживал связь с близкими людьми и не терял оптимизма. И его непокорный дух победил.
С немалой гордостью могу сказать, что речь идет о моем двоюродном деде, генерале Стилианосе Паттакосе, греческом патриоте, служившем своей родине в качестве военачальника и политического лидера в один из самых бурных периодов ее современной истории. Дядя Стелиос (как я его называю) был одним из трех вождей так называемой хунты, пришедшей к власти в Греции в 1967 г., и занимал в военном правительстве различные посты, включая вице-президентский.
В 1974 г. произошел новый переворот, и дядю Стелиоса, как и других руководителей свергнутой хунты, обвинили в государственной измене и заключили в тюрьму. К счастью, многие сочувствовали ему, уважая его лично и ценя его заслуги перед Грецией, поэтому ему сохранили жизнь, а позднее его историческая роль была пересмотрена. В 1995 г. он был освобожден и смог наконец рассказать свою повесть.
Подобно Виктору Франклу, Нельсону Манделе, сенатору США Джону Маккейну, бирманке Аун Сан Су Чжи и множеству безвестных мужественных людей, попавших в тюрьму, дядя Стелиос столкнулся с необходимостью осознать глубинную суть понятия «свобода». В этом смысле человек остается свободным, даже когда его лишают личной свободы и всех прав. Чтобы обрести иную, внутреннюю свободу, которая одна была способна помочь ему выдержать долгое испытание тюрьмой, дядя Стелиос должен был опереться на свою волю к смыслу.
По поводу отношений между личной свободой и тюремным заключением приведу следующий эпизод, связанный с Нельсоном Манделой. В день освобождения Манделы из тюрьмы на острове Роббен Билл Клинтон, в то время губернатор штата Арканзас, смотрел по телевизору новости и, услышав объявление очередного сюжета, позвал жену и дочь со словами: «Вы должны это видеть, это исторический момент». Следя за происходящим на экране, Клинтон заметил мгновенную вспышку гнева в глазах Манделы, шагнувшего из ворот, но в следующий момент гневное выражение лица исчезло.
Позднее, когда Клинтон уже был президентом США, а Мандела — президентом ЮАР, два лидера встретились, и Клинтон рассказал Манделе о своем наблюдении. А поскольку Мандела всегда был очень миролюбивым человеком, чуждым какой-либо мстительности или нетерпимости, Клинтон прямо попросил его объяснить, что же произошло в тот знаменательный день. Мандела отвечал: «Вы правы. Когда я был в тюрьме, сын одного из надзирателей стал вести занятия по изучению Библии, и я ходил на них... Когда я вышел из ворот тюрьмы и взглянул на собравшихся, то подумал, что у меня отняли 27 лет жизни, и почувствовал гнев. А потом Дух Иисуса сказал мне: “Нельсон, ты был свободным, пока они держали тебя в тюрьме. Так не становись их пленником теперь, когда ты свободен”»25.
Не следует, да и невозможно сравнивать пути, которыми каждый из этих людей прошел через немыслимые испытания. Но они есть, они действительно присутствуют в нашем мире, они страдали, но победили — каждый по-своему. Всем им довелось, находясь в нечеловеческих условиях, искать смысл своего тюремного существования. Их лишили большей части свобод, которыми мы пользуемся, совершенно не задумываясь, оставив лишь то, что Франкл назвал «последней из человеческих свобод» — свободу выбрать свое отношение к обстоятельствам.
Свобода выбора есть у нас в отношении любого из аспектов нашей жизни. И все же выбор может быть труден даже тогда, когда мы находимся в относительной безопасности и считаем, что «свободны». В определенном смысле каждый из нас борется с тем, что от него не зависит. И если мы берем обстоятельства под контроль, пусть даже только в смысле отношения к ним, то, каковы бы ни были эти обстоятельства, наша свобода обретает форму.
У Кристофера Рива было всё. Совсем молодым он блистал на Бродвее, а главная роль в фильме «Супермен» принесла ему мировую славу кинозвезды. В 42 года его артистическая карьера выглядела лучезарно, а жизнь сулила неисчислимые возможности. Рив был разносторонней личностью, одаренным музыкантом и спортсменом. Он занимался многими видами спорта, любил плавание под парусом и верховую езду, лыжи и коньки, великолепно играл в теннис.
А 27 мая 1995 г. случилось несчастье: Кристофер упал с лошади, сломал шею и не мог ни двигаться, ни дышать самостоятельно. Мир, затаив дыхание, следил за сообщениями о состоянии его здоровья. Человек, сыгравший когда-то Супермена, остался полностью парализованным, но не сдался. В своей знаменитой автобиографии, озаглавленной «Все еще я», он написал: «Я думаю, герой — это обычный человек, который находит в себе силы выдержать и выстоять несмотря на непреодолимые препятствия»26. И история настоящего Супермена имела продолжение.
В последующие годы Кристофер Рив не просто существовал, а жил полнокровной жизнью, борясь за себя, за свою семью и за тысячи людей с повреждениями спинного мозга в Соединенных Штатах и во всем мире. В телевизионном ток-шоу Ларри Кинга всего через десять месяцев после получения травмы он объяснил, что решил позитивно отнестись к своему положению и это придало ему сил. «Мне очень повезло, — сказал Рив. — Я могу выступать свидетелем перед конгрессом. Могу собирать пожертвования. Могу привлекать внимание общественности»27.
Важный момент: Рив был благодарен своей семье — жене Дане и троим детям — за то, что те помогли ему подняться из трясины безнадежности, куда он поначалу погрузился. Вот его слова: «Начинаешь понимать, что разные вещи, которыми ты занимался в жизни (спорт, кино)... не самое главное. У нас всегда были хорошие отношения. Сейчас это нечто большее. Потому-то я и могу честно сказать: мне очень повезло». Рив развивает свою мысль так:
Когда происходит катастрофа, легко почувствовать такую жалость к себе, что перестанешь замечать тех, кто рядом. Но выход — в отношениях (курсив мой — А.П.). Путь к освобождению от болезненной сосредоточенности на себе — в заботе о нуждах твоего малыша, ребят-подростков или еще кого-то из окружающих. Это очень трудно, и часто приходится себя заставлять. И все же таким должен быть ответ, если не хочешь закоснеть в своем отчаянии, — по крайней мере, я нашел именно такой ответ»28.
Как видим, для Кристофера Рива ключевую роль сыграл свободный выбор в пользу позитивного отношения к жизни. В результате он смог отважно противостоять непредвиденным переменам на своем жизненном пути и не только справился с собственными страданиями и потерями, но и высвободил свой потенциал самоисцеления и открыл путь к истинному смыслу жизни, которого мог бы не заметить в других условиях. Выбор, который сделал Рив, важен и для всех нас: он напоминает, что жизнь следует принимать не как данность, а со страстью, любопытством и благодарностью29.
В тяжелых жизненных обстоятельствах проверяется наша стойкость, наша способность к сопротивлению. Именно тогда свобода выбора выходит на передний план. Но чтобы реально воспользоваться этой свободой, нужна способность оценивать любую ситуацию с разных точек зрения. Мы должны понимать, кто мы, а кроме того, обладать достаточной гибкостью и мужеством, чтобы при необходимости перестроиться, даже если потребуется отойти от того, что считается нормальным.
Ответственность за выбор лежит целиком и полностью на нас самих. Мы не можем ни на кого ее переложить. Я уже многие годы объясняю это своим клиентам — работникам (в том числе руководителям и менеджерам) компаний и государственных учреждений, в особенности тем, которые склонны ворчать и жаловаться по поводу условий своей работы, но не слишком стремятся изменить положение. Негативное отношение к чему бы то ни было само по себе непродуктивно. И на своей работе мы лишь тогда осуществляем свободный выбор, когда перестаем быть частью проблемы и делаемся частью решения.
В личной жизни тоже нельзя ждать, пока ситуация волшебным образом разрешится сама: мы должны стать частью решения. Тренер NBA Фил Джексон в своей книге «Священные кольца» просит читателей не забывать: чтобы сделать сны явью, для начала стоит проснуться! Иначе говоря, стать частью решения значит действовать.
Благодаря накоплению жизненного опыта и вложениям, которые мы делаем в свое профессиональное и личностное развитие, мы со временем, как правило, научаемся лучше справляться с трудностями. Мы инвестируем в себя, когда записываемся на семинары или получаем консультации, — и затраты окупаются в виде более адекватной реакции на ситуации, которые складываются в жизни.
Пока нет стопроцентной гарантии, что я буду убит на месте и моя жизнь окончится в концлагере, на мне лежит ответственность с этого момента и впредь жить так, чтобы использовать малейшую возможность для выживания, не обращая внимания на всевозможные опасности, — а они окружали меня почти во всех лагерях, где я побывал. Этот принцип — не механизм, а максиму преодоления — я тогда принял и сделал своим30.
Если бы Франкл, когда его привезли в Освенцим, не принял для себя придуманную им «максиму преодоления», то, возможно, не сумел бы сохранить жажду жизни и оптимизм по поводу шансов выжить. Сознательный выбор, который он сделал, придал осмысленность и действенность конкретным механизмам сопротивления, имевшимся в его арсенале врача-психиатра, благодаря этому выбору у него нашлись силы, чтобы в отчаянных обстоятельствах действовать ради себя и ради других.
Чему может научить нас пример Франкла? Подумайте о трудностях, возникших у вас на работе или в жизни, и о том, какую роль играло в их преодолении ваше отношение к ним. Какие средства были в вашем распоряжении? Почему вы решили к ним прибегнуть (или не прибегать)? Насколько эффективно вы справились с ситуацией? А теперь задайте себе более фундаментальный вопрос: что движет вами в трудном положении? На основе какого принципа (принципов) вы решаете, как действовать? Вам может быть сложно перечислить главные идеалы и ценности своей жизни. Если четкие формулировки не пришли вам в голову сразу же, запишите предварительные соображения по этому вопросу и вернитесь к нему позднее, чтобы получить более полный ответ.
Подумайте также о тех, кто на ваших глазах проявлял необычайную решимость и благодаря этому с честью выходил из трудного положения, — что им помогало? Я уверен, вы можете припомнить такие случаи со своими коллегами, близкими или друзьями. Испытания, выпавшие на их долю, пусть и несопоставимые с тем, что пришлось пережить Виктору Франклу, могли все-таки быть очень и очень серьезными.
Очевидно, на работе какие-то люди легче других справляются со стремительным изменением современного рынка труда, с исчезновением одних профессий и появлением других. Новые технологии, сокращения штатов, должностные перемещения, слияния и поглощения, угроза безработицы — все это часть нашей трудовой жизни. Любой из нас может привести массу примеров того, как люди реагируют на эти проблемы. Анализ имеющихся данных показывает, что наиболее работоспособными, ответственными и стойкими оказываются люди, которые — осознанно или неосознанно — приняли «максиму преодоления» и умеют действовать осмысленно и решительно.
Делая свой выбор в свете того, что я называю подлинным оптимизмом, мы фактически решаем относиться к сложившейся ситуации: 1) позитивно; 2) так, чтобы творчески осмыслить имеющиеся у нас возможности; 3) активно, стремясь воплотить возможное в жизнь. Иначе говоря, подлинный оптимизм — это нечто большее, чем просто позитивное мышление. Добрых намерений мало — нужно умение находить возможности, появляющиеся как результат свободного выбора, и горячее желание сделать эти возможности действительностью. Свобода выбора есть у каждого из нас, и просто удивительно, насколько редко мы ею пользуемся. Мы либо «выбираем» уход от ответственности за то, что должно было бы быть нашим самостоятельным решением, либо просто не видим выбора, подсознательно оставаясь в рамках стереотипов, которые больше не служат нашему благу, — короче говоря, становимся пленниками собственных мыслей.
Работая консультантом, я встречал немало клиентов, коллег, друзей и родственников, упорно державшихся за старые привычки. Поведение таких людей наглядно демонстрирует «силу негативного мышления»: то ли они просто не могут себе представить будущего улучшения ситуации на работе или дома, то ли так боятся неизвестности, что, стараясь избежать риска, фактически связывают себя по рукам и ногам. Мысль о том, что они свободны определить свое отношение к будущему даже в самом отчаянном положении, точно так же чужда им, как и мысль о возможности подлинной самореализации и счастья в жизни.
Мне известна масса примеров того, как в результате организационных изменений в компании люди теряли работу. Вот один такой случай. У меня есть друг по имени Том, которого выставили из компании, занимавшейся высокими технологиями, после многих лет безупречной работы. Он был категорически не согласен с решением о своем увольнении, считал, что его недооценили и не учли его заслуг, но выбора не оставалось — следовало как-то жить дальше.
Забавно, что в прошлом Том не раз заговаривал об уходе из компании, но так и не решился сделать это по своей воле. И хотя он полагал, что без особых проблем устроится на новую работу, ему никак не удавалось осмыслить имеющиеся возможности. Как-то он признался мне, что не может вообразить себя за другим занятием. И только увольнение заставило его изменить отношение к смене работы.
«Теперь, — говорил он, — мои мысли несутся со скоростью 1000 миль в час, — и это само по себе потрясающе. Может быть, состояние неопределенности высвобождает в нас самое лучшее».
Том был вынужден совершить прыжок. Это заставило его по-другому отнестись к собственной свободе и, как следствие, к будущему. Сейчас он совмещает несколько работ , что лучше отвечает его устремлениям, интересам и системе ценностей. Но вот ирония судьбы: шанс реализовать свой потенциал, свою волю к смыслу появился у него лишь тогда, когда его силой выбросили из привычных рамок.
Приведу еще один пример, показывающий, что никогда не поздно сделать свободный выбор в ситуации, относящейся к работе. Ребекка — моя хорошая приятельница и коллега — в свои почти 90 лет плодотворно работает в качестве консультанта по развитию творческого мышления. У нее, как и у Виктора Франкла, мы, особенно те, кто намного моложе, учимся мужеству и умению нестандартно подойти к проблеме. Из-за серьезной травмы бедра Ребекка оказалась прикована к инвалидной коляске, что существенно ограничило ее передвижения, возможность путешествовать и физическую активность в целом. Но увечье не заставило ее сдаться. Она рассмотрела свое положение, исследовала возможности, решила изменить направление деятельности и предприняла необходимые для этого действия — в 89 лет начала новую жизнь! Ребекка по-прежнему консультирует как индивидуальных клиентов, так и организации, но специализируется на работающих инвалидах. В ее случае мы видим проявление не просто позитивного мышления, а подлинного оптимизма. Благодаря свободному выбору она, попав в тяжелые обстоятельства, творчески обогатила свою жизнь.
Свобода выбора есть у каждого из нас в любой момент, но, повторюсь, чтобы воспользоваться ею, нужна активность, нужен поступок. Первое, о чем нам следует себя спросить, столкнувшись с трудностями, — это как мы относимся к имеющейся ситуации, второе — хотим ли мы ее изменить. Здесь есть свои тонкости: нередко мы на самом деле не знаем своего отношения к чему-либо (или кому-либо) или знаем, но не имеем желания его пересматривать и ни к чему подобному внутренне не готовы. Вот небольшое упражнение, помогающее освободиться от предвзятости, увидеть новые возможности и обрести реальную свободу выбора.
Для начала подумайте об особо стрессовой, неприятной или сложной ситуации у себя на работе или в личной жизни. Теперь сделайте глубокий вдох и запишите десять плюсов, десять положительных сторон, которые в ней можно было бы найти. Не исключено, что у вас возникнет внутреннее сопротивление против такого эксперимента, — обратите на это внимание, но не отказывайтесь. (Иногда человеку легче упорствовать в своем безумии, самодовольстве или правоте.) Позвольте себе расслабиться и просто поиграть возможностями. Дайте волю воображению и воздержитесь временно от любых оценок. Записывайте все, что приходит в голову, сколь бы глупым, оторванным от жизни и нереалистичным это ни казалось. Вы свободны вкладывать в понятие «положительный» какой угодно смысл.
Закончив, посмотрите на получившийся список и преобразуйте положительное в то, что, с вашей точки зрения, может быть применено в рассматриваемой ситуации. Иногда это очень трудно — приходится отвергать прежний образ мыслей, преодолевать боль, раскаяние, разочарование, даже скорбь и муку. Но вы расчищаете поле на будущее. Как показывает опыт, это упражнение открывает путь к глубокому оптимизму, не покидающему человека ни при каких, даже самых неблагоприятных обстоятельствах.
Упражнение на «десять плюсов» существует в разных вариантах. Впервые я познакомился с ним в формулировке «Представьте себе, что вы сегодня умрете. Найдите в этом десять плюсов». Поскольку у меня не было привычки ни обсуждать, ни тем более изучать перспективу своей смерти, я счел задание совершенно абсурдным и, как оказалось, зря. Позволив себе фантазировать, участники тренинга, в том числе и ваш покорный слуга, немало повеселились при составлении списка. Большинству из нас удалось усмотреть что-то хорошее даже в таком катастрофическом событии, как собственная смерть. Творческая энергия группы резко выросла, и все мы получили шанс узнать нечто новое о самих себе, друг о друге и о смерти, тему которой обычно не принято обсуждать. С тех пор я с успехом предлагал это упражнение сотням групп.
Итак, мы можем применить принцип «нет худа без добра» даже к собственной смерти. Не кажется ли вам, что заведомо проще проделать это с ситуацией на работе, в семье и т.д.? Мой многолетний опыт показывает, что даже у самого ужасного несчастья есть какие-то плюсы.
Чтобы пояснить, что я имею в виду, расскажу об одном своем приключении. Довольно давно, еще будучи профессором на полной ставке, я ранним утром ехал на занятия. На улицах было тихо, машин почти не попадалось, я наслаждался одиночеством и слушал спокойную музыку по радио. Дорога шла по обсаженной деревьями улице с газоном в середине, по обеим сторонам которой вплотную друг к другу стояли припаркованные машины. Навстречу мне шел школьный автобус — это была единственная движущаяся машина в поле зрения. Внезапно автобус без видимых причин потерял управление и врезался в одну из припаркованных машин на своей стороне улицы. Невероятно! Я затормозил, выскочил из машины и побежал через газон к автобусу посмотреть, в чем дело и не нужна ли помощь.
Радиатор автобуса был смят, оттуда валил дым, и я, молясь, чтобы кто-нибудь по соседству заметил происшествие и позвонил по номеру 911, вытащил водителя — это была молодая девушка — из кабины и так осторожно, как мог, перенес на газон. Бедняга, по-видимому, пострадала физически, но меня сильнее тревожило ее психическое состояние. Она плакала, повторяя: «Боже мой, как мне быть? Я только что устроилась на эту работу, родители меня убьют!»
Я лихорадочно соображал: что предпринять, пока не подъехала «скорая помощь» (или еще кто-то, кто нам поможет)? Горе-водителя определенно требовалось успокоить. Не очень задумываясь о том, как подействуют мои слова, я посмотрел ей прямо в глаза и произнес: «Давайте назовем десять плюсов, связанных с этой аварией». Вот что сразу же пришло в голову: 1) в автобусе не было детей; 2) он врезался в пустой автомобиль; 3) ни одна из двух машин не взорвалась и не загорелась (по крайней мере, на тот момент); 4) по счастливой случайности кто-то (я) оказался рядом; 5) она жива и в сознании. Стоило нам перечислить в подобном духе несколько пунктов, как слезы у девушки высохли, и на ее лице появилась улыбка. А когда наконец прибыла «скорая помощь» и я описал ситуацию врачу, тот сказал, что разговор о «десяти плюсах», вероятно, предотвратил шок.
Таким образом, даже если вы не видите никакой практической пользы в том, чтобы начать позитивно относиться к той или иной ситуации, имейте в виду: это полезно психологически. Позитивное мышление — мощнейший фактор, улучшающий состояние здоровья!
Обратимся теперь к вопросам, связанным с работой. Попробуйте найти десять плюсов в следующих гипотетических ситуациях:
- вы сегодня потеряли работу;
- сегодня упразднили ваш отдел;
- произошла авария, и производство остановилось;
- отныне вы должны работать не 5 дней в неделю по 8 часов, а 4 дня в неделю по 10 часов;
- вам на 20% урезали бюджет.
Участникам моих тренингов действительно удавалось обнаружить в перечисленных ситуациях (как в них самих, так и в конечном результате) немало привлекательных сторон. Благодаря упражнению они осознавали, что у них есть свободный выбор и возможность рассматривать свое положение с разных точек зрения. Им становилось ясно, что благоприятные последствия в принципе мыслимы, даже если такое предположение на первый взгляд кажется смехотворным. Кроме того, отвечая на вопросы, они на глазах заряжались позитивной энергией — особенно при групповой работе. Возрастала их способность по-новому взглянуть на ситуацию или условия, а значит, найти решение сложной проблемы. Им удавалось — по крайней мере частично — освободить свои мысли от невидимых оков.
Перед тем как продолжить, расскажу, как однажды упражнение «десять плюсов», предложенное на работе, помогло решить личную проблему. Я проводил двухдневный тренинг для сотрудников Лесной службы США на Аляске. В конце первого дня я услышал, как один из участников — суровый и уверенный в себе мужчина по имени Пол — говорит кому-то, что, мол, эти занятия ему неинтересны, да и не нужны. «Десять плюсов» не произвели на него особого впечатления.
Следующим утром, придя на место встречи, я заметил Пола сидящим рядом с двумя женщинами — участницами тренинга; все трое весело беседовали, разговор то и дело прерывался взрывами хохота. В ответ на мой вопрос, что привело их в такое расположение духа, Пол рассказал следующее. Придя домой после тренинга, он получил сокрушительный удар: оказалось, его дочь-подросток сделала себе пирсинг языка и щеголяет украшением во рту. Пол рассердился, разругался с женой и дочерью — короче говоря, вечер прошел ужасно. Наутро Пол, мрачный и подавленный, явился на тренинг и поделился своим горем с двумя коллегами, которые немедленно попросили Пола выполнить применительно к данной ситуации освоенное накануне упражнение — найти десять плюсов в том, что дочка проколола язык; когда я подошел, работа была в разгаре. Действительно, пирсинг языка — еще не самая большая глупость, на какую способна девочка-подросток, могло быть и хуже. Поняв это, Пол увидел в случившемся ряд потенциально благоприятных моментов, а кроме того, стал по-новому (и значительно более позитивно) относиться и к своей дочери, и к психологическому тренингу.
Свобода — сугубо человеческий феномен, и ее пределы ограниченны. Человек не свободен от условий, но свободен занять некоторую позицию по отношению к ним. Условия не полностью определяют его поведение. В существующих границах только сам человек решает, уступить ли условиям или не сдаваться. Он может и подняться выше условий, открыв новое человеческое измерение и вступив в эту сферу... В конечном итоге не человек зависит от противостоящих ему условий, а сами эти условия — от его решения. Сознательно или бессознательно, человек решает, встретить ли обстоятельства лицом к лицу или уклониться, смириться с ними или нет31.
В своей жизни мы можем ориентироваться на мужественных людей, чей пример учит нас быть свободными. Многие из них — прославленные герои, о которых повествует история, или наши знаменитые современники, но наверняка такие есть и среди ваших друзей, родственников, соседей. Мой дядя Стелиос, например, с его выбором и стойкостью, с его верностью своим идеалам и своему будущему воплощает для меня многие аспекты философии Виктора Франкла. Пусть обстоятельства — на работе или дома — ограничивают нас, свободный выбор есть всегда: как минимум мы можем определить свою позицию. Согласно Франклу, это не только наше право, но и наша обязанность: в свободе человека заключается сама его сущность. Как бы ни было сильно искушение сдаться, мы должны сопротивляться власти стереотипов и выбирать свободу.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы сознательно и свободно выбрали определенное отношение к чему-либо или к кому-либо. Например, вам трудно было поладить с шефом или кем-то из коллег, свыкнуться с новыми обязанностями (быть может, это и сейчас так). Как вы первоначально относились к ситуации? Как изменилось ваше отношение к ней? Что вы реально предприняли, чтобы это изменение произошло? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Каким образом вы поддерживаете в себе позитивное отношение к своей работе или должности?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Как франкловская «максима преодоления» (всеобъемлющая вера в то, что преодоление возможно) способна помочь вам найти более глубокий смысл и удовлетворение в работе? Подумайте, кроме того, как можно было бы позитивно и конструктивно применять эту технику в отношениях с коллегами.
5
Стремиться к смыслу
Человек, осознавший, что он в ответе за кого-то, кто любит и ждет его, или за незавершенный труд, никогда не выбросит свою жизнь как ненужный хлам. Тот, кто знает «зачем» своего существования, сумеет выдержать почти любое «как»32.
«Мы будем веселиться целую неделю: плавать на яхте Endeavor, играть в теннис и гольф, есть, пить — в общем, займемся тем, чем более всего знамениты». Генеральный директор компании Tyco Деннис Козловски отмечал день рождения жены. На грандиозное празднование, устроенное на острове Сардиния в 2000 г., было выброшено $2 млн. А в 2002 г. отредактированная видеозапись этой оргии стала одним из вещественных доказательств в деле о растрате. Суд установил, что Tyco много лет финансировала развеселое житье своего уволенного главы. Увы, Зигмунд Фрейд мог бы гордиться этим случаем как блестящим подтверждением своей теории: поведение Денниса Козловски наглядно демонстрировало в действии принцип удовольствия, или стремление к удовольствию.
Конечно, Tyco далеко не единственная крупная компания, привлекавшаяся в последнее время к ответственности в связи с возмутительным скандалом, да и Козловски вовсе не уникальный персонаж. Наверное, вам приходилось слышать такие имена, как Кен Лэй (Enron), Берни Эбберс (Worldcom) или Марта Стюарт. Интересно, что подобным печально знаменитым персонажам посвящены целые веб-сайты: там можно почитать отчеты о скандалах, в которых они были замешаны, и даже купить игральные карты с их портретами33. Впрочем, заметим: многих из них интересовали не столько удовольствия (по Фрейду), сколько власть, т.е. их поведение отвечало принципу «стремления к превосходству», предложенному Альфредом Адлером. Напомню, что Адлер был современником (и в определенной степени учителем) Виктора Франкла.
Франклу же представлялось, что в стремлении как к удовольствиям, так и к власти проявляется некая недостаточность, так что формы поведения, наблюдавшиеся у виновников корпоративных скандалов, в рамках его учения имеют иное, более глубокое объяснение. Согласно Франклу, поиск удовольствий в духе Фрейда и непрерывная погоня за властью, которую считал основным побуждением Адлер, служили этим людям лишь средством — не самым удачным — для заполнения пустоты в собственной жизни. Или сформулируем это иначе: у них по тем или иным причинам была подавлена воля к смыслу, и они избирали альтернативные пути в предположении, что удовольствия или власть способны как-то восполнить недостающее.
Только у поиска смысла, считал Франкл, есть потенциал для полноценного самоосуществления личности — для того, чего большинство людей желает добиться в работе и повседневной жизни. Именно стремление к смыслу — преданность подлинно значимым для нас ценностям и идеалам — ведет нас к реализации этого сугубо человеческого потенциала. В отличие от Фрейда и Адлера Франкл считал, что человека заботит в первую очередь не удовлетворение примитивных побуждений и инстинктов, а обретение смысла и актуализация ценностей.
В предыдущих главах мы уже рассматривали примеры, показывающие, насколько важна для человека (в том числе для руководителя компании) осмысленная работа. При этом человек вполне может желать также удовольствий или славы и получать их, но они — не главное. Так, например, история успеха Hewlett-Packard, которой восхищается весь мир, началась с гаража на одну машину и перечня значимых ценностей — «пути HP». Этими ценностями основатели компании — Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард — руководствовались при определении, а затем и осуществлении своих целей, при совместной работе, при выстраивании отношений с клиентами, акционерами и т.д.34
Существенный момент: не все ценности «созданы равными». Актуализация ценностей, связанных исключительно с удовольствиями или властью, не приведет, по мысли Франкла, к обретению подлинного смысла. Здесь очень показательно замечание одного государственного служащего, в разговоре со мной назвавшего ценности «вещами, благодаря которым жизнь стоит того, чтобы жить». Иначе говоря, полагаясь на свое нравственное чутье, или, используя термин психолога Джеймса Хиллмана, «кодекс души», мы можем определить, какие ценности по-настоящему для нас важны, к чему нам действительно следует стремиться в работе и повседневной жизни. Как мы увидим ниже, в преданности людей (и организаций) позитивным жизнеутверждающим ценностям отчетливо проявляется франкловская воля к смыслу.
Скольким из нас случалось строить чудесные планы на выходной и чувствовать разочарование, когда он заканчивался! Как часто мы предвкушаем удовольствие, а потом не испытываем удовлетворения, хотя перспектива казалась замечательной! Это происходит с чем угодно, от наркотиков и секса до повышения зарплаты и поездки в отпуск. Нас соблазняет перспектива удовольствия, а само удовольствие ускользает. Мы простужаемся на борту самолета, несущего нас в райское местечко. Звонок от заболевшего родственника заставляет нас отказаться от романтического вечера. Наша юная дочь сажает вмятину на новенькую машину, и весь блеск пропадает. Восторг от удачного похода по магазинам через неделю улетучивается без следа. А моменты истинного удовольствия наступают нежданно-негаданно. Это непрошенные дары, мгновения, которые мы не планировали и не могли предусмотреть.
Стремление к власти, подобно стремлению к удовольствию, носит «внешний» характер и тоже нас обманывает. Наше превосходство над сотрудниками, менеджерами, клиентами, акционерами, детьми, официанткой в ресторане или продавцом в магазине в лучшем случае иллюзорно. В худшем же у нас есть реальная власть, которая оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на нашу личность. Как правило, мы лишь предполагаем, что то-то и то-то в нашей власти, но не знаем этого наверняка, а если и знаем, то нам неизвестно, так ли будет завтра, поскольку у нас всегда есть соперник. В греческом мифе Сизиф должен закатить на гору тяжелый камень, но у самой вершины этот камень всякий раз срывается, и Сизифу приходится начинать все заново. Определение «сизифов труд» как нельзя лучше подходит к погоне за властью — бесконечному и безрадостному занятию.
Несколько десятилетий назад, когда получили широкое распространение групповые психологические тренинги, на них было в ходу упражнение, проливавшее свет на устройство власти. Участникам группы предлагали совместно подумать некоторое время и выбрать лидера, а когда они выполняли это задание — подумать еще раз и выбрать того, кто активнее всех предлагал данного лидера. Это и был теневой — настоящий — лидер. Когда идет борьба за власть, где-то в стороне ждет своего часа еще одна сила. Эта борьба изнурительна, а сама власть, в точности как удовольствие, имеет обыкновение ускользать и вести себя непредсказуемым образом.
И все же именно погоня за властью и поиск удовольствий рассматривались как главные человеческие побуждения в психоанализе и психотерапии. На базе подобных представлений создавались организации и предприятия, осуществлялось управление их работой. Как мы уже упоминали, Зигмунд Фрейд, создатель психоанализа, положил в основу своей теории стремление к удовольствию, а Альфред Адлер, которого считают отцом индивидуальной психологии, — к превосходству. Их многочисленные последователи старались описать поведение человека в соответствии с этими двумя принципами, как если бы он был игрушкой в руках внешних сил.
Однако глубокое исследование нашей жизни — и внутренней, и открытой для окружающих — показывает, что франкловская воля к смыслу поднимается над остальными побуждениями и не похожа на стремление к удовольствиям или к превосходству. Источник воли к смыслу — в нас самих, а не где-то снаружи. Только мы в состоянии найти ее в себе, управлять ею — и действовать в соответствии с ней. Именно смысл поддерживает нас в течение всей жизни, независимо от того, сколько удовольствий и власти достается на нашу долю — много или ничтожно мало, — а главное, дает нам силу перенести любую боль и страдание.
Книга Джона Кабат-Зинна «Жизнь при полной катастрофе» посвящена поддержанию связи личности с ее первоначальной целостной сущностью при любых, сколь угодно серьезных проблемах со здоровьем или благосостоянием. Автор пишет о людях, которых преображала опасная болезнь. Они не только начинали по-новому — с любовью, пониманием, прощением — относиться к окружающим, но и воссоединялись сами с собой. Одним удалось победить болезнь и выжить, другим нет, но все углубили свои переживания, отдав должное смыслу жизни и смыслу смерти.
Когда мы начинаем заботиться об отношениях с собственным «я», смысл делается основой всех наших переживаний. Это справедливо и для Франкла, наблюдавшего поведение собратьев-узников в нацистских концлагерях, и для больных, дававших интервью Кабат-Зинну, и для всех, кто, пережив трагедию, открыл свое сердце для любви. Когда наше сердце открыто, мы любим и прощаем себя и других. А если мы замыкаемся в своем горе, то оказываемся оторваны от себя, от окружающих и от самого смысла существования.
Наверняка каждый из нас знает кого-то, кто потерял близкого человека или пережил иную трагедию, но каким-то образом продолжает жить, сохраняя бодрость духа и оптимизм. У моей знакомой по имени Шарлотта недавно умер сын–аутист, ему был 21 год. За несколько месяцев до того я разговаривал с Шарлоттой о сложностях и — я не побоялся называть вещи своими именами — бремени воспитания аутиста. Шарлотта честно рассказывала мне о своем горьком опыте, не скрывая, что прожитые годы нелегко дались ей и ее мужу. По ее признанию, ей очень помогла книга Франкла «Человек в поисках смысла», которую она перечитывала несколько раз и к которой обращалась в самые трудные моменты. Шарлотте пришлось тяжело, но ей удалось найти поистине глубокий смысл в материнстве, и отношения с сыном-аутистом раскрыли для нее многие грани ее собственной человеческой сущности. А когда сын внезапно умер совсем еще молодым, стало понятно, что его жизнь и наследие станут основой для формирования всей оставшейся жизни Шарлотты. И эта жизнь сформирована любовью, великодушием, полезной и нужной людям работой, социальной активностью.
В нашей культуре есть давняя традиция разделения «дела» и «потехи», труда и отдыха. Мы обычно не допускаем близких в свою жизнь на работе. Часто это мотивируется защитой от стресса, правда, одни стараются защитить своих домашних, а другие — самих себя. А ведь в том, чем мы занимаемся, — неважно, руководим ли мы компанией, водим такси, шьем одеяла, готовим еду или убираем комнаты в гостинице, — отражен смысл нашей жизни.
Когда мы убираем комнату в гостинице, чистота носит почти сакральный характер; уборка входит в древний ритуал гостеприимства. У первобытных племен, у кочевников чистота и красота в быту — элемент повседневности. Земляной пол тщательно подметают, на глиняных стенах рисуют узоры. При крайне суровой и скудной жизни люди часто носят яркую одежду и искусно сделанные украшения. Они сами приносят красоту в свой незатейливый быт.
В Тибете, в землях навахо, в Индии «убогие», казалось бы, жители надевают красочные наряды, прославляя глубокую осмысленность своей жизни и понимая, как в действительности богаты. Интересно, что в 1980-е, в период экономического подъема, выражением настроений американской молодежи стал грандж — принципиально антиэстетичный стиль. Может быть, малое количество материальных благ дает нам особого рода свободу и позволяет глубоко уважать себя? А при их изобилии, связанном множеством нитей со стремлением к удовольствию и стремлении к превосходству, мы теряем духовную красоту и смысл жизни.
В буддийской традиции повар и подметальщик храма могут быть главными учителями в общине. Они занимают скромное положение и внимательны к мельчайшим деталям повседневной жизни. Их внимание создает смысл, и именно этот смысл, а не беседы и учения, привлекают к ним учеников. Иногда повар и подметальщик выступают как шуты; они играют свои скромные роли, прячутся за ними и следят, как созревшие ученики вступают на их путь. Они — подметальщики и повара самого Будды. Попробуйте как-нибудь поговорить с обслуживающим персоналом. Рассказы этих людей часто поразительны. Они видят то, чего мы с вами не видим. Под маской профессиональной беспристрастности у них часто скрывается такое глубокое знание природы человека, о каком большинству из нас не приходится даже мечтать.
Современному человеку привычно думать о финансовой независимости как о пути к свободе. Не так давно мне попалась на глаза реклама канадской программы пенсионного страхования под названием Freedom 55 (Свобода 55): имеется в виду, что клиент, подписавшийся на программу, после 55 лет получит не только финансовую независимость, но и свободу делать что угодно весь остаток жизни. Я задумался: продолжительность жизни растет и у мужчин, и у женщин, что же может означать такая «свобода» для столь молодых пенсионеров? Чем они займутся в оставшиеся годы, чем займут это время?
Интересно, что многие пожилые канадцы, как утверждает статистика, отказываются уходить на пенсию, причем вовсе не из-за материальных условий. Просто они предпочитают осмысленную работу непрерывному чередованию бриджа и гольфа, и очень может быть, что в ближайшем будущем тенденция сохранится. В ходе опроса, проведенного в 1998 г. при поддержке Американской ассоциации пенсионеров (American Association of Retired People, AARP), около 80% американцев, родившихся в период послевоенного беби-бума (между 1946 и 1964 гг.), утверждали, что продолжат работать и после достижения установленного законом пенсионного возраста. Причины назывались самые разные, но очень показательны слова одного пожилого рабочего: «Важно оставаться при деле, иметь цели и планы. Сколько вокруг унылых пенсионеров, которым нечего делать! Выглядит так, будто они ждут смерти, а это такая тоска!»35
Здесь вновь приходится вспомнить о том, что для нашего лабиринта смысла, нашей рабочей биографии крутые виражи и повороты — естественное явление. И метафора лабиринта помогает понять еще один важный аспект свободы. Решая жить и работать по внутреннему побуждению, мы делаем выбор, сознательный и активный. Как мы видели в предыдущей главе, истинная свобода — не «другое название для “больше нечего терять”», как пела когда-то покойная Дженис Джоплин в песне, сочиненной Крисом Кристоферсоном. Нравится нам это или нет, мы не только свободны в своем выборе, но и отвечаем за него. И тот, кто задумал до поры до времени спрятать свои надежды — связанные с работой или личной жизнью — в шкатулку и запереть на ключ, должен быть готов к тому, что ему, быть может, не удастся в своей жизни ни вернуться к той шкатулке, ни обрести смысл жизни.
Живя в плену своих убогих мыслей, мы плохо различаем происходящее за стенами нашей мысленной тюрьмы. И чтобы начать видеть яснее, нужно сначала заглянуть в себя:
Пора войти внутрь, посмотреть на себя.
Пора использовать до конца то время, что мне осталось.
Воображаемые решетки тюрьмы сделаны из самой что ни на есть прочной стали.
Родни Кроуэлл36
К сожалению, мы часто не умеем воспользоваться тем внутренним «простором», который у нас есть, и упускаем возможность обрести истинный смысл в жизни и работе. По Франклу, такой шанс есть лишь у человека с твердыми убеждениями. Но как на всю жизнь сохранить верность своим убеждениям, своим ценностям? Вот небольшое упражнение, помогающее разобраться в этом вопросе.
В книге «Доктор и душа» Франкл предлагает читателю представить себе собственную жизнь как горную цепь. Моя версия упражнения, основанного на этой идее, такова. Во-первых, попробуйте (можно также пригласить поучаствовать коллег) взглянуть на свою жизнь на работе так, как смотрят на горный хребет. Перед вами сверкают вершины — кто на них стоит? Иначе говоря, кто оказал наибольшее влияние на вашу трудовую биографию и карьеру? Кто те люди, которые наставляли (а возможно, знали и любили) вас, по отношению к которым вы испытывали любовь и восхищение? Это могут быть авторы книг, учителя и профессора, работодатели, политические лидеры, просто друзья. Нарисуйте свои горы на бумаге цветными карандашами или фломастерами, на вершинах напишите имена.
Следующим шагом постарайтесь выявить повторяющиеся ценности, т.е. ценности, связанные с несколькими значимыми для вас эпизодами. Например, вы хорошо запомнили напутствие кого-то из своих учителей или руководителей. Проанализируйте, о каких главных ценностях там говорилось, проделайте это для разных людей, существенно повлиявших на вас. Теперь сосредоточьтесь на ценностях, которые, вероятно, входят в вашу собственную ценностную систему. Какие из них — самые позитивные, самые значимые? В чем вы были убеждены в течение всей карьеры, чему никогда не измените?
Итак, упражнение «Горная цепь» позволит вам по-новому, более широко взглянуть на жизнь и работу, причем это будет ваша, и только ваша точка зрения. Вы откроете для себя собственные ценности, узнаете, чем отличаетесь от других, и глубже проникнете в смысл своего дела.
Нас, американцев, окружает такое материальное благополучие, какого больше нигде не найти. И все же мы тревожны и несчастны, страдаем от одиночества и внутреннего разлада. Среди молодых людей растет процент самоубийств, пропасть между богатыми и бедными не только не уменьшается, а становится все шире, хотя в стране вполне достаточно ресурсов, чтобы обеспечить общедоступное здравоохранение и экономическую стабильность. Преклонение перед богатством и деньгами ради денег заменяет нам уважение друг к другу и к людям вообще.
Истина заключается в том, что, когда борьба за выживание пошла на спад, возник вопрос: выживание для чего? Сегодня еще больше стало людей, у которых есть на что жить, но которым незачем жить37.
Настало ужасное время — при полнейшем изобилии. Как заметил Франкл, когда перестала ощущаться острая необходимость каждодневно бороться за физическое выживание людей, возник вопрос: а для чего выживать? Все больше и больше людей, располагающих средствами для безбедного существования, силятся понять, зачем живут. На фоне внешнего благоденствия еще отчетливее заметна внутренняя пустота, или, используя термин Франкла, «экзистенциальный вакуум».
Упомяну здесь статью, опубликованную в Utne Reader On-Line — интернет-версии Utne Reader, одного из самых известных альтернативных периодических изданий США. Авторы усматривают в жизни постмодернистского общества, особенно того, которое они называют «грустной Америкой», многие особенности и тенденции, очень похожие на проявления франкловского «экзистенциального вакуума»:
Почему мне грустно? Что меня тревожит? Отчего я не могу любить? Ответ, возможно, кроется в нашем коллективном бессознательном. Путь на поверхность ведет через постмодернистский зеркальный зал, который выглядит крайне отталкивающе. И все-таки туда стоит сходить. Рассматривайте это как попытку разрешить загадку мучительного психологического триллера собственной жизни, дать ответ на последнее экзистенциальное «кто виноват»... Нравится нам это или нет, мы, люди, застряли в перманентном кризисе смысла, в темной комнате, из которой никак не можем выбраться. Постмодернизм выдергивает у нас из-под ног ковер философии, и мы остаемся висеть в экзистенциальной пустоте38.
Виктор Франкл, один из самых глубоких и истинных оптимистов в мире, стал бы яростно оспаривать утверждение о том, что мы «никак не можем выбраться» из темной комнаты бессмысленности. Быть может, постмодернизм пал жертвой собственного нигилистического анализа, обесценивающего все, что есть в жизни (включая сам постмодернизм). Заметим, кстати, что право постмодернизма на существование обосновывается модернизмом, идеи которого, такие как достаточное количество еды и крыша над головой, фактически до сих пор остаются недосягаемой мечтой для большей части населения мира. Когда мы позволяем мыслителям-постмодернистам обрушить на нас все их аналитическое высокомерие, несправедливость выдается по полной программе.
Франкл создал и применял логотерапию именно как способ найти и открыть двери комнат отчаяния для всех — от товарищей по концлагерю до генерального директора, шофера или профессора философии, читающего лекции по постмодернизму. Он разработал общую концепцию существования и действия с совершенно новым устройством жизни, где и из дома, и из рабочей комнаты открывается чудесный вид и пребывание и там, и там наполнено важным смыслом. Он предложил систематический подход для поиска смысла, основанный на его личном опыте и действенный даже при самых катастрофических обстоятельствах.
Итак, среди работающих американцев все больше распространяется ощущение внутренней пустоты; соответственно, оно переходит и к пенсионерам. Вдобавок растет число людей, которые на работе (и, может быть, в жизни в целом) чувствуют себя в ловушке. Как же справляются с этими сложными проблемами наниматели, служащие и представители так называемой «нации свободных агентов»39? К сожалению, довольно плохо. В очень многих компаниях свободный труд фактически таковым не является. Периодические повышения зарплат и разнообразные премии часто создают лишь иллюзию свободы, особенно если работодатели, пусть неосознанно, пользуются материальным стимулированием так, что оно сосредоточивает внимание работника на деньгах, а не на содержании его деятельности. Кстати, Франкл рассматривал погоню за деньгами как примитивную разновидность стремления к превосходству.
Том Чаппелл, основатель компании Tom’s of Maine, создавал ее на основе осмысленных целей, и это обогатило глубоким личным смыслом его жизнь, а также жизнь сотрудников, которые разделяют цели компании и ощущают свою причастность к результатам. Tom’s of Maine не только разрабатывает продукты, отвечающие этическим и экологическим нормам, но и направляет 10% прибылей до вычета налогов на благотворительные цели в своем штате Мэн и за его пределами. 5% своего оплаченного рабочего времени сотрудники посвящают добровольным общественным работам. Подобная практика выходит за рамки того, что обычно понимается под социальной активностью корпораций; она охватывает ценности, относящиеся к эмоциональной, интеллектуальной и духовной сфере жизни сотрудников Tom’s of Maine и членов общины, а также к здоровью всех людей, к благополучию планеты в целом — и к финансовому процветанию компании. Коротко говоря, это партнерство, наполненное смыслом.
Но что, если наша компания или корпорация еще не пошла по пути Tom’s of Maine? Как нам тогда реализовать в труде свои высшие жизненные ценности? Надо начинать самостоятельный поиск смысла, а для этого — отказаться от поверхностного взгляда, согласно которому мы работаем только ради денег. Итак, сколько у нас возможностей найти точки соприкосновения с окружающими? Пользуемся ли мы удобным случаем, чтобы установить подлинный контакт? Относимся ли мы с уважением к тем, с кем работаем бок о бок? Хорошо ли понимаем, какое содержание можем принести в наши отношения со своей стороны? Ищем ли новых, творческих подходов к собственной работе? Ощущаем ли свою связь с окружающим миром сразу на многих уровнях или работаем «от звонка до звонка» и от зарплаты до зарплаты, бежим ли бегом от своего автомобиля до рабочего места или с нетерпением ждем благословенной пятницы?
В своих лекциях, выступлениях и в книге, впервые опубликованной в 1977 г., Франкл с большой силой говорит о «неслышном плаче о смысле», источником которого называет сочетание депрессии, агрессии и привычки. Полностью понять суть этих коллективных стенаний можно лишь в свете стоящей за ними экзистенциальной пустоты. Сейчас они, пожалуй, звучат еще громче, чем тогда, когда их впервые обнаружил Франкл, и стихать определенно не собираются.
Например, нас убивает стресс. Приступы ярости — распространенное явление в нашем обществе, они становятся причиной преступлений на дороге, на работе, в школе, дома и даже на автостоянке. Выражение «пойти в почтальоны» чересчур обычно и чересчур специфично для нынешнего времени. Мы становимся всё циничнее, всё меньше верим и в благородные намерения бизнесменов или правительства, и в порядочность друзей или соседей. Система образования не оправдывает наших ожиданий — молодые люди держатся отчужденно и мрачно. Общий «неслышный плач о смысле» разоблачает лживую культуру поверхностной доброжелательности. И лишь услышав его в собственном голосе и в голосах окружающих, мы захотим сделать доброжелательность искренней и глубокой.
В своей книге «Возвращение волшебства в повседневную жизнь» бывший католический монах, профессор богословия и психологии Томас Мур исследует возможности встречи с магическим, божественным началом на рабочем месте. Он вспоминает, что древние римляне почитали Меркурия как «божественного покровителя торговли», иначе говоря, видели в бизнесе сакральную составляющую. Работа, деньги, искусство, религия и философия в древности были частью повседневной жизни. Мур пишет:
Экономика — закон жизни, а само слово «экономика» в действительности обладает глубоким смыслом. Оно происходит от греческих oikos, что означает «дом» или «храм», и nomos — «управление», «обычай», «закон»... Бизнес затрагивает все аспекты ведения дома, будь то жилой дом на одну семью или наш общий дом — планета Земля, — а потому связан с выживанием, исполнением замыслов, общественной жизнью и смыслом40.
Кому-то, наверное, покажется, что искать магию в работе — пустая затея, однако в действительности ее можно там найти. И когда это происходит, волновой эффект (опосредованное влияние на других людей) в мире труда иногда бывает огромным. Тот, у кого есть божественная искра, вкладывает в свое дело душу, относится к нему эмоционально, с любовью и благодарностью, видит в нем для себя массу возможностей. Ощущение осмысленности высвобождает творческую энергию и делает труд более продуктивным.
Рассмотрим, например, компанию Skaltek, крупного производителя промышленного оборудования со штаб-квартирой в Стокгольме (Швеция). Вот как объясняет ее основатель Ойстейн Скаллеберг свои взгляды на людей и работу:
Каждый человек — Леонардо да Винчи, беда лишь, что он об этом не подозревает. Его родители не знали, кого произвели на свет, и не обращались с ним как с Леонардо. Вот он и не похож на Леонардо. Такая у меня базовая теория41.
Отметим, слово у Скаллеберга не расходится с делом. В Skaltek вообще отказались от названий должностей, чтобы таким образом исключить самую возможность присвоения кому-то привилегированного статуса. На визитной карточке сотрудника печатаются только его имя, контактная информация и фотография. Когда однажды Скаллеберга спросили об этой особенности его политики, тот ответил, что если бы ему пришлось подбирать слова и словосочетания, определяющие работу сотрудников, то он предпочел бы не стандартные термины, используемые в большинстве компаний, а что-то вроде «Леонардо да Винчи» или «Безграничные возможности».
В Skaltek нет и стандартных должностных инструкций, а каждый работник, участвовавший в изготовлении станка, ставит на конечном продукте свою личную подпись. Это обеспечивает не только непосредственную связь между клиентом и всеми, кто приложил руку к созданию продукта, но и полную прозрачность общего управления качеством. В культуре Skaltek присутствуют и еще более радикальные элементы — например, ежегодная процедура оценки сотрудников, которую проводят выбранные по жребию экспертные группы. По словам Скаллеберга, поскольку никто не знает заранее, кому достанется оценивать его работу в этом году, все на всякий случай «улыбаются направо и налево». А еще Скаллеберг придумал замечательную формулировку, описывающую корпоративную культуру будущего: «Доверие — ее начало, радость — ее непременная составляющая, любовь — ее сердце». Это ли не прекрасный образец компании, в работе которой присутствует самая настоящая магия и подлинный смысл?
Спасение человека — в любви и благодаря любви. Я понял, как человек, у которого ничего не осталось в этом мире, может все же познать блаженство, пусть на краткий миг, размышляя о том, кого любит42.
«Когда в жизнь человека входит магия, это хорошо для бизнеса, даже если ему требуется пересмотреть взгляды и систему ценностей», — пишет Мур43. Доказательство — от противного: работе, лишенной волшебства, сопутствуют эмоциональные стрессы, упадок физических и моральных сил, невысокая производительность и общее уныние. Короче говоря, если мы не умеем работать с душой, то страдаем. И наш бизнес тоже страдает.
Руководитель, наделенный божественной искрой, способен заразить своим вдохновением всех сотрудников. В 1995 г. пожар на фабрике компании Maiden Mills в Массачусетсе в одночасье оставил без работы 3000 человек. Но ненадолго. Аарон Фейерстайн, президент и генеральный директор компании, глядя на бушующее пламя, тут же на месте решил, что это не конец Maiden Mills. Первым делом он объявил, что за всеми работниками на три месяца сохраняется зарплата и все льготы в полном объеме. Им негде было работать, но руководитель сердцем, умом и душой знал, что выбросить их на улицу было бы бессовестно. Это нанесло бы смертельный удар не только по людям и их семьям, но и по всем жителям двух городов — Лоуренса и Метвена, — в жизнь которых компания была прямо или косвенно вовлечена на всех уровнях. Вдобавок пострадали бы клиенты Maiden Mills: продукцию компании — высокотехнологичные ткани для верхней одежды — закупали такие фирмы, как L.L. Bean и Lands’ End.
Сохранение зарплат стоило миллионы долларов, компания стала банкротом, но Фейерстайн добился своего. Он рисковал всем, что у него было, — деньгами, репутацией, бизнесом. Он верил в своих сотрудников, и те не обманули его доверия. Когда удалось наладить временное производство в помещении старых складов, результаты были поразительными.
«До пожара, — рассказывал Фейерстайн, — фабрика выпускала 130 000 ярдов материи в неделю. — А через несколько недель после него эта цифра достигла 230 000 ярдов. Люди стали очень творчески мыслить и были готовы работать по 25 часов в сутки».
Фейерстайн инстинктивно дорожил своими работниками и, хотя страшно рисковал, немедленно инвестировал огромную сумму в то, чтобы их сохранить. Затем он направил все силы на восстановление производства и добился того, что казалось невозможным: компания, как феникс, поднялась из пепла. Сотрудники — и «синие воротнички», и «белые воротнички» — преданно работали на общее благо. В 2003 г. компания вышла из банкротства.
Чем бы ни занималась организация, если наши руководители понимают, в чем смысл их работы, мы легко сумеем понять смысл своей. Это естественное отражение осмысленных ценностей: люди, которыми дорожат, о которых заботятся, ощущают себя частью единого целого. Однако божественная искра может передаваться и снизу вверх. Там, где отношения между руководством и подчиненными носят формальный характер, найти источник для вдохновения, безусловно, труднее, но он, по-видимому, и нужнее в таких условиях.
Наши корпорации переживают кризис ответственности. Многими из них управляют люди, отделенные от рядовых сотрудников огромным числом уровней иерархии; удаленность руководства мешает установлению осмысленных связей, по которым могла бы распространяться «сверху вниз» божественная искра. Тогда весь смысл деятельности компании начинает сводиться к финансовым итогам, а этические и моральные решения, составляющие душу капитализма, оказываются перечеркнуты. В таком случае эти решения должны исходить от нас как индивидов, независимо от того, какой пост мы занимаем и какие обязанности исполняем.
Выбор в пользу смысла — это одновременно и выбор в пользу уважения, доброты и вежливости, честности и справедливости. Сделав его, мы начинаем с вниманием относиться ко всем, кто (и ко всему, что) нас окружает. Мы принимаем решения морального и этического характера, касающиеся нашей работы, и находим способы влияния на рабочую среду: иногда просто выражаем признательность коллегам, иногда пишем письмо о том, что мы заметили и что нас волнует, иногда организуем кампанию в поддержку конструктивных преобразований. Чем лучше мы понимаем смысл своего дела, тем больше у нас возможностей изменить к лучшему наше место работы.
Финансовые итоги не заинтересованы в этических и моральных решениях — в них заинтересованы люди. Когда руководители принимают решения, ориентируясь на деньги, а не на людей, ими владеет стремление к деньгам или к превосходству, и наш долг — понять, каковы могут быть последствия, и что-то предпринять. В наших силах — пролить свет на смысл. Отказавшись подчиняться стереотипам, мы пустимся на поиски смысла, и в этом будет большой смысл.
Вспомните ситуацию на работе, в которой подверглась испытанию ваша верность собственным ценностям или идеалам. Например, вам хотели поручить работу, не отвечающую вашим личным ценностям; или ваша работа была вам просто не по душе. Каким образом вы пришли к осознанию значимости ситуации? Предприняли ли вы что-нибудь, если да, то что? Чему научила вас эта ситуация, в частности, насколько твердой оказалась ваша верность своим ценностям и идеалам, насколько сильной — воля к смыслу? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вам удается сохранять в работе верность значимым ценностям и идеалам, проявляя таким образом волю к смыслу?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте о ценностях и идеалах, лежащих в основе вашей работы. Как в них отражается стремление к удовольствию (по Фрейду)? к превосходству (по Адлеру)? к смыслу (по Франклу)?
6
Выявлять в жизни
значимые моменты
Живи так, как будто живешь во второй раз и в прошлой жизни уже делал ошибку, которую собираешься совершить сейчас!44
Мишель отпраздновала пятидесятилетие, но внутренне не была готова принять тот факт, что перешагнула полувековой рубеж, и мысль о приближении пенсионного возраста приводила ее в ужас. В действительности настроение у нее было вовсе не праздничное. Личная жизнь Мишель, дважды разведенной одинокой женщины и матери двух представителей «поколения X», оставляла желать лучшего, а на работе отношения никак не складывались. После развода со вторым мужем ей так и не удалось найти подходящее место: куда она ни устраивалась, ей нигде не было хорошо. Разумеется, виновата в этом была не она сама, а бестолковый шеф, бездельники-сослуживцы, невразумительные должностные инструкции, отсутствие поддержки и т.д. Так что Мишель ни в какой момент не ощущала удовлетворения от работы и не могла вообразить для себя осмысленную карьеру.
Поскольку обстановка в семье также была напряженной, Мишель испытывала двойной стресс, конца которому не предвиделось. Казалось, она постоянно должна тушить два пожара — на работе и дома, — и у нее уже нет сил, чтобы определить подлинный источник мучений. Впадая во все более глубокую депрессию, Мишель продолжала приписывать свои беды внешним обстоятельствам и постепенно окружила себя непробиваемой броней. Со временем она забыла о том, что и у нее есть своя роль в событиях, что ответственность за ее беды лежит в том числе и на ней, и, всецело поглощенная сетованиями на свою несчастную жизнь, перестала воспринимать смысл драгоценных мгновений. По ее представлению, жизнь обошлась с ней жестоко, а значит, оставалось только страдать и жаловаться — во весь голос, чтобы и домашние, и друзья, и сослуживцы, и вообще все вокруг знали, до чего же ей плохо.
Как говорит в фильме «Легенда о Баггере Вансе» знаменитый игрок в гольф Уолтер Хоуган, «смысл всего этого в том, что нет никакого смысла». Мишель, наверное, согласилась бы с такой формулировкой — поиск смысла утратил для нее ценность, а в жизни не осталось цели. Она, скорее всего, будет и дальше влачить бессмысленное существование — разве что случится чудо, потому что сама она не желает ничего искать. Может быть, спросите вы, у нее просто наступил кризис середины жизни? Может быть. Как бы то ни было, прекратив поиски смысла, Мишель, так боявшаяся ухода на пенсию, по собственному выбору оказалась на обочине жизни.
Нам не дано создавать смысл — в наших силах только находить его. Но мы никогда его не найдем, если не станем искать. На нашем пути встречаются смыслы самых разных форм и размеров: какие-то вырисовываются на горизонте как что-то огромное, какие-то подкрадываются почти незаметно. Иногда мы упускаем момент встречи со смыслом, и лишь через много дней, месяцев, а иногда и лет какое-то событие, представлявшееся нам незначительным, внезапно оказывается поворотным, круто изменившим нашу дальнейшую жизнь. Бывает и так, что мы усматриваем множество мгновений, которые по отдельности, может быть, и не заслуживают внимания, но обладают общим смыслом, — словно ткань, образованная из нитей. И хотя мы не всегда это осознаем, смысл, как сказал бы Франкл, присутствует в каждом моменте, ждет нас на каждом шагу. Надо лишь пробудиться и начать его замечать — в работе и в повседневных делах.
Человек должен открыть подлинный смысл жизни в окружающем мире, а не внутри себя или своей души, рассматриваемой как замкнутая система45.
Казалось бы, просто, но в наши дни люди нередко ощущают эту задачу как почти невыполнимую. В обществе, изъясняющемся обрывками фраз, темп жизни настолько ускорился, что нам уже не приходит в голову остановиться и понюхать розы, — это действие представляется какой-то сентиментальной архаикой из далекого прошлого. Живя в эпоху «быстрых компаний», мы, похоже, забыли, как замедлять шаг, как задумываться, и если уж останавливаемся, то чтобы позвонить по мобильному или проверить электронную почту. Время убегает от нас, и смысл — тоже. И мы обращаем внимание на смысл, — как и на время, — только когда его остается совсем немного. Однажды утром мы просыпаемся — или не спим всю ночь, — вдруг разом чувствуем накопившуюся усталость, раздробленность жизни, неумолимый ход вещей и спрашиваем себя: зачем?
Но нам не понять этого, пока мы не сумеем ответить на более частные вопросы: чем мы занимаемся? Для чего? Что значит для нас наша жизнь? Наша работа? Осмысленными ответами на них наполнен каждый наш день, но смысл откроется нам лишь тогда, когда мы остановимся достаточно надолго и сможем его оценить. Чтобы выявить и понять смысл, надо действительно присутствовать там, где он находится, а мы по большей части движемся в каком-то ином направлении. Наша бешеная активность на работе и дома бросает вызов самой природе нашего существования. И если мы не остановимся, не принюхаемся, не попытаемся учуять собственное существование, смысл превратится для нас в несбыточный сон.
Поэтому прежде чем выходить на охоту за смыслом, надо осознать, что добыча обладает для нас некой ценностью. Смысла вокруг хоть отбавляй. В любой момент мы наблюдаем ритмы бытия — приливы и отливы, движение звезд, смену времен года, — и чудо существования всего этого. Исключений не бывает. Все астронавты, вернувшиеся из межпланетного пространства, подтверждают величие чуда жизни на земле. Ученые, объединив силы, отправляют людей в космос, но это еще не чудо — настоящее чудо начинается после возвращения астронавтов. С орбиты они видят планету с материками и облаками, висящую в огромной пустоте Вселенной, и всю жизнь, держащуюся на невидимой нити вероятности. Работа возносит их на космическую высоту, а возвращение повергает на колени.
Суфийский поэт XIII в. Руми сказал: «Никогда не поздно склониться и поцеловать землю». То, что жизнь, знакомая и незнакомая нам, полна смысла, на нашей хрупкой планете проявляется во всем. Где бы мы ни находились и что бы ни делали, само существование жизни призывает нас к смыслу. Как мы приглашаем живое в собственную жизнь? Как мы склоняемся над ним и целуем его? Как мы отдаем должное смыслу трудом у себя на работе? Наши ответы столь же различны, сколь и наши нужды.
Не так-то просто отличить настоящего профессионала от самозванца. Наши жизни беременны смыслом, а потому значимо все, что мы делаем в каждый момент. Мы свободны принять решение по велению сердца, повинуясь чувству любви. Стоит прекратить поиск разумного обоснования, как сам собой всплывает смысл. Но прежде нужно заглянуть в себя, а на это необходимо время; и хотя само время такое же, как всегда, кажется, что у нас его меньше, чем было у людей прошлого. Вернуть свое время — первый шаг в открытии себя смыслу. Но кто же его у нас похищает?
Начнем с технологий — это очень крупный вор. Признаюсь, мне столько лет, что я еще помню жизнь без телефонных автоответчиков. Люди либо дозванивались друг другу, либо нет. Тогда не было и сотовых телефонов, которые сейчас сопровождают нас везде и повсюду, не существовало ни электронной, ни речевой почты. Не застав нас дома или на работе, человек просил оставить для нас записку — на бумаге, и никак иначе! В результате мы сами определяли, когда перезвонить — и даже перезванивать ли вообще. Таким образом, у нас было больше простора для размышлений, для обдумывания и рассмотрения своих решений — и простых, и сложных.
Последние 25 лет полностью перевернули весь мир коммуникаций. Если мы не ответим немедленно на электронное письмо или на звонок по сотовому телефону, это может быть равносильно личной измене или профессиональной непригодности. Технология, предназначенная для облегчения жизни, добавила нам целый новый уровень обязательств. Малейшая неосмотрительность — и она подчиняет нас себе.
Во всем этом есть, конечно, положительные моменты: электронная почта помогает возрождению письменного слова; веб обеспечивает нам доступ к огромному объему информации; когда дело действительно срочное, сотовый телефон позволит мгновенно связаться с нужным человеком, а благодаря речевой почте мы не пропускаем важных сообщений. Плохо то, что от коммуникаций никуда не скрыться, если только не принять специальных мер.
У многих моих друзей, родственников, коллег уже выработалась стойкая зависимость от сотового телефона. Они берут его с собой, куда бы ни направлялись, — на прогулку, в магазин, в поездку (даже если это запрещено законом), в ресторан и в кино, где, увы, часто забывают его выключить. Мобильник, похоже, стал у них частью тела, причем не простой, а символизирующей их место в мире. Их жизнь немыслима без мантры «Ты меня слышишь?» — и из-за того, что они «всегда на связи», мы волей-неволей вступаем с ними в контакт, хотя это и не планировалось: так уж изменилось человеческое поведение под влиянием технологии. Подумайте, сколько раз знакомые и незнакомые люди при вас обсуждали по сотовому телефону свои рабочие или личные дела, о которых вам вовсе не нужно было, да и не хотелось знать!
А что можно сказать об электронной почте? Ведь это коварное средство связи фактически подчинило нас себе. Сколько из ваших знакомых «напрямую подключены» к своим учетным записям и ни дня не проводят без того, чтобы их проверить? Подозреваю, что таких людей среди нас становится все больше и больше; тем самым на нас накладываются дополнительные внешние обязательства, выполнение которых отнимает немало времени. Современные телекоммуникации — это и огромные возможности, и тяжкое бремя. Очень важно проводить границу между одним и другим, понимать, где использование технологий связи подрывает нашу связь со смыслом.
Здесь все сводится к осведомленности. По этому поводу есть хорошее изречение: «Важнее быть осведомленным, чем сообразительным»46. Тот, кто осведомлен, знает, в чем смысл. Но чтобы стать осведомленным, нужно время. Если нашу жизнь толкают вперед громоздящиеся друг на друга события, которые либо требуют совершенно определенной реакции, либо не требуют вообще ничего (как телепередача, которую мы просто смотрим), смысл теряется. Чтобы он присутствовал в нашей жизни, мы должны его видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать его вкус.
Все, что было доброго и прекрасного в прошлом, надежно сохранено в этом прошлом. С другой стороны, пока существует жизнь, любая вина и любое зло «поправимы»... Это не закончившийся фильм... и не фильм, который уже снят и просто прокручивается перед нами. Скорее уж фильм этого мира «снимается» прямо сейчас. А значит, нам — к счастью — еще предстоит сформировать будущее, т.е. оно в распоряжении человека, и человек за него в ответе — не более и не менее47.
У смысла столько же оттенков, сколько и цветов. И никто не в состоянии определить смысл за другого. Человек должен сам распознавать смысл мгновений своей жизни, эту обязанность нельзя просто так на кого-то переложить, как бы нам этого ни хотелось. Если я осознаю, что работа у меня не самая лучшая, но приходится на ней оставаться, поскольку надо платить за квартиру, моя работа имеет смысл. Это означает не пожизненное примирение с нелюбимой работой, а только осмысленность пребывания на ней в данный момент. Если я терпеть не могу начальницу, которая предъявляет ко мне завышенные требования и всегда мной недовольна, я могу либо отвечать ей тем же, либо попробовать чему-то научиться и вынести из создавшейся ситуации что-то полезное для себя. Может быть, начальница очень старается преуспеть; может быть, у нее голос, похожий на голос моей матери, и я, разговаривая с ней, ее на самом деле не слышу, а вспоминаю, как мать меня когда-то отчитывала; может быть, она трудный человек и мне следует употреблять в отношениях с ней свой дипломатический талант. А может быть, эта работа мне действительно не подходит.
В книге «Человек в поисках смысла» Франкл описывает следующий случай. К нему обратился американский дипломат, который желал продолжить в Вене курс психоаналитического лечения, начатый пятью годами раньше в Нью-Йорке48. Для начала Франкл поинтересовался у дипломата, почему тот считает, что ему необходимо такое лечение, и по какой причине оно проводилось раньше. Оказалось, что «больному» плохо давалась работа на дипломатическом поприще, особенно трудно ему было проводить внешнюю политику своей страны. Однако психоаналитик, лечивший дипломата, снова и снова говорил ему о необходимости внутреннего примирения с отцом: ясно же, что наниматель (правительство США) и начальство представляют собой «всего лишь» образы отца, а значит, неудовлетворенность работой вызвана подсознательной ненавистью к отцу.
Пять лет дипломат силился принять эту интерпретацию собственных мучений и все более запутывался, не умея увидеть лес действительности за деревьями символов и образов. Побеседовав несколько раз с доктором Франклом, он пришел к убеждению, что реальная проблема совсем в другом: избранное поприще подавляет его волю к смыслу и в действительности его влечет иной род занятий. В итоге пациент решил уйти из дипломатии и сменить профессию. Новая работа подошла ему значительно лучше. Причиной его мучений была не подсознательная ненависть к отцу, а то, что ему не удавалось выбрать себе дело по душе.
Осознав все изобилие доступных нам возможностей, мы откроем себя для смысла. Кроме того, мы должны открыть себя для собственной цельности и аутентичности — свойств, тесно связанных с осмысленностью жизни и работы. К сожалению, условия для этого есть не всегда, особенно на работе. Проблема, безусловно, коренится глубоко в нашей постмодернистской культуре. Когда наши поиски цельности, глубокого предназначения и смысла вступают в конфликт с погоней за деньгами, нам не миновать многочисленных синяков и шишек. Подумайте, например, о том, как горько нам узнавать из СМИ о корпоративных скандалах и сопутствовавшем им косвенном ущербе, неизбежном в таких случаях. Тот, кто решает собраться с мыслями и обдумать, что значит для его жизни смысл, непременно должен быть готов к испытаниям.
Сама жизнь приглашает нас к поиску смысла, и если мы это осознаем, то вкладываем смысл во все, что делаем. Толковый словарь Webster (Webster’s Third New International Dictionary) содержит два с лишним десятка толкований для слова work («работать», «работа») и более сотни других слов и словосочетаний с начальным элементом work. Но значение их всех хорошо иллюстрируется самым первым, совсем коротким толкованием — to do («делать»). Все, что мы делаем, имеет свой смысл, будь то спортивная тренировка или писание картин.
Жизнь сохраняет смысл при любых условиях. Она остается осмысленной буквально до последнего момента, до последнего дыхания49.
Но надо не только верить, что деятельность осмысленна, но и знать, каков ее смысл. Подлинная свобода, подлинный смысл жизни начинается с понимания, зачем мы делаем то-то и то-то. Если поглубже заглянуть в себя, мы обнаружим два самых мощных фактора, побуждающих нас к действию, — любовь и совесть. Франкл определяет их как «интуитивные способности»: мы повинуемся им, не рассуждая, они определяют наше поведение на наиболее фундаментальном уровне. «Истина в том, — пишет Франкл в книге “Человек в поисках смысла”, — что любовь есть последняя и высшая цель, к которой может стремиться человек»50.
Не во всех случаях легко понять, где именно в нашей жизни вступают в игру любовь и совесть, но если мы задумаемся над мотивами своих решений, ответ не заставит себя ждать. Мы работаем по ночам, чтобы провести утро вместе с детьми и проводить их в школу. Мы выращиваем овощи без использования химических удобрений, чтобы люди ели здоровую пищу. Мы держим малое предприятие, которое в трудной экономической ситуации обеспечивает работой трех человек. Мы пишем стихи и посылаем их друзьям. Мы консультируем нуждающихся в психологической помощи, помогая им эффективнее справиться со стрессом. Мы занимаемся парусным спортом с детьми из бедных районов. Мы управляем крупной корпорацией, следя, чтобы сотрудники зарубежных отделений получали справедливую оплату. Мы шьем одеяла для бездомных. Мы нанимаемся на работу, которая нам не нравится, потому что на ней остается время заняться любимым делом. Мы организуем в своем городке обеспечение жильем по доступным ценам. Мы жертвуем $1000 местной благотворительной организации. Мы кладем доллар в протянутую руку. Мы строим экологически безупречные дома из соломенных блоков — легкого и дешевого материала с хорошими теплоизолирующими характеристиками. Мы работаем официантами, чтобы играть в спектаклях, воспитываем детей, кормим собаку, оплачиваем счет за электричество. Во всех случаях нами движут любовь и совесть. И, видя взаимосвязи, пронизывающие наш мир, мы в состоянии ответить на вопрос «зачем», а значит, знаем смысл.
Вспомним формулу, придуманную Ойстейном Скаллебергом, которая приводилась в предыдущей главе. «Доверие — ее начало, радость — ее непременная составляющая, любовь — ее сердце». Таково кредо Скаллеберга в отношении корпоративной культуры. Много ли вы знаете организаций, каких угодно, которые бы в своей деятельности ставили во главу угла любовь (не романтическую, конечно)? Отсюда ясно, что рабочая среда Skaltek поистине уникальна, а формула Скаллеберга — совершенно революционная.
Мир полон добрых дел и возможностей творить добро. Если мы его не творим, то часто из страха. Мы боимся что-то потерять — положение в обществе, любимого человека, работу, защищенность, самоощущение, свое место под солнцем. Тема страха на работе не нова и обсуждается не первый год. Но хотя идея «изгнать страх с рабочего места» уже долгое время выступает как один из основных принципов общего управления качеством, само это изгнание пока не произошло и остается крайне трудноразрешимой задачей51. Таким образом, надо преодолевать страх самостоятельно. Существуют методы, помогающие обрести бесстрашие как в частных делах, так и в вопросах управления и руководства52.
В фильме 1991 г. «Защита» Альберт Брукс, автор сценария и директор картины, играет роль Дэна Миллера, преуспевающего бизнесмена, который получает новый BMW, врезается на нем в автобус, увлекшись настройкой CD-плеера, гибнет и попадает в место под названием Судный город. Это некая промежуточная станция загробного мира, устроенная, по выражению кинокритика Роджера Эберта, «так, как могло бы быть рекомендовано хорошей программой MBA». Здесь Дэн должен попытаться объяснить и защитить прожитую им жизнь, в особенности те (демонстрируемые ему) моменты, где его поступками наиболее явно руководил страх. Между Дэном и Бобом Даймондом (актер Рип Торн), приставленным к нему адвокатом, происходит следующий диалог:
Боб Даймонд: Вы с земли и не привыкли шевелить мозгами, а потому всю жизнь только и делали что боялись.
Дэн Миллер: Неужели?
Боб Даймонд: На земле все боятся. Это от недостатка мозгов.
...
Боб Даймонд: Случалось, что у кого-нибудь из ваших друзей схватывало живот?
Дэн Миллер: С ними со всеми такое бывало.
Боб Даймонд: Это страх. Он, как плотный туман, заполняет мозги и всё останавливает. Через него не пробиться ни искреннему чувству, ни истинному счастью, ни настоящей радости. А вы ползаете там и уговариваете себя, что на жизненном пути так и надо.
Что говорится в приведенном диалоге о смысле мгновений жизни? Во-первых, страх сравнивается в нем с туманом, поскольку мешает поискам смысла. В таком контексте страх выступает как источник неспособности к творческому самовыражению, неумения и нежелания попадать в новые положения, вступать в новые отношения с окружающими, менять отношение к кому- или чему-либо. Согласно Франклу, все это — источники аутентичного смысла. И здесь следует отметить, что мужество — это не отсутствие страха, а готовность и способность пройти через страх, шагнуть, если угодно, во тьму того лабиринта смысла, который являет собой наша жизнь. И оно подвергается главным испытаниям в самые тяжкие времена, когда мы нельзя избежать трудностей и страданий.
Вновь и вновь пример тех, кто потерял все, учит нас, что худшие времена часто становятся катализатором для проявления лучшего, что есть в человеке. Из биографии и работ Виктора Франкла мы знаем, что даже глубочайшее горе и невыносимые условия жизни могут открыть нас смыслу. Крошечное мгновение — тоже. Надо лишь вернуть себе свое время, начать обращать внимание на детали и понять «зачем».
В концлагерях, например, — в этой живой лаборатории и на этой испытательной площадке — мы наблюдали, как одни вели себя, будто свиньи, а другие — словно святые. В человеке заключены оба потенциала; какой из них реализуется, зависит от принимаемых решений, а не от условий53.
Иногда нам нужно подходить к поиску смысла с другого конца: понять, что мы чего-то не понимаем, и сделать это отправной точкой. Мы должны дать смыслу нас найти. Это кажется все труднее по мере того, как мы становимся старше, особенно в середине жизни, когда мы оказываемся на решающем перепутье по дороге к смыслу. Как пишет Марк Герзон в книге «Вступить во владение тем, что тебе принадлежит: понимание метаморфозы взрослого человека», не обязательно переживать так называемый кризис середины жизни. Альтернативой ему может стать обретение более глубокой любви, целей, смысла и мудрости, которая приходит с годами54. Если рассматривать жизнь, включая работу, как поиск, а не как кризис, после прохождения ее середины у нас появляется великолепный шанс обновления. Этот шанс существует для всех, включая поколение «беби-бума», приблизившееся сейчас к границе старости.
С увеличением ожидаемой продолжительности жизни и количества свободного времени после достижения пенсионного возраста все больше людей начинают задавать себе экзистенциальный вопрос: «И это всё?» Одновременно растет число тех, кто по тем или иным причинам оставляет работу раньше. Одни уходят по своей воле, других увольняют в связи с сокращениями, поглощениями и т.п. Во всех случаях у человека становится больше свободного времени, и он начинает задавать себе целый ряд вопросов, так или иначе связанных со смыслом. Хорошей иллюстрацией разницы между успехом и исполнением мечты может служить жизнь «пенсионеров» из Кремниевой долины, которые в 30 с чем-то лет решили, что накопили достаточно денег на весь остаток жизни, и бросили работу (сейчас подобное уже редкость в силу изменения экономических условий). Многие из них не прижились среди нуворишей, чувствуют себя одинокими, потерянными, испытывают депрессию и т.п., что, казалось бы, идет вразрез с расхожей мудростью. Как можно быть несчастным при полном достатке и возможности делать все, что заблагорассудится?
Уход на пенсию в более пожилом возрасте требует такого же внимания к вопросам смысла, особенно в силу роста ожидаемой продолжительности жизни работающих людей в западных странах. Почему, например, одни из них, похоже, «отходят» от жизни, в то время как другие перестраиваются и начинают заниматься иными, не менее осмысленными делами в частной жизни и на работе? Биография и наследие Виктора Франкла недвусмысленно учат нас подходить к старению с позиции имеющихся у нас сил и с уважением к величию человеческого духа. Вторая половина жизни Франкла, который не отошел от активной работы даже в 90 с лишним лет, показывает нам, как может быть важна воля к смыслу в течение всей жизни человека.
Если все-таки попытаться сопоставить материальное с духовным, то подозреваю, что в «сбалансированной системе показателей» XXI в. успех в выстраивании жизни должен получить больший вес, чем успех в зарабатывании на жизнь. И по мере того, как люди все отчетливее осознают свою смертную природу и ту роль, которую играет в их жизни преданность своим главным ценностям (т.е. воля к смыслу), они склонны чаще задумываться о том, что останется после них. С точки зрения Франкла, такая постановка вопроса — проявление человеческой сущности: «Ни один муравей, ни одна пчела, ни одно животное никогда не спросит, имеет ли смысл его существование, а человек спрашивает. То, что ему не все равно, зачем он живет, — его привилегия. Он не только ищет смысл, но даже уполномочен на такой поиск... В конечном итоге это признак интеллектуальной честности и искренности55.
Размышляя о своем существовании и стараясь распознать значение того или иного момента жизни, мы также можем представить себе, что останется после нас, — хотя наша работа над собственным наследием продолжается. Для этой цели существует ряд простых и практичных упражнений, некоторые из них я сейчас опишу. Поскольку мне посчастливилось жить среди дивных гор на севере штата Нью-Мексико, первым будет упражнение, которое я называю «Взгляд с высоты».
Представьте себе, что сидите на вершине горы и с высоты окидываете взглядом собственную жизнь. Отсюда вам видны пройденные дороги, места, где вы останавливались, люди, с которыми вы встречались, все, что вы делали и испытывали. Начертите, как картограф, карту своей жизни, обозначая различными символами ключевые моменты. Спросите себя о значимости и смысле каждого такого момента — коль скоро вы определили момент как ключевой, у вас должна быть на это причина. Теперь соедините ключевые моменты, как нити, в единый узор своей жизни и деятельности. В этот узор вплетено и ваше наследие — то, что останется после вас.
Следующее упражнение — «Некролог» — основанное на совершенно другом подходе, тоже способно подтолкнуть вас к размышлениям о своей жизни, включая работу, и помочь вам отыскать путь к осмысленному существованию. Представьте себе, что вы умерли, но должны не предстать перед судом, как Дэн Миллер, персонаж Альберта Брукса из фильма «Защита», а написать собственный некролог для местной газеты. Что там будет сказано? Или, иначе, какую память вы хотели бы по себе оставить? Что в вашей жизни было самым главным? Редактор газеты ограничил размер некролога одной полосой, поэтому старайтесь выражать свои мысли максимально сжато и отчетливо.

Существует и другой вариант этого упражнения — «Надгробное слово», — где требуется заполнить пропуски в шаблоне (сам шаблон приведен на предыдущей странице). Точно так же, как и в случае некролога, постарайтесь написать именно такую речь для своих похорон, какую считаете правильной56. Вы получили уникальную возможность сочинить себе надгробное слово, поэтому постарайтесь упомянуть в нем самые значимые аспекты своей биографии. Действительно ли вы прожили осмысленную жизнь, занимались осмысленными делами? А теперь предположим, что надгробное слово произносит кто-то другой. Что будет выглядеть иначе? Вспомните Скруджа из «Рождественской песни» Диккенса: что показал бы вам Дух Будущих Святок? Что говорили бы после вашей смерти знавшие вас люди, как бы они вас вспоминали?
Приведенные упражнения помогают не только осмыслить собственную биографию, но и выделить в ней самое существенное. Во всех трех случаях (а в двух последних — особенно) вы должны отстраниться и увидеть большую картину своей жизни в целом. Может быть, получившаяся картина вам понравится, может быть, нет. Но все-таки вы получите шанс подумать над высшим и последним, как сказал бы Франкл, смыслом своей жизни. Независимо от вашего мировоззрения и вероисповедания, этот смысл — понятие метафизическое, его корни и его ценность относятся к сфере духовного. Во введении в книгу «Доктор и душа» Франкл пишет: «Жизнь есть задача. Религиозный человек отличается от явно нерелигиозного только переживанием своего существования не просто как задачи, но как миссии». Теперь попробуйте правдиво ответить, что для вас жизнь — задача или миссия? А работа?
Держите в голове эти вопросы, пока будете рисовать карту своего жизненного пути, сочинять себе некролог или надгробное слово, размышлять о том, как выглядит узор вашей жизни и что после вас останется. Поняв, как важно выявлять смысл моментов жизни и извлекать из них уроки, вы уже не попадете во власть стереотипов. А когда вам удастся сосредоточиться на большой картине, для вас начнется — и больше не закончится — поиск высшего смысла.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы испытывали страх перемен (быть может, это и сейчас так). Например, вам угрожало увольнение в связи с сокращением штатов или поглощением фирмы, вам не нравился стиль руководства нового начальства, вам предлагали переквалифицироваться, уйти на пенсию и т.п. Как вы впервые поняли, что вами владеет именно страх перемен? Предприняли ли вы что-нибудь, если да, то что? Чему научила вас эта ситуация? Более конкретно, приобрели ли вы полезный опыт, помогающий преодолевать страх и адекватно реагировать на перемены?
Значимый вопрос
В каких отношениях ваша работа является не серией задач, а единой миссией?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Представьте себе, что написали автобиографическую книгу, в которой подробно рассказываете о своей жизни и работе, и эта книга попала в список бестселлеров The New York Times. Как она озаглавлена? Какие люди упомянуты в разделе «Благодарности»?
7
Не работать против себя
Изрядная ирония содержится в том, что, как страх порождает то, чего человек боится, так чрезмерно сильное желание делает невозможным то, чего он желает57.
Бывало ли у вас, что вы изо всех сил старались выполнить какое-то дело, но чем больше вы работали, тем труднее оно делалось, а желанная цель все отдалялась? Иначе говоря, шаг вперед, два шага назад? Со мной подобное случалось, в том числе и на работе. Расскажу об одном таком эпизоде. Это произошло, когда я работал штатным профессором в одном из университетов США и руководил программой обучения студентов по специальности «государственное управление».
В качестве руководителя учебной программы я должен был добиваться аккредитации от одной из ассоциаций профессионалов в соответствующей области. Внесение в реестр аккредитованных программ считалось престижным отличием и представляло собой важное конкурентное преимущество: оно сулило университету увеличение числа студентов, записавшихся на мою программу, набора на факультет в целом, финансирования исследовательских работ и т.п.
Поскольку на тот момент я был новым человеком на факультете, аккредитация представлялась мне важной вехой на пути к успеху. Я полным ходом двинулся вперед, всецело преданный идее и горячо увлеченный ею, и был совершенно уверен, что вскоре добьюсь желаемого. Я полагал, что моя способность пройти эту аккредитацию очевидна, поскольку ранее, работая в других местах, я ее уже проходил, так что одержать еще одну победу мне не составит труда.
Увы, дело обернулось совсем иначе. К кому я ни обращался, все мне возражали, и чем более я старался их убедить, тем сильнее было сопротивление. Позднее я понял, что именно мой опыт и стал препятствием: я знал, «как надо», а мои коллеги действовали не так и, следовательно, неправильно! Я цеплялся за каждую деталь программы и уверил себя, что смогу в одиночку исправить все недостатки, из-за которых подвергалось риску получение полной аккредитации.
Разумеется, я действовал с самыми лучшими намерениями, и в ретроспективе большинство моих тогдашних коллег, наверное, согласились бы со мной. Но это мне, к сожалению, не помогло: фиксация на результате настолько меня связала, что за все время пребывания во главе программы я так и не добился аккредитации.
Мне, конечно, легко было бы заявить, что ответственность за провал лежит на всех, кроме меня, или, по крайней мере, что я виновен в нем лишь отчасти. Однако я не стану этого делать, поскольку отлично вижу, каким образом сам себе испортил дело. Я слишком старался, чтобы все делалось «по-моему», и в результате возникало отчуждение между мной и коллегами, от содействия которых зависел мой успех. С тех пор жизнь научила меня, что, диктуя кому-либо «правильный» образ действий, мы тем самым лишаем его самостоятельности, уменьшаем его вклад в совместную работу, а в некоторых случаях даже провоцируем скрытый (или явный) саботаж. Парадоксальным образом я стал своим злейшим врагом, вовсе не подозревая об этом!
Смысл есть в жизни, и он есть в работе. Когда мы ищем смысл, наш поиск обладает собственным смыслом. Смысл — здесь, он вокруг нас, внутри нас и вне нас. Но слишком усердные попытки создать смысл часто кончаются неудачей, особенно в ситуациях, связанных с работой. У работы, как и у личной жизни, есть своя динамика. Но наши отношения с сослуживцами не могут достигать того же уровня эмоциональной откровенности, какой принят между близкими людьми, — это сделало бы нас слишком уязвимыми. Мы считаем необходимым выступать как «профессионалы» и «делать дело», т.е. ставить задачи и отчитываться в их выполнении.
Труд обычно представляет ту сферу, где неповторимость человеческой личности обнаруживает смысл и ценность в своем отношении к обществу. Однако эти смысл и ценность присущи труду человека как вкладу в общее благо, а не его занятию как таковому58.
Иногда сделанное нами поддается измерению; можно предъявить некий непосредственно ощутимый результат: мы произвели или продали столько-то продукции, уложились в определенную месячную квоту, проехали за день такое-то расстояние, успели в срок, испекли хлеб, починили автомобиль, обслужили клиента. Для других видов деятельности оценить результат труднее. Таковы, в частности, долгосрочное планирование, проекты, включающие творческий компонент, совместная работа команды, случаи, когда ожидаемый эффект носит комплексный характер, а также когда цели ставятся субъективно. Но и здесь существует понятие выполнения, а как правило, нужна и оценка. Обычно мы обязаны отчитываться перед кем-то в своей работе. Нам надо кого-то порадовать, хорошо справиться с работой, показать высокую эффективность. И именно желание произвести впечатление часто нас подводит. Наши мысли выходят за пределы ситуации, фиксируются на результате, и мы упускаем из виду тот самый успех, к которому стремились.
Наша работа всегда представляет собой нечто большее, чем она сама. Это еще и наши связи — с собой и с другими: с клиентами и конечными потребителями, с предметами, которые мы придумываем, делаем и продаем, с услугами, которые оказываем, с окружающей средой, со всем миром. Работа пронизана множеством взаимозависимостей, причем у каждой из них по отдельности и у всех вместе есть свой смысл, который можно упустить, если слишком пристально сосредоточиться на конечном результате. Чем больше мы стараемся достигнуть успеха, тем легче он от нас ускользает.
Важно не над чем работает человек, а каким образом он выполняет эту работу59.
Анджела, молодая женщина, недавно закончившая колледж по специальности «деловое администрирование», с огромным воодушевлением восприняла весть о своем назначении на пост директора аптеки, где она работала. Это была ее первая проба сил в качестве менеджера, и она надеялась, что повышение станет для нее началом восхождения по служебной лестнице. Разумеется, ей очень хотелось проявить себя на новой работе с самой лучшей стороны и доказать руководителям компании, что они не ошиблись с выбором, поставив ее на это место.
Вступив в должность, Анджела немедленно объявила о намерении улучшить работу всех сотрудников, усовершенствовав работу команды и распределение обязанностей. Было похоже, что она всех заразила своим энтузиазмом и сумеет в самое ближайшее время добиться существенных положительных сдвигов. А поскольку аптека находилась по соседству с моим домом и я регулярно туда заходил, о продвижении дела мне становилось известно из первых рук — непосредственно от Анджелы.
Как-то раз Анджела призналась мне: «Мои подчиненные невероятно ленивы; что бы я им ни говорила, что бы ни делала, они не хотят работать в полную силу». Я тогда подумал, что у нее просто выдался неудачный день, но оказалось, это только начало. С тех пор я постоянно видел Анджелу в дурном расположении духа: если она не изливала душу мне, то жаловалась на свои проблемы еще какому-нибудь клиенту, а кроме того, постоянно распекала других работников аптеки за различные упущения. Ее негативное отношение к происходящему в аптеке бросалось в глаза. Насколько я мог судить, у нее совершенно испортились отношения со всем коллективом, и по-моему, это было в значительной мере делом ее собственных рук.
Поведение Анджелы — яркий пример гиперинтенции и гиперрефлексии — двух тенденций, очень важных с точки зрения учения Франкла. Анджела неосознанно перешла к так называемому микроменеджменту, т.е. старалась вникнуть во все детали работы подчиненных. Намерения у нее были самые лучшие, ведь ей хотелось продемонстрировать качества хорошего менеджера и выйти на заданные показатели эффективности. Беда заключалась в том, что достижение цели превратилось у нее в навязчивую идею (место намерения заняла гиперинтенция), а внимание к собственным методам руководства сделало ее неспособной видеть решение проблем (возникла гиперрефлексия). Парадоксальным образом чем больше она призывала к развитию командного духа, эффективному распределению обязанностей и улучшению обслуживания, тем меньше ее слова значили для сотрудников.
Поглощенная мыслями о поставленной задаче, Анджела начала испытывать преждевременную (или, используя специальный термин, антиципированную) тревогу по поводу результатов — это было видно по ее негативному отношению к положению на работе. Фактически получилось, как часто бывает, своего рода самоисполняющееся пророчество. К сожалению, Анджела не знала, что, перестав размышлять о своих намерениях, она, возможно, нашла бы способ разрешить ситуацию и стать-таки хорошим менеджером, т.е. исполнить задуманное.
Смысл можно найти, понимая значение момента, и если мы слишком сильно оторвемся от текущего момента, то не сможем эффективно действовать. Даже когда ставки высоки и от успеха зависит очень многое, фиксация внимания на результате в ущерб процессу способна стать препятствием на пути к успешному завершению предприятия. Всем нам это знакомо: из-за нервозности и беспокойства по поводу того, чтобы «все сделать как надо», мы что-то непременно делаем не так. Чем больше ожиданий мы возлагаем на итог дела, тем слабее наша связь с соответствующей деятельностью и тем менее мы в состоянии плодотворно в ней участвовать.
Франкл называет это явление парадоксальной интенцией. Наши благие намерения на деле становятся причиной неудачи. Чересчур пламенно стремясь к успеху, мы перестаем обращать внимание на отношения, составляющие неотъемлемую часть процесса, и сеем семена будущего провала. Мы бежим от собственного успеха, пренебрегаем тем, что значимо для нас, для других и для процесса.
«Мой начальник туп как пробка», «Мой начальник терпеть меня не может», «Мой начальник присваивает все наши заслуги». Сколько раз вам приходилось слышать (или произносить) подобное? Сделайте передышку. Подумайте, что на самом деле означают эти слова, как они могут влиять на вас и ваших сослуживцев. Разумеется, начальники — обычные люди, так что у них вполне могут быть изъяны, в том числе и серьезные. Но все-таки это именно люди, а не персонажи комиксов об инженере Дилберте, и, как правило, они не без причины занимают свою должность. Поэтому не исключено, что, презирая шефа из-за его недостатков, вы сами себя лишаете шанса чему-то научиться и вырасти над собой.
Так что подумайте, есть ли у начальника сильные стороны и какие. Чему у него можно было бы поучиться? С кем он лучше всего срабатывается? Нет ли в вашем поведении чего-то, провоцирующего худшие проявления его характера? Не замешана ли здесь парадоксальная интенция? Какими бы несносными и несправедливыми ни были его постоянные идиотские указания и мелочные придирки, не тем ли они вызваны, что вы сами каждые несколько минут подходите к нему с вопросом? А теперь спросите себя: вы действительно этого хотите? Если нет, то вы, очевидно, работаете против себя!
Все мы наделены интуицией и неплохо угадываем настроение окружающих; всем нам знакомы чувства доверия, недоверия и ощущение «здесь что-то не так», которое мы не всегда можем рационально объяснить. Мы замечаем, когда с нами обходятся плохо, невнимательно, небрежно или бесчестно, как в личной, так и в профессиональной сфере. Именно это в любых обстоятельствах определяет наше отношение к человеку, побудительные причины и мотивы, заставляющие нас стараться для него и показывать себя с лучшей стороны.
На работе чутье способно нам подсказать, что кто-то использует нас для решения собственных задач и смысл, внутренне присущий нашему существованию, приносится в жертву чужому честолюбию. Такое чутье есть и у члена совета директоров, и у молодого сотрудника, только что зачисленного на скромную должность. Когда кто-то отчаянно добивается признания в виде повышения или прибавки к зарплате, такое поведение кажется в целом неестественным, ненастоящим. В нем чего-то недостает, и, как правило, это «что-то» — смысл.
Здесь показателен пример Нила, разработчика программного обеспечения в крупной фирме, работающей в сфере высоких технологий. Нил только что получил степень MBA в одном из престижных университетов, почти одновременно женился и очень хотел как можно скорее получить повышение и перейти в менеджеры. Стремясь продвинуться по служебной лестнице, он при каждом удобном случае демонстрировал свои новоприобретенные знания и навыки в области менеджмента и лез из кожи вон, чтобы его заметило начальство. На недовольство сослуживцев Нил не обращал внимания — увы, он был опытным и квалифицированным техническим специалистом, а с людьми, несмотря на свой диплом, работать не умел. В действительности коллеги Нила недолюбливали и не рассматривали даже как полноценного игрока в своей команде; тем более они не могли бы принять его как лидера или руководителя. Этим человеком, который рассчитывал стать менеджером, практически открыто пренебрегали. На совещаниях и во время аттестаций он всегда сидел один, и возле кулера никто из тех, кем он собирался руководить, к нему не подходил.
Несчастный Нил был так занят своими перспективами продвижения, что не заметил, как накаляется обстановка вокруг него. Поэтому сколько он ни строил из себя компетентного менеджера и как ни старался убедить руководство в том, что его необходимо повысить, у него ничего не получалось. Фактически чем больше усилий он прилагал, чтобы продвинуться, тем дальше оказывался от цели. И Нил не мог скорректировать свой курс, поскольку не понимал, на какие моменты ему следует обратить внимание. Как видим, он работал против себя.
Всякий раз, упуская возможность вежливого и содержательного контакта с коллегами, мы снижаем свои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Наоборот, давая себе труд развивать и поддерживать отношения с окружающими, мы значительно увеличиваем эти шансы. Наша жизнь становится чередой каждодневных, ежеминутных успехов, и благодаря этому делается более достижимой поставленная конкретная цель.
Здесь важно осознавать, насколько тесно бывают подчас связаны между собой личные и рабочие дела. «Умные руководители понимают, что индивид ценен в первую очередь своим умением строить отношения с окружающими»60. Еще один крайне существенный фактор успеха — это доверие, как в мелочах, так и на длинной дистанции. В самом деле, не доверяя окружающим, вы вынуждены все время просчитывать их шаги, направленные против вас, и свои встречные ходы. В результате отношения выстраиваются вокруг бессодержательной игры, от чего страдает работа.
Стремление навязывать окружающим, в частности подчиненным, свои предвзятые представления может срабатывать парадоксальным образом, давая эффект, противоположный тому, которого вы добивались. Например, в статье, озаглавленной «Синдром установки на неудачу», Жан-Франсуа Манзони и Жан-Луи Барсу описывают, как руководители зачисляют слабых работников в аутсайдеры, не предполагая в тех особого рвения, активности и изобретательности61.
Такие предположения обычно оправдываются, поскольку это типичные самоисполняющиеся пророчества. От сотрудников, которых считают слабыми, никто не ждет высоких результатов, они и не стараются. Таким образом, руководители, стремясь обеспечить максимальную эффективность, фактически заставляют людей работать плохо. Предвзятое отношение к подчиненным мешает им добиваться высоких результатов.
Многим из нас наверняка приходилось сталкиваться с микроменеджментом — ситуацией, когда руководитель не верит в нашу способность ответственно подойти к задаче и самостоятельно с ней справиться. Снисходительно-покровительственное отношение нас дезориентирует, так что мы часто начинаем вести себя соответственно ожиданиям и уже ни шагу не можем ступить без указки. Микроменеджер всем навязывает свои методы как единственно возможные; пару ему составляет отсутствующий менеджер, который настолько далек от содержания работы, что вообще не имеет никаких идей по поводу того, как можно было бы что-то делать. Еще один неприятный вариант — менеджер, который практикует управление путем личных встреч (Managing By Wandering Around, MBWA) под девизом «Кто бы ты ни был и что бы ни делал, делай свое дело хорошо». Во всех трех случаях — микроменеджер, отсутствующий менеджер и менеджер, взявший на вооружение псевдо-MBWA, — мы пребываем в состоянии неуверенности и нерешительности, что не идет на пользу ни нам, ни руководителю, ни работе. Прогресс возможен, если менеджер окажется в состоянии задуматься о том, что наша работа для нас что-то значит, что и мы сами значимы как для себя самих, так и для него, что у нас хорошие намерения. Но он не видит перед собой людей, и это мешает ему повышать эффективность, а значит, развивать свой успех.
Человеческое достоинство не позволяет, чтобы человек был низведен до простого элемента рабочего процесса, до средства производства. Способность работать — это еще не все, она не является ни достаточным, ни необходимым основанием для того, чтобы наполнить жизнь смыслом. Один человек может быть трудоспособным и тем не менее вести неполноценную, не наполненную смыслом жизнь; а другой может быть нетрудоспособным и, несмотря на это, наполнить свою жизнь смыслом62.
Когда гиперинтенция мешает продвижению дела, мы уходим от смысла. Уход от смысла подрывает взаимоотношения. Без нормальных отношений трудно уважать друг друга. Не уважая друг друга, нельзя плодотворно работать вместе. Безусловно, мы должны намечать себе отдаленные цели, достойные того, чтобы к ним стремиться. Но на пути к прекрасной цели важно всегда руководствоваться смыслом.
Кроме того, нам необходима верность своим первоначальным ценностям. Немногие из нас проходят по жизни без единой царапины. Мы разводимся; нас увольняют, иногда после многих лет безупречной службы; здоровье начинает нас так или иначе подводить; дети не оправдывают наших надежд; мы разочаровываемся друг в друге. Жизнь может состоять из неудач точно так же, как и из удач. Но и в неудачах заключен глубокий смысл, причем он (и только он) делает их полезным наследием. Когда наши неудачи становятся полезны, мы торжествуем над ними. Мы уже не находимся во власти огорчения или досады по поводу потери работы, разрыва отношений и т.п., мы способны к сочувствию, пониманию и благодаря этому можем вести себя и других. Мы больше умеем, мы становимся более интересными и привлекательными людьми; мудрость и опыт, приобретенные в результате неудач, помогают нам при поиске новой работы и новых друзей.
Интересно отметить, что значение ошибок и неудач привлекает все больше внимания в мире бизнеса; эта тема популярна как в специальной литературе63, так и в устных тренингах. Так, знаменитый гуру менеджмента Том Питерс недавно заявил: «Только неудача позволяет проверить ошибочность тех или иных методов и избавиться от практики, препятствующей успеху64. Бизнес-тренеры нового поколения охотно используют сюжеты о том, как поражение вдохновило победу, — истории, где кто-то учится на ошибках и затем берет реванш.
Изучая парадоксальную интенцию, Франкл пришел к выводу, что она может целенаправленно использоваться в терапевтических целях для помощи людям, страдающим различными иррациональными страхами, тревожностью, навязчивыми состояниями. Соответствующую технику лечения нервных расстройств, разработанную в рамках логотерапии, Франкл впервые описал в 1939 г., но еще задолго до того применял на практике. В общих чертах метод сводится к тому, что пациенту, боящемуся чего-то, предлагают этого захотеть, — как результат, симптомы фобии ослабевают или полностью исчезают. Как пишет сам Франкл, «страх заменяется парадоксальным желанием, и посредством такого приема “ветер убирается из парусов тревоги”»65. Пациент перестает бороться с предметом своего страха и приветствует его, даже преувеличенно, за счет чего снимается тревожность, связанная с ситуацией, — ведь сопротивление исчезло. «Так же, как тревожность снова и снова порождает симптомы, парадоксальная интенция снова и снова душит их»66.
Перескажу два случая применения этой техники, описанные в работах Франкла. Я выделил их, поскольку они прямо связаны с нашей темой — работой. Первый таков. Пациент — бухгалтер — обратился в клинику Франкла в совершенном отчаянии и признался ему, что близок к самоубийству. В течение ряда лет этот человек страдал писчим спазмом, который в последнее время настолько усилился, что грозил потерей работы (дело было в докомпьютерную эпоху, все бухгалтерские записи велись вручную). Предыдущее лечение не увенчалось успехом. Франкл предложил пациенту поступить противоположно его обычному образу действий, а именно не пытаться писать как можно аккуратнее и разборчивее, а черкать максимально неразборчиво, повторяя про себя: «Ну, сейчас я всем покажу, как я умею портить бумагу!» Бухгалтер попробовал выполнить рекомендацию, но у него ничего не вышло: получился вполне разборчивый текст. За сорок восемь часов он полностью освободился от писчего спазма, почувствовал себя совершенно здоровым и пригодным к работе67. Во втором случае пациентом Франкла был молодой врач, болезненно боявшийся вспотеть. Однажды он встретил на улице своего начальника и, протянув ему руку для приветствия, заметил, что потеет больше обычного. После этого при каждой следующей встрече врач все больше беспокоился, что вспотеет, и действительно потел. Чтобы разорвать порочный круг, Франкл посоветовал ему всякий раз, почувствовав, что начинает потеть, постараться показать всем вокруг, как много пота он может выделить. Через неделю пациент пришел и рассказал, что так и поступил — встречаясь с теми, при ком боялся вспотеть, он говорил себе: «В прошлый раз из меня вышла кварта пота, а сейчас я выдам не менее десяти кварт!» Таким образом, пишет Франкл, этот молодой врач сумел после одного-единственного сеанса навсегда избавиться от фобии, которой страдал четыре года68. Больше она не возвращалась. Те, кто помнит знаменитую сцену из фильма «Телевизионные новости», где герой Альберта Брукса — телеведущий — обильно потеет и смущается из-за этого, наверное, согласятся, что применение парадоксальной интенции здесь было бы вполне уместным.
В своей автобиографии Франкл вспоминает, как однажды благодаря парадоксальной интенции избавился от штрафа. Он проехал на желтый свет, был остановлен и, когда полицейский подошел к нему с явным намерением оштрафовать, обрушил на себя поток обвинений: «Вы правы, офицер. Как я мог такое совершить? Мне нет оправдания. Я уверен, что никогда больше не поступлю подобным образом, а этот случай послужит мне хорошим уроком. Безусловно, я виновен и должен понести наказание». Полицейский в ответ постарался успокоить Франкла, стал ему говорить, что не стоит столь сильно волноваться, что это со всеми бывает, но уж с Франклом-то наверняка больше не повторится. В результате у полицейского сработала парадоксальная интенция, и штрафа он не взял69.
Как можно было бы применять данную технику в различных жизненных и рабочих ситуациях? В первую очередь для этого нужно уметь и хотеть изменить свое отношение к ожидаемой ситуации (вспомните главу 4 и упражнения в ней). Требуется воспринять ситуацию легко (с юмором) и без напряжения, чтобы затем взглянуть на нее с иной стороны. Не превозмогать и не игнорировать страх, а планировать его. Здесь стоит использовать упражнение под названием «Мусорная корзина». Напишите на листке бумаги перечень всего, что вас беспокоит или пугает, всех неотвязных и просто грустных мыслей, а потом бросьте листок в мусорную корзину. Проделав это, вы не только идентифицируете свои худшие опасения, но и мысленно отделите их от себя. Можно также сформировать, как предлагал Франкл, план сознательной реализации того самого сценария, которого вы боитесь, — на работе или дома. Не обязательно выполнять план — просто подумайте, как он должен был бы выглядеть и что он говорит о текущей ситуации. Чему можно из него научиться? Что можно предпринять с ним или по его поводу?
Фактически парадоксальная интенция является полной противоположностью убеждению, ибо пациенту предлагается преодолеть свои страхи, не подавляя их (посредством рационального убеждения, что они безосновательны), а преувеличивая!70
Смысл заключен в понимании момента, во внимании к окружающим и благодарности им. Когда нас заботит только будущее, мы утрачиваем связь с настоящим временем и не знаем, где мы, где остальные и где смысл того, чем мы все вместе заняты. Не ценя настоящего, мы не ценим процесс. Не принимая с благодарностью тот смысл, который есть в нашей жизни в данный момент, мы проявляем неуважение к себе и другим.
Смысл внутренне присущ нашей жизни независимо от того, чем мы измеряем успех и чего сумели достичь. И даже когда какое-либо наше предприятие с профессиональной точки зрения увенчивается полным успехом, наша радость недолговечна. Цель достигнута, а что дальше? Вдруг возникает ощущение пустоты, и мы спрашиваем себя, ради чего старались. Неужели это всё? Если мы ради конечной цели позабыли о средствах, ее достижение действительно означает конец.
После завершения работы, стоившей огромных затрат времени, денег или сил, всегда неизбежен спад. Все наше существо стремилось к осуществлению замысла, и это придавало непосредственный смысл нашей жизни, а теперь всё позади. Но чем больше смысла заключено в процессе, тем более глубоким будет наше удовлетворение — независимо от результата.
Когда мы придаем процессу то значение, которого он заслуживает, конец становится новым началом. Когда мы на работе обращаем внимание на окружающих и на целостность процесса, процесс всегда успешен, и результат не играет роли. Ощущение успеха поддерживается в нас благодаря осознанию смысла собственной работы, и именно это ощущение более всего способствует достижению другой, конкретной цели.
Храня в работе верность личным ценностям, мы закладываем основу смысла своей жизни. Понимая значение каждого момента, мы поддерживаем с этим смыслом связь. Наше существование, как и существование всей жизни, имеет смысл. Он просто ждет, пока мы его откроем, трудимся ли мы на стройке, в булочной, в школе, в кинотеатре, в международной корпорации, в конторе по вывозу мусора, в ресторане, в домашнем офисе или в Белом доме. Не принимая власти стереотипов и не работая против себя, мы наполняем свое занятие смыслом.
Вспомните ситуацию на работе, в которой чем сильнее вы старались чего-то добиться, тем дальше оказывались от цели (быть может, это и сейчас так). О таком часто говорят «шаг вперед, два шага назад». Например, вы стремились получить повышение, добивались от шефа, чтобы он поддержал некую вашу творческую идею, пытались завершить проект, который казался бесконечным. Как вы впервые пришли к мысли о том, что перестали продвигаться? Как вы объясняли или оправдывали создавшееся положение? Кого вы в нем винили и до какой степени винили себя? Думали ли вы, что работаете против себя, если да, то до какой степени? Предприняли ли вы что-нибудь по этому поводу, и если да, то что именно? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Какие меры вы принимаете, чтобы не работать против себя?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте о том, что для вас значит связь с сослуживцами, в том числе понимание их чувств, и что — связь с вами и понимание ваших чувств — для них. Как можно было бы усилить эти связи, показать, насколько вы ими дорожите?
8
Смотреть на себя со стороны
Мы знаем, что юмор является превосходным средством создания дистанции между чем-либо и собой. Можно также сказать, что юмор помогает человеку подняться над своими неприятностями, позволяя ему до некоторой степени взглянуть на себя со стороны71.
Объявление в лондонской газете гласило: «Безработный. Блестящий ум предлагает свои услуги совершенно бесплатно; выживание тела должно быть обеспечено адекватным окладом». Виктор Франкл приводит его в своей книге «Доктор и душа» в качестве иллюстрации тезиса о том, что разные люди могут неодинаково реагировать на одну и ту же ситуацию, такую, как, например, отсутствие работы. Заметьте, Франкл никоим образом не считает, что остаться без работы — пустяк; наоборот, это, по его мнению, «трагедия, ибо для большинства людей работа — единственный способ добыть средства к существованию». Но все же, как видно из объявления, не все испытывают ощущение внутренней опустошенности, лишившись работы или утратив трудоспособность.
Во-первых, если у нас нет работы, за которую нам платят, это еще не означает, что наша жизнь не имеет для нас смысла. Во-вторых, то, как мы относимся к любым обстоятельствам, включая потерю работы и другие серьезные проблемы, формирует нашу способность и готовность достойно им противостоять. Автор объявления обратил весьма серьезную неприятность в нечто забавное, так как смог дистанцироваться от собственного несчастья. Взгляд на себя со стороны позволил ему, среди прочего, увидеть в сложившейся ситуации смысл и предпринять адекватные действия для облегчения тяжелого положения. Текст, напечатанный в лондонской газете, отражает и чувство юмора автора, и присущее ему сугубо человеческое качество — умение отстраниться от себя самого, подняться выше своих горестей.
Если бы я мог вернуть прошлое, то больше всего мне хотелось бы еще в молодости научиться смеяться над собой, чтобы делать это легче и чаще. Я рос очень серьезным, даже мрачноватым и, пожалуй, скованным юношей. И дома, и в школе, и позднее на работе чувство юмора скорее доставляло мне неприятности, чем помогало справиться с превратностями судьбы. Лишь с годами я вполне оценил это качество в себе и понял, как его эффективно использовать. С тех пор оно не раз выручало меня в трудные моменты.
Нет ли противоречия в том, чтобы говорить о юморе в книге, посвященной смыслу? Франкл считал, что нет: ведь чувство юмора — специфическая черта человека, отличающая его от других живых существ. (Вы скажете, что некоторые собаки улыбаются, — да, но ни одна из них все-таки не смеется, особенно над собой, если в десятый раз забудет, где закопала последнюю косточку!) В умении смеяться над своими промахами и делать их предметом собственных шуток проявляется сущность самоотстранения. Поступая так, мы сообщаем — себе и всем вокруг, — что воспринимаем себя без убийственной серьезности, и это приносит облегчение. Смехом можно снизить остроту любой, сколь угодно серьезной рабочей ситуации; думаю, что ко всем неприятностям на работе стоит — и необходимо! — относиться с некоторой долей юмора. Этим мы покажем окружающим, что не склонны «переживать по пустякам», и самим себе — что не являемся исключением из правила и обладаем способностью к самоотстранению.
Есть старая шутка: «Кто и когда приподнимался на смертном одре со словами: “Ого! Мне бы надо было чаще приходить в контору!”?» Я с такими случаями не встречался — по крайней мере, до сих пор. Какой бы важной и значительной ни была наша работа, ее смысл для нас субъективен и происходит из того, чем мы дорожим, к чему у нас лежит сердце. Работа представляет часть смысла, заключенную в наших намерениях сделать нечто полезное для своей семьи, самих себя, своей общины, всего мира. Это не весь человек, а лишь то, что он делает и как. И шутя тем или иным образом по поводу того, что мы делаем, мы всерьез воспринимаем самих себя.
Великолепным примером здесь может служить Его Святейшество далай-лама, законный духовный и светский правитель Тибета. Он был свидетелем чудовищного геноцида своего народа, когда китайцы подвергли пыткам и уничтожили миллионы тибетцев, в том числе множество буддийских монахов и монахинь. Но никто не смеется над собой веселее далай-ламы, и редко доводится видеть такого счастливого человека. Он знает трагедию своего времени, но знает и счастье, и смех, и легкость на сердце.
В книге «Искусство быть счастливым на работе», написанной в соавторстве далай-ламой и Говардом Катлером, Катлер рассказывает о Его Святейшестве следующее:
Наконец все встало на свои места. Я понял, каким образом далай-лама мог говорить о своей работе: «Я ничего не делаю». Разумеется, мне было ясно, что он беззаботно шутит и несколько иронизирует насчет «ничегонеделания». А за этим лукавством было хорошо заметно его естественное нежелание заниматься ненужной самооценкой, проявления которого я неоднократно наблюдал по самым разным поводам. Это нежелание, по-видимому, проистекало из недостатка самоуглубленности и полного отсутствия эгоцентризма. Далай-лама не испытывал особого интереса к тому, как другие смотрят на его работу, до тех пор, пока он сам искренне стремился помогать другим72.
Это великий дар. И умение принести юмор в мир работы — тоже дар. Юмор обладает способностью приводить всё в равновесие. Он делает генерального директора не таким страшным, а таксиста — более привлекательным, и наоборот. Симпатичный директор может поднять дух коллектива эффективнее, чем даже значительная прибавка к зарплате, а забавный водитель (если он, конечно, вовремя доставит вас в нужное место) — стать лучом света в бесконечном рабочем дне, забитом неотложными делами.
Чувству юмора обычно сопутствует оптимизм. Это слово может ввести в заблуждение. В действительности очень многие оптимисты, которых я знаю, пережили в свое время настоящую трагедию. Беда повергает нас в пучину горя, и, пройдя через горе, мы обретаем оптимизм. Узнав, что такое плохо, мы начинаем понимать, что такое хорошо.
Подлинный оптимизм — не наигранная бодрость. Это способ переживания момента, как бы ни давил нам на плечи вес всего мира и какой бы скверной ни была погода. Он прославляет возможность встречи со смыслом за любым углом, размечает для нас фарватер за гранью наших личных забот, приглашая и нас, и тех, кто рядом, найти что-то, чему можно радоваться. Мы не прячемся за показной веселостью, просто нам делается легко, и мы смеемся.
Хорошая шутка в нужный момент — лучший способ вырвать человека из плена его собственных грустных мыслей. Отстраняясь от себя и своих горестей, мы не делаем их меньше, а выходим за их пределы. Мы можем видеть, чувствовать и оценивать себя отдельно от нашего плачевного состояния. Мы не отрицаем факт — мы принимаем его и поднимаемся над ним.
Подумаем о том, как омрачили в последние годы существование американского бизнеса мошенничество с финансовой отчетностью и эрозия деловой этики. Казалось бы, что может быть смешного в волне преступлений, совершенных руководителями корпораций? И если даже кому-то взбредет в голову шутить по этому поводу, разве это чему-то поможет?
Ответом может служить книга артиста и писателя Энди Боровица «Кто срубил мою капусту? Как выжить в тюрьме. Руководство для больших начальников»73, где сатирику прекрасно удалось соединить смех с серьезным самоанализом. А успех выступлений Боровица в ряде ведущих бизнес-школ свидетельствует о том, что сатира — хотя и непривычный, но весьма эффективный способ рассмотрения вопросов, связанных с честностью руководителей и менеджеров. Или, другими словами, вынесение этих вопросов на публику и их обсуждение в шутливой форме оказывается неплохим лекарством, способным помочь как отдельным руководителям, так и возглавляемым ими организациям. У сатиры Боровица обнаружилось и еще одно любопытное свойство: она, как выяснилось, хорошо дополняет традиционный курс деловой этики, т.е. может использоваться непосредственно в учебном процессе. В Школе Уортона (Пенсильванский университет) один студент второго курса факультета менеджмента, побывав на выступлении Боровица, сказал: «Похоже, умение смеяться и находить смешное помогут нам двигаться вперед. Кризис недоверия сотрудников к корпоративным лидерам пока сохраняется». А другой студент — первокурсник — проницательно заметил: «Как занятно! Это был скрытый урок того, как не надо слишком уж принимать себя всерьез»74.
Нам не обязательно раскрывать перед людьми, с которыми мы контактируем по работе, все подробности собственной жизни; достаточно лишь того немногого, что составляет ее истинный смысл. Признав нечто значимым для себя, мы тем самым признаем, что и у каждого из окружающих есть что-то свое, точно так же значимое для него. Тогда мы оказываемся в состоянии дистанцироваться от своих трудностей, взглянуть на себя со стороны и вновь приняться за дело, и веселая шутка часто помогает нам в работе.
Работе врачей скорой помощи присуще самоотстранение особого рода. Спасая жизнь человека, они должны дистанцироваться и от его личности, и от собственных эмоций. Их дело по самой своей сути неотложно, важно и требует огромного нервного напряжения. Тем не менее, чтобы помощь имела смысл, врачу необходимо отстранение от себя и от ситуации, где часто решается вопрос жизни или смерти тяжко страдающего человека. И если говорить о юморе, то там, где соберутся сотрудники скорой помощи, по какому бы поводу это ни происходило, всегда будет веселее, чем в компании биржевых брокеров в самый что ни на есть удачный день.
Самоотстранение позволяет работникам служб экстренной помощи сохранять эмоциональную дистанцию между собой и пострадавшими, не переходя определенной границы в сочувствии и наблюдая себя и свою работу как бы с некоторого расстояния. Именно благодаря этому они в предельно напряженный критический момент могут действовать так, как необходимо.
В нашей стране, пережившей 11 сентября, местные общины планируют меры по борьбе со всеми без исключения чрезвычайными ситуациями, от пожаров и автомобильных аварий до взрывов бомб и биотерроризма. В одном небольшом округе на Юго-Западе США собрания, посвященные этим вопросам, проходят ежемесячно, и на каждое является несколько десятков человек. Среди них — служащие полиции, пожарной охраны, скорой помощи, администраций населенных пунктов, округа и штата, радиолюбители, представители групп по охране окружающей среды, Красного Креста, медицинских учреждений, телефонных и энергетических компаний. В течение двух часов идет обсуждение жутких перспектив и наилучшего образа действий в предполагаемых ситуациях. По ходу этой работы, очень серьезной и нужной, кто-то иногда шутит, и все смеются — над собой и друг над другом.
Чужая жизнь от нас всегда скрыта, но мы знаем, что у каждого есть свои трудности и свои удачи. Наверное, кто-то из сослуживцев после работы возвращается в одинокое жилище, а кто-то проводит вечер в кругу любящей семьи. Всем им судьба приносит радости и горести; изо дня в день они силятся свести концы с концами, решить проблемы с детьми-подростками, с маленькими детьми, с отсутствием детей, с няней, с престарелыми родителями, с выплатами за машину, с медицинской страховкой и т.д. Каждое утро люди во всем мире встают навстречу новым событиям и отправляются на работу. И там их жизнь целиком при них, даже если они с головой погружаются в текущую задачу.
Способность отстраниться от ошибок, своих и чужих, — еще один в высшей степени полезный навык, выручающий нас на работе. Никто не любит ошибаться, и когда человек готов признать свою ошибку и посмеяться над ней, это может разрядить даже очень напряженную обстановку. В конце концов, что такое ошибки, если не уроки, на которых мы учимся?75 Кому не приходилось на работе — по той или иной причине — чувствовать, что совершил чудовищную глупость? Такова работа. Такова жизнь. Мы, в сущности, одни только ошибки и делаем. Но надо это признавать.
Если кто-то подходит к нам на работе и говорит: «Я был неправ», мы в большинстве случаев проникаемся к нему сочувствием. Чтобы посмотреть на себя, сказать: «Я свалял дурака», а потом продолжать работать и жить, нужно самоотстранение. В каждом из нас сидит как бы два человека: один не хочет делать ошибку, другой ее сделал. Первый почти все время у руля: ошибка — одномоментное событие. Упорствуя в своих ошибках, мы оказываем им слишком много чести. Признавая и высмеивая их, мы тем самым убеждаем окружающих, что их ошибки — не они сами, что это одномоментное явление. Мне приходит на ум комикс из серии про Кальвина и Гоббса, где Кальвин спотыкается, теряет равновесие, падает, но тут же вскакивает, высоко поднимает руки и кричит: «Оп-ля!»
Ошибки, конечно, различаются по содержанию и по масштабу. По поводу серьезных промахов шутки немыслимы, а вот учиться на них всегда можно — и нужно. Ошибки учат нас смирению и — подспудно, постепенно — смыслу. Мы постигаем, что значим больше, чем наши ошибки, даже самые страшные. Если Виктор Франкл наблюдал юмор в лагере смерти, то, наверное, нельзя выдумать ситуацию, в которой никогда и ни при каких условиях не был бы возможен юмор.
В письменных трудах и лекциях Франкла упоминается о том, что заключенные устраивали в концлагере импровизированное кабаре. И, как ни трудно это себе вообразить, находилось достаточно желающих исполнять песни, стихи, шутки и даже целые юморески (иногда с сатирическим подтекстом, относящимся к лагерной жизни). Это было осмысленно уже хотя бы потому, что помогало заключенным пусть ненадолго, но отвлечься от своего ужасного положения. «Факт, что в концентрационном лагере существовало некое подобие искусства, должно быть, вызовет немалое удивление у внешнего наблюдателя, — пишет Франкл. — Но еще больше удивит его то, что в лагере можно было обнаружить также и чувство юмора. Юмор служил душе еще одним оружием в борьбе за самосохранение»76. (Курсив мой. — А.П.)
Франкл рассказывает и о том, как в одном из лагерей тренировал своего друга, развивая у него чувство юмора. Они договорились, что каждый будет ежедневно придумывать какую-нибудь забавную историю об их будущей жизни после освобождения. Однажды, например, Франкл заставил друга улыбнуться, рассказав ему, как тот придет на званый обед и, когда подадут суп, забывшись, попросит хозяйку зачерпнуть со дна. (В лагере порция супа со дна, т.е. с горохом, высоко ценилась, получить ее было особой удачей.)
Важно проводить различие между самоотстранением и отрицанием. Отстранение — намеренный акт, ориентированный на действие. Мы понимаем, что находимся в бедственном положении, и выбираем форму поведения, позволяющую нам поддерживать связи с окружающим миром. Расскажем ли мы о своих горестях на работе или нет, мы в любом случае их осознаем и знаем, что делаем. Отрицание же отделяет нас от полноценного переживания ситуации и не дает извлечь из нее урок. Отвергая собственный опыт, мы заодно отвергаем и чужой, так что отрицание приводит к изоляции от мира. Самоотстранение, наоборот, помогает общаться, учиться, расти над собой.
В концлагере Франкл часто обращался к технике самоотстранения и поддерживал сам себя, воображая, что он не узник, а «наблюдатель». Вот его собственный рассказ об этом:
Я неоднократно пытался дистанцироваться от своих мучений, найдя им внешнее выражение. Помню, как однажды утром шел в колонне от лагеря до рабочего участка, с трудом превозмогая голод, холод и боль в замерзших, покрытых нарывами и стиснутых ботинками ногах, которые распухли из-за голодного отека. Мое положение казалось мне печальным, даже безнадежным. И тогда я представил себе, как стою за кафедрой в большой, красивой, теплой и светлой аудитории. В зале сидят заинтересованные слушатели, и я собираюсь выступить перед ними с докладом на тему «Опыт психотерапии в концентрационном лагере». В этом воображаемом докладе я описываю свои нынешние ощущения. Поверьте, дамы и господа, тогда я не мог надеяться, что однажды мне действительно выпадет удача сделать такой доклад77.
Для успешного самоотстранения нужно обладать живым воображением и уметь эффективно им пользоваться. Как показывает практика, задача упрощается, если представить себя в чьей-то (не своей) роли, постаравшись, подобно актеру, войти в образ. Очень хорошее упражнение здесь — придумать киносценарий либо по мотивам собственной биографии, либо с отдельным сюжетом, в котором вы выступаете главным героем.
Например, вообразите, что вы попали в Судный город из фильма «Защита» и смотрите эпизоды из собственной жизни — те моменты, в которые вы сильнее всего боялись. Что вам показывают? Как вы действуете в этих эпизодах — может быть, иначе, чем было в жизни? Какие у вас есть объяснения или оправдания для своего тогдашнего поведения? Стоит заметить, что погружение в подобный вымышленный, но тем не менее автобиографичный мир усиливает в человеке чувство ответственности за поиск смысла собственной жизни.
В конечном итоге самоотстранение, конечно же, не имеет ничего общего с уходом от действительности. Это проверенное средство для преодоления самых разных жизненных трудностей, включая и случаи, когда не в нашей власти изменить обстоятельства, но самое главное в нем — неограниченный потенциал для принесения в жизнь целостности и подлинного смысла. Правда, чтобы призвать себе на помощь силу самоотстранения и задействовать его потенциал, нужны свобода мысли и воля к смыслу, а их, в свою очередь, можно обрести, только вырвавшись из плена стереотипов.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы ощущали необходимость дистанцироваться от обстоятельств, чтобы найти правильный выход из положения (быть может, это и сейчас так). Например, руководство принимало решение, идущее вразрез с вашими ценностями или нравственными принципами, или вы попадали в чрезвычайную ситуацию, требующую незамедлительных действий. Каким образом вы сумели отстраниться от себя, рассмотреть и оценить собственные реакции и поступки? Чему научила вас эта ситуация? Более конкретно, что вы узнали о своей способности к самоотстранению? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы используете юмор для создания дистанции между собой и проблемой, с которой вы столкнулись на работе, чтобы не погрязнуть в обстоятельствах?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте, как вы могли бы помочь сослуживцам научиться самоотстранению и, освоив эту технику, успешнее справляться с трудностями, расширять свои познания и расти над собой. Что стоит им показать, чтобы они поняли принцип и в дальнейшем умели его применять на практике?
9
Переключать внимание
Дерефлексия может быть достигнута лишь в той степени, в какой сознание человека направлено на позитивные аспекты78.
В свое время Энди был одним из высших менеджеров крупной компании, разрабатывавшей программное обеспечение, получал более $130 000 в год и солидный пакет льгот. Он руководил командами программистов в нескольких штатах, а также заокеанским офисом. Но все это в прошлом. Компании пришлось свернуть свою деятельность, Энди, как многие другие хорошо оплачиваемые «белые воротнички», потерял работу и не мог найти для себя ничего похожего с точки зрения круга обязанностей, статуса, оклада и льгот. Оказавшись без заработка, он соглашался на существенно менее выгодные предложения.
«Да, в отчаянном положении нужны отчаянные меры, — объясняет Энди. — Не то время, чтобы привередничать. После увольнения я работал продавцом в ювелирном отделе универмага и кассиром на горнолыжной трассе, в обоих местах мне платили по $8 в час. Сейчас я продаю снаряжение для гольфа».
Но все-таки его жизнь не сводится к простому выживанию на рынке труда, который стал жестоким к нему и вынуждает браться за какую угодно работу. Вполне сочувствуя товарищам по несчастью, Энди в действительности не рассматривает себя как утопающего, ухватившегося за последнюю соломинку, и, наверное, не согласился бы, что он в одной лодке с другими бывшими «белыми воротничками». Его не одолевают разочарование, беспокойство по поводу денег, стыд, смущение, он ощущает свой путь как движение вперед, а не назад. Ему, страстному любителю гольфа, удалось попасть на работу, связанную с его хобби, — сначала в специализированном магазине при местном поле для гольфа, затем в магазине спортивных товаров в торговом центре. И в своем нынешнем положении Энди видит некоторые преимущества.
«Это намного проще, — говорит он, — и задачи у меня сейчас, конечно, уже не такие серьезные, как были раньше. Но я стал скромнее. У нас на поле то и дело появляются люди, у которых день расписан по минутам. Они вступают в игру, потом опаздывают к назначенному времени и надеются, что я что-нибудь для них сделаю. Мне нравится иметь с ними дело — это напоминает мне, каким я сам был раньше».
После ухода с руководящего поста (что произошло в конце 2001 г.) Энди многому научился. В частности, он приобрел способность не унывать и сумел увидеть светлую сторону у событий, от которых кто-то другой пришел бы в отчаяние и чувствовал себя опустошенным (со многими так и случилось). Вместо того чтобы грустить, он переключил внимание на более существенные вещи в своей жизни и обнаружил, что они наполнены для него глубоким смыслом.
При прочих равных условиях безработный, не впавший в уныние, имеет больше шансов в конкурентной борьбе, чем тот, который стал апатичным. Например, если оба претендуют на одно рабочее место, оно скорее достанется первому79.
В детстве, когда у меня что-то не получалось, я всегда слышал внутренний голос, говоривший мне: «Подумай о чем-нибудь другом». Я так и делал. Как-то, когда я был подростком, меня во время скачек сбросила лошадь. Я свалился в ров с водой, а лошадь упала сверху. Хорошо помню, о чем думал, лежа в воде: пострадала ли лошадь, сумеем ли мы хоть как-то добраться до конца дистанции, успею ли я доделать уроки, заданные на понедельник. Я даже задавал себе вопросы, — скажем, как меня зовут, — чтобы убедиться, что жив и в полном сознании!
В детстве мы все жизнерадостны и быстро оправляемся от неудач; ничто не может нас угнетать в течение длительного времени. Наше внимание легко перескакивает с одного предмета на другой, у нас множество интересов, и каждое событие захватывает нас целиком. Дети чаще всего инстинктивно понимают, как «думать о чем-нибудь другом», если кто-то их обидит, утащит у них игрушку, съест их конфетку и т.д. Они плачут и кричат, но эта реакция кратковременна. Им не свойственно подолгу держаться за одну и ту же мысль, мучиться из-за чьей-то несправедливости, поскольку их тут же увлекает новое приключение. Всегда есть возможность подумать о чем-то более интересном, чем прошлое несчастье.
Становясь старше, мы все реже используем эту способность, зато научаемся сосредоточиваться на одном предмете и досконально его продумывать. Умение сосредоточиться, безусловно, полезно. А вот когда какая-то мысль преследует нас и мы все время возвращаемся к одним и тем же негативным переживаниям, это уже не так хорошо. Очень часто «козлом отпущения», на которого мы взваливаем все свои горести и невзгоды, для нас становится работа — ведь там проходит огромная часть нашей жизни. Нас не ценят по достоинству; начальник туп как пробка; сослуживцы не хотят помочь; перерыв слишком короткий; рабочий день ужасно длинный; дел по горло; зарплаты ни на что не хватает. Подчас возникает впечатление, что работа для того только и существует, чтобы на нее жаловаться.
Все мы знаем людей, которые вечно чем-то недовольны, да и сами время от времени не прочь посетовать на судьбу. Иногда нам нравится выслушивать чужие жалобы: сочувствуя собеседнику, мы как бы жалуемся сами и без всякого риска для себя даем выход накопившемуся раздражению. Иногда такой разговор портит нам настроение, поскольку собеседник заражает нас своими отрицательными эмоциями. Если же мы жалуемся сами себе, то неизбежно замыкаемся на плохом и перестаем видеть хорошее. Такие сетования и обвинения никуда нас не ведут, и не следует им предаваться, даже когда печальные обстоятельства вполне реальны и у них есть конкретный виновник (отличный от нас самих). Пора вспомнить, как мы поступали в детстве, подумать о другом и продолжать жить.
Расскажу эпизод из собственной биографии. Одно время я был сотрудником департамента охраны психического здоровья штата Иллинойс. Я координировал соответствующее направление деятельности социальных служб Чикаго и работал в стационаре одной из неврологических клиник города.
В этом стационаре, как и в других подобных учреждениях Чикаго, было много психически больных и буйных пациентов, а персонала всегда не хватало. Все сотрудники — как члены, так и не члены профсоюза — постоянно жаловались на всевозможные проблемы. Отлично зная, что наши пациенты имеют право на максимально гуманное обращение, мы обходились с ними далеко не лучшим образом — а если называть вещи своими именами, то ужасно, поскольку нам не всегда удавалось выполнить даже базовые стандарты медицинского обслуживания. Больница была до такой степени переполнена, что пациенты иногда спали в коридоре прямо на полу! Иными словами, мы не могли элементарно содержать их в нормальных человеческих условиях.
В дополнение к жалобам сотрудники все чаще не выходили на работу, сказавшись больными, что усугубляло и без того тяжелое положение. Их работа доставалась руководителям, которые иногда отрабатывали несколько восьмичасовых смен подряд. А потом общее недовольство вылилось в забастовку под руководством профсоюзных деятелей.
Узнав об этом, мой шеф Рита, дипломированная медсестра с большим стажем административной работы, сказала: «Они молодцы. Но дело должно делаться, так что давайте подумаем, как нам пока обойтись без них».
Без них? Я опешил: неужели Рита не понимает, что происходит? Ведь у нас сложнейшая проблема, и решения не видно.
Теперь мне ясно, что Рита, наоборот, понимала всё гораздо лучше меня и более правильно, чем я, отреагировала на ситуацию. Во-первых, она сосредоточилась на потенциальной пользе от забастовки: в итоге нам могли предоставить ресурсы, от недостатка которых мы так долго страдали. Во-вторых, сделала акцент на чувстве товарищества, связывающем тех, кто остался присматривать за пациентами. Нам предстояло лучше узнать друг друга и, очевидно, еще в большей степени, чем всегда, полагаться друг на друга. У Риты был опыт работы во Вьетнаме, в психиатрической клинике, организованной по типу военно-полевого госпиталя, и она была уверена, что, коль скоро справилась там, то справится и здесь. Она видела возможность обратиться и к пациентам, по крайней мере к некоторым. Многие пациенты действительно вызвались нам помочь, и это связало нас с ними совершенно особыми узами, невозможными при традиционных способах лечения.
Переключив внимание на положительный опыт, мы смогли увидеть смысл, заключенный в нашей ситуации. Под руководством Риты мы оживили свою способность к тому, что Франкл называл «дерефлексией», и не сдались в весьма трудных обстоятельствах. Спасибо тебе, Рита.
Мысля на работе в позитивном ключе, мы, во-первых, лучше себя чувствуем, а во-вторых, лучше работаем. Когда нам удается конструктивно отвлечься от мучающих нас проблем, мы из расстроенных и рассерженных превращаемся в способных действовать. Мы полнее, щедрее, мы выбрались из подавленности и мрачности.
При серьезных проблемах на работе мы оказываемся перед дилеммой: либо уйти, либо увидеть смысл в том, что делаешь. Мы не в концлагере, к нам не приставлен вооруженный охранник, который диктует вам каждый шаг, и у нас есть выбор, уволиться или остаться. А смысл того, чтобы продолжать работу, нередко становится ясен, если отвлечься от ее неприятных сторон. Ведь даже с любимым занятием могут быть связаны неприятные, а подчас и ужасные переживания.
Испытавая на работе стресс, полезно вызвать в своем воображении что-нибудь хорошее: любимое место, занятие, иногда даже запах. Одна моя знакомая украшает свой офис сувенирами, которые привозит из отпуска. Когда она нервничает, то, чтобы успокоиться, смотрит на один из этих предметов и, как в фантастическом романе, ненадолго телепортируется туда, откуда он привезен. Другой знакомый представляет себе, что плывет на яхте, а чтобы это лучше удавалось, часто использует ароматерапию и музыку. Здесь подойдет что угодно: необходимый элемент один — ваше воображение.
Итальянский кинопродюсер, режиссер и актер Роберто Бениньи знаменит умением заставлять зрителей, оставаясь в кресле, мысленно уноситься в другое место и время. В его фильме «Жизнь прекрасна», удостоенном ряда международных премий, рассказывается трогательная история о человеке, пытающемся защитить своего сына от ужасов Холокоста. Фильм критиковали за неуместную легкость и обращение ужасов в шутку, но Бениньи положил в основу трагикомедии реальные события — его собственный отец провел два года в гитлеровском концлагере.
Герой фильма — еврей-официант по имени Гвидо — попав вместе с сыном в концлагерь, выдумывает для мальчика «игру» (не буду пересказывать здесь ее правила — смотрите фильм), с помощью которой прячет его и спасает от газовой камеры. Чтобы сын не попал в руки солдат и не пришел в отчаяние от окружающего их кошмара, Гвидо (его играет сам Бениньи) все время шутит и сохраняет оптимистичный взгляд на жизнь перед лицом чудовищных обстоятельств.
Как было сказано в свое время, «Не волнуйся по пустякам. А это всё пустяки»80. Добавим здесь: особенно в связи с работой. Как ни важна наша роль на предприятии или в организации, по большому счету мы все равно занимаемся пустяками. Как правило, многие из наших обязанностей вполне мог бы выполнять кто-то еще, — что не уменьшает ни осмысленность нашей работы, ни нашу собственную значимость. Но надо всегда пользоваться данной нам свободой воображения: играть, гулять, готовить еду, сочинять фантастику, сделаться президентом маленькой страны, которая всегда у вас под рукой. «Воображение, — говорил Альберт Эйнштейн, — важнее знания».
Под напором телевидения, видеоигр и Интернета легко забыть о своей способности к самостоятельному воображению. Мы уже почти разучились ею пользоваться. А ведь оно не раз помогало людям переносить тяжелейшие удары судьбы и справляться с очень серьезными трудностями.
Франкл в концлагере боролся с отчаянием с помощью самых разных фантазий. Он представлял себе, как встретится с матерью, пойдет вместе с женой в гости, отправится в горный поход (одно из его увлечений), погрузится в теплую ванну, воображал себя за кафедрой в переполненной аудитории — и честолюбие, по его словам, не давало ему окончательно пасть духом.
Фантазии заключенных часто связаны с пищей — они снова и снова воссоздают блюдо, которое хотели бы съесть после освобождения, ясно видят его в мыслях, ощущают его запах и вкус. Это блюдо сопровождает узника в течение долгих лет изоляции и безнадежности, придает его жизни смысл.
Целиком сосредоточиваться на работе только на том, что у нас прямо перед глазами, — будь то деспотичный начальник или непослушный подчиненный, сложная проблема или скучная рутина, — все равно что, глядя на Землю из космоса, следить только за какой-нибудь одной тучкой над Айдахо. Нужно помнить об огромности жизни вообще и нашей собственной жизни в частности. Отстраняясь от неприятных переживаний и думая о чем-нибудь, что доставляет нам радость, мы возвращаем себе свободу и заново открываем для себя источник подлинного смысла.
Творческое отвлечение, или, в терминологии Франкла, дерефлексия, помогает также преодолевать волнение, которое охватывает нас в очень ответственные моменты, например перед важным докладом или собранием, от которого многое зависит. Чтобы успокоиться и взять себя в руки, можно представить, что находишься в безопасном и уютном месте. Ощущение самоценности и самодостаточности делает нас менее уязвимыми вне зависимости от роли, в которой нам предстоит выступить. Пусть мы даже не «знаем», как правильно поступить, главное — в любой ситуации оставаться собой. Мы очень хорошо чувствуем это в других: нам нравятся люди, которые всегда верны себе, с ними нам спокойно и легко. Мысленно поворачиваясь в ту сторону, откуда, как нам кажется, исходит ощущение наибольшей подлинности, мы сумеем преодолеть границы навязанной нам роли. Тогда на смену ролевой игре придет «этика аутентичности» и начнется настоящая работа81.
Это особенно важно, когда мы играем роль, отвечающую, как мы думаем, ожиданиям окружающих. Иногда эту роль удается расширить с помощью соответствующих поступков и слов. Но в долгосрочной перспективе мы таким образом истощаем и себя, и всех остальных. Одно дело — знать свою работу, и совсем другое — успешно играть свою роль. Значительно лучше работать, оставаясь собой, — это самое эффективное сочетание.
Иногда нам нужна помощь, чтобы его добиться, и здесь очень полезна способность к творческой дерефлексии. Она всегда при нас. Стоит только вообразить...
При дерефлексии, т.е. при переключении внимания с того, что нас беспокоит, на какой-либо другой предмет, мы обретаем новый взгляд на проблему. Многие сложности во взаимоотношениях между людьми связаны с их субъективными представлениями о положении вещей, методами выработки решений, приемами выполнения операций — все это может не совпадать. Научившись конструктивно воспринимать эти различия, мы получим огромную выгоду от того, что чуть-чуть отвлеклись.
Дерефлексия предназначена для того, чтобы нейтрализовать болезненную наклонность к самонаблюдению82.
Дерефлексия помогает нам игнорировать, когда это необходимо, определенные аспекты жизни и работы, преодолевать поглощенность собственными проблемами; тем самым она направляет нас к открытию подлинного смысла. Фактически благодаря ей мы обнаруживаем в ситуации нечто новое и получаем возможность выйти за пределы прежних представлений и способов действия. Ограничения, в рамках которых проблема была неразрешимой, оказываются сняты, мы можем выбрать путь, которого до сих пор не видели, и определить, чего должны избегать.
Опишу несложное упражнение, помогающее практиковаться в дерефлексии и справляться с ее помощью с реальными трудностями на работе и дома. Это упражнение, называемое «Мысленная экскурсия», тренирует умение уводить свои мысли в сторону от неприятных предметов, а кроме того, способствует развитию творческого мышления и овладению нестандартными подходами к решению задач.
Первым делом кратко изложите на листке бумаги суть трудности или проблемы, с которой вы столкнулись. Теперь начинайте перечислять ситуации, напоминающие вашу, хотя бы и отдаленно. Дайте полную волю воображению, привлекайте сколь угодно свободные ассоциации, устанавливайте в уме любые связи и обязательно всё записывайте. Поскольку вы пытаетесь отстроиться от неприятности, придумывайте ситуации, отличающиеся от нее и друг от друга. Можно использовать шаблон вида: «Моя проблема (назовите ее) похожа на...» Например: «Слияние двух организаций похоже на вступление в брак». Старайтесь мыслить шире.
Теперь выберите в своем списке две аналогии и устройте сами с собой «мозговой штурм»: что нужно иметь и что сделать, чтобы справиться с этими ситуациями? Продолжая наш пример, что вам потребуется для вступления в брак? Фиксируйте свои мысли, записывая их, причем старайтесь перечислить как можно больше и не отбрасывайте даже самые дикие.
Примите поздравления! Вы совершили мысленную экскурсию — а фактически две (или более). Теперь вернитесь к первоначальной проблеме — так сказать, вашей отправной точке, — и потратьте некоторое время на выработку идей о том, как ее можно было бы решить. Лучше всего здесь установить максимальное число связей между пунктами списка и вашей ситуацией. Существование хотя бы одной связи задано заранее — таково было условие упражнения. Ваша задача (если вы за нее возьметесь) в том, чтобы использовать список, составленный для аналогичной ситуации, как трамплин для порождения идей. В нашем примере: как будут выглядеть в ситуации со слиянием организаций аналоги того, о чем вы думали в связи со вступлением в брак? Скажем, приходят в голову два пункта. Первый: будущим супругам нужно решить, где жить, а объединяющимся фирмам — где разместить офис. Второй: потенциальные молодожены должны представить друг друга своим семьям, хороший способ — организовать вечер знакомства. Стоит устроить аналогичный вечер и для двух команд руководителей!
У каждого из нас — своя биография, опыт, навыки, интересы, и все это мы приносим на свою работу. Слегка отвлекаясь от основного процесса, что не идет в ущерб эффективности, а наоборот, способствует ее повышению, мы поощряем аналогичный образ действий у других, причем без подавления их индивидуальных особенностей.
Развивая способность к дерефлексии, мы становимся более стойкими и научаемся лучше переносить трудности — ведь у нас есть надежный и конструктивный способ, помогающий с ними справиться. Дерефлексия полезна и при решении сравнительно мелких проблем, таких как выбор офисного оборудования, и при очень серьезных неприятностях — например, в случае потери работы.
Если бы мир был совершенен, каждый человек всю жизнь занимался бы любимым делом. Но в наши дни увольнения квалифицированных работников с многолетним стажем отнюдь не редкость. Иногда это происходит неожиданно и вызывает шок; мы вынуждены действовать. Иногда угроза — вполне реальная и даже весьма вероятная — надвигается постепенно. ненадежность положения внушает нам страх и тревогу. Что делать? Можно попробовать каким-то образом начать работать лучше и производить более благоприятное впечатление, другой вариант — переключить внимание с текущей ситуации на более далекие горизонты своей жизни. И здесь мы получаем практически ничем не ограниченный выбор.
Наша способность «забыть себя» и в буквальном смысле слова переключить внимание может быть очень полезна при поиске смысла. Помогая нам возобновить связь с самими собой, с теми, кого мы любим, и тем, чем хотим заниматься, дерефлексия позволяет нам вновь подняться над своей работой и деньгами. Мы больше не пленники, мы восстановили смысл.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы ощущали необходимость переключить внимание на другой предмет, чтобы найти правильный выход из положения (быть может, это и сейчас так). Например, вы столкнулись с очень острой производственной или финансовой проблемой, попали в чрезвычайную ситуацию, требующую незамедлительных действий. Как вы переключали внимание, что именно вы себе вообразили? Дала ли эта попытка результат, если да, то какой, что вы в итоге предприняли? Чему научила вас эта ситуация? Более конкретно, что вы узнали о своей способности к дерефлексии? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы используете воображение, когда вам нужно отвлечься от проблемы, возникшей в связи с работой?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте, как вы могли бы помочь сослуживцам научиться дерефлексии и, освоив эту технику, успешнее справляться с трудностями, расширять свои познания и расти над собой. Что стоит им показать, чтобы они поняли принцип и в дальнейшем умели его применять на практике?
10
Выходить за пределы
собственного «я»
Не надо думать об успехе. Чем больше о нем думать и нацеливаться на него, тем он менее вероятен. К успеху, как и к счастью, нельзя стремиться, он должен прийти сам, с неожиданной стороны — как результат преданности делу, более высокому, чем личные интересы, или другому человеку. Счастье должно случиться, и то же относится к успеху: нужно дать ему случиться, не заботясь о нем83.
В 1980 г. 15-летняя Андреа Джегер стала самым молодым «сеяным» игроком за всю историю Уимблдонских турниров и вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. Журналисты называли Андреа «вундеркиндом с хвостиком» и прочили ей успех и славу в большом спорте. Однако в 1984 г. ее теннисная карьера закончилась из-за травмы и истощения сил, и она исчезла из поля зрения спортивных комментаторов и широкой публики.
Очевидно, жизнь Андреа Джегер переменила свое русло, но осуществление ее главного предназначения тогда уже началось. Дело в том, что, будучи восходящей звездой тенниса, Андреа проводила свободное время с больными детьми в клиниках разных стран. Эти встречи, полные человеческого тепла, постепенно преобразили ее. Поселившись в 1989 г. в Аспене, штат Колорадо, Андреа решила целиком посвятить себя неизлечимо больным детям, обогатив, насколько это возможно, их жизнь.
«Задача, — объясняла она позднее, — заключалась в том, чтобы сделать жизнь детей, больных раком и другими неизлечимыми заболеваниями, более полной, реализовав существующий для этого потенциал на долгосрочной основе».
С этой целью Андреа Джегер основала благотворительный фонд Kids Stuff Foundation и с помощью друзей и других людей, решивших поддержать идею, стала организовывать недельные поездки в Колорадо для детей со всего мира, чтобы они узнали жизнь за пределами больничной палаты. Сначала Андреа размещала юных гостей в местных гостиницах, потом приобрела на средства благотворителей участок размером в десять акров и обустроила на нем ранчо, получившее название Silver Lining84. В июне 1999 г. она приветствовала там первую группу из 20 детей.
Ранчо Silver Lining, находящееся в пределах городской черты Аспена, никого не оставляет равнодушным, и здесь заботятся об индивидуальных потребностях детей. Группы намеренно сделаны небольшими, и тому есть веская причина. «Я придерживаюсь подхода “один ребенок за раз”, — говорит Джегер. — Если ты можешь сделать так, чтобы ребенок улыбнулся или засмеялся, за тобой сохраняется место в мире. Многое из того, что приносят дети, остается с тобой навсегда, и когда видишь в их глазах, в их сердцах силу, характер, надежду, это помогает тебе пройти через самые неприятные моменты, какие только случаются при сборе пожертвований».
В июле 2001 г. на ранчо Silver Lining побывала съемочная группа Dateline — еженедельного обзора новостей телекомпании NBC. Журналистка NBC, находясь под впечатлением экскурсии по ранчо, спросила Андреа Джегер: «Как вы хотели бы сохранить память о себе?» Та, не задумываясь, ответила: «Меня не надо помнить, я хочу, чтобы помнили детей!». Вот более чем убедительный пример того, что свет души горит ярче всего тогда, когда смысл нашей жизни находится вне ее, когда мы живем для других, а не для себя.
В продуктивном и творческом совместном труде для нас может быть заключен очень глубокий смысл. Когда же мы работаем непосредственно на благо других людей, этот смысл еще углубляется, вознаграждая нас без меры. Выходя за пределы собственных интересов, мы вступаем в сферу последнего высшего смысла, о котором писал Франкл. Можно говорить здесь о связи человека с его духовной сущностью, Богом, мировой душой, любовью, общим благом, — независимо от названия это глубокий смысл, преображающий нашу жизнь.
Всем нам знаком командный дух, мы способны его ощущать, — но что он собой представляет? Один из ведущих авторитетов в данной области пишет о следующем.
Когда спрашиваешь людей, каково это — входить в замечательную команду, — сразу бросается в глаза значимость их впечатлений. Они говорят об ощущении себя частью чего-то большего, чем они сами, о своей связи с другими, способности к созданию нового. Становится совершенно ясно, что многие выделяют периоды своего пребывания в действительно хорошей команде как те, в которые их жизнь была наиболее полной. Некоторые посвящают остаток жизни тому, чтобы вновь обрести этот дух85.
Командный дух существует между нами, и мы безошибочно его распознаем, но не умеем определять. Он больше нас, какой бы многочисленной ни была группа, но без нас он не существует. И независимо от нашей цели он не ориентирован на цель. Командный дух проистекает из того, что мы вместе. Он — часть процесса, а результаты, «продукт», всегда появляются позднее.
Парадоксальным образом, слишком сосредоточившись на цели, мы выключаемся из командной игры, и достигнуть цели становится сложнее. А когда командный дух налицо, никакие преграды не страшны — и в спорте, и в бизнесе он поднимает индивидуальный дух участников. Даже при самом невероятном успехе процесс игры ценнее результата. В памяти надолго сохраняется ощущение общности и общего дела, исполненное глубокого смысла, преобразившее всех вместе и каждого в отдельности.
И в спорте, и в театре, и в любом занятии вообще обязательно есть игровой потенциал. Отдавая и принимая — неважно, что именно, — мы взаимодействуем с окружающими и тем самым связаны с ними. Наши чувства простираются за пределы нашего «я», мы находим смысл «снаружи», там, где он важен и для всех нас, и сам по себе.
Эту чудесную метаморфозу условий человеческого существования проще всего загубить там, где она нужнее всего, — на работе. У роли начальника много общего с ролью родителя, и по дороге к ней мы часто успеваем растерять всю память об игре. Мы забываем о том, как радостно играть, как успешно мы при этом учимся и приобретаем навыки, хотя нам никто не объясняет, что надо делать. Совместные веселые игры отвечают нашим природным склонностям, но многим менеджерам это не по душе. Чуть что, они бросают клич: все на борьбу с несерьезным отношением к работе! Даешь дисциплину! Пресечь заразу, пока она не распространилась!
Наверняка многим из вас приходилось с этим сталкиваться: только начнешь радоваться, что дело ладится, что начинает вырисовываться решение задачи, как тебя «ловят» на получении удовольствия от работы, будто это что-то незаконное. И тут же исчезает ветер творчества и бессильно повисает парус. Остывает пыл, а достигнутый прогресс теряет свой блеск. Обычно требуется немало времени, чтобы воссоздать какое-то подобие прежнего энтузиазма и повторно выйти на тот же уровень. Если бы эти суровые менеджеры понимали, что за медвежью услугу они оказывают компании, истребляя в сотрудниках дух творческой игры!
Хорошо работая в одиночку, также можно испытывать радость — именно она делает наш труд максимально продуктивным. А когда нам не позволяют ее свободно выразить, компания теряет избыток нашей творческой энергии, который могла бы получить совершенно бесплатно.
Всякий раз, когда работа выводит нас за пределы нашего «я», мы приобщаемся к высшему смыслу. Это происходит и в случае сравнительно простой задачи (такой, как выбор места для корпоративного отдыха), и при решении сложнейших вопросов, связанных, например, с построением международной сети. Работая ради того, что не сводится к цифре прибылей, мы наполняем смыслом работу всех сотрудников компании и саму жизнь. Это колоссальный труд — ведь корпорация как юридическое лицо существует только для того, чтобы зарабатывать деньги, смысл не относится к ее «должностным обязанностям». Но акционеры, менеджеры и работники могут наполнить смыслом деятельность своего предприятия, если приложат героические усилия.
Чтобы создать смысл в рамках корпорации, недостаточно одних лишь благих намерений. В этой книге мы рассматривали примеры компаний, прекрасно показывающие, каких высот можно достигнуть, выйдя за рамки финансовых интересов. Но что, если компания приняла идею экзистенциальных ценностей, а дело не двигается с места? Я не говорю об организациях, вообще не пытающихся работать ради смысла, — только о тех, где такая попытка предпринимается, по крайней мере на словах.
Когда-то мне представился шанс поработать вместе с Джорджем, президентом и генеральным директором корпорации среднего размера, которая разрабатывала современные технологии, способствующие повышению человеческого потенциала. Солидная научная репутация Джорджа (ранее он участвовал в космической программе) позволила компании нанять ряд ведущих ученых страны и привлечь значительные капиталовложения. Он произносил зажигательные и вдохновляющие речи, любил внимание публики, часто выступал в СМИ.
Считая себя неким «гуру» в сфере как лидерства, так и менеджмента, Джордж опубликовал за свой счет книгу, где изложил собственную философию жизни и бизнеса. В ней он говорил о всеобщей взаимосвязи и о целом, которое больше суммы частей, утверждал, что компания задумана и построена в соответствии с этими принципами, специально чтобы обеспечить центральную роль смысла во всей ее деятельности. Но хотя Джордж говорил правильные слова и обнимался со всеми сотрудниками, показывая, как все в коллективе — в соответствии с принципами — любят друг друга, я, попав в этот коллектив, наблюдал в нем отнюдь не высокий моральный дух, большую текучесть кадров, взаимное недоверие и неуважение. Таким образом, из благих намерений самих по себе ничего не может вырасти, а уж смысл и подавно.
Все мы знаем людей, которые живут не для себя, а для других, посвящая им свою жизнь и работу. Обычно кажется, что они делают это в силу своих природных свойств или потому, что их так воспитали — например, родители, учителя, боссы. Думается, что здесь могло, кроме того, сыграть свою роль отталкивание от собственного опыта. Может быть, они в детстве страдали и знают, каково это, а потому решают усыновить ребенка. Может быть, росли в обстановке богатства и роскоши, поэтому вступают в Корпус мира. Может быть, достигли высот в своей профессии, решили, что им этого мало, и обратились к поиску более глубокого смысла, который привел их на низкооплачиваемую должность в некоммерческой организации, служащей обществу. Или, достигнув этих высот, вдохновились идеей помочь другим.
Если мы оглянемся на собственную жизнь, то в каждом ее дне будут присутствовать люди, по собственной инициативе творящие добро, незаметно и безвозмездно. Если бы их спросили почему, у них, возможно, и не нашлось бы готового ответа. Но думаю, они все согласились бы с формулировкой «я чувствую, что это хорошо». Альтруизм ощущается как нечто хорошее. Он удовлетворяет некую часть нашего «я», стремящуюся выйти за пределы этого «я» и знающую, что, служа другим, мы служим высшему смыслу своей жизни.
Согласно Франклу, способность выйти за пределы собственного «я», как и самоотстранение, представляет собой уникальную особенность человека. Действительно, в самотрансценденции, как она называется в логотерапии, заключена сама сущность человека. Быть человеком — это, по сути, быть связанным с кем-то другим, действовать ради чего-то вне тебя. Поскольку самотрансценденция — абстрактное понятие, Франкл поясняет ее на примере человеческого глаза:
В определенном смысле наши глаза тоже самотрансцендентны. Заметьте, какая ирония заключена в том, что способность глаза воспринимать окружающий мир обусловлена его неспособностью воспринять себя иначе как с помощью зеркала. Когда мой глаз воспринимает образ, созданный им самим, — например, цветной ореол вокруг лампы, — он воспринимает свою глаукому. Когда поле зрения затуманено, я таким образом воспринимаю катаракту — тоже нечто у меня в глазу. Но нормальный здоровый глаз не видит ничего в себе самом. Зрение ослабляется в той степени, в какой глаз способен воспринимать себя86.
Сравнение со здоровым глазом помогает нам лучше понять природу самотрансценденции. Но почему она столь жизненно важна? Чтобы лучше это осмыслить, попробуем обратиться к южноафриканской гуманистической концепции убунту87. Принципы убунту, на которых строится государственное управление в ЮАР, помогут нам глубже проникнуть в суть самотрансценденции. Убунту — это сокращение фразы на языке зулу, которая полностью звучит как Ubuntu ngumuntu ngabantu, а в переводе означает приблизительно следующее: «Человек — лишь в той мере человек, в какой он связан с другими людьми». Существенно, что в убунту отношения рассматриваются не как таковые, а в связи с человечностью и с тем, как люди могут утвердить человечность друг друга. Эта концепция хорошо соответствует философским идеям Франкла. На мой взгляд, именно по причине убунту (т.е. того, что наша человечность может быть по-настоящему выражена только через других людей) существует самотрансценденция. Фактически самореализация, самоосуществление требует от нас умения выйти за пределы собственного «я».
Чтобы проиллюстрировать «отражательный» характер самотрансценденции, приведу здесь небольшую притчу под названием «Эхо»88.
Сын с отцом гуляли в горах. Вдруг сын споткнулся, ушибся и громко вскрикнул: «Ай!» Тут же он, к своему изумлению, услышал, как откуда-то с гор ему откликнулся голос, повторивший за ним: «Ай!» Мальчику стало любопытно, и он закричал: «Кто ты?» Голос ответил: «Кто ты?» Мальчик крикнул: «Ты чудесный!» — и голос ему: «Ты чудесный!» Мальчик обиделся и завопил: «Ты трус!» Голос немедля отозвался: «Ты трус!» Тут мальчик посмотрел на отца и спросил: «Что происходит?» Отец улыбнулся и произнес: «Обрати внимание, сын», а потом сам закричал: «Ты отважный рыцарь!» Голос ответил: «Ты отважный рыцарь!» Мальчик удивился, но не понял, что имел в виду отец. Тогда отец объяснил: «Люди называют это эхом, а на самом деле это жизнь, она возвращает тебе все, что ты скажешь или сделаешь. Наша жизнь — отражение наших поступков. Хочешь, чтобы в мире было больше любви — наполни любовью свое сердце. Хочешь, чтобы люди, которые работают вместе с тобой, были умными и знающими, — учись. Это правило применимо ко всему, к любой из сторон жизни. Жизнь вернет тебе все, что ты ей отдал. Она — не ряд совпадений, а твое отражение!
Теперь остановитесь и задумайтесь на мгновение. Обращаете ли вы внимание на свое эхо, слушаете ли вы его? Как вам кажется, откуда взывает к вам жизнь? А что вы ей кричите?
Тяга к служению часто происходит из глубокого страдания. Виктор Франкл, Нельсон Мандела, Махатма Ганди, далай-лама, архиепископ Десмонд Туту, Аун Сан Су Чжи — все они преобразили свое страдание в служение, пережив его как наделенное глубочайшим смыслом. Из страдания они вынесли не горечь, а любовь и понимание священной сути человека, которое преобразило их на всю оставшуюся жизнь. Смысл стал трудом их жизни.
Не каждый из нас призван быть Манделой или Ганди. Но если мы обратим на это внимание, то нам станет ясно, что жизнь ежедневно призывает нас выйти за пределы личных интересов. И когда мы так поступаем, это необъяснимым и глубоко значимым образом служит нашим интересам, причем даже если на первый взгляд подобное кажется невозможным — например, когда мы проявляем милосердие, прощая обидчика.
Прийти к милосердию — это, пожалуй, самое трудное из всего, что мы в состоянии сделать для выхода за пределы собственного «я». В работе прощать особенно трудно, потому что это не кажется необходимым: эмоциональные связи между сотрудниками не так сильны, как между близкими людьми. И все же путь к прощению совсем не страшен, если посмотреть на него в свете того, что удавалось другим.
Франкл никогда не был согласен с концепцией коллективной вины и, как мог, боролся с этой идеей, хотя после войны мало кто против нее выступал. Он не держал зла на лагерных охранников, даже жалел их. В книге «Человек в поисках смысла» рассказывается об офицере СС — начальнике концлагеря, из которого Франкл был освобожден в конце войны. После освобождения Франкл узнал, что этот эсэсовец «тайно покупал в близлежащей деревне лекарства для узников, тратя на это значительные суммы из собственных денег»89.
Нельсон Мандела прошел путь прощения во время и после своего 30-летнего заключения. Похоже, что милосердие чуть ли не главная составляющая смысла, что высший смысл невозможно постигнуть без того, чтобы простить себя и других.
Отпуская вину обидчику, мы отпускаем от себя свою боль. Милосердие имеет гораздо больше отношения к нашему духовному благополучию, чем к благополучию того, кого мы прощаем. Когда мы держимся за свои страдания — обиду, горечь, гнев, — мы замыкаемся в жалости к себе. Эта жалость становится завесой, сквозь которую мы видим себя и окружающих, причем нам приходится питать ее, поддерживать и оправдывать. В противном случае мы, как нам представляется, допускаем «правоту» обидчика.
Но в действительности милосердие в такой ситуации — одно из самых нужных качеств. Чтобы оно хорошо работало, его необходимо упражнять, как мышцы. Иногда оно дается нам с трудом. Иногда мы думаем, что простить зло значит позабыть о нем, преуменьшить его масштабы или потворствовать ему. Однако это не так. Существенно, что мы сами освобождаемся от причиненного нам зла, — ведь обида закрывает путь любви и великодушию. Отсюда не следует, что мы должны возлюбить подчиненного, обманувшего наше доверие, или коллегу, который на собрании камня на камне не оставил от нашей идеи. Но мы не должны держать на них зла. Это позволит нам освободиться из плена, и когда настанет время, любовь и великодушие вернутся к нам.
В поисках смысла жизни мы ступаем по широким дорогам и узким тропинкам. Выходя за пределы своего «я» — в прощении, бескорыстии, заботе, великодушии, щедрости, понимании по отношению к окружающим, — мы вступаем в сферу духовного. Отдавая себя другим, человек делается богаче. Эта истина известна очень давно, она лежит в основе многих религиозных традиций. Здесь заключена тайна, которую нельзя постигнуть умом, — ее можно только прочувствовать. И когда мы чувствуем ее, смысл найден. Мы больше не пленники собственных мыслей.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы ощущали необходимость выйти за пределы своего «я» и своих интересов, чтобы найти правильный выход из положения (быть может, это и сейчас так). Например, вы столкнулись с запутанной проблемой клиента, которая не решалась стандартным образом, с вопросом социальной ответственности фирмы, для ответа на который требовалось заглянуть в свою душу. Каким образом вы себя повели, что предприняли? Чему научила вас эта ситуация? Более конкретно, что вы узнали о своей способности к самотрансценденции? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы устанавливаете отношения с тем, что вне вас, как обращаетесь к нему?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте, как вы могли бы помочь сослуживцам научиться самотрансценденции и практиковать ее. Что стоит им показать, чтобы они поняли принцип и в дальнейшем его применяли?
11
Увидеть смысл в жизни и работе
Поиск человеком смысла является первичной движущей силой в его жизни, а не «вторичной рационализацией» инстинктивных побуждений90.
«Терпеть не могу паразитов», — сказал мне Рик. Мы беседовали о его нынешней работе и перспективах карьеры, и — хотите верьте, хотите нет, — слова Рика относились к людям, о которых ему следовало заботиться по долгу службы. Он отвечал за надзор над условно осужденными в управлении исправительных учреждений штата, и четыре года работы никак не изменили его взгляды на подопечных, с которыми он изо дня в день имел дело и для которых, очевидно, очень много значили его совет и поддержка.
После некоторых расспросов я узнал, что Рик рос без родителей, его перебрасывали из одной приемной семьи в другую, а в промежутках сдавали в приют. Но пережитое не сделало Рика сострадательным, наоборот, он стал черствым, равнодушным к чужой беде. В отличие от многих других, прошедших через подобные испытания, Рик не мог (и не хотел) устанавливать контакт с людьми, которые нуждались в той или иной форме социальной поддержки, или, как он выражался, «сидели у общества на шее».
После окончания финансового колледжа Рик принял первое подвернувшееся предложение с полным рабочим днем. «Всё лучше, чем возить на автобусе столы или переворачивать гамбургеры», — думал он про себя. И хотя у него никогда не было идеи работать в правительственном учреждении или в социальной службе, он ухватился за возможность стать служащим и присматривать за условно осужденными. В любом случае ему требовалась постоянная работа, и он думал, что вскоре найдет себе что-нибудь получше. Так и появился на свет Рик, государственный служащий, опора сбившихся с пути.
С самого начала он знал, что такая работа ему не подходит, и чувствовал себя в ловушке. Полная занятость и регулярная зарплата были ему в новинку и понравились — точнее, понравилась зарплата, к которой штат добавлял еще и неплохой пакет льгот. Друзья завидовали Рику. Вскоре он начал выполнять свою работу на автопилоте; душу вкладывать не требовалось, нужно было только «оттрубить» часы, необходимые, чтобы получить чек на зарплату и льготы.
В беседе со мной Рик признался, что настроение у него подавленное, и даже хуже, чем обычно, что с утра ему тяжело вставать и отправляться на работу, а в течение рабочего дня он непрерывно злится. Он был недоволен работой, сослуживцами, подопечными, нарывался на ссору с начальником. Рик полным ходом двигался к катастрофе и осознавал это, но не понимал, как ему быть. Он чувствовал себя растерянным, пойманным, несчастным, несостоявшимся.
Что бы мы ни сказали о психологическом облике Рика, думается, никто не станет спорить с тем, что работу этот молодой человек выбрал неправильно. Что еще важнее, Рик — пленник своих мыслей. Если бы только он сумел понять, что ключи свободы у него в руках!
Ключи, отпирающие для нас смысл работы, находятся в пределах нашей досягаемости, их можно — и всегда было можно — взять прямо сейчас. Стоит нам задержаться и подумать о нашей связи с самими собой, окружающим миром, товарищами по работе, очередной задачей, о необычайной взаимозависимости всех составляющих нашей жизни, как мы ощутим смысл. Смысл — это ответ на вопрос: кто мы в мире? И именно мир удостаивает нас смыслом.
Да, мы можем быть удостоены лишь сознанием собственной недостойности. Это тоже ведет нас к смыслу, хотя и неожиданным путем — через сумятицу и хаос. Случается, что мы в своей работе прокладываем рельсы в каком-то направлении, а поезд нашей жизни решает повернуть совсем в другую сторону. Тогда мы чувствуем надвигающуюся катастрофу.
Большинству из нас знакомо это ощущение. Проблемы громоздятся друг на друга, мы пытаемся маневрировать и приспосабливаться к новым условиям. Мы меняем отношение к событиям, заставляем себя действовать, пересматриваем прошлый опыт в соответствии с нынешним положением дел. А потом что-то происходит, и все построенное нами разваливается на части.
Когда мы используем открывающиеся для нас возможности, даже если это трудно и требует большого напряжения сил, мы создаем возможности и для других. В результате мы иногда бываем вознаграждены неожиданно для себя. Как сказал Виктор Франкл, «у каждого из нас — свой внутренний концлагерь... по отношению к которому мы должны проявлять снисходительность и терпение, — как полноценные человеческие существа; как те, кто мы есть, и те, кем хотим стать»91.
Жизнь в состоянии привести нас к смыслу — если мы ей это позволим. Когда она наносит нам удар за ударом, тяготы могут научить нас смирению, беззаветной любви и верности себе, несмотря ни на что. Но точно так же мы под их влиянием можем стать тверже, стойче — и ожесточиться, разучиться любить. Выбор за нами, и в современных условиях он обещает стать еще сложнее, чем был до сих пор.
Есть изречение: «Если тебе хочется, чтобы все оставалось по-прежнему, что-то вскоре обязательно изменится». Ничто не постоянно, кроме перемен. Наша жизнь и мир в целом меняются все сильнее и стремительнее, с появлением новых возможностей ускоряется само время. Нам постоянно надо прилагать усилия к тому, чтобы понять, кто мы, во что верим и как должны жить в соответствии со своими идеалами. Стараясь узнать себя и заботясь о своей цельности, мы проникаем глубже в смысл. Действуя так, как того требует наша подлинная сущность, руководствуясь честностью, добросовестностью, добротой и любовью, — работаем и живем в союзе со смыслом. Знать, что тебе дарован смысл, что он удостаивает своим присутствием каждую грань и каждое мгновение твоей жизни, — это и есть истинная свобода. Свобода не судить начальство и товарищей по работе, а существовать в ладу с тем, что знаешь лучше всего, — с неповторимой мелодией своей жизни. Человек только сам может ее спеть, никто не сделает это за него.
Борьба за существование — это борьба за что-то, она преследует определенную цель и только поэтому осмысленна и способна наполнить жизнь смыслом92.
Когда в нашей жизни и работе присутствует смысл, мы можем его создавать, видеть, делиться им с окружающими. Мы свободно определяем свое отношение к жизни, к работе в целом и каждой задаче в отдельности, к чужим поступкам и затруднительным ситуациям. Мы не ограничиваемся рамками своих личных интересов, и смысл способен преображать нас. Мы умеем находить его на работе, в необычных на первый взгляд местах и с самыми неожиданными людьми. Смысл полон сюрпризов. Он разбивает наши предположения и делает нас внимательными. Он становится нами.
Еще одно свойство смысла — гибкость. То, что однажды имело смысл, в другой раз может оказаться бессмысленным. Когда наши глаза открыты для смысла жизни, мы обретаем необходимую гибкость, мы лучше управляем своим парусом и при легком ветерке, и при урагане.
Наша работа служит нам многими способами, которые только мы сами по-настоящему знаем, понимаем и можем оценить. Она, как бриллиант, сверкает множеством граней, — но при условии, что от нас исходит свет. Если работа доставляет нам радость, если она как-то помогает нам за пределами рабочего места, то нам известно, для чего мы работаем. Неважно, стараемся ли мы добыть средства к существованию для тех, кого любим, трудимся непосредственно для своих близких, помогаем людям всего мира, делаем то, чего требует от нас наш уникальный дар, покоряемся судьбе или преследуем несколько целей. В любом случае мы знаем себя, видим в работе смысл, понимаем, что в ней взывает к нам.
Попробуем теперь рассмотреть работу с точки зрения того, «для чего» человек работает, воспользовавшись одним из методов анализа, предложенных Франклом. Франкл применял такой анализ, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом главном, понять, ради чего они живут, и «ухватиться за жизнь». Всякий человек, — считал Франкл, — в конечном итоге свободен — и обязан — выбрать свою позицию по двум измерениям жизни (см. рисунок)93.
В первом из этих измерений (на рисунке — горизонтальная ось) люди движутся в жизни и работе между полюсами успеха (+) и неудачи (–), во втором (на рисунке — вертикальная ось) — между полюсами смысла (+) и бессмысленности (–). Уточню, что под смыслом следует понимать реализацию воли к смыслу.
Каким же образом мы используем эту схему Франкла, на которой дается наглядная интерпретация нашей экзистенциальной установки, и что она способна нам сказать? Для начала давайте разберем, какие типы людей соотносятся с квадрантами, помеченными буквами A, B, C и D. Например, куда мы поместим богатого и успешного руководителя бизнеса, который, несмотря на все свои достижения, не удовлетворен работой и не понимает, зачем существует? Очевидно, он должен быть представлен точкой в квадранте D. Попробуйте понять, кто еще попадает в эту категорию, кто преуспел по традиционным, материальным меркам, но страдает от внутренней опустошенности, от бессодержательности, бессмысленности своего существования. Все мы знаем о таких людях или даже знаем их лично, правда? Среди них — не только знаменитые бизнесмены, звезды шоу-бизнеса или спорта, но и наши собственные коллеги, начальники, друзья, соседи, родственники. Подумайте об этом.
А теперь рассмотрим противоположный тип — тех, кто вряд ли был бы сочтен успешным по стандартам общества; они живут, может быть, более чем скромно, на небольшую зарплату или пенсию, но довольны своим образом жизни и счастливы. Они работают на низкооплачиваемой незаметной должности или бесплатно помогают в каком-нибудь общественном деле. Это квадрант A нашего рисунка. Кого из известных вам людей вы бы туда поместили?
Квадрант B соответствует случаю, когда человек одновременно добился высокого положения в обществе и реализовал свою волю к смыслу. Здесь можно вспомнить историю Тома Чаппелла, который двигался по вертикальной оси в сторону смысла и одновременно оставался в зоне успеха на горизонтальной оси. Не забудем и вдохновляющий пример Кристофера Рива. Людей, жизнь которых отвечает признакам квадранта B, можно найти и в бизнесе, и в спорте (Андреа Джегер), и среди государственных и политических деятелей. Фактически они есть во всех секторах нашего общества.
Итак, диаграмма представляет, в сущности, жизнь человека. Что же можно сказать о вашей жизни? А о вашей работе? Куда бы вы поместили себя на этом двумерном графике? А где бы вы хотели находиться? В 1953 г. Франкл написал в одном из писем: «Говорят, где есть воля, там есть и путь; я добавлю: где есть цель, есть и воля». Есть ли у вас такая воля, какую имел в виду Франкл? А цель? Как вам кажется, движение к ней означает только перемещение по горизонтальной оси или по вертикальной тоже? Что значит для вас работа и какая работа для вас действительно важна?
Теперь представьте себе, какой работой вы действительно хотели бы заниматься. Спросите себя, поможет ли она вам реализовать свою волю к смыслу. Если да, что вам следует делать, чтобы ее получить? Что из этого вы уже делаете, что могли бы делать?
Независимо от конкретного содержания нашей работы то, что мы собой представляем, выражается в том, что мы делаем. Вкладывая в свой труд энтузиазм, понимание, щедрость и внутреннюю целостность, мы вкладываем в него смысл. И этот смысл способен преобразить любое, самое заурядное занятие. Мы получаем смысл от самой жизни, он доступен нам на работе точно так же, как и в духовных исканиях. Мы дышим, следовательно, существуем духовно. Жизнь есть, следовательно, она осмысленна. Мы действуем, следовательно, работаем.
Виктор Франкл оставил нам наследие надежды и возможности. Он видел самые страшные условия человеческого существования и людей, совершавших столь чудовищные злодеяния, что воображение отказывается в это верить. Но он видел и людей, поднимавшихся в сострадании и бескорыстной любви к ближнему до настоящей святости. Внутри нас есть нечто, способное поднять нас до высот, которые кажутся нам недосягаемыми. Инстинктивное стремление к смыслу, в работе и повседневной жизни, всегда при нас, в том числе и в данный момент. При условии, что мы — не пленники собственных мыслей.
Мы никогда не должны удовлетворяться тем, что уже достигнуто. Жизнь не перестанет ставить перед нами новые вопросы, не позволит нам уйти на покой... Мимо того, кто стоит, проходят, не останавливаясь; тот, кто самоуверен в споре, теряет себя. Ни в творчестве, ни в переживании мы не должны успокаиваться на достигнутом. Каждый день, каждый час требует от нас новых свершений и посылает нам новые впечатления94.
Вспомните ситуацию на работе, в которой вы ощущали, что попали в ловушку и ваш потенциал остается нереализованным (быть может, это и сейчас так). Например, вам поручили дело, которое вам не нравилось или представлялось бессмысленным. Предприняли ли вы что-нибудь, и если да, то что? Удалось ли вам разрешить ситуацию или она разрешилась сама? Чему научила вас эта ситуация? Что бы вы сейчас сделали иначе?
Значимый вопрос
Как вы наполняете смыслом работу и реализуете в ней свой потенциал?
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБДУМЫВАНИЯ
Подумайте, как вы могли бы помочь сослуживцам открыть в работе смысл и реализовать свой потенциал. Что стоит им показать, чтобы они осознали свою обязанность «подняться» навстречу жизни и труду для обретения смысла и осуществления потенциала?
12
Принципы в действии
В 2004 г. мощное подводное землетрясение в Индийском океане стало причиной цунами, признанного самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. Гигантские волны унесли жизни более чем 280 000 человек, миллионы были ранены и остались без крова. Более всего пострадала индонезийская провинция Ачех, ближайшая к эпицентру землетрясения.
И случилось так, что недавно изданная книга «Пленники собственных мыслей» (еще без этой главы) попала в руки представителей расположенной в Джакарте фирмы Dunamis Organization Services. Эта фирма занималась предоставлением профессиональных услуг и разработала программу подготовки волонтеров для борьбы с последствиями цунами, которую затем наряду с самой Dunamis Organization Services использовали и другие организации, в том числе юнеско и юнисеф. Моя книга была включена в эту программу в качестве учебного материала.
Как мне рассказали, решение об использовании книги было принято потому, что она учит справляться с трудностями и фокусирует внимание на необходимости в любых обстоятельствах искать смысл. Книга рассматривалась как вводный учебник для волонтеров, которым предстояло научиться бороться одновременно и с самим бедствием, и со своей психической реакцией на него. Целью программы было реалистически подготовить волонтеров к тому, с чем они столкнутся в районах, пострадавших от цунами. Их обучали специфическим приемам и работе с конкретными инструментами, а также психологическим стратегиям оказания помощи жертвам катастрофы. Семь принципов, описанных в книге, рассматривались в рамках программы как часть основной компетенции (т.е. суммы знаний, навыков и установок), необходимой каждому участнику.
Это практическое применение сделало публикацию моего труда саму по себе нужной (и осмысленной) для меня в отношении, которое я затрудняюсь адекватно охарактеризовать. Признаться, при написании книги я и не предполагал, что действие принципов будет проиллюстрировано таким образом.
С тех пор я еще немало узнал о силе своей книги и ее жизнеутверждающего, вдохновляющего содержания. Позвольте мне привести несколько примеров того, как она была использована, чтобы вы ощутили, насколько мощный скрытый потенциал ждет выявления и реализации.
Приводимые примеры относятся к самым разным ситуациям, возникавшим на работе и в повседневной жизни. Источником для них послужили не только непосредственные контакты с клиентами и другой мой личный опыт, но и письма читателей, самостоятельно применявших описанные в книге принципы. И я очень надеюсь, что в этой главе вы найдете много свидетельств эффективности франкловских принципов для раскрытия смысла жизни и работы. Но не забывайте о непременном условии: вы, как и я, и как любой человек в мире, можете отыскать зерно смысла, содержащееся во всех без исключения жизненных ситуациях, только если не будете пленниками собственных мыслей.
Начну с довольно необычного, но имеющего глубокий смысл примера. Меня попросили провести семинар по «Пленникам собственных мыслей» для заключенных в одном из штатов. Как же я должен был обсуждать способы освобождения из «внутренней психологической тюрьмы» с людьми, реально лишенными физической свободы, многие из которых провели или по приговору суда должны были провести много лет за настоящей решеткой? Приглашение поистине заставило меня «делать что говорю» в очень и очень поучительной обстановке, где принципы Виктора Франкла подверглись необычайно суровой проверке (как и в случае с цунами 2004 г.).
«Прошу вас, перечислите, пожалуйста, десять плюсов того, что вы находитесь в тюрьме», — предложил я группе из двух десятков заключенных, которые сидели в комнате для занятий за столами, расставленными по кругу, и смотрели на меня как на сумасшедшего. Они принялись писать (перед началом занятия каждый получил листок бумаги и маленький карандашик, по окончании то и другое немедленно конфисковали из соображений безопасности). Некоторые ворчали, некоторые посмеивались над заданием, но так или иначе все добровольно выполнили упражнение, самым непосредственным образом связанное с первым принципом — быть всегда свободным.
Некоторые участники ничего не могли придумать, по крайней мере пока не услышали ответы своих товарищей по несчастью. Что же касается ответивших, то одни приняли упражнение со всей серьезностью, а другие позволяли себе остроты, казалось бы, неуместные в таких обстоятельствах.
Вот некоторые их ответы:
- Раз я за решеткой, общество от меня защищено.
- Теперь я знаю, чего не хочу делать со своей жизнью (остатком жизни).
- Я могу служить для других примером того, как не надо поступать.
- Я больше не бездомный!
- Я узнал, кто мой настоящий друг, а кто нет.
- Я родился заново и теперь ценю жизнь и свободу как никогда раньше.
- Я получаю хорошую физическую нагрузку.
Конечно, это лишь небольшая часть соображений, высказанных участниками. Благодаря упражнению подспудная духовная энергия людей, находившихся в комнате, сумела найти себе выход. Не принужденные более мыслить и действовать просто как «заключенные», они оказались в состоянии делиться друг с другом мыслями и чувствами, даже шутить. Это, в свою очередь, позволило им увидеть в своем печальном положении что-то хорошее. Так призыв не быть пленниками собственных мыслей дал им, пленникам в прямом смысле слова, шанс воспользоваться последней свободой всякого человека — несмотря на обстоятельства, выбрать свое отношение к ним.
Мы не должны быть пленниками собственных мыслей, если действительно стремимся увидеть в действии и использовать на практике принцип 1. Один из читателей книги, врач по специальности, сказал мне следующее: «Алекс, мне очень понравилась твоя книга, но у меня есть вопрос. На самом деле мне неясен первый принцип. Предположим, у меня уже есть определенное отношение к ситуации, зачем мне тогда свободно выбирать, как к ней относиться?» До него не дошла суть того, что я пытался объяснить! К счастью, после того как мы еще поговорили, он понял принцип и с тех пор может эффективно использовать его как в своей профессиональной деятельности (например, для достижения лучшего взаимопонимания с пациентами), так и в личной жизни.
Принцип 1 часто служит основой для практического применения остальных шести принципов в этой книге. Возможно, именно поэтому многие читатели книги «Человек в поисках смысла» связывают факт выживания Франкла в нацистских лагерях смерти в первую очередь с выбором отношения и рассматривают данный принцип как определяющий для логотерапии. Читатели моей книги по большей части также быстро схватывали суть принципа 1 и старались следовать ему в повседневной жизни и работе, а также использовать его в качестве платформы для применения остальных принципов.
Эффективность принципа 1 была продемонстрирована в ряде сложных жизненных ситуаций. Среди них — изменения в личных отношениях, включая развод и вызванный им стресс, а также в работе и общественном статусе, включая выход на пенсию, которому часто сопутствует психологическое отчуждение, и возвращение в гражданскую жизнь военнослужащих, особенно побывавших в районах боевых действий. Безусловно, в подобных тяжелых испытаниях свободный выбор не сводится — ни по сложности, ни по последствиям — к применению простого принципа. Способность выбрать здесь жизненно важна и является необходимым условием для выявления значимых моментов жизни (принцип 3) и в благоприятных, и — особенно — в неблагоприятных условиях.
Рассмотрим кратко случай, о котором написал мне читатель, применивший описанные в книге принципы, когда в его жизни и профессиональной деятельности произошли резкие изменения. Он 30 лет проработал инженером в корпорации, любил и знал свое дело, а потом его внезапно перевели в другой отдел, где ему в буквальном смысле слова нечем было заняться. И тут, по его рассказу, он вдруг обнаружил, что его жизнь бессмысленна, и несколько месяцев его одолевали (держали в плену!) мысли о собственной горестной судьбе. Прочитав мою книгу, этот человек решил рассмотреть свое положение не как проблему, а как шанс (результат применения принципа 1) «заново себя создавать, чтобы адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, которые бессилен был изменить». Он старался полнее осознать возможность изменить свою реакцию на новую, на данный момент малоприятную обстановку, и это удалось. Постепенно его отношение к ситуации сделалось более адекватным, настроение улучшилось, взгляды на жизнь и работу стали оптимистичнее, и он обнаружил, что находится на пути к совершенно новому типу самореализации и успеха.
Еще один краеугольный камень логотерапии Виктора Франкла в сжатом виде представлен принципом 2 — стремиться к смыслу. Следование этому принципу означает нашу верность значимым ценностям и идеалам, а ее не так-то просто сохранить на деле, когда на управление нашими мыслями и поступками претендуют совсем иные побуждения — стремление к удовольствиям, власти, превосходству. Лишь воля к смыслу поможет нам проложить верный курс в жизни и работе и оставаться на нем, держась того, что действительно важно, что помогает делать наш мир лучше.
Я непосредственно наблюдал данный принцип в действии. Поиск смысла недаром был назван одним из «мегатрендов» двадцать первого столетия — справедливость такого определения подтверждают мои читатели, взявших на вооружение принципы Виктора Франкла (включая принцип 2). Их поступки убедительно доказывают, что этот «мегатренд» значимо и осмысленно преобразует жизнь и труд.
Вот пример Фрэнка Стронака, основателя и главы канадской компании Magna International, одного из крупнейших мировых производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Он сформировал в Magna уникальную и глубоко осмысленную корпоративную культуру на основе бизнес-философии Fair Enterprise (честное предприятие), а помимо этого известен как очень азартный человек. Особенно Стронак любит скачки чистокровных лошадей. Поэтому он под маркой подразделения Magna Entertainment приобрел ряд ипподромов в Северной Америке, в частности Санта-Анита и Пимлико (где проходят состязания Preakness Stakes), а также сам занимается разведением чистокровных скакунов и организацией скачек в Канаде и США.
Стронак прибыл в Канаду из Австрии (страны, подарившей миру Виктора Франкла) в возрасте 22 лет с одним чемоданом и примерно сорока долларами в кармане. Бедность на начальной стадии и привычка много работать сформировали его характер, обусловив как его хватку бизнесмена, так и приверженность деловой этике, принципу социальной ответственности и подотчетности корпораций.
Действия Стронака во время урагана «Катрина», который обрушился в августе 2005 г. на Луизиану и Алабаму, показали, что он действительно верен этим идеалам и стремится к смыслу. Стронак убедил американский Красный Крест позволить ему организовать временное пристанище для жертв урагана на принадлежащем Magna конном заводе Palm Meadows в округе Палм-Бич (Флорида).
Помещения высшего класса, предназначавшиеся для размещения жокеев, конюхов и лошадей, стали домом примерно для 300 семей «гостей» (Стронак принципиально не называл их ни «эвакуированными», ни «беженцами»), направленных туда Красным Крестом и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям; многие происходили из полностью затопленных районов Нового Орлеана. Ключевой фигурой в этом мероприятии был Деннис Миллз из Торонто, исполнительный вице-президент Magna Entertainment и член парламента Канады с 16-летним стажем. Среди прочего Миллз был одним из главных инициаторов и организаторов визита в Канаду папы Иоанна Павла II на Всемирный день молодежи, а также благотворительного концерта Rolling Stones в Торонто, средства от которого были направлены на борьбу с атипичной пневмонией.
Деннис Миллз — мой личный друг и один из читателей книги «Пленники собственных мыслей», а его жизнь и работа — прекрасный пример франкловских принципов в действии. Поскольку он многие годы был парламентарием, мы даже обсуждали с ним, как можно было бы принести принципы Виктора Франкла на политическую арену, обеспечить их влияние на государственную политику. Деннис был очевидной кандидатурой на роль руководителя гуманитарной инициативы Magna: он, как и глава всей корпорации Фрэнк Стронак, стремился к смыслу и действительно хотел позаботиться о гостях из Нового Орлеана, чтобы существенно изменить их жизнь к лучшему.
«Помочь людям с жильем и пищей сравнительно просто, — сказал Стронак. — Что по-настоящему сложно, так это понять, каким образом помочь им снова подняться на ноги».
Так возник проект Canadaville. Стронак приобрел около 1000 акров земли к северо-востоку от Нового Орлеана в зоне, не затронутой ураганом, и предложил желающим семьям обосноваться там. Над зданием центра для приезжающих в этом поселке — два флага: Канады и США. Поселок успешно развивается, а Деннис Миллз, который курирует проект по поручению Стронака и корпорации Magna, скромно говорит: «Просто сосед помогает соседу». Из гостей Palm Meadows, получивших вспомоществование, не все захотели перебраться в новый поселок — некоторые вернулись в Новый Орлеан или остались во Флориде, — так что он принимал пострадавшие от урагана семьи из других временных поселений.
Переселенцы освобождены от платы за проживание сроком на пять лет при условии, что будут соблюдать «кодекс поведения». Кодекс требует от них, среди прочего, работать или учиться в школе, посвящать не менее восьми часов в неделю общественным работам, участвовать в поселковом совете, не употреблять наркотиков. Для детей имеются группы продленного дня и дополнительные занятия, взрослые могут заниматься на компьютерных курсах и курсах по овладению различными специальностями; ведутся работы по созданию органической фермы, где не применяются синтетические удобрения, ядохимикаты и тому подобные вещества. Magna обеспечивает обитателей поселка жильем и медицинским обслуживанием, а также ведет ряд других программ, но не платит им денежных пособий. Задача проекта — подать нуждающимся руку помощи, а не милостыню.
На момент написания этой книги работа в рамках проекта Canadaville продолжается. На примере Стронака и Миллза можно видеть, что такое истинная преданность значимым ценностям и идеалам (принцип 2), и я уверен, что для поддержания своей воли к смыслу в столь непростых условиях они оба постоянно обращаются также к другим принципам Виктора Франкла, описанным в этой книге.
Представленные в этой главе иллюстрации, которые показывают принципы Виктора Франкла в действии, дают лишь самое начальное представление о том, как эти принципы помогают людям справляться с различными проблемами и преодолевать многочисленные трудности, открывая для себя смысл жизни и работы. Применение франкловских принципов не ограничено ни поколением, ни культурной или религиозной традицией — за ними всегда сохраняется роль вех на пути постижения смысла. Они могут служить ориентиром и студентам, старающимся найти зерно смысла в изучаемой специальности (чтобы в дальнейшем работать со смыслом), и подросткам, которые готовятся к взрослой и осмысленной жизни и пытаются действовать по-своему в условиях давления сверстников, и домохозяйкам, так нуждающимся в открытии личного смысла, и «пожилым гражданам», полагающим, что они способны на нечто большее, чем просто вспоминать былые дни.
Точно так же применение этих принципов в работе и на работе не ограничено ни размером организации, ни корпоративной культурой, ни целью деятельности, ни типом производимых продуктов или предоставляемых услуг, ни юрисдикцией.
Отдельные люди, пользуясь принципами Виктора Франкла, оказывались в состоянии найти в своей работе более глубокий смысл. Это, в свою очередь, помогало им лучше справиться с изменениями и стрессами, в том числе вызванными переходом на другую работу или увольнением в связи с масштабными преобразованиями в организации, такими как слияния, поглощения и сокращения.
На уровне организации принципы служили ориентиром при перепроектировании рабочих мест и связей между работниками на всех уровнях и в рамках широко определяемого «сообщества заинтересованных лиц». На уровне предприятия они становились основой для инноваций в самых разных отраслях и во всех трех секторах — корпоративном, государственном и общественном.
Время для поиска смысла в наши дни пришло. Но за открытие смысла жизни и работы отвечаем мы сами — каждый в отдельности и все вместе. И, повторю еще раз, мы не исполним, не сможем исполнить этот свой долг, оставаясь пленниками собственных мыслей.
Литература
Albion, Mark. (2000). Making a Life: Reclaiming Your Purpose and Passion in Business and in Life. New York: Warner Books.
Battino, Rubin. (2002). Meaning: A Play Based on the Life of Viktor Frankl. Williston, Vermont: Crown House Publishing Limited.
Borowitz, Andy. (2003). Who Moved My Soap? The CEO's Guide to Surviving in Prison. New York: Simon & Schuster. (Боровиц Э. Кто срубил мою капусту? Как выжить в тюрьме. Руководство для больших начальников. Минск: Попурри, 2004.)
Bulka, Reuven P. (1979). The Quest for Ultimate Meaning: Principles and Applications of Logotherapy. New York: Philosophical Library.
Carlson, Robert. (1999). Don't Sweat the Small Stuff at Work. New York: Hyperion.
Chopra, Deepak. (1991). Unconditional Life: Discovering the Power to Fulfill Your Dreams. New York: Bantam Books.
Covey, Stephen R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. New York: Simon & Schuster. (Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития личности. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.)
Covey, Stephen R., Merrill, A. Roger, and Merrill, Rebecca R. (1994). First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy. New York: Simon & Schuster. (Кови, Стивен Р. Меррилл, Роджер, Меррилл, Ребекка. Главное внимание — главным вещам: жить, любить, учиться, оставить наследие. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.)
The Dalai Lama, and Cutler, Howard C. (2003). The Art of Happiness at Work. New York: Riverhead Books. (Далай-лама XIV, Катлер Г. Искусство быть счастливым на работе. М.; Киев: София, 2004.)
Downs, Alan. (2000). The Fearless Executive. New York: AMACOM Books.
Dundon, Elaine, and Pattakos, Alex. (2003). Seeds of Innovation Insights Journal, Volume One. Santa Fe, New Mexico: The Innovation Group.
Fabry, Joseph B. (1968). The Pursuit of Meaning: Logotherapy Applied to Life. Boston: Beacon Press.
Fabry, Joseph B., Bulka, Reuven P., and Sahakian, William S. Eds. (1995). Finding Meaning in Life: Logotherapy. Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc.
Frankl, Viktor E. (1963). Religion in Education Foundation. Lecture, University of Illinois, February 18, 1963.
Frankl, Viktor E. (1967). Psychotherapy and Existentialism. New York: Simon & Schuster. (Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм: Избранные работы по логотерапии // Франкл, В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО-Пресс; Апрель-Пресс, 2000.)
Frankl, Viktor E. (1975). The Unconscious God. New York: Washington Square Press.
Frankl, Viktor E. (1978). The Unheard Cry for Meaning. New York: Washington Square Press.
Frankl, Viktor E. (1985) The Will to Meaning (видеозапись лекции). Phoenix, Arizona: Zeig, Tucker & Theisen. (VHS ISBN: 978-1-932462-08-1; DVD ISBN: 978-1-932462-54-8.)
Frankl, Viktor E. (1986). The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy. New York: Vintage Books. (Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997.)
Frankl, Viktor E. (1988). The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. New York: New American Library. (Франкл В. Воля к смыслу. Основы и применение логотерапии // Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО-Пресс: Апрель-Пресс, 2000.)
Frankl, Viktor E. (1990). Keynote address, Evolution of Psychotherapy Conference, Anaheim, California, December 12–16, 1990.
Frankl, Viktor E. (1992). Man's Search for Meaning, 4th ed. Boston: Beacon Press. (Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. М.: Прогресс, 1990.)
Frankl, Viktor E. (1997a). Man's Search for Ultimate Meaning. New York: Plenum Press.
Frankl, Viktor E. (1997b). Viktor Frankl Recollections: An Autobiography. New York: Plenum Press.
Frantz, Roger, and Pattakos, Alex, eds. (1996). Intuition at Work: Pathways to Unlimited Possibilities. San Francisco: New Leaders Press.
Gerzon, Mark. (1992). Coming Into Our Own: Understanding the Adult Metamorphosis. New York: Delacorte Press.
Gill, Ajaipal Singh. (2000). Frankl's Logotherapy and the Struggle Within. Pittsburgh: Dorrance Publishing Co.
Gould, William Blair. (1993). Frankl: Life With Meaning. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Graber, Ann V. (2003). Viktor Frankl's Logotherapy: Method of Choice in Ecumenical Pastoral Psychology. Lima, OH: Wyndham Hall Press.
Havenga-Coetzer, Patti. (2003). Viktor Frankl's Avenues to Meaning: A Compendium of Concepts, Phrases and Terms in Logotherapy. Benmore, South Africa: Viktor Frankl Foundation of South Africa.
Jackson, Phil, and Delehanty, Hugh. (1995). Sacred Hoops: Spiritual Lessons of a Hardwood Warrior. New York: Hyperion.
Jeffers, Susan. (1988). Feel the Fear and Do It Anyway. New York: Ballantine Books. (Джефферс С. Бойся... но действуй! Как превратить страх из врага в союзника. М.; Киев: София, 2008.)
Jones, Charlotte Foltz. (1991). Mistakes That Worked. New York: Delacorte Press.
Klingberg, Haddon (2001). When Life Calls Out to Us: The Love and Life-work of Viktor and Elly Frankl. New York: Doubleday.
Lasn, Kalle, and Grierson, Bruce. (2000). America the Blue. Utne Reader On-Line. October 28.
Lichtenberg, Ronna. (2002). It's Not Business, It's Personal: The 9 Relationship Principles That Power Career. New York: Hyperion. (Лихтенберг Р. Это не бизнес, это личное. М.: АСТ: Ермак, 2004.)
Mandela, Nelson. (1995). Long Walk to Freedom. New York: Little, Brown and Company.
Manz, Charles C. (2002). The Power of Failure. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Manzoni, Jean Francois, and Barsoux, Jean-Louis. (1998). The Set-Up-To-Fail Syndrome // Harvard Business Review, March–April 1998.
Manzoni, Jean-Francois, and Barsoux, Jean-Louis. (2002). The Set-Up-to-Fail Syndrome. Boston: Harvard Business School Press. (Манзони Ж.-Ф., Барсу Ж.-Л. Синдром установки на неудачу: как хорошие менеджеры заставляют хороших работников терпеть неудачу. М.: HIPPO, 2005.)
Martin, Mike W. (2000). Meaningful Work. New York: Oxford University Press.
Mbigi, Lovemore, and Maree, Jenny. (1997). Ubuntu: The Spirit of African Transformation Management. Randburg, South Africa: Knowledge Resources.
McCain, John. (1999). Faith of My Fathers. New York: Random House.
Moore, Thomas. (1996). The Re-Enchantment of Everyday Life. New York: HarperCollins.
Morgan, John H. (1987). From Freud to Frankl: Our Modern Search for Personal Meaning. Bristol, IN: Wyndham Hall Press.
Naylor, Thomas H., Willimon, William H., and Naylor, Magdaelena R. (1994). The Search for Meaning. Nashville, TN: Abingdon Press.
Packard, David. (1995). The HP Way. New York: HarperCollins. (Паккард Д. Завоевание пространства. СПб.: Азбука: Книжный клуб «Терра», 1997.)
Pink, Dan. (2001). Free Agent Nation: How America's New Independent Workers Are Transforming the Way We Live. New York: Warner Books. (Пинк Д. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки. М.: Секрет фирмы, 2005.)
Reeve, Christopher. (1999). Still Me. New York: Ballantine Books.
Reeve, Christopher. (2002). Nothing is Impossible: Reflections on a New Life. New York: Random House.
Ryan, Kathleen D., and Oestreich, Daniel K. (1998). Driving Fear Out of the Workplace: Creating the High-Trust, High-Performance Organization. San Francisco: Jossey-Bass.
Senge, Peter M. (1994). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Currency/Doubleday, 1994. (Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. М.: Олимп-Бизнес, 2003.)
Taylor, Charles. (1991). The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Tengan, Andrew. (1999). Search for Meaning as the Basic Human Motivation. Frankfurt/М Peter Lang.
Terez, Tom. (2000). 22 Keys to Creating a Meaningful Workplace. Holbrook, MA: Adams Media Corporation.
Wong, Paul T.P., and Fry, Prem S. (1998). The Human Quest for Meaning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Об авторе
Доктор философии Алекс Паттакос — глава консалтинговой компании The Innovation Group (www.seedsofinnovation.com) и основатель центра психологической помощи Center for Meaning (www.prisonersofourthoughts.com); обе организации находятся в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико). Главную цель своей жизни доктор Паттакос видит в том, чтобы помочь людям найти подлинный смысл жизни, работы и полностью реализовать свой потенциал.
В прошлом автор этой книги работал врачом и администратором в службе охраны психического здоровья, участвовал в организации политических кампаний и разработке программ муниципального/экономического развития, преподавал (в качестве штатного профессора) государственное управление и деловое администрирование. Он тесно сотрудничал с администрациями нескольких президентов по вопросам политики в области здравоохранения и социального обеспечения, был советником главы агентства по контролю продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA). Кроме того, доктор Паттакос участвовал на начальной стадии в программе Школы государственного управления имени Джона Кеннеди (Гарвардский университет) по присуждению премий за инновации в правительства США, выступая как один из экспертов, и был преподавателем Брукингсовского института в Вашингтоне. Он также занимал пост президента Renaissance Business Associates (RBA) — международной некоммерческой организации, объединяющей специалистов в области групповой работы.
Доктор Паттакос понимает те трудности, с которыми сталкиваются люди в наше ненадежное время. Работая с процветающими компаниями, входящими в список Fortune 500, государственными и общественными организациями, выступая с публичными лекциями, преподавая в университете, он повсеместно и на всех уровнях помогал и помогает людям развивать способность к преобразованию себя самих и своих организаций, внедрять новшества, приводящие к значимым положительным сдвигам. Он упорно добивается того, чтобы предприятия и организации всех отраслей и секторов направили свои усилия на разработку систем, процессов, продуктов, услуг, политик, обладающих подлинным смыслом и реально улучшающих жизнь всех заинтересованных лиц в самом широком значении термина.
1 Frankl (1992), pp. 113–114.
2 Frankl (1967), p. 122.
3 Frankl (1997b), p. 53.
4 Слова, сказанные в личной беседе, Вена, 6 августа 1996 г. См. также Frankl (1990).
5 Chopra (1991).
6 Frankl (1978), p. 45.
7 Covey (1989), p. 277.
8 Frankl (1985), см. также Frankl (1988).
9 Frankl (1975), p. 120.
10 Frankl (1992), p. 75.
11 Frankl, (1992), p. 108.
12 Frankl, (1992), p. 49.
13 Frankl (1963). См. также: Frankl (1967), p. 147.
14 Frankl (1967), p. 4.
15 Frankl (1997), p. 35.
16 Frankl (1997), p. 19.
17 Frankl (1997), p. 53.
18 Frankl (1997), p. 98.
19 Frankl (1997), p. 53.
20 См. также Frankl (1992), p. 117.
21 Frankl (1992), p 75.
22 Covey a. o. (1995), p. 103.
23 Frankl (1992), p. 115.
24 Frankl (1992), p. 75.
25 Пользуюсь случаем выразить признательность доктору М.С. Аугсбургеру, сообщившему мне эту историю. См. также: Mandela (1995).
26 Reeve (1999), p. 267.
27 Интервью в программе Larry King Live, 22 февраля 1996 г.
28 Reeve (1999), pp. 3–4.
29 См.: Reeve (2002).
30 Frankl (1990).
31 Frankl (1967), p. 3.
32 Frankl (1992), pp. 87–88.
33 Такие карты можно заказать, например, на сайте www.thestackeddeck.com или www.wallstreetmostwanted.com.
34 Packard (1995), p. 82.
35 Ann Kerr. Workers Spurn Retirement // The Globe and Mail, 18 Feb. 2002.
36 Rodney Crowell. Time to Go Inward. Трек 4 из альбома Fate’s Right Hand. New York: Sony Music Entertainment, 2003. Я благодарен Стюарту Левину, моему другу и коллеге, который познакомил меня с песнями Родни Кроуэлла.
37 Frankl (1978), p. 21.
38 Lasn, Grierson (2000).
39 См.: Pink (2001).
40 Moore (1996), p. 126.
41 Roger and Pattakos (1996), p. 4.
42 Frankl (1992), p. 49.
43 Moore (1996), p. 11.
44 Frankl (1992), p. 114.
45 Frankl (1992), p. 115.
46 См., например, Jackson and Delehanty (1995).
47 Frankl (1990).
48 Frankl (1992), p. 107.
49 Frankl (1986), p. XIX.
50 Frankl (1992), p. 49.
51 Ryan and Oestreich (1998).
52 См., например, Jeffers (1988), Downs (2000).
53 Frankl (1992), p. 135.
54 Gerzon (1992).
55 См.: Frankl (1986), p. 26.
56 Я благодарен Арту Джексону, познакомившему меня с этим упражнением.
57 Frankl (1992), p. 125.
58 Frankl (1967), p. 122.
59 Frankl (1997), p. 53.
60 См.: Lichtenberg (2002).
61 Manzoni and Barsoux (1998), pp. 101–113.
62 Frankl (1986), p. 126.
63 См., например, Manz (2002).
64 Johnson, Robert. Speakers Use Failure to Succeed // The Globe and Mail, 30 Jan. 2001, p. B16A.
65 Frankl (1986), p. 224.
66 Klingberg (2001), p. 67; см. также Frankl (1986), p. 232.
67 Frankl (1992), p. 128.
68 Frankl (1992), p. 127.
69 Frankl (1997b), pp. 67–68.
70 Frankl (1986), p. 224.
71 Frankl (1967), p. 20.
72 The Dalai Lama and Cutler (2003), p. 200.
73 Borowitz (2003).
74 USA Today, 19 Aug. 2003, pp. 1B–2B.
75 Jones (1991).
76 Battino (2002), p. 66; см. также: Frankl (1992), p. 54.
77 Frankl (1997b), p. 98; см. также Frankl (1990), Frankl (1992), pp. 81–82.
78 Frankl (1986), p. 254.
79 Frankl (1986), p. 125.
80 См.: Carlson (1999).
81 См.: Taylor (1991).
82 Frankl (1986), p. 255.
83 Frankl (1992), p. 12.
84 В дословном переводе — «серебряная подкладка»; отсылка к английской поговорке Every cloud has a silver lining — у каждой тучи есть серебряная подкладка, т.е. нет худа без добра. — Прим. пер.
85 Senge (1994), p. 13.
86 Klingberg (2001), p. 289. Цитата взята из выступления перед участниками Молодежного корпуса Торонто 11 февраля 1973 г.
87 Mbigi and Maree (1997).
88 Источник неизвестен. См. Dundon and Pattakos (2003), p. 41.
89 Frankl (1992), pp. 92–93.
90 Frankl (1992), p. 105.
91 Слова, сказанные в личной беседе, Вена, Австрия, 6 августа 1996 г.; см. также: Frankl (1990).
92 Frankl (1985); см. также Frankl (1988).
93 Frankl (1967), p. 27.
94 Frankl (1986), pp. 130–131.