Сокол Спарты бесплатное чтение
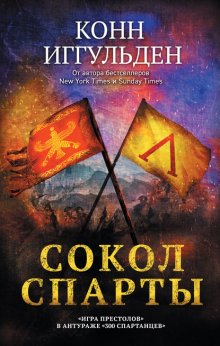
Conn Iggulden
THE FALCON OF SPARTA
Copyright © Conn Iggulden, 2018
Перевод с английского Александра Шабрина
Серия «Железный трон. Военный исторический роман»
© Шабрин А.С., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Моему сыну Кэмерону,
посетившему Спарту
вместе со мной
В 401 году до н. э. персидский царь владел империей от Эгейского моря до северной Индии.
В его власти находилось полсотни миллионов подданных, и войско его было огромно.
И только Спарта с Афинами, действуя сообща на суше и на море, обращали его вспять.
Пролог
В Вавилоне царил зной, под которым скворцы, разевая клювы, являли наружу темные язычки. За толщей городских стен солнце неистово пылало над теми, кто работал в полях. Шествуя посередине дороги, Царь Царей поблескивал то ли от масла, то ли от пота – от чего именно, его сын сказать затруднялся. Отцова борода, тоже блестящая от позолоты, курчавилась тугими колечками – такая же неразлучная его часть, как запах роз или золотое шитье мантии, колышущейся в такт движениям.
Воздух припахивал жарким камнем и хвоей кипарисов, застывших под выцветшей синевой неба черными наконечниками. Соседние улицы были загодя очищены от своих обитателей – ни старика, ни ребенка, ни даже курицы, которая осмеливалась бы корябать землю на глазах у царевых стражников, оцепивших место прогулки своего могучего властителя. Тишина зиждилась такая, что можно было расслышать тонкий щебет птиц.
Улицу Нингал устилали пальмовые ветви, хрусткие под ногой и еще не утратившие своей зелени. Ни дуновения, ни дурные запахи не прерывали неспешных назиданий отца. Ведь речь шла ни больше ни меньше о самом существовании высочайшего дома, так что ни приближенным, ни соглядатаям не надлежало в это время даже пребывать вблизи. Повеление очистить к рассвету улицу по всей ее длине начальник стражи счел царственной причудой. Правда же состояла в том, что некоторые из слов предназначались не для сторонних ушей. О том, что этих самых ушей при дворе в избытке, царь знал досконально. Слишком уж много сатрапий[1] и царств, больших и малых, было попрано его сандалиями. Девять десятков правителей и наместников всех мастей платили своим доносчикам за наушничанье, и тысяча царедворцев толклась локтями за свое положение при троне. Так что даже обыкновенная прогулка наедине с сыном (удовольствие, доступное любому пастуху) была нынче роскошью под стать рубинам, ценностью наравне с «лучниками» – толстыми, золотыми с изображением Дария, что гуляли по просторам его державы.
При ходьбе отрок-царевич то и дело бросал на своего отца взгляды, полные преданности и немого обожания. Он силился походить на царя в том числе и походкой, но, чтобы не отставать, ему требовалось то и дело прибавлять по полшага, и выходили какие-то несуразные подскоки. Дарий, казалось, этого не замечает, но сын-то знал, что от отца не ускользают никакие мелочи. Секрет долгого правления Дария состоял в его мудрости. Если бы мальчика спросили, он бы с жаром воскликнул, что его отец не ошибается никогда и ни в чем.
В дни, когда вершились суды, Дарий восседал над своими самыми могущественными сатрапами; над военачальниками, чьи рати исчислялись десятками тысяч; над правителями стран дальних, как луна, и изобилующих несметными богатствами. Царь отстраненно слушал, временами поглаживая бороду, и на руках его оставались следы от позолоты. Иногда он рассеянно пробовал от виноградной грозди в золотой чаше, которую держал подле него коленопреклоненный раб. За всей этой мнимой неспешностью Дарий прозревал суть и выносил суждение уже тогда, когда его советники еще лишь спорили и взвешивали доводы. Артаксеркс мечтал уподобиться в этом отцу, а потому слушал и постигал, усердно постигал и прилежно слушал.
Город был тих настолько, насколько это способны обеспечить тысячи стражников, приткнувших клинки к шеям возможных нарушителей. Царевы военачальники понимали, что при любом ослушании венценосный гнев падет на них, а потому отец и сын шли так, словно были единственно живыми в этом мире с его пылью и солнцем, которое, клонясь к закату, привносило облегчение от тягостного дневного зноя.
– Вавилон был некогда сердцем могущественного царства, – молвил Дарий голосом мягким, скорее учителя, чем воина.
Сын поднял голову; глаза его были ярки.
– Но Персия все равно могучее. Ведь правда?
Отец улыбнулся сыновней гордости.
– Разумеется. А как же иначе? Персия в десятки раз превосходит потуги древнего Вавилона. Границы моих владений человеку не обойти за всю свою жизнь – и не то что одну, а даже несколько. Однако, сын мой, царство не досталось мне даром. Когда от рук убийц пал мой отец, тиара перешла моему брату. Он принял ее с еще не просохшими от слез глазами, но не прошло и месяца, как жизнь отняли и у него.
– Но ведь ты отомстил тем, кто его умертвил? – желая нравиться отцу своей почтительностью, спросил Артаксеркс.
Царь Царей остановился и обратил лицо к солнцу, словно пытаясь лучше разглядеть свои воспоминания.
– Да, сын мой, – смежив веки, отозвался он. – Когда в тот день взошло солнце, нас было трое. Трое братьев. А к вечеру я остался один. Я был обагрен кровью, но я стал царем.
В глубоком вздохе Дарий скрипнул шитьем мантии поверх тонких нижних шелков. Его сын в безотчетном подражании тоже выпрямился. Артаксеркс не знал, зачем отец призвал его к себе и отчего даже телохранители из отряда Бессмертных нынче что-то не на виду. По разговорам, его отец не доверял никому, однако сегодня он прохаживался один, наедине со своим первенцем и наследником. От такого доверия четырнадцатилетний Артаксеркс светился гордостью и блаженством.
– Сыновей у правителя должно быть несколько, – продолжал отец. – Смерть приходит неуловимо и внезапно, подобно ветру пустыни. Она может сомкнуть на тебе когти при падении скакуна или от пущенной стрелы. Столь же губительны бывают яд и людское коварство, испорченное мясо или насланная злыми духами лихорадка. В таком мире царь с единственным сыном – это вызов богам, не говоря уже о врагах, коих множество.
Дарий, заложив руки за спину, прибавил шагу, и Артаксеркс был вынужден поторопиться, чтобы не отстать. Когда он поравнялся с отцом, тот повел речь дальше:
– Но когда этот первенец, это твое возлюбленное дитя выживает и входит в возраст, становясь мужчиной, то начинается другая игра. Если он располагает братьями, драгоценными для него в годы отрочества и юности, то со временем они становятся единственными на свете, кто способен его всего лишить.
– Кир? – оторопел от внезапной догадки Артаксеркс. Несмотря на осторожность, на благоговение перед отцом, сама мысль о том, что его младший брат может когда-нибудь обернуться для него врагом, заставила глаза царевича дерзко сверкнуть. – Отец, да разве ж он мне недруг!
Дарий развернулся на месте. Полы его мантии взметнулись, будто крылья жука перед полетом.
– Ты сын мой и мой наследник. Если тебя заберут боги, то царем станет Кир. Такова его… цель. – Царь Царей, грузновато опустившись на одно колено, взял обеими руками ладони своего сына. – Мою тиару будешь носить ты, такова моя воля. Но Кир… Кир – прирожденный воин. Всего тринадцати лет от роду, а на коне уже скачет, как заправский всадник. Ты хоть обращал внимание на то, какими глазами на него смотрят? В одном лишь прошлом месяце его с почетом носили на руках при дворце за то, как он из своего детского лука сбил на лету птицу.
Царь смолк, всем видом своим призывая Артаксеркса к пониманию.
– Сын мой, я люблю вас обоих. Но когда я возлягу на смертный одр, а царство мое будет по мне скорбеть, то в тот последний день я призову в дом Кира, и тебе придется его убить. Если же ты оставишь его в живых, то тогда счеты с тобой, несомненно, сведет он. И умертвит тебя.
В глазах Дария слюдинками блестели слезы. Такие чувства в отце Артаксеркс замечал впервые, и это ввергало его в смятение.
– Отец. Мне кажется, ты все же ошибаешься. Но сказанное тобою я запомню.
Царь, шелестя мантией, поднялся на ноги. Лицо его заметно потемнело не то от усилия, не то от гнева или еще какого-то чувства – сложно сказать.
– Тогда запомни и это, – отрывисто и повелительно рек он. – Если ты хоть слово поведаешь Киру из того, что я изо всех своих сил удерживаю в тайне, то ты тем самым перережешь свое собственное горло. Конечно же, не сегодня и не в нынешнем году, пока вы смеетесь и играете вместе. Он будет клясться тебе в своей верности, и сомнения нет, что слова его будут идти от сердца. Но придет пора, когда ты оступишься или когда он увидит, что царством ему никогда не владеть. Что ему дворцовые утехи: ему нужна будет власть, а не положение вельможи. И вот тогда он придет к тебе, чтобы заполучить трон. И если я к тому дню буду еще жив – а ко мне он явится сразу после, с твоею кровью на руках… – то я обниму его, ибо у меня уже не будет другого сына. Понимаешь ли ты это, Артаксеркс?
– Да, отец, – ответил сын, тоже чувствуя в себе покалыванье гнева. – Но если он мил тебе настолько, то почему б тебе не убить меня здесь, на этой дороге, и не дать Киру сразу же занять престол? Коли уж других сыновей у тебя нет и ты боишься потерять преемственность. – Не ожидая ответа, он горько воскликнул: – Неужто сердце твое настолько хладно? И тебе все равно, кто из нас взойдет на царство?
– Будь мне все равно, разве велел бы я очистить полгорода для этой прогулки наедине с тобой? И видишь ли ты здесь Кира? Ты был ребенком, о котором мы молили богов, храбрый мой мальчик. Я не сомневаюсь в твоем уме и мудрости, Артаксеркс. В тебе течет моя кровь, и из тебя получится великий царь.
Дарий, потянувшись, коснулся щеки сына.
– Я видел, сколь сломленным возвратился из Греции мой отец. Царь Ксеркс разбил спартанцев при Фермопилах, но затем его войско потерпело поражение при Платеях. Как за десять лет до этого был разгромлен при Марафоне его отец. Так вот, более этому не бывать! Я принес эту клятву, когда сам стал царем. Своей крови в Греции мы пролили столько, что хватит на тысячу лет. А потому вместо войны мое правление знаменовалось миром, и это принесло нам возделанные нивы и сады, вино и золото, а еще небывалую ученость. То, что сегодня стало повседневным, во всякий другой век сочли бы за колдовство. Ну а при тебе мы продвинемся еще дальше, став величайшей империей из когда-либо известных миру. При тебе. А вот если боги посадят на трон Кира, то я не сомневаюсь, что он затеет новую войну. Слишком уж он похож на моего отца и на отца моего отца.
– Да будет тебе известно, я умею и драться, – уязвленно заметил Артаксеркс. – Я знаю, ты так обо мне не думаешь, но я могу.
Дарий рассмеялся и похлопал сына по плечу. Он любил его и не хотел обижать своим несогласием.
– Как не знать. Хотя драться умеет любой охранник менялы. А ты царевич, Артаксеркс! И сам взойдешь на трон. А потому тебе нужно нечто большее, чем скорая улыбка и спорый меч. Начиная с сегодняшнего дня тебе требуется сила иного рода. Для этого ты уже созрел.
Царь Царей оглядел пустую улицу. В окнах не виднелось ни единого лица.
– Запомни. В тот день, когда ты взойдешь на трон, ты должен будешь от всего этого отрешиться. Ну а пока учись у своих наставников, объезжай скакунов, услаждай себя женщинами, мальчиками и красным вином. Об этом же дне не говори никому. Ты понял меня?
– Понял, отец мой, – изрек Артаксеркс.
Лицо его было таким серьезным, что Дарий невольно улыбнулся.
Он протянул руку и с отеческой простотой взъерошил своему сыну волосы.
– Благословен. Тысячу раз благословен.
Часть 1
1
Гора обнимала город подобно тому, как мать на сгибе руки нянчит младенца. Прежде чем начать взбираться на ступени обширного плато, Кир настоял на том, чтобы отвести своих телохранителей к реке. Сложив кучками свои доспехи, оружие и одежду на берегу, спартанцы гурьбой ринулись в воду, с бойким плеском и выкриками смывая с себя пыль и пот сотен парасангов[2].
С высоты боевого коня царевич улыбчиво смотрел, как его люди плещутся, полоща отросшие волосы и бороды. При переходе на восток эти люди исхудали и сейчас напоминали гончих псов с тугими канатами мышц на потемневшей коже. Тем не менее они не сдались и не проявили слабины, хотя кое за кем из них по дороге тянулся след из пятен крови.
– Повелитель, ты не передумал? – вполголоса спросил Тиссаферн.
Кир поглядел на своего старого друга и наставника. Под Тиссаферном, фыркая, нетерпеливо переступал гнедой жеребец, не менее родовитый, чем иные из персидских царедворцев. В эту минуту один из них кисло наблюдал за спартанцами.
– Мне что, одному туда карабкаться? – с вызовом спросил Кир. – Возвращаться домой как нищий? Ну уж нет! Я, между прочим, сын моего отца и царская особа! А это мои охранники. Лучшие.
Тиссаферн пожевал губами с таким видом, будто у него болел зуб.
Царевичу Киру было уже за двадцать – несмышленышем никак не назовешь. До этого наставник уже ясно выразил свое сомнение, и тем не менее они сейчас стояли на берегу реки Полвар, а рядом в фонтанах брызг, словно кони в воде, купались уроженцы Спарты. Царевич привел старого врага под самые глаза Персии. Эта мысль заставила Тессаферна нахмуриться. Он был знаком с греческими картами ойкумены, на которых великая держава с востока была едва обозначена. И у него не было желания помогать этим чужеземцам приблизиться к Персеполю, а уж тем более к священным царским гробницам по ходу вдоль реки, всего в половине дневного перехода.
– Повелитель, кто-то может счесть это за оскорбление: привести сюда тех самых людей, что стояли против наших предков, препятствовали им на суше и на море. Спартанцы! О дэвы[3], подумать только! Да еще здесь, близ сердца мира! Будь твой отец помоложе и в добром здравии, он бы…
– Мой отец бы меня поздравил, Тиссаферн, – утомленным голосом бросил Кир. – Эти люди всю дорогу бежали рядом с моим конем. Не останавливаясь и не прося об отдыхе. Они мне преданы.
– Преданы они золоту и серебру, – ворчливо заметил наставник.
У царевича на скулах заходили желваки.
– Из имущества им ничего не принадлежит. Оружие, и то переходит им от отцов с дядьями или вручается за доблесть. Так что довольно об этом. Уймись, старый лев.
Тиссаферн в знак смирения склонил голову.
Приободренные омовением, греки выбирались на берег и, пользуясь минуткой, обсыхали под вечерним солнцем. При виде такого множества нагих мужчин зазывно кричали и улюлюкали на том берегу местные прачки. Кое-кто из воинов улыбался и махал им в ответ, но остальные предпочитали просто незатейливый отдых. Смех и легкая болтовня были у этих людей не в чести.
Серчая на своего спутника, Кир неожиданно спешился, с аккуратной неторопливостью снял шлем и панцирь, стянул короткую тунику, развязал сандалии. Совершенно равнодушный к своей наготе, он вошел в воду, попутно кивнув наблюдающему с берега Анаксису, старшему в отряде спартанцев.
Игривость прачек осекалась при виде молодого человека с бородой, завитой на персидский манер; сейчас он снял свой шлем с золотистыми перьями и опустил его на плащ. Имя воина было им неизвестно, но окликать его они не осмеливались. Кир купался неторопливо и обстоятельно – не мылся, а именно омывался; словно совершал некий ритуал, а не просто счищал пот, свой и конский. Спартанцы на берегу почтительно молчали.
В конце концов, царевич вернулся домой, чтобы оплакать отца. Послание достигло Кира две недели назад, и, чтобы поспеть, он гнал своих сопровождающих почти без остановки, не щадя ни себя, ни своих спутников. Лошадей он менял в корчмах при великой Царской Дороге или двигался через сельские угодья по возделанным полям пшеницы и ячменя. Спартанский отряд день за днем бежал рядом с лошадьми – невозмутимо, без всяких признаков усталости. Эти люди были поистине великолепны, и Кир гордился ими так же, как их красными плащами и отношением к ним встречных, когда те узнавали, кто они такие.
Надо сказать, что отношение это было многократно заслуженным.
Здесь, в благостной вечерней прохладе, сердце Кира чутко замерло. Отсюда Персеполь казался погруженным в задумчивую печаль, но не сказать, чтобы скорбную. По улицам не тянулись воинские цепи, отсутствовали траурные полотнища, и не всходили к небу сизые ниточки сандаловых воскурений. Так что до прохода через городские ворота нельзя было точно сказать, жив старый правитель или нет. С этой мыслью Кир оглядел гору, перестроенную отцом, а до него дедом, в величавую равнину, кажущуюся с такого расстояния серовато-зеленой лентой. В высоте, среди выцветшей от зноя небесной лазури, лениво кружили дикие соколы, высматривая в кронах плодовых деревьев жирных голубей. На просторе террасы, именуемой Царской, возвышались дворцы, казармы стражи, а также храмы и здание библиотеки. Покои Дария располагались посреди пышного сада, названного «раем», – там зиждилось сокровенное зеленое сердце империи.
По обоим берегам реки росли кустистые заросли, сплетение корней которых напоминало причудливые скульптуры. На извилистых лозах распустились белые цветы жасмина, наполняя воздух робким, нежным ароматом. Кир, закрыв глаза, стоял по пояс в воде и не мог надышаться.
Он был дома.
Спартанцы быстро промокнули себя накинутыми плащами и расчесали пятерней волосы, прохладные, несмотря на солнце. Освеженный царевич с прежней осмотрительностью оделся. Поверх туники он надел панцирь, а еще пристегнул бронзовые спартанские поножи, безупречно подогнанные под округлости икр и коленей. Этот блесткий металл годился больше для гоплитов[4], чем для всадников, но Киру хотелось таким образом почтить своих людей. Тиссаферну такое низкопоклонство перед чужеземцами было поперек души, и он не мог до этого опуститься.
Если бы юный Кир не возвращался домой к смертному одру отца, его бы, возможно, позабавило то, с каким видом горожане глазели на чужеземцев. Рыночный люд всех мастей, стягиваясь с разных сторон, таращился на них во все глаза, в то время как стражники, нанятые этот люд охранять, взирали на пришлых с плохо скрытой враждебностью. Об этих эллинах в красных плащах было известно даже здесь, в персидской столице, хотя между Персеполем и долиной Эврота[5] пролегали целые страны и морской простор – три месяца пути и, казалось, целая вселенная. Наряду с легендарными плащами спартанцы щеголяли своими не менее известными бронзовыми поножами, закрывающими ноги от лодыжек до колен. Даже сопровождая домой персидского царевича, эти люди шли, готовые к войне.
Перед заходом в реку свои щиты и доспехи они сложили аккуратными неохраняемыми кучками, как будто и представить не могли, что на них кто-то дерзнет посягнуть. Каждый щит на внутренней стороне был помечен именем владельца, а на наружной виднелась всего одна буква – «лямбда» – первая в слове «Лакедемон»[6]. Оружие и доспехи каждого воина были надраены и ухожены не хуже возлюбленной.
Усаживаясь на коня, Кир невольно подумал, знают ли эти зеваки Спарту так, как знает ее он. Для матерей, указывающих своим чадам на иноземных воинов, это были те самые, кто время от времени побивал персидских Бессмертных, созидая себе на этом славу. Эти воины разбили под Марафоном войско Дария Великого. Именно спартанцы вели греческих гоплитов на воинство царя Ксеркса при Фермопилах, Платеях и Микале.
Персия покорила три десятка народов, но обращалась вспять перед Грецией и ее воинами в красных плащах. Те темные дни остались далеко позади, но у воспоминаний долгий век. Кир перевел взгляд на дальние холмы, а его отряд в это время выстроился в шесть ровных рядов, ожидая команды.
В конце концов спартанцы сломили и Афины, взяв под себя всю Грецию.
Что до персидского царевича, то ему они служили потому, что он им платил – а еще потому, что он знал их честь. Серебро и золото, которые он давал им в уплату, все как есть уходили в Спарту на возведение храмов, казарм и ковку оружия. Себе эти люди не оставляли ничего и этим вызывали у Кира восхищение. Он ставил их выше всех прочих – кроме, разумеется, отца и брата.
– Ну что, старый лев, пора, – обратился он к Тиссаферну. – Я и без того подзадержался в пути. Тяготиться и стенать бессмысленно, хотя мне до сих пор не верится, что все это произошло на самом деле. Ведь мой отец не по зубам даже смерти, разве нет?
Он вымученно улыбнулся, хотя боль на его лице была отчетлива. В ответ Тиссаферн, ободряя, сжал юноше плечо.
– Я был слугой твоего отца тридцать лет назад, когда ты еще не родился. Тогда в руках у него был весь мир. Но даже у царей земной путь недолог. Смерть приходит ко всем нам, как бы ни витийствовали на этот счет твои друзья-философы, уж я уверен в этом.
– Жаль, что ты не выучил греческий настолько, чтобы их понимать.
Тиссаферн презрительно скривился.
– К чему он мне, этот язык пастухов? Пускай варвары изъясняются на своем языке, а я перс.
Все это он говорил в пределах слышимости спартанцев, хотя те не подавали виду. Кир взглянул на их командира, которого звали Анаксис. Свободно владея обоими языками, он ничего не упускал, однако давно перестал обращать внимание на словеса этого персидского ветрогона. В тот момент, когда их глаза с царевичем встретились, Анаксис чуть заметно подмигнул. Заметив, что Кир посветлел лицом, Тиссаферн бдительно повернулся на хребтине своей лошади, пытаясь понять, что вызвало эту перемену настроения и кто посмел насмехаться над его достоинством. Но его взгляду предстал единственно строй готовых к выходу спартанцев, и бывшему цареву слуге осталось лишь что-то пробурчать насчет «неотесанных селян» и «клятых иноземцев».
При долгих переходах спартанцы носили свои щиты на спине. Но сейчас отряду ничего не угрожало, и Кир распорядился идти парадным строем. При проходе через один из трех главных городов Персидского царства им полагалось нести деревянные, отороченные бронзой диски щитов на левой руке, а в правой длинные копья. У бедра каждого воина находился короткий меч, а ближе к пояснице висел грозный копис. Эти тяжелые изогнутые клинки наводили на врага страх и назывались «нечестным» оружием (сетования, вызывавшие у спартанцев смех).
Бронзовые шлемы скрывали их бороды и волосы длиною до плеч. Заодно они скрывали усталость и любую слабость, придавая людям вид бесстрастных статуй. То, что лицо находилось в затенении, как раз и действовало на восприятие, заставляя держать перед этим воинством страх. Репутация подразумевала и нечто большее: оружие и щиты отцов и дедов – верный знак прочности и преемственности боевых традиций.
Когда река осталась позади, Кир и Тиссаферн повели коней неторопливым шагом. Толпа впереди раздавалась, освобождая место под проход. Между горожанами и шагающим отрядом воцарилась нелегкая тишина.
– Я все же думаю, повелитель, что тебе следовало оставить своих наймитов за воротами, – пробурчал Тиссаферн. – Что скажет твой брат, когда увидит, что ты своим соплеменникам предпочел греков?
– Я сын царя и командую воинством моего отца. Если мой брат что-то и скажет, так лишь то, что мое достоинство делает нашему дому честь. Лучше спартанцев в мире нет никого. Кто еще мог поспевать за нами все эти недели? Ты видишь здесь Бессмертных? Или моих слуг? Один из рабов, пытаясь держаться со мной, умер в дороге. Остальные отстали. Нет, эти люди заслужили свое место подле меня.
Тиссаферн склонил голову как бы в знак согласия, хотя внутри его разбирала злоба. Царский отпрыск воспринимал этих спартанцев как людей, а не как бешеных псов. Даже не поворачивая головы, персидский военачальник знал, что кое-кто из них за ним втихомолку наблюдает. Идя строем, они не доверяют никому, кто находится рядом с их хозяином, и готовы в любой момент оскаленно наброситься, подобно собачьей своре. Ну да ладно, осталось уже недолго. Двое всадников тронулись впереди спартанцев вверх по склону к громадным ступеням, что вели наверх, к террасе царя Персии.
Широченные ступени были прорублены неглубоко, чтобы царь, возвращаясь с охоты, мог въезжать по ним верхом. Кир и Тиссаферн повели коней вперед, а спартанцы, позвякивая оружием и доспехами, последовали сзади. На приближении к узким воротам внешней стены Кир буквально ощутил на себе взгляды отцовых Бессмертных. На сооружение царской террасы отец не поскупился: сокровища из казны текли рекой и на прорубание горного склона, и на всю ту роскошь, что находилась внутри. Помимо сада империи это была еще и крепость с постоянной охраной в две тысячи человек.
Последняя ступень заканчивалась возле самых ворот, так что врагу на сбор перед приступом не оставалось места. Свет наверху переменился: солнце над головой заслонили стражники, глядя сверху на всадников, а еще пристальней разглядывая отряд спартанцев, грозно и обильно посверкивающий на ступенях оружием. Кир со спокойным лицом поглядел вверх на стены, озаренные золотистым светом предзакатного солнца.
– Я Кир, сын царя Дария, брат царевича Артаксеркса, начальник персидского войска! Именем моего отца откройте ворота, чтобы я мог видеть его!
Под стеной Кир задержался несколько дольше, чем ожидал. Он уже начинал рдеть гневливым румянцем, когда под гром решеток и цепей ворота разомкнулись, открывая взгляду длинный двор. Кир сглотнул, стараясь не выказывать страх – этому он научился не хуже спартанцев.
Кони Кира и Тиссаферна, глухо стуча копытами, въехали на залитый солнцем двор.
День плавно переходил в вечер, и свет стал заметно мягче. Вот наконец-то и дом – можно вроде как расслабиться и оглядеться, приготовиться к встрече с отцом. Как его встретит старик, Кир толком не знал; не знал, как и он сам отреагирует на великого царя. Над всем довлело чувство неопределенности, нахлынувшее с новой силой перед лицом утраты. Если срок настал, то удержать отца не удастся никакой силой оружия. Холодная дрожь пронизывала Кира именно от этой беспомощности, а не от открытого стрелам и дротикам пространства двора.
Защиту крепости обеспечивала не только стража на наружных стенах, но и своеобразные горловины-ловушки, предназначенные для пленения нападающих. Если врагу каким-то образом удалось бы одолеть ступени лестницы и взломать ворота, он попал бы в один из двух обособленных друг от друга дворов крепости. И вражеские силы не смогли бы соединиться до тех пор, пока не проберутся через два длинных и узких открытых небу каменных коридора.
Кир и Тиссаферн не колеблясь проскакали в конец одной из этих горловин. За ними, не нарушая строя, проследовали шесть колонн спартанцев по полсотни человек в каждой. Уткнув древки копий в пыльную землю, они остановились перед вторыми, еще более массивными воротами.
Наружные ворота за их спинами, грохнув, заперлись на балку засова. Многие в отряде нахмурились, увидев, что их держат в месте, чересчур тесном для маневра. Вдоль всего двора на высоте в два человеческих роста тянулись каменные карнизы. Назначение их было неясно, и предводитель спартанцев Анаксис крепче сжал копье. Воины чувствовали на себе недобрые взгляды дворцовых стражников, более привычных не к бою, а к надраиванию своих панцирей.
Впереди строя Кир с Тиссаферном переглянулись и спешились. Анаксис наблюдал. Вытягивать шею и высматривать, кто там вышел навстречу, было бесполезно: обзор загораживали конские крупы. Не было слышно и разговора. Это Анаксису не нравилось. Его долгом было защищать царевича, ну и этого немолодого вояку. Хотя приказа или предупреждения об угрозе тоже не было. Понятное дело, отряд находился в цитадели давнего врага, но Анаксис обеспечивал охрану лично Киру – человеку, к которому он проникся уважением за его честность и прямодушие. Его можно было даже назвать «хорошим», если такое слово применимо к персам. Этот юноша не выказывал ни страха, ни чего-либо еще, помимо объяснимого волнения за отца… Что же это за каменные полки вроде ступенчатых сидений Афинского амфитеатра? Лучники-персы вполне сносные, и в этом замкнутом месте им лучше не попадаться.
Ни одна из этих мыслей не отразилась на лице Анаксиса, скрытом тенью шлема. Пока Кир и Тиссаферн тихо переговаривались с кем-то впереди, Анаксис стоял, словно бронзовая статуя. Наконец одна из лошадей сдвинулась, и он смог увидеть царевича.
К спартанцам, стоящим у него за спиной, Кир повернулся с сосредоточенно-хмурым лицом.
– Мой брат распорядился, чтобы в царские сады я вошел без охраны, – сообщил он и, казалось, хотел продолжить, но вместо этого лишь качнул головой. Вряд ли это был какой-то знак, но сердце у Анаксиса тревожно замерло.
– Твой брат не против, если с тобой пойду я? – спросил Анаксис.
Кир в ответ улыбнулся.
– Друг мой, если там затеяна измена, преимущество в одного человека уже неважно.
– Там, где я, важно всё, – серьезным голосом сказал Анаксис.
– Это правда, но я должен довериться чести моего брата. Он наследник трона, и я не давал ему повода во мне усомниться.
– Мы будем ждать тебя здесь, пока ты не вернешься, – произнес Анаксис и опустился на одно колено. Эти слова он произнес как клятву, и Кир почтительно склонил голову, после чего помог верному спартанцу встать на ноги.
– Благодарю. Твоя служба для меня честь.
Обернувшись, Кир увидел, как на него с осуждающей усмешкой смотрит Тиссаферн. Военачальник указывал в сторону ворот, ведущих в глубь царской террасы. За этим длинным двором начинались первые сады, растущие на щедрой почве, принесенной с равнин; за садами ухаживала тысяча рабов. Там возвышались деревья, давая пестрым от света аллеям благодатную тень. В ветвях, гоняясь за птицами, сигали крохотные обезьянки, а воздух был густ от сочного запаха зелени и жасмина, приправленного терпковатым ароматом древесных смол.
Навстречу Киру вышагнул мальчик-слуга, чтобы препроводить гостя, – непонятно, посланный из почета или в насмешку. Кир его проигнорировал.
Артаксеркс сейчас наверняка сидел у ложа отца. Высылать провожатым царской особе какого-то недоростка – попахивает, можно сказать, унижением. Ну да ладно.
Тиссаферн на ходу словно сбрасывал с себя заботы и тяготы их долгого пути. Он шел, глубоко вдыхая знакомые ароматы, и, кажется, стал как будто чуть выше ростом, расправив плечи и приняв вельможную осанку. Кира он знал всю его жизнь, на протяжении которой был ему наставником и просто другом. Хотя их воззрения во многом различались. Кир относился к людям с любовью, иного слова и не подыскать. Друзья были его страстью, и он собирал их так, как иные склонны собирать монеты. В сравнении с царевичем Тиссаферн едва скрывал свою неприязнь к толпам и потным солдатам.
Без малого час они петляли по извилистым дорожкам, в хитросплетении которых посторонний уже бы десяток раз заблудился. Но Кир знал их все с детства и поэтому за слугой шагал машинально, с рассеянным равнодушием. Покои отца находились на дальней стороне террасы в окружении пальм и под доглядом рабов. Сейчас казалось, что вся эта гора словно ждет его последнего вздоха. Внезапно Киру перехватило горло: до него донеслись завывания отцовых женщин.
Анаксис поднял взгляд на первый же шорох сандалий, задевших о камень. Спартанцы молча стояли около часа, ожидая от своего предводителя знака. При виде персидского отряда, обставшего с обеих сторон ступенчатый карниз, Анаксис втихомолку ругнулся. На воинах были богато украшенные черные доспехи, а в руках уснащенные каменьями луки, как у стражников в театре или, может, у дверей диктериона[7]. Все равно что дети, порывшиеся в царской казне.
Их начальник выделялся плюмажем из черных и белых перьев, топорщащихся на ветерке, – зрелище, своей величавостью превосходящее то, что можно видеть в Спарте. Умащенная кожа старшего воина жирно лоснилась, а на руках взблескивали перстни. Лука у него не было, а был лишь короткий меч в золотых ножнах (само оружие стоимостью в небольшой город). Анаксис задумчиво нахмурился. От всего этого чванливого богатства веяло беззастенчивым грабежом обездоленных. Зрелище, достойное запоминания.
– Готовь щиты, – отчетливо скомандовал Анаксис.
В отряде многие переместили щиты за спину или прислонили их к ногам. Сейчас они снова их взяли с такой же сумрачной готовностью. На фоне лучников, стоящих в превосходном положении, тесниться внизу было неуютно. Анаксис наново оглядел каменные стены, оценивая их гладкость. Персы стояли поверх спартанцев в три ряда, слева и справа; по числу их было примерно столько же, сколько у спартанского лохоса[8], угрюмо взирающего на них снизу.
Воин с плюмажем спустился по узким ступеням на углу и сейчас стоял, наполовину выставив шипованную сандалию через каменную закраину. Все застыло без движения; недвижен был сам воздух, боязливо прервавший свое благостное дуновение. С уходом царевича и Тиссаферна тени слегка вытянулись, но вечерний свет особо не изменился. Несмотря на тепло, Анаксис чувствовал в напрягшемся нутре знобкое покалывание. Персы вверху улыбались, поигрывая со своим оружием. Отсюда было видно, что они пробуют тетиву. Доспехи на них были, судя по всему, церемониальные, но оснастка предназначена для расправы.
Анаксис почесал бороду.
– Как трудно будет взобраться на тот выступ? – спросил он своего друга Кинниса. В более спокойные времена Киннис был мужчиной дородным, по праву гордящимся своей силой. Но за четырнадцать дней тряского бега по пескам он изрядно постройнел и помрачнел.
– Если двое возьмутся за щит вот так, – он прихватил ладонью кромку щита, – то третьего поднимут легко. Думаешь, они собираются напасть?
– Да, – ответил Анаксис.
Он возвысил голос, зная, что воинство персов едва ли понимает по-гречески. – Похоже, нас кто-то решил уничтожить. А потому щиты готовьтесь поднять над головой. Разбейтесь по трое: двое поднимают наверх третьего. До нападения не двигаться, но если нападут, то нужно будет дружно на них наброситься. Мне это место нравится. Так что будем его удерживать до прихода царевича.
– Или пробьемся к реке, – пробормотал Киннис.
Анаксис предсказуемо качнул головой: дескать, этому не бывать.
Он дал слово и не потерпит позора перед царевичем, который, вернувшись, обнаружит, что отряд покинул свой пост. Видя, как сгибаются луки первого ряда, Киннис в нарастающем гневе пригнул плечи. Над их головами персидский начальник набрал грудью воздух, готовясь выкрикнуть приказ. Киннис плашмя вытянул свой щит, другую сторону которого тут же ухватил один из воинов. На мгновение их глаза, полные ярости за чужое вероломство, встретились.
Пернатый офицер взвизгнул, и персидские луки согнулись дугами, после чего с шумом, напоминающим звон птичьих крыл, в спартанцев понеслись первые стрелы. В это же мгновение Анаксис ступил на щит вместе с дюжиной других воинов по протяженности всего двора. Дружный толчок снизу взбросил спартанцев прямо в строй изумленных лучников. Анаксис с копьем и безжалостным кописом врезался в гущу персов, смеясь их оторопелости.
2
На широком проходе между лимонными деревьями Кир неожиданно остановился. Тиссаферн, пройдя еще несколько шагов, был вынужден к нему вернуться.
– Что случилось? – спросил он.
– Мне подумалось… Я так давно в разлуке с домом. И вот сейчас заслышал не то крики птиц, не то плач рабов. Это скорбит царство, старый лев. Сердце внутри меня исходит слезами, и я… Мне послышался его голос. Мой отец создал вокруг себя целый мир. Взять одно лишь это место! Это же чудо – стоять на такой высоте над равниной, чувствовать дуновение ветра, пребывать в тени этих деревьев и при этом вспоминать, что все это нагорье было высечено из единого склона горы. Царям доступно большее, чем простым смертным, если у них есть видение.
– Твой отец всегда был человеком воли, – напомнил Тиссаферн. – И пускай он не всегда бывал прав, но он принимал решения и двигался дальше. Большинству людей такие деяния утомительны, а вот твой отец с каждым истекшим годом становился все сильней, все уверенней.
– И с меньшим числом сомнений.
– Сомнения – они для детей и глубоких старцев. В такие времена перед нами открывается слишком много путей, и свести их множество в одно деяние бывает непросто. Но, будучи в расцвете сил, мы отсекаем те из них, что менее значимы, и тянемся либо за мечом, либо за плугом, либо за женщиной.
Кир поглядел на человека, которого знал всю свою жизнь, и увидел, как тот погружается в воспоминания.
– Ты, конечно, был там, когда он стал царем? – сухо молвил Кир.
Тиссаферн возвел глаза к вечернему небу.
– Ты смеешься надо мной. Да, я говорил тебе это десятки раз, но… Уже тогда я прозревал в нем будущее величие. Тогда царем был его брат… И твой отец принял это и дал клятву верности. Он припал челом к полу, и все знали, что он пойдет за ним.
– Этот рассказ мне знаком, – сказал Кир, внезапно ощутив гнет усталости. Однако Тиссаферн продолжал, словно не слыша этих слов:
– Но другой брат оказался не столь велик духом. Нет, Секудиан не смог поставить честь выше своего желания властвовать. Спустя всего неделю после восшествия Ксеркса он прокрался в царскую опочивальню с медным ножом, а уже с восходом солнца предстал перед судом, еще обагренный священной кровью, весь ею измазанный и с кровавыми следами на полу, словно упивался тем своим злодеянием. Там он во всеуслышание объявил себя царем; при этом никто не сказал ни слова. И вот тогда из толпы выступил твой отец.
– Знаю, старый лев. Он сохранил верность своему первому брату, но отомстил второму. Суд тогда признал его храбрость и право. Трон он себе отвоевал.
– Братьев он любил обоих, но был человеком железной преданности, – с кивком сказал Тиссаферн.
– Как и я.
– Как и ты, – поспешно согласился Тиссаферн. – Мне кажется, у тебя отцово сердце. Только он никогда не был так терпим к грекам.
Теперь глаза поднял уже Кир.
– Их преданность я завоевал.
– Ты ее купил, – фыркнул Тиссаферн.
– Нет. Ты их не знаешь. Купить верность спартанцев не хватит никакого золота на свете, если только они сами не решат ее отдать.
Тиссаферн поцокал языком.
– Кир, мальчик мой. Покупать что-то на свете никакого золота не хватит.
Юноша хотел возразить, но тут среди деревьев показалось крыло дворца. При входе с обочины на гостей смотрели стражники. Кир с Тиссаферном смолкли, мысленно готовясь к встрече с умирающим царем.
При виде вышедшего навстречу Артаксеркса душа у Кира несколько отмякла. С годами сходства между братьями становилось все меньше, и тем не менее они были одной крови. Артаксеркс всегда тяготел к учености. Оба брата получали обучение под строгим оком отца; при этом у старшего с ратным делом как-то не ладилось, а младший, наоборот, уже сызмальства заправски махал клинком, с алчно-радостным гиканьем увертываясь от ударов деревянных мечей наставников. Поначалу Кир не понимал сумрачных взглядов и раздражения брата в свой адрес. И даже когда причина негодования Артаксеркса стала до него доходить, она его не обеспокоила. Кир знал, что хранит в сердце верность и что на царском троне ему не сидеть. А все накопленные им навыки лишь возвышали славу отцова престола. Даже когда отец поставил Кира над войском и отправил учиться к своим главным военачальникам, юный царевич лишь обрадовался, что это сделает его более полезным и ценным для отца.
Как видно, успешность брата и собственное честолюбие подстегнули Артаксеркса. Он поднаторел в ратных упражнениях, что чувствовалось по широте его плеч и крепости хватки, когда он обнял и трижды расцеловал брата. В глазах обоих блестели слезы.
– Как он? – сухим шепотом выговорил Кир, превозмогая охвативший страх.
Продолжить он не смог. Спрашивать, жив ли отец, подразумевало, что, может, уже и нет. С таким же успехом можно было спросить, целы ли горы и не высохли ли реки.
– Пока жив, хотя конец уже близок. Он так тебя ждет, брат. Я уж и не чаял, что ты поспеешь.
– Тогда посторонись, – глядя брату через плечо, сказал Кир. – Пропусти меня к нему.
– В эдаком-то виде? Твоя одежда пропахла потом. Ты хочешь его оскорбить?
– Ну так вели подать новую, если эта тебя беспокоит! А сам я чист, недавно омылся в реке. Позволь уж, брат. Не заставляй меня просить тебя снова.
В голосе юного царевича слышались железные нотки.
После некоторого колебания Артаксеркс посторонился, указывая на открытый дверной проем. Кир прошел мимо, даже не оглянувшись на Тиссаферна.
Покои потрясали своей огромностью, простираясь от входа на сотни шагов во все стороны. Внутри находились бассейны и сады, пиршественные залы и множество прислуживающих царю рабов. Едва Кир переступил порог, как молчаливые юноши в туниках протянули руки, чтобы взять его плащ. Но Кира было уже не остановить. Он словно вновь превратился в ребенка, бегущего к отцу.
Артаксеркс остался позади, у дверей громадной залы; здесь он властным движением длани остановил Тиссаферна. Тот пал на колени, а затем и вовсе простерся ниц. Веля ему встать, наследник престола накренил голову и полушепотом спросил:
– Он говорил что-нибудь против трона или против меня?
Тиссаферн, вставая, мотнул головой:
– Что ты, повелитель, как можно. Ни единого слова. Клянусь честью моей семьи.
Артаксеркс постоял в задумчивости.
– Ты был другом моего отца. И был верен ему с молодости. Будешь ли ты так же блюсти верность мне?
Тиссаферн предпочел снова пасть ниц, притиснувшись лбом и губами к земле. Так и лежал, не шевелясь. Артаксеркс легким прикосновением к щеке дал ему разрешение на подъем. К коже царедворца прилипли мелкие камешки.
– Повелитель, моя верность твоей семье не знает границ, – истово сказал Тиссаферн. – К престолу персидскому, к роду Дария Великого, от Ксеркса до твоего отца. А теперь она принадлежит тебе. Я предан тебе до смерти – да что там смерти! За тобой я последую и в загробный мир, только прикажи.
Артаксеркс удовлетворенно кивнул. Лесть никогда не бывала ему в тягость. Способность людей поступаться честью ради того, чтобы быть у него в услужении, как раз и была предметом его ожиданий и чаяний.
– А мой брат? Ты ведь знаешь и его на протяжении всей его жизни.
Тиссаферн впервые замешкался.
– Кир достоин восхищения, повелитель. Я люблю его как сына, как всех своих сыновей. Но не ему быть наследником империи, которая всех нас возвеличит. В этом суть, а не в наших с ним жизнях.
Тронутый услышанным, Артаксеркс как будто расслабился.
– Ну так входи, мой старый друг. Омойся и переоблачись в чистые шелка, как подобает. Мой отец теперь по большей части спит, но он спросит, пришел ли ты к нему на прощание. Я уж опасался, что ты опоздаешь. И хвала богам, что вышло иначе.
– Твой брат, – помедлив, выговорил Тиссаферн, – привел с собой охрану из трехсот человек. Спартанцы, превосходные воины.
Артаксеркс нахмурился, оглядываясь на дорожку, по которой пришли к нему гости.
– Я знаю, он ими восторгается.
– Я слышал, повелитель, что слухи о них изрядно преувеличены. Я не… не особо верю, что это так. Хотя люди они опытные. Твой брат настоял на том, чтобы привести их сюда наперекор неприятностям, которые это может создать. – Он помолчал, подбирая слова и произнося их нарочито горячим, выразительным тоном. – На твоем месте, повелитель, я бы не позволил им свободно разгуливать по нашим землям.
Артаксеркс с натянутой улыбкой хлопнул его по плечу.
– Этого не будет. Я все предусмотрел.
Анаксис ринулся по нижней ступеньке, сражая врагов на ходу. Двигался по-спартански: полуприсядью, отчего туловище и ноги находились в выверенном равновесии. Глаза лохага[9] горели дикарской веселостью демона, карающего предательство персов, все еще спешно посылающих свои стрелы. Уже в первые секунды Анаксис смахнул с уступа полдюжины людей, зная, что внизу с ними управятся быстрее, чем он здесь. При падении один из них в подмышке умыкнул его копье. Вот спартанец подлетел к следующему оторопелому от испуга персу и с волчьим оскалом показал ему на уровне глаз лезвие своего кописа, которым между тем рубанул другого, стоявшего ступенькой выше. Размаха хватило на то, чтобы следующим ударом вниз отразить замах чьей-то руки. Затем в рывке Анаксис рассек лодыжку лучнику, готовящемуся пустить стрелу в спартанца, который как раз сейчас с дикими глазами вспрыгивал на карниз. Страха не было, была лишь ревнивая досада, что это, вероятно, его последняя схватка, а значит, нужны холодность, расчет и спокойствие. Персы ждали резни – и они ее получили, хотя наверняка не так, как они рассчитывали.
Во дворе эллины, прижатые и неспособные маневрировать, держали щиты над головой. Кто мог, метал свои копья или использовал их, чтобы проколоть или зацепить голени лучников. На земле коконами лежали тела в темной одежде; спартанцев среди них было мало. Они стояли плотными группами, сомкнув щиты и выглядывая в щели между ними, но не съеживались и не отступали. В те мгновения, которые удавалось улучить, Анаксис видел, что Киннис держит лохос в надлежащем порядке, указывая, куда целиться.
Ловя себя на улыбке, Анаксис обманным движением переиграл здоровенного оскаленного бородача. Тот дернулся на сторону, чтобы избежать удара, которого не последовало, а Анаксис в этот миг схватил его за рукав и дернул вбок с карниза, отчего бородач рухнул на спартанцев. Снизу послышались недовольные выкрики – мол, «смотри, что делаешь». В ответ лохаг лишь хохотнул, с неистовым проворством хлеща, рубя и высекая струи крови и чешую из персидских панцирей.
В горловину двора персов пало уже столько, что кое-кто внизу начал подбирать их луки и колчаны. Большинство из спартанцев мальчишками стреляли куропаток и зайцев, так что теперь вряд ли могли промахнуться мимо персов, стоящих без щитов на высоте всего-то в два человеческих роста. И вот теперь семь или восемь гоплитов начали возвращать длинные стрелы, под которыми персы ощутимо дрогнули и вместо продолжения бойни стали сбиваться в кучу и отшагивать где двойками-тройками, а где целыми группами.
На карнизе Анаксис сплотил силы с тремя своими товарищами. Те, кто внизу, укрывались за поднятыми щитами, благополучно снося град стрел, тукающих по кованому бронзой дереву. Анаксис увидел, что все его товарищи ранены. У двоих из груди торчали обломки стрел, и, хотя воины не выказывали никаких признаков беспокойства, силы в них убывали вместе с дыханием и кровью. У одного из бока проглядывали белые ребра. Когда Анаксис указал на это, тот пожал плечами.
– Потом перевяжу, – сказал он.
– Я тебе их зашью, – пообещал Анаксис. – Только запомни: не подпускай к себе Кинниса.
– Запомню, – ответил тот.
Оба были старыми друзьями и не нуждались в лишних словах.
Анаксис ахнул от боли: в зазор между щитами угодила стрела и впилась ему в бок, прямо в сведенные судорогой напряжения мышцы. Видно было, как упруго дрожит оперение, но выдернуть ее значило открыть кровоток. Ранение вызвало волну тошнотной слабости.
– Хотелось бы, чтобы они нас запомнили, – обратился к товарищам Анаксис. – Если вы уже отдохнули.
– Я думал, это ты здесь расположился на отдых, – рыкнул один из спартанцев.
Анаксис с усмешкой обрубил древко стрелы кописом, невольно крякнув на то, как внутри тела что-то хрупнуло.
Испуганно пятясь, лучники оставляли пространство, вполне достаточное для натиска гоплитов. Сейчас персы отчаянно искали способ помешать горстке спартанцев прорваться и умножить свое число теми, кто вспрыгнет за ними следом.
Анаксис и его товарищи бросились вперед, выставив перед собою щиты. Навстречу им неслись стрелы, которые с лихорадочной поспешностью пускали персы. В боевом столкновении щиты сами по себе были неплохим оружием; те, кто поднаторел, использовали для удара их кованые кромки или даже метали плашмя вместо копий. Среди персов начиналась паника; греки кромсали их смятые ряды. Уцелевшие внизу спартанцы нестройным хором завели песнь – боевой гимн смерти.
Анаксис уже всходил на верхнюю ступеньку, когда копис оказался выбит у него из ладони. Навстречу из проемов с обеих сторон густо сыпало свежее персидское воинство с луками, мечами и копьями. Копья были, конечно же, сподручней для убийства тех, кто оказался в западне. Будь он персидским военачальником, он бы и сам отдал такой приказ. Расстрел из луков был не более чем издевкой, а в бою серьезных противников нужно что-то посущественней. Взор у лохага уже туманился; еще немного, и душа отойдет в Аид. Что ж, будет приятно увидеться там с царем Леонидом, стоявшим насмерть при Фермопилах. Кто, как не он, сполна познал цену персидского коварства. Пожалуй, можно будет поднять с ним чашу уже нынче вечером, если вовремя пересечь Стикс.
Киннис снизу беспомощно наблюдал, как те, кто вознесся на карниз, один за другим падают, забирая с собой последние надежды. Копья были израсходованы, трофейные колчаны опустели, хотя среди мертвых в изобилии валялись ломаные стрелы.
Персидские лучники больше не насмехались. Во дворе лежали десятки людей в черном, а кровь других обагряла ступени с обеих сторон. Но тем не менее спартанцы потеряли половину своих, а попытка прорыва ничем не увенчалась. Кое-кто из воинов еще пытался поднять своих товарищей на карниз, но лучники уже знали, как с этим справиться, и зорко следили за попытками спартанцев; те падали, пронзенные стрелами.
Киннис выкрикнул приказ забирать копья у павших и метать во врага.
Спартанцы под градом стрел делали то, что велено, и прилежно целились.
Воздух со свистом рассекали кописы и мечи. Наверху пару раз, словно диски, были пущены щиты, сшибая с карниза персов – тех, кто срывался, тут же рубили в куски на дворе, хотя град стрел лишь усиливался.
Киннис удерживал людей вместе все меньшими и меньшими группами, чтобы они, сомкнув щиты, могли перемещаться по двору и собирать упавшее оружие, а затем, метнув, снова собирать. Персидское воинство на ступенчатом карнизе продолжало прибывать; свежие воины терялись при виде такого числа собственных потерь. Они обнажали мечи и натягивали луки, успевая напоследок услышать лишь вжиканье смертоносных кописов.
Спартанцы сражались до тех пор, пока их не осталось всего четверо.
Каждый был покрыт кровью, тяжело ранен и изможден настолько, что рука едва могла поднимать щит, в который по-прежнему тукали стрелы. Дерево и бронза щитов напоминали облупленную шкуру в оспинах и шрамах, настолько отяжелевшую от обломков засевших стрел, что ее трудно было держать на весу.
– Стойте! – раздался сверху властный возглас.
Кое-кто из спартанцев знал персидские команды, но не обращал на них внимания. Однако лучники дружно остановились и, тяжко переводя дух, отступили на шаг. Первый персидский военачальник лежал бездыханный. На смену ему выступил другой. Подойдя к краю, он поглядел вниз и покачал головой в изумлении от такого масштабного побоища.
– Я Хазар Заоша! – объявил он на ломаном греческом. – Начальник заяданов[10]! Вы понимаете меня? Отряда Бессмертных! Мужи Спарты, сложите оружие! Вы обречены! Вас совсем мало, а наши силы неисчислимы! И если захочу, я могу…
Киннис метнул в него меч. В попытке уклониться перс дернулся туловищем и с криком ужаса слетел вниз во двор. Подняв голову, над собой он увидел четверых окровавленных спартанцев, смотрящих на него с недобрым интересом.
– Убейте их! – возопил Заоша. – Убе…
Рубящим ударом кописа Киннис заставил его умолкнуть, но и сам безмолвно повалился сверху. Из его спины пернатыми стеблями торчали стрелы. Свой последний выдох Киннис сделал с печальной улыбкой. Гибнуть от предательства стародавнего врага было досадно. Но еще досадней было то, что некому отправить эфорам[11] весть о гибели отряда, ушедшего с надлежащей доблестью, не посрамив чести зваться спартанцами.
В этом крыле покоев стояла благодатная прохлада от ветерка, мягко веющего вечерами по горному склону – чудо, которым услаждался царь и его двор, от знати до рабов. Летом, когда над равнинами висело марево несносного зноя, здесь было покойно и нежарко. Блаженно чувствуя, как на лице обсыхает пот, царевич сделал глубокий вдох. В воздухе припахивало какими-то пряностями – возможно, корицей, хотя точно не разобрать.
Отца Кир не видел уже много лет. Для него этот ветерок и аромат символизировали детство и дом.
Где лежит отец, спрашивать не приходилось: слуг по мере углубления в покои становилось все гуще. Вокруг царского ложа они роились как пчелы, готовые исполнить любой его каприз. По четыре стороны от ложа глыбились телохранители, грозно высматривая намек на малейшую опасность. На подушках-валиках виднелся недвижный силуэт, лоб которому тряпицей бережно отирала женщина, обмакивая ее в чашу с водой, где плавали розовые лепестки; аромат роз был тягуч и маслянист. Кир припал на одно колено.
Царь Царей медлительно повернул голову: один из слуг что-то тихо ему сказал. Дарий тяжелыми глазами искал сына, и Кир сделал было шаг, но замер, ощутив у себя на предплечье каменную длань телохранителя.
– Господин, прошу отдать твой меч.
Кир расстегнул пояс и протянул оружие. Взяв его, воин отшагнул в сторону, и тогда царевич оказался на расстоянии вытянутой руки от человека, что управлял всей его жизнью от самого младенчества.
Кир улыбнулся, но улыбка исказилась болью. Старика снедал какой-то недуг.
Его руки, что некогда шутя играли тяжелым копьем, были теперь изможденно худы, а обтягивающая кости морщинистая кожа в странных темных пятнах и прожилках.
– Я здесь, отец, – произнес Кир, присаживаясь на край поднесенного рабами табурета. – Пришел сразу, как только услышал, и быстро, как только смог.
– А я ждал тебя, Кир, все ждал, – сухим шепотом прошелестел отец. Голос был настолько тих, что царевич невольно подался вперед, напрягая слух. – Все не мог умереть, покуда ты не пришел. Наконец-то.
На лице отца проглянуло непривычное выражение: что-то вроде злого торжества. Или это просто показалось. Вот он обессиленно смежил веки, и морщины на его лбу слегка разгладились. Повинуясь безотчетному порыву, Кир взял руку отца, которая в детстве тысячекратно обжимала его ладошку, словно железный обруч, а теперь была старчески холодна и немощна. Кир сидел, неловко подыскивая слова.
– Отец… Спасибо тебе за все. Я хотел, чтобы ты был… Чтобы ты мог мною гордиться.
Ответа не последовало, и Кир опустил отцову руку на шелк простыни. Некоторое время он рассеянно поглаживал костяшки пальцев, а затем сел обратно. Служанка с чашей розовой воды, подавшись вперед, снова промокнула царское чело. Вновь дохнул ветер, хотя теперь он показался не таким мягким, как раньше, а как пронизывающие бесприютные ветры осени, что сводят с ума своей заунывностью.
– Отец? – молвил Кир несколько громче.
Он встал и беспомощно смотрел, как кто-то незнакомый, беспрепятственно подойдя к ложу, прислушался к дыханию царя, биению его сердца, и деловито кивнул.
– Уже недолго, господин. Возможно, он нас слышит. Может еще и пробудиться, а может и нет. Он взывал к тебе множество раз. Хорошо, что ты явился в конце концов.
Опять эта колючка, и от кого? От того, кто в свое время и рта не посмел бы открыть. Что это за дух надменности к нему, царскому сыну? Так и витает, так и змеится по этим покоям.
Однако довольно. Чтобы сюда добраться, он четырнадцать долгих дней одолевал по дюжине парасангов. Только спартанцы поспевали за ним, и то он довел их до изнуренности и истощения. Утешался одной лишь мыслью, что еще не поздно, превозмогая на душе тяжесть. Но ни теплого слова, ни нотки признательности от отца. Лишь непонятная усталая горечь, как будто это он повинен в том, что задержался, а его тут все заждались.
Отступая от ложа, Кир почувствовал себя странно опустошенным и растерянным. Он так боялся, что опоздает, молча клял постылые дни.
И в этом своем нетерпении, с томительной и робкой тоской представлял себе улыбку отца, его объятия, которых никогда не знал. А тут все вдруг отвердело и выцвело, и драгоценные камешки его воображения превратились в стекло. Никакой гордости он у этого человека не вызывал. И чего бы он в жизни ни добивался, значение для отца имел единственно Артаксеркс.
Кир протянул руку, молча ожидая, когда ему вернут меч. Державший его царедворец прижимал уснащенные каменьями ножны и перевязь к себе, пуча глаза с таким видом, будто нашел клад и не желает с ним расставаться.
Ну и денек, все будто с ума посходили.
И тут Кир увидел, как к нему направляется его брат, а с ним Тиссаферн. Вид у обоих был посвежевший, слегка расслабленный. Тиссаферн успел переоблачиться в струящийся шелк и даже омыться, судя по еще влажным волосам. Но удивляло не это, а то, что с ними шли вооруженные стражники, которые сейчас рассредоточивались по крылу. Их намерения были вполне красноречивы.
Кир, взвешивая положение, приопустил голову.
Не успел царедворец и вякнуть, как он выхватил у него перевязь с оружием и нацепил на себя.
– Ну вот, так-то лучше, – сказал он. – Брат, скажи мне, что в такой час привлекло сюда этих копейщиков?
– Ты, – улыбнулся в ответ Артаксеркс, в то время как стражники обступили младшего царевича.
Кир, судя по всему, думал им воспротивиться, но в нескольких шагах лежал умирающий отец, и это на него повлияло. Видя замешательство брата, Артаксеркс все с той же улыбкой сказал:
– Кир, ты заключен под стражу. Повелением нашего отца. Для последующей казни.
Кир думал выхватить из ножен меч. Он уже приметил, кого из стражников срубит первым, чтобы вырваться из их круга. И он бы сделал это, если б не братовы слова. Вместо этого он изумленно обернулся и увидел, что отец взирает на него со скучливо-надменной отрешенностью. Не успел Кир осознать, что сказанное братом правда, как веки старика снова сомкнулись.
Царевича схватили за руки и отняли меч. Личная стража Артаксеркса через покои вывела его обратно в кущи садов и тропок. Артаксеркс с Тиссаферном шли следом. Кир на ходу изогнул шею и, несмотря на подталкивание древками в спину, заговорил:
– Зачем ты это делаешь, брат? Я всегда был тебе верен. Или я хотя бы раз дал тебе повод усомниться во мне? Никогда в жизни!
Вместо ответа Артаксеркс чопорно поджал губы.
Когда Кир посмотрел на Тиссаферна, тот лишь потупил голову к песчаной дорожке, не в силах выдержать его взгляда.
3
Кир сидел на солдатском топчане. Дверь снаружи была заперта, хотя это был вовсе не каземат темницы, а комнатка сотника царевой стражи. Сотник определенно ухаживал за собой: тут были и масла, и притирки, пара египетских ножниц, кисточка для окрашивания бороды и даже палочки для чисти носа и ушей – резные, из слоновой кости – на специальной подставке в углу, возле чаши для умывания.
С разных сторон до слуха доносились шумы, присущие казармам: где-то выкрикивали приказания, где-то всплескивался грубый хохот. Кир уперся взглядом в дверь и ждал. Он еще толком не понимал, что произошло, но слишком хорошо знал Артаксеркса, чтобы допустить мысль, что его, Кира, вот так бесцеремонно выволокут и обезглавят, не дав возможности что-то сказать. Брату захочется для начала позлорадствовать или высказать какую-то вину – Кир знал это с уверенностью сверстника, выросшего с ним вместе. Он знал Артаксеркса. Во всяком случае, на это уповал – за его долгое отсутствие дома многое могло измениться.
С наступлением ночи в небе, как на ниточке, повис яркий лунный серп, осеняя своим светом плато. Кир решил, что заснуть нынче вряд ли удастся, но повернулся к стене и закрыл глаза; мысли путались клубком.
Не чувствуя времени, он внезапно проснулся, вскочил с топчана и несколько мгновений стоял, растерянно моргая, в утреннем свете. Долгие дни в дороге, скорбь по отцу и непонятное пленение истощили его, но, как ни странно, он спал как ребенок, а проснулся освеженным и куда более собранным. О боги, его жизнь висела на волоске! Кир запустил пятерню в свою спутанную бороду, кое-как продирая ее. Неплохо бы привести ее в порядок, но для этого требовалась работа и хорошо заточенный небольшой клинок. Но на столе каморки такового не было. По всей видимости, хозяин комнаты пользовался для этого ножницами или заплетал бороду в косички.
Кир проморгался, когда засов на двери отодвинулся и в каморку вошел Тиссаферн, неловко переминаясь с ноги на ногу из-за тесноты, которую создал одним своим появлением. Стражники заглядывали снаружи, но не могли присоединиться к Тиссаферну даже для того, чтобы его защитить. Им оставалось лишь хмуриться снаружи, в то время как Кир ждал, что ему поведает о происходящем его старый друг. Старый лев решил присесть на топчан, который заскрипел под ним, как скорлупка. Кир остался стоять у стены, а один стражник маячил в дверном проеме с целью догляда.
На взгляд Тиссаферна Кир лишь приподнял брови. Он чувствовал себя уязвленным и если б заговорил первым, то тем самым лишил бы себя преимущества.
Спустя целую вечность Тиссаферн тягостно вздохнул.
– Повелитель, мне очень жаль, что все так обернулось. Клинок в любой другой руке я бы, конечно, мог отвратить. Но не твоего отца. – Вид у Тиссаферна был измученным, словно он всю ночь не смыкал глаз. – Кир, я должен тебе сообщить, что этой ночью царь отошел в обитель богов. Мне очень, очень больно. Нынче утром Царем Царей, богоподобным отцом Персии стал твой брат, да благословят его Митра, всеблагой Ахурамазда и все добрые духи. А преславный отец его да найдет радушный прием у своих предков.
Несмотря на потрясение от новости, Кир почувствовал, как в груди встрепенулась надежда.
– Если я здесь по велению отца, чем бы оно ни было вызвано, то мой брат Артаксеркс освободит меня, – сказал он с ощутимым облегчением. – Видно, отцом моим в последний миг завладел злой дух или демон, прокравшись, когда тот был уже слаб и повержен хворью. По крайней мере, теперь он вне их злого влияния. А я могу…
Тиссаферн скорбно покачал головой.
– Повелитель, вчера вечером твой брат подтвердил приказ. Меня это, безусловно, несказанно удручает, но тебя должны казнить этим самым утром.
Человек, который был его наставником в детстве, провел рукой по бороде от основания до кончика. Кир заметил, что он явно нервничает.
– Я должен… без промедления отвести тебя на площадь перед казармой. Не будет ни церемонии, ни свидетелей, кроме нескольких стражников. Соберись с духом, мой мальчик. Вверь свою душу богам и приготовься к суду.
Кир смотрел, не веря своим глазам. Он уже не спрашивал о спартанцах, которых привел сюда. Знание их участи бесполезно, да и неспособно что-либо изменить. Тем не менее он научился от них, как сохранять самообладание в те самые минуты, когда оно действительно на вес золота. Кир собранно смолк и задумался. Оружия при нем нет, хотя можно попытаться вырвать его у одного из стражников. Это лишь означает, что жизнь у него оборвется несколькими шагами ранее, чем он дойдет до площади и опустится на колени возле плахи. В Тиссаферне ему поддержки больше нет, но ведь старый учитель не единственный его союзник.
– Я хочу повидаться с матерью, – объявил Кир. – Попрощаться с ней. – Он пристально наблюдал за Тиссаферном и едва сдержал улыбку при виде того, как тот растерянно нахмурился. – Ее что, ни о чем не известили? В конце концов, я ее сын.
– Полагаю, это забота Царя Царей, – чопорно заметил Тиссаферн.
Оба подняли головы от внезапной стукотни и тревожной суматохи где-то снаружи. Обоих захлестнули совершенно разные чувства от звука женского голоса, распоряжающегося широко и властно, в непоколебимой уверенности собственного превосходства.
Кир, блестя глазами, отстранился от стенки.
– Я не забуду, какую роль сыграл в этом ты, Тиссаферн.
– Повелитель! – как на пружинах, подскочил с топчана старый лев. – Я лишь исполнял волю твоего отца и брата!
Глазами он уже нервно высматривал приближение царицы Парисатиды.
– Прочь с дороги! – донесся всем известный зычный голос, обрушившийся на казарму, словно гроза. При его повторном звуке Тиссаферн неуютно поежился. – Где вы тут спрятали моего сына? А ну выведите его ко мне наружу! Кир! Где мой сын, подлые изменники?
Страж на дверях деревянно повернулся к ней. У Кира мелькнула мысль наброситься на него сзади и удушить. Или вон свернуть шею Тиссаферну, который сейчас пытался в этой тесноте изобразить поклон.
На царице было темно-синее траурное одеяние, однако в казарму она устремилась не ранее, чем надела золотые браслеты, сопровождающие ее движения звончатым ритмом. Волосы у основания шеи были туго стянуты золотой сеткой. На пятом десятке Парисатида была по-прежнему хороша собой и гибка, как дева. Предваряя ее появление, впереди плыл аромат роз, словно она несла букет мужчинам, застывшим сейчас перед ней подобно напуганным агнцам.
– Кир, сын мой! Ты здесь? С тобою Тиссаферн? А ну выходите сюда, оба! Мне ли входить в потную солдатскую конуру! Кир, сейчас же!
После пережитого страха царевич облегченно рассмеялся.
Тиссаферн, с лицом как туча, вытеснился вслед за стражником из комнатушки в коридор.
– Госпожа, твой сын, царь Артаксеркс, повелел… – начал он с порога.
Парисатида повернулась к стражнику и возложила ему руку на голое предплечье.
– Если этот человек продолжит со мною говорить без должного почитания, можешь лишить его головы.
Стражник застыл как истукан, а Тиссаферн решил на всякий случай быть осторожней, во избежание внезапной смерти. Он тяжело опустился вначале на одно колено, затем на другое, и наконец лбом припал к полу (не особо чистому, как с удовольствием отметил Кир: когда старый лев начал вставать, к его лбу пристали зернышки мышиного помета).
– Разве я давала тебе соизволение подняться? – ледяным голосом спросила царица.
Тиссаферн был принижен до крайности. Но опять же не решался подвергать сомнению власть этой женщины. Годы при царском дворе наглядно показывали, что некоторые споры разрешаются кровью и лишь затем извинениями. А потому он снова притиснулся лбом к полу и замер, словно мертвец.
– Кир, – приветственно обратилась царица к сыну.
Царевич взял ее руку и тоже опустился на колени.
– Мать, – задушевно произнес он. – Сердце мое преисполнено благодарности. Тут Тиссаферн, похоже, полагает, что меня велели умертвить.
Царица небрежно взмахнула ладонью, словно смахивая пыль.
– Можешь быть уверен, правду я вызнаю. Но не здесь, среди этих простолюдинов. Не будем обсуждать частные дела со слугами и солдатней. Теперь же следуй за мной. Твои одежды пропахли потом. Они держали тебя здесь как зверя.
Прежде чем Кир успел ответить, его мать вытянула ногу, и острый носок туфли вонзила в спину Тиссаферну, заставив его хрюкнуть от боли.
– Эти люди в своей спеси зашли слишком далеко, – молвила она. – Ну да я это исправлю. Идем.
Она повернулась уходить, и Кир вскользь глянул на начальника стражи. Лицо заядана было маской ревностного повиновения, но в глазах стоял страх. Он знал, что на кону его жизнь. Что, если новый царь придет и спросит, как они посмели дать пленнику уйти?
Тем не менее ослушаться царицу было нельзя; она и в самом деле вела себя так, словно ей немыслимо возразить хоть в чем-либо. В те несколько мгновений, что стражник мог взроптать, Парисатида пронеслась мимо, а следом за ней и Кир, буквально кожей чувствуя, как чужая воля трепещет и ломается. Но и проходя через казарму, где отцовы Бессмертные застывали в различных стадиях одетости и изумления, царевич втайне боялся окрика, который мог его остановить.
Мать шла быстро, хотя одеяние мешало ей это делать. Тем не менее она бойко скользила, покачивая бедрами впереди своего сына. Многие из тех, кто вышел посмотреть, что там происходит, завороженно замирали, прикованные взором к царице. Кир мысленно улыбнулся тем чарам, которые его мать все еще была способна нагнетать.
– Я не позволю держать моего сына как преступника! – громогласно объявила она на ходу. В ее голосе звенело негодование, и те, кто сейчас находился у дверей, виновато потупились, словно их застигли за чем-то постыдным. Наверное, если бы Парисатида колебалась или спрашивала разрешения, чары бы развеялись и кто-нибудь – скажем, старший начальник – пресек бы этот побег. Однако она беспрепятственно дошла до самой двери.
Казармы находились на некотором расстоянии от края террасы. Даже рядом с царицей Кир пребывал в напряженном ожидании какого-нибудь окрика или руки, которая вдруг опустится ему на плечо. Он подозрительно вслушивался в гомон и позвякивание доспехов снующих туда-сюда вооруженных людей; чувствовалось, как по ребрам льдистыми струйками стекает пот. Он шел как ягненок среди волков и знал, что считать побег удавшимся еще рано.
Время, проведенное в заточении, позволило ему обдумать все увиденное и услышанное. Вывод был столь же неизбежен, сколь и безутешен. Никакой ошибки в приказании его казнить не было.
Опустив голову, сын следовал за матерью. Позади остались ворота с караульным помещением, сразу за которым ждала группа рабов, которых Парисатида оставила снаружи. Они лежали на земле ниц, и, видимо, в отсутствие госпожи не смели пошевелиться. Сейчас, при виде нее, они дружно вскочили, а царица села в носилки и приглашающе похлопала по подушкам рядом с собой. Кир забрался внутрь, отчего шесты скрипнули под его весом.
– Мама, – начал он.
Та покачала головой.
– Не сейчас, Кир. Твой отец был упрямый человек, и мне придется поговорить с твоим братом прежде, чем все это приведет к нелепой развязке. Мы что, египтяне, чтобы убивать своих сородичей? Тем более прежде, чем у Артаксеркса появится наследник. Уже в этом смысле твой отец поступил опрометчиво.
Кир вдумчиво моргнул, усваивая ее суждение.
– Я… не думаю, что он бы отдал приказ меня убить, – сказал он с сомнением.
Мать подняла голову и коснулась его колена как раз в тот момент, когда в движение пришли носилки.
– Твой отец был царем, Кир. И ставил державу превыше нас всех. Я не жду, что ты простишь его сейчас, пока рана свежа и саднит, но со временем ты поймешь, что он был человеком великой доблести. Он видел, кем ты был – кем ты стал. И принял решение тебя устранить. По-своему этим можно даже гордиться.
– Он совершил ошибку, – возразил Кир. – Я всегда был верен. Я ценю это качество в людях и чту его в себе. Я царевич, которому не суждено стать царем. Это я знал всегда. И никогда не был угрозой Артаксерксу!
– Милый мой мальчик. Царь – это тот, кто устраняет угрозу еще до того, как она осознает себя таковой. Держава несет мир и благоденствие бессчетному множеству подданных. Что значит одна жизнь в сравнении с этой незыблемой рукой? Я не извиняю твоего отца, Кир. И в своих предсмертных судорогах ему не отнять у меня мое любимое дитя. Я не допускаю этого. Но придет время, и ты его простишь.
От этих слов Кир насупился, как мальчишка. Он едва подавил желание заспорить с женщиной, нынче утром спасшей его от смерти. Когда носильщики переходили через плато мимо садов, где рабы занимались поливом или прятались от солнца под сетями, он осознал, что, не явись его мать в казарму, он бы сейчас был уже мертв, а его кровь впиталась бы глубоко в песок двора. Эта мысль приводила в хладный трепет. В каком-то смысле нынешнее утро стало для него зарей новой жизни, новой ветвью сделанного выбора. Какое-то время он молчал, давая мерному покачиванию носилок вносить в душу успокоение.
– Мама, а где мои люди? – спросил он после продолжительного молчания.
– Мертвы, все до единого. По велению твоего брата.
Мать пристально наблюдала за сыном, безошибочно заметив вспышку гнева, которую он не сумел скрыть.
– Но разве можно его винить, Кир? Ты привел спартанцев в сердце отцовской столицы. Должен ли он был смиренно отпустить их восвояси? Кто знает, что на уме у этих варваров? Нет, в этом он был прав, несмотря на ужасную цену. Твой брат не мог даже управиться без… ладно, теперь уж неважно. Артаксеркс – царь, хотя начал он неважнецки. Отдает приказ умертвить тебя и терпит неудачу. Посылает лучников убить твоих людей, а в итоге теряет половину всей стражи вместе с двоюродным братом царя и двумя вельможами.
Кир мрачно улыбнулся, зная, что спартанцы захотят узнать, как они погибли. Из всего сущего то, как человек принял смерть, для них имело такое же значение, как и то, как он жил. Он прошептал краткую молитву греческим богам, прося их благосклонно принять этих воинов в Аид. Мать молча за ним наблюдала.
– Если я знаю твоего брата достаточно, то он предпочтет о вчерашнем позабыть. Да, день не задался – ну так кто теперь вспомнит, что там вообще происходило? Мы живы, а это главное. Я верю, что смогу его убедить в отмене приказа о твоей казни и в восстановлении тебя над всем персидским войском. Ты ему нужен, Кир! Кто еще может проявлять такую преданность? Кто хотя бы вполовину, как ты, знает ратное дело? Благодаря таким, как ты, враги наши пребывают в страхе. Он будет глупцом, если лишится тебя, – и я ему на это укажу.
Кир оторвался от своих мыслей и увидел, что рабы подносят их к внешним казармам, где он буквально вчера ехал верхом на лошади.
Кир повернулся к матери, вопросительно приподняв бровь. Парисатида вздохнула.
– Позволь мне говорить за тебя, Кир. Негоже испытывать самолюбие твоего брата в первый же день царствования. Если я заставлю его проглотить свою гордость из-за того, что случилось с тобой, он взбеленится и будет сердит месяцы. Сомнения нет, что Тиссаферн уже пошептал ему на ухо.
– Тиссаферн лишь подтвердит, что я ему предан, – возразил Кир, хотя, еще не договорив, понял, что сам не верит в эти свои слова.
Мать покачала головой.
– Тиссаферн – его человек. И так было всегда. Тебе он не друг.
Кир болезненно поморщился, предательство ощущая вроде разрыва мышцы. Он сын царя. Смешно думать, что при дворе у него были одни друзья, а не мздоимцы и хитроблуды, строящие козни ради своего положения при дворце. Кир ощутил укол тоски по своим спартанцам. Вот Анаксис был ему другом, а с ним Киннис. Просто не верилось, что кто-то мог справиться с ними двоими, не говоря уж об общем их числе. Мстительная радость чувствовалась от того, что они дались столь высокой ценой. Что и говорить, спартанцы воистину овеяны легендой, а теперь они приписали к ней еще несколько строк. Более того, они знали цену преданности. Подчас казалось, что больше ее не знает никто.
Он сошел с носилок и протянул матери руку прежде, чем успели пошевелиться рабы. Парисатида взяла ладонь сына, и они вместе тронулись к воротам. Кир помнил, что оставил спартанцев Анаксиса во дворе.
На подходе к разведенным створкам ворот он не знал, чего и ожидать. Его рука выпала из ладони матери при виде окровавленных стен во всю глубину двора. Тела убрали, но в воздухе все еще было полно мух, а глаза щипал смрадный запах смерти. В детстве Кир вместе с отцом ходил на скотобойни смотреть, как забивают скот. Сейчас он ощутил, как его желудок тошнотно сжимается от умозрительного вида такой же смеси крови и внутренностей.
– Дальше, сын мой, я с тобою не пойду, – сказала мать осторожно. – Позволь мне поговорить с Артаксерксом.
Лицо ее побледнело от смрада, доносящегося с горловины двора. Взгляд пугливо и беспрестанно перескакивал с одного бурого пятна на другое: она гнала от себя сцены насилия, что бушевало здесь всего какие-то часы назад.
– Мать, скажи, что я храню ему верность. Был верен всегда и никогда не давал повода во мне усомниться. И Тиссаферну скажи то же.
– Именно так я и поступлю. – Мать подняла руки и привлекла сына в объятия. – Он знает тебе цену, сын мой. Я же напомню ему все, что ты для нас сделал. Возвращайся на свое поприще и не бойся подосланных убийц. Когда все определится наверняка, я вышлю тебе письмо.
Кир кивнул, поцеловал мать в губы и вышел на песок, уже дышащий жаром под сандалиями. В город он въехал на коне, с охраной в триста человек и Тиссаферном под боком. Теперь он покидал его ни с чем, кроме собственной жизни.
Больше он не оглядывался ни на мать, ни на привратников, одни из которых замкнули ворота позади, а другие отворили те, что спереди. Оставалось лишь надеяться, что авторитет матери защитит его. При этом на каждом шагу приходилось остерегаться пущенной в спину стрелы со двора, смердящего несвежей кровью. Тут и там в песке проблескивали наконечники стрел, обломки копий и осколки бронзы, похожие на золотые монеты. Мысленно Кир оплакивал тех, кто доверился его слову. Вот медленно разошлись створки внешних ворот, и взору предстала исполинская каменная лестница, ведущая вниз на равнину. Единственное, в чем Кир был уверен досконально, это в своей верности отцу и брату. А они в ответ нанесли ему разящий удар. И промахнулись. Хотя при этом в нем что-то так или иначе умерло.
Кир начал затейливый спуск по ступеням, по которым так легко получалось восходить верхом. Персеполь тянулся вдоль равнины, а за нею простирался целый мир. Всей державе царевич Кир был известен как верховный военачальник, назначенный отцом. Но теперь отцову столицу он на время покинет, а наведается в дальние воинские ряды, к возглавляющим их командирам, что на коленях приносили ему клятву верности.
Улыбчиво скаля зубы, он спускался все быстрее и быстрее, оставляя позади хмурые взгляды стражников, запах крови и предательства. Он еще вернется. Снова увидит Тиссаферна и своего дорогого брата; в этом он себе поклялся. А пока надо поднимать войско. Дворцовый гонец нагонит его в Сузах, где начинается Царская дорога, по которой он направится на запад, в Сарды. То, что кажется концом, с такой же легкостью может стать началом. Ведь и ночь сменяется новым днем.
4
Пошатываясь, Кир брел к крепости, расположенной в стороне от дороги, ведущей на запад. Пыль на нем спеклась коростой, а глаза покраснели и мучительно чесались от сочащегося со лба пота вперемешку с пылью. Он был в дороге уже два дня, без пищи и всего лишь с мелкой фляжкой воды. Выносливости он научился у спартанцев – в частности, тому, сколь многого может достичь человек одной лишь волей при наличии твердой решимости. Если б он этого не постиг, то впору было бы лечь и умереть.
Рек и ручьев на этом буроватом иссушенном просторе, отороченном зыбкими массивами гор, не было. Сама крепость из обожженного кирпича была сложена вокруг колодца и торчала из земли, словно сухой корень или старая кость. Возможно, это было одно из мест, где он останавливался со спартанцами, но точно сказать нельзя. Как бы не застать ее брошенной, колодец пересохшим, а солдат разбредшимися по своим горным селениям. Он бы сейчас заплакал, да только без воды не было и слез. К тому же на стене у крепостных ворот обозначилось шевеление.
– Откройте ворота, – приоткрыв спекшийся рот, вытеснил он.
Кажется, там, на дне, оставался еще глоток, как раз чтобы смочить язык. Кир вытянул пробку и, бережно подставив ладонь, перевернул фляжку. Из нее не вытекло ни капли. Все досуха израсходовано в дороге.
Подняв голову, над собой он увидел лицо солдата, хмуро смотрящее на него со стены.
– Поди прочь, попрошайка, – буркнул тот. – А то спущусь да намну тебе бока. Из-за тебя мне еще на жаре торчать. Пошел вон!
– Воды, – заржавленным неподатливым голосом выговорил Кир.
Солдат отвел взгляд. Но всем здесь было известно, сколь палящей бывает жажда и насколько драгоценна вода, которой здесь так мало. Реки в этих местах были доподлинно венами жизни, и все люди предпочитали селиться вблизи них. Если в жаркое время года реки пересыхали, то на корню выгорал и урожай, а жители целыми селениями обращались в обтянутые пыльной кожей скелеты и погружались в безмолвие смерти. Солдат на крепостной стене сухо переглотнул, куда-то обернулся и, не сказав больше ни слова, скрылся из виду. Через какое-то время в створке ворот приоткрылась дверца, и оттуда вышел тот самый стражник, с обнаженным мечом и недоверчивыми глазами. Киру он бросил полупустой козий мех, теплый, как кровь.
– На, – буркнул он, с прищуром оглядывая окрестность.
Кир жадно припал к меху, чувствуя, как вместе с благословенной влагой в тело вливается жизнь, а с нею силы и собранность. Возвращалась и воля, почему-то вызывая в памяти мысль о цветах, которые под первым дождем раскрываются, благодарно играя всеми своими красками, – он сам однажды наблюдал такое в пустыне. Вода – это жизнь.
– Спасибо тебе! – истово выдохнул он, отрываясь наконец от питья. – За твою доброту к путникам я тебя вознагражу.
– Да к чему оно мне, – пожал солдат плечами, протягивая руку за мехом. Расстаться с ним Киру оказалось не так-то просто, но он превозмог себя, слегка устыдясь своей скаредности.
– Значит, к тому. Я Кир, сын царя Дария из дома Ахеменидов. А ты спас мне жизнь. Как твое имя? И кем ты здесь?
Человек потрясенно застыл; осознание, что ему говорят правду, было написано у него на лице.
– Я… Я уже раньше тебя видел, – растерянно удивился он. – Когда ты проходил здесь с теми людьми, что бежали, как гончие. Да, это был ты! – Он как подкошенный упал на колени и стукнул лбом оземь. – Мой господин и повелитель, прости меня! Я тебя сначала не признал!
– Встань, водонос, – улыбнулся Кир. – Ты еще не назвал мне свое имя.
– Парвиз, повелитель. Но что за несчастье могло тебя постичь, что ты стоишь здесь один? При тебе нет даже меча. Неужто… разбойники? Нас здесь всего сорок, а начальник… Он целыми днями торчит в городе. Повелитель, ты пришел, чтобы отрешить его от должности? Неплохая, надо сказать, кара для него, старого осла.
Такая ухарская оборотистость со стороны служаки вызвала у Кира ухмылку.
– Если тебе известно, кто я, то теперь в моем подчинении и ты, Парвиз.
Парвиз сделал попытку снова упасть, но Кир успел схватить его за руку, и тот теперь стоял, ощутимо дрожа.
– Я весь твой, повелитель.
– У вас тут есть лошади?
– Шесть прекрасных коней, мой господин, хотя один хромает. Прошу прощения, если бы мы заранее знали, что ты…
– Я возьму пятерых, на которых можно ехать. Мне нужно добраться до Суз, где начинается Царская дорога. А твоя обязанность мне в этом помочь, ты понял меня? Ты знаешь про Сузы?
Солдат покачал головой, а Кир подавленно вздохнул.
Его привычка мчаться сквозь ночи на быстрокрылых скакунах, увы, никак не вязалась с тем, что почти все подданные его отца жили и умирали в одном дне пути от того места, где родились. Дальние зачарованные страны, такие как Индия, Египет или Фракия[12], были для них просто чужеумными словами.
– Это город на западе, в десятке дней езды верхом. Так что собери и вооружи трех лучших людей. Ты, Парвиз, будешь четвертым и поскачешь подле меня. Найди мне меч и копье.
– Повелитель, откуда ж у нас тут оружие, достойное царской особы? Мы бедны.
– Драгоценностей мне не надо, – успокоил Кир. – Принеси мне охотничье копье и солдатский акинак[13]. Дорогой я не прочь поохотиться, а главное – мчаться как ветер, чтобы стряхнуть с себя эту пылищу. Чтоб поскорей опять увидеть реки и зеленую листву деревьев!
– Слушаю и повинуюсь, мой господин!
Парвиз приоткрыл дверцу и скользнул в нее, оставив открытой. Кир прикрыл глаза и, подняв голову, подставил лицо радостному солнцу.
В Сузах Кир оставил подручных с Парвизом во главе стеречь лошадей, а сам наведался к ростовщику на главной, царской, улице. Здесь журчали фонтаны и высились барельефы во славу его отца и деда с их образами, высеченными в белом камне. В лавке ростовщика он начертал свое имя на табличке и приложил перстень, удостоверяя получение ста золотых «лучников». Увесистый кошель с монетами он бросил Парвизу. Новоиспеченный слуга стоял, пяля глаза на неслыханное богатство, и не в силах сдержаться, все же заглянул в мешочек и погладил монеты. Парвиза Кир отправил к менялам разменять половину золота на серебро, а сам решил провести день в неге и принял нагретую ванну, после которой двое дюжих рабов-банщиков размяли ему мышцы. Дворцовые портные сняли с него мерку на шитье одежд, а местный сатрап предоставил лучших лошадей. За трапезой царевич побаловал себя вином и яствами, своих людей приказав разместить в комнатах возле городской стены. Исполнив таким образом хозяйский долг перед слугами, Кир отправился в царские казармы с площадкой для ратных упражнений.
В шелках и золоте его сразу же признали старшины войска, которым он сам обеспечивал выучку и продвижение, спеша подготовить достойных военачальников. Пропыленный бесприютный нищий исчез, и за это можно было возблагодарить богов. На протяжении многих лет Кир обоснованно гордился, что редко когда проводил две ночи кряду в одной постели, объезжая всех старшин и командиров войска империи – от тех, кто стоял лагерем у стен Сард, до какой-нибудь отдаленной горной заставы, караулящей одинокую святыню. Так что лицо его было общеизвестно.
Казармы в Сузах располагались на окраине города, там, где земля когда-то не стоила и гроша. Но персидское золото создало здесь и белокаменные строения, и обихаживаемый рабами зеленый простор, где на протяжении дня упражнялась тысяча человек. Перед Киром все они встали навытяжку, и он в сопровождении Парвиза устроил им смотр.
Когда Кир остался наедине с командирами, им в тень были поданы прохлаждающие напитки, а рабы овеивали их опахалами. За трапезой велась непринужденная беседа, хотя все наблюдали за Киром и ждали распоряжений, гадая, что привело их главного начальника сюда.
Царевич непринужденно отер рот и, откинувшись на подушку, повернулся к старшему над всеми.
– Бехруз, мне понадобится личный отряд телохранителей. Судя по тому, что я видел, твои люди для этого вполне годны. Тебя следует похвалить за их подготовку. Отберешь мне в завтрашнее сопровождение… три сотни самых лучших, – кивнул он поверх бараньей ноги. – При этом среди них не должно быть тех, кто вызывает нарекание: лентяев, жалобщиков, склочников. Дашь знать, выполнено ли мое распоряжение.
– Повелитель, призываю в свидетели богов: от меня будет все самое наилучшее. Иного для сына богоподобного отца не может и быть.
Кир смерил Бехруза пристальным взглядом, не зная, пришло ли сюда известие о смерти царя. Маловероятно, хотя сейчас оно уже грозно нависало сзади. Однажды, еще в детстве, он слышал рассказ о затмении, когда солнце затмевается огромной тенью. Про то юным царевичам поведал старик-астролог, привезенный во дворец за сотни парасангов, чтобы давать свое наставничество царским детям.
Киру врезалось в память то, с каким боязливым благоговением старик вспоминал о том, как небо сомкнулось мраком от громадной тени, мчащейся от горизонта быстрее крылатого скакуна, покрывая собою весь мир.
Известие о кончине Дария было как раз подобием той тени. И ее нельзя было ни остановить, ни обогнать. Она настигнет всех, и огромная империя под ней необратимо изменится.
Тишина за столом, судя по всему, начала Бехруза тяготить, и он предпочел разбавить ее потоком краснобайства, пока царевич пригублял вино.
– Сказать по правде, повелитель, я уж думал, ты прибыл иметь дело с тем отступником спартанцем. Клянусь тебе, мы прогоним его за порог державы, как только к нам прибудет подкрепление.
Прежде чем отозваться, Кир сделал крупный глоток. Его отец всегда предпочитал вести переговоры за едой, используя возможность отвлечься, которые она предоставляла.
– Скажи мне то, что ты считаешь правдой, – вымолвил он наконец.
Бехруз зарделся, но собрался с духом и стал докладывать вышестоящему:
– Этот отщепенец, повелитель, командует двумя тысячами эллинов. Мне сказали, изначально это было войско Спарты, посланное для защиты греческих городов во Фракии, к северу от какого-то мелкого восстания. Этот лохаг послал за теми людьми домой, и они вышли ему навстречу, приняв над собой его команду. Но этот спартанец, насколько мне известно, жестокий тиран. У меня уже заготовлены письма с просьбой прислать нам в помощь подкрепление.
– Как его имя? – осведомился Кир.
– Клеарх, повелитель. Народ Фракии тоже направил в Грецию письма, вопрошая, почему этот тиран, порезавший уйму народа, еще и снабжен войском, что может подвигнуть его на дальнейшие злодеяния.
– Я о нем наслышан, – сказал Кир.
Клеарх был назначен править Византием, когда в Афинах господствовали те Тридцать[14]. С их падением оказался низложен и он. О нем и вправду твердили как о безжалостном деспоте в том смысле, что к своим недоброжелателям он не знал ни жалости, ни сострадания. Вот сейчас хотя бы десяток таких, как он. Кир почувствовал, как сердце взволнованно заколотилось, а в желудке зажгло так, словно бы вино, вопреки ожиданиям, оказалось куда крепче.
– Где он сейчас, этот спартанский тиран? Ведет свое войско домой?
– Сказать по правде, повелитель, я вначале подумал, что ты для того к нам и прибыл. Дело в том, что он встал лагерем на холмах, примерно в трех дневных переходах от нашего города. В случае чего, можешь быть уверен, мы готовы защитить эти стены.
– А с ним две тысячи спартанцев? – продолжал выспрашивать Кир.
– Мы схватили одного из его лазутчиков, который ошивался возле городских стен. Он сказал, что число их больше, хотя эти греки известные лгуны.
Кир невольно улыбнулся:
– Да, этим они славятся. Я не встречал иного народа, который бы так самозабвенно этим занимался. А тот лазутчик еще жив?
Полеарх кивнул, а Кир поднялся с подушек и отер рот куском ткани, которую затем бросил на пол.
– Ладно. Показывай, где вы его держите, и найди мне коня порезвей.
Кир глубоко вздохнул и призвал себя успокоиться, взывая к воспоминаниям об известных ему спартанцах и молча прося у них благословения и помощи. Анаксис, пожалуй, упрекнул бы его за подрагивание рук, хотя это объяснялось прежде всего нехваткой сна и тревожностью.
Несколько дней прошли в тщетном ожидании, что спартанский военачальник явится в Сузы с попыткой заключить перемирие. Пока можно было вкусить благ своего сана вельможи. Кир совершал ритуалы в храмах и дважды в день купался, завивал и умащал себе волосы благовониями. При этом он упражнялся во владении мечом и щитом, как обычный солдат. Среди воинов он подобрал всего несколько человек, способных потягаться с ним в ратных навыках. Остальные или терялись перед саном царевича, или просто презирали потение на площадке. Непрестанные упражнения и жесткая дисциплина, которые он знавал со спартанцами, были явно не в пользу солдат Суз. Эти больше предпочитали щеголять своими доспехами, чем оттачивать умение владеть оружием. Вечера Кир проводил за чтением в дворцовой библиотеке, но расслабиться не получалось. Ночами сон приходил в лучшем случае урывками. Отец умер, державой правил брат. Мир изменился. Порой в голову приходила безутешная мысль, что он один на целом свете помнит, как все было.
Вот пришло время, когда тень смерти отца дотянулась и до Суз; из пустыни с горестной вестью прискакали гонцы. В городе начался траур, а от него, царского сына, все отводили глаза. Возможно, убедить Артаксеркса матери не удалось; поди прознай, что у них там на уме. Кир теперь ложился спать, сжимая в руке перламутровую рукоять ножа. Надежда на лучшее робко теплилась, но подосланного убийцу в случае чего вряд ли можно будет заметить раньше рокового мгновения. От этой мысли желудок сводило горечью, вызывающей кислую отрыжку. Поэтому в тот вечер, сидя в присутствии мятежного спартанца, Кир ощущал себя скованно, без должной уверенности в себе.
Клеарх сидел так, словно готов был ринуться в битву сию же минуту. Широкогрудый, с руками в полосах шрамов, он восседал в красном плаще поверх бронзового панциря и поножей. Из-под птерига[15] проглядывали бедра, мускулистые, как у борца. Было в нем что-то от томно разлегшегося в саду леопарда. Впереди себя он не выслал никаких гонцов с письмом о мире, а просто заявился в Сузы – пеший, в сопровождении всего двоих телохранителей, да и тех потом оставил у дверей (не война же, в конце концов).
Внутри у Кира нудило, возможно, потому, что где-то в глубине души он знал, что мятежный спартанец представляет угрозу и в его присутствии нельзя смыкать глаз. Но эта угроза была хотя бы честна – одно из качеств, почитаемых даже врагами Спарты. Например, афиняне известны тем, что спорят с кем угодно просто ради того, чтобы вести диспут. Они словно наслаждаются хитросплетением логических узлов и нравственных развилок. Персы в этом, надо сказать, сродни им, как бы ни упрямились. Кир не раз наблюдал, как рыночные торговцы в Афинах, позабыв об очереди готовых к сделке покупателей, азартно спорят о цене с каким-нибудь пустомелей.
В сравнении с прочими, спартанцы свою горделивость не скрывали, хотя их недруги выдавали это за высокомерие. Граждане Спарты избирали простоту во всем, а значит, не лгали ни из честолюбия, ни из корысти даже тогда, когда, казалось бы, следовало пощадить чувства друзей или поддержать слабых. Не зря говорят: хочешь получить честный ответ от спартанца – лучше не задавай вопрос. Эта мысль вызвала у Кира невольную улыбку, хотя он знал, что за ним исподволь наблюдают и оценивают.
– Ты просишь слишком многого, – важно и веско произнес Клеарх. – Для человека, который уже потерял три сотни моих людей.
От этих слов Кира кольнула искра гнева. Можно подумать, в этом есть хоть толика его вины. Тем не менее он откинулся на спинку стула, веля себе успокоиться.
– Я уже все объяснил. А их жалованье, исчисленное днем гибели, я отправил эфорам Спарты.
– Значит, ты видел в Анаксисе наймита, – хмуро усмехнулся Клеарх.
– Он им и был, – ответил Кир. – А если и называл меня другом, как и я его, то это было между нами. Свои обязательства я выполнил. И напоминаю тебе, Клеарх, что именно поддержка моего отца, золото моей семьи и помогали тебе во всех твоих походах. Иначе разве могла бы Спарта поставить свой Совет Тридцати править в Афинах?
– О Спарте я не говорю, особенно в этом году, когда глупцы из верхов объявили меня тираном. Что ж. Всякий посев дает свои всходы. – Клеарх понуро вздохнул. – Вот сейчас афиняне снова кричат на своей агоре[16], что якобы вырвали демократию из наших косных рук. С преданными стратегами расправляются рабы, а достойные мужи повергаются в бесчестье, лишенные власти теми, кто в ней ничего не смыслит. – Он задумчиво почесал переносицу. – Если в Афинах возьмутся вновь повелевать афиняне, за что же мы тогда воевали и одерживали победу? Что переменилось?
– Это довод в пользу ничегонеделания, – воскликнул Кир, подозревая, что спартанец его испытывает. Очень хорошо, можно и без церемоний. – Любая жизнь коротка. Зачем вообще что-либо делать, кроме лежания на солнце? Тем более что всем нам рано или поздно удел уготован один. Но если у нас есть гордость, мы боремся до последнего вздоха. Я слишком хорошо тебя знаю, Клеарх. Как и ты меня. Важно то, что спартанское оружие и спартанские законы какое-то время правили всей Элладой. Пускай мелкие шавки тявкают, что они-де одержали верх. Но кое-кто из нас помнит, как все обстояло на самом деле. Тридцать спартанцев правили в Афинах с тремя тысячами афинян у них в подчинении. Ты дал им всем узреть блеск величия. А подобное так просто не забывается.
Клеарх усмехнулся, откидываясь на спинку стула.
– Ты, я вижу, все такой же заядлый спорщик. В этом ты почти грек.
Он усмехнулся, заметив, как изменилось лицо собеседника.
– Поверь мне, это была похвала. Я ведь не стремлюсь отрицать наш долг чести, сын царя. Ты был другом мне, Спарте и всей Элладе. Я просто хотел убедиться, что ты не растратил впустую людей, которые шли с тобой. Анаксиса я хорошо знал. И скорблю о его утрате.
– Ты увидишь его снова, – обнадежил Кир.
Спартанец кивнул.
– Непременно увижу, – сказал он с абсолютной уверенностью, и его темно-карие глаза вспыхнули золотым огнем. – Он не отдалится от Стикса, сколько бы я ни заставил себя ждать. Я скажу ему, что ты отправил весть в Спарту, чтобы его имя было отмечено на белой стене, а его посмертная выплата исправно пошла на взращивание сыновей и дочерей Спарты. И, конечно же, я сообщу ему, что ты пришел ко мне за помощью, дабы отомстить, – а я тебе в ней не отказал.
– Мне придется лгать многим из тех, кто встанет на мою сторону, – сумрачным тоном сказал Кир. – Ты понимаешь это? Я хочу, чтобы ты изначально знал от меня правду.
– Ты рассуждаешь здраво. Лжи от тебя я бы не простил, – ответил Клеарх. – Ты покупаешь мою службу и зарабатываешь мою дружбу. Я не подведу тебя, но и говорить буду все прямо. Если другие военачальники спросят, зачем ты с десятком разных отрядов отправляешься в пустыни своей империи, я предложу им спросить это у тебя. А я простой солдат, который стоит там, где ему прикажут, и убивает тогда, когда ему прикажут.
От силы и собранности, которые источал этот человек, Кир невольно моргнул. Клеарх походил на льва с убранными когтями, который, тем не менее, знает, что он лев.
– Позволь мне купить тебе лошадь, – сказал Кир, отыгрывая себе время, чтобы собраться с мыслями. – Разве подобает военачальнику ходить пешком рядом со своими людьми?
– В Спарте – да, – ответил Клеарх. – Я пойду пешком. Сказать по правде, я не люблю лошадей. Они на меня так смотрят.
– Ты боишься лошадей? – изумился Кир и замер от внезапно нависшей тишины; вместе с ней, казалось, остановилось время. Кир нервно сглотнул.
– Я не боюсь ничего, – ответил Клеарх. – А лошади мне не нравятся. Это разное.
Кир, почувствовав, что затаил дыхание, осторожно выдохнул.
– Да, конечно. Это не одно и то же.
Некоторое время Клеарх взирал на него с суровой пристальностью. А затем вроде как смягчился.
– Пожалуй, нам следует обсудить оплату, – сказал он.
Кир поднял на собеседника глаза.
– Чего будет стоить твоя служба?
– Золотой дарик[17] в месяц на человека, или двадцать шесть серебряных драхм. За бой или за особо тяжелые периоды службы надбавка до полутора дариков. У меня две тысячи спартанцев и примерно восемьсот рабов-илотов. Есть еще периэки[18], им сойдет и половина того, что получают спартанские воины. Илотам, понятно, нужны только пища и оснастка.
– Идет, – согласился Кир.
Сумма была в самом деле справедливой и не больше, чем он платил ранее, хотя и чувствовалось, что спартанец подумывает, не мало ли он запросил.
– Я отсыплю десять тысяч дариков под свою печать. Этого будет достаточно?
Оплата была столь неожиданно щедрой, что Клеарх едва не поперхнулся вином.
– Вполне, сын царя, – ответил он, вытирая подбородок. – За такое у нас тебе воздадут почести, а враги тебя убоятся.
– Ты называешь единственно ценные вещи в мире, – сказал Кир, мысленно прощупывая спартанца. – Неужто золото и серебро в сравнении с ними так же важны?
К его удивлению, Клеарх усмехнулся.
– Это слова того, кто из-за голода зимой никогда не выставлял из дому ребенка. Конечно, они важны. Ваше золото оплатит выучку спартанцев, даст нашему народу мирно жить в долине Эврота. За шестьсот лет, что мы обрели свой путь, ни одна иноземная рать не вторглась в долину Лакедемона. – Он сделал паузу, оглядывая царевича. – Хотя персы подошли ближе других.
Кир склонил голову, принимая рассчитанный на такую реакцию комплимент.
– Это так. Но я имел в виду тебя. Ты служишь ради золота?
Клеарх подался вперед, уперев руки в колени.
– Все мои люди в возрасте от двадцати до шестидесяти. Во славу Лакедемона мы проводим в походах и сражениях по сорок лет, ибо слава эта как… вода, проливаемая на горячий камень. Ее нужно все время пополнять, иначе исчезнет, как не бывало. Такова суть жизни Спарты.
– Ну хорошо. А когда ты вернешься после того, как отслужишь? Что тогда?
– Когда мы вернемся, нас будут вдоволь кормить и оставят в покое, хотя мальчишки насмехаются над старыми солдатами, когда те спят. Но так было испокон – все юнцы глупы. – Он с улыбкой провел рукой по лбу. – Я еще не видел в мире уклада лучше, чем наш. Да, твое золото покупает мои услуги, но соль не в этом. А в том, что у тебя будет удовольствие видеть спартанцев в бою. Это дар редкий и стоит больше, чем просто монеты. Начать с того, большинство людей видит его только раз, не более.
Он с победной улыбкой откинулся на стуле, а Кир улыбнулся вместе с ним, теперь уже без утайки.
– Вина! – хлопнув в ладоши, крикнул он слугам. – За этот редкостный дар мы должны поднять чаши.
Когда он повернулся к спартанцу, его лицо стало серьезным.
– Благодарю тебя, архонт[19]. Слыша твои слова, я лишь сильнее тоскую по Анаксису.
– Сражайся с пылом, и, возможно, однажды ты скажешь ему об этом сам, – сказал Клеарх.
– Я персидский царевич, хотя в этом году мое положение, возможно, пошатнулось.
– В Аиде есть и царевичи. Одного или двух я отправил туда лично.
– Я смотрю, ты забавляешься за мой счет, – заметил Кир незлобиво.
– Да, сын царя. – Спартанец отпил из своей чаши и причмокнул от удовольствия. – Мне знакомо это вино. Оно из моих краев.
Кир улыбнулся, довольный, что его добрый жест не пропал даром.
– Оно создано солнцем, почвой и виноградной лозой.
Он поднял чашу, а с ним и Клеарх.
– За тех, кто ушел до нас, – сказал спартанец. – Да увидимся с ними вновь.
Не говоря больше ни слова, они содвинули чаши и выпили их до дна.
5
Ксенофонт открыл дверь и ступил внутрь, придержав ее спиной. Вид у молодого человека был сердито-взъерошенный, а плащ в темноватых пятнах. Пока он переводил дыхание, с плаща на каменный пол стекло что-то мокроватое и с гнилостным запахом.
Хозяин домишки – немолодой коренастый афинянин с рябой лысиной, проглядывающей из венчика седых волос, – поднял голову от столешницы с зелеными стеблями и листьями лавра, на которых он разделывал макрель. Несмотря на возраст, мужчина смотрелся весьма крепко – сильные руки, бочковатая грудь и ноги с кривинкой, видные из-за стола.
– Ксенофонт! – воскликнул Сократ при виде гостя. Вытирая руки о фартук, он обошел стол и в знак своего радушия подкинул кверху ладони. – Вовремя ты пожаловал к нам на ужин! У меня как раз рыба по-критски с лавровым листом, а на сладкое спелые фиги!
Не успел молодой человек ответить, как Сократ сгреб его в радостные объятия, чуть не подняв над полом. Настроение у Ксенофонта поневоле стало улучшаться.
– Ксантиппа! – крикнул Сократ через плечо. – У нас к ужину гость!
Какое-то время он прислушивался.
– И где ее носит? – с сердитым недоумением спросил он. – Неужто настолько сложно поприветствовать моего гостя? Я тут по локоть в рыбной чешуе. Твой плащ намок – там что, идет дождь? Нет, иначе я бы услышал. И даже почувствовал бы: крыша снова прохудилась, что тоже ставится мне в вину. Значит, не дождь. Я сейчас вижу на твоих устах улыбку. Не знаю, что ты от меня утаиваешь, но, клянусь богами, еще минуту назад ты не улыбался. Что с тобой? Неужто опять те горлопаны с агоры? Ох уж эти дети.
– Они не дети, Сократ. Раз от раза, что мы сталкиваемся на улице, они ведут себя все более разнузданно. Наглеют и множатся, как крысы.
– Ничего, друг мой. Плоды все равно лучше, чем камни.
– В этот раз было и то и другое, – помрачнел Ксенофонт.
Он откинул полу плаща и показал висящий у бедра копис.
Сократ озабоченно поцокал языком.
– Такое оружие не для улиц Афин. С какими намерениями человек в тени Акрополя может обнажать спартанский клинок? Что ты намерен с ним делать?
– Свора жестоких выродков! Они следят за мной и собираются по зову, куда бы я ни шел. Я слышу перестук их шагов в проулках, и вот они сбегаются, охаивая меня и плюя из красных дыр своих ртов! Ты предпочитаешь, чтобы через глумление и камни этих молодых обезьян я шел безоружным? – горько воскликнул Ксенофонт. Веселость в нем исчезла, вновь сменившись тяжелым упрямством.
– В бытность свою в совете я имел право носить оружие. Оно не было у меня отнято, наряду кое с чем еще. Или я кажусь тебе беззащитным?
Не говоря ни слова, Сократ цепко взял его за руку и повел за собой.
Вместе они прошли в общую комнату, которая была сердцевиной дома, откуда вверх вела шаткая лестница к единственной спальне.
Ксенофонт резко пригнулся, избегая низкой притолоки, о которую стукался уже множество раз. Он нахмурился, а его друг хохотнул.
– Видишь, сколь выгодно бывает не высовываться?
– В твоем прежнем доме со мной такого не случалось, – упрекнул Ксенофонт. – По крайней мере, там я мог стоять в полный рост.
– Но цена! Старуха хозяйка выжимала меня, как масло из оливы.
Из корзинки на столе Сократ взял пару фиг и со вздохом сказал:
– Когда я был каменщиком, я ел и спал по-царски. И даже когда был солдатом. Ты еще не знал меня тогда, когда сила и умение владеть мечом были единственным моим достоянием. Три войны, Ксенофонт.
Трижды я выходил для своих хозяев танцевать с Ареем[20], а однажды спас жизнь Алкивиаду[21]!
– Неужели? Ты никогда мне не рассказывал, – ревниво встрепенулся Ксенофонт. Сократ хлопнул его по плечу так, что оно слегка прогнулось.
– Эту историю я излагал уже множество раз. Хотя добрый сказ сродни произведению искусства; нечто вроде ваяния скульптур. И не менее чем камень здесь важна шлифовка.
– То есть ложь.
– Нет, именно шлифовка. Но давай же, друг мой, вернемся к твоим невзгодам. Изо дня в день ты терпишь эти насмешки, считая их уроном для своей чести. И с каждым днем они, по-твоему, становятся все несносней. Ты уже показал мне спартанский копис, который ты якобы готов пустить в ход, хотя твои обидчики еще слишком юны, чтобы честно биться с тобой на равных. Получается, ты готов метаться в стае детей, сражая их направо и налево?
– Они уже не дети, – буркнул Ксенофонт.
– Вот как? То есть они мужи? Бородатые, заматерелые? Вооруженные для войны?
Ксенофонт покачал головой, вспоминая ту свору юных оборванцев. Сократ явно ждал ответа, и Ксенофонт никлым голосом сказал:
– Да нет, не мужи.
Сократ кивнул, назидательно держа поднятый палец:
– Грозиться клинком, который ты не применяешь, похоже на поступок слабосильного – а ты, друг мой, таковым не являешься. Или ты полагаешь, что помахать перед ними кописом будет достаточно, чтобы они в страхе зажмурились и пали перед тобою ниц?
– Вообще нет, – нехотя ответил Ксенофонт. – Но, опять же, почему бы не попробовать.
– Я всегда полагал хорошей идеей обдумывать намеченное прежде, чем тебя схватят за нанесение увечий или убийство. Насеки мне вот это, как можно мельче. Нет, не лавровый лист, а просто травы. Что есть зелень, как не основа жизни! Сила щавеля и крапивы, амаранты и лугового горошка, цикория и черного паслена.
– А последний разве не яд? – поинтересовался Ксенофонт, беря нож и принимаясь за рубку.
– Паслен? Нет, если его собрать спелым и отварить, как это делаю я. Стал бы я подвергать риску жизнь моих сыновей, моего благородного гостя? Ни в коем случае. Весь мир – кладовая для человека со зрячими глазами и руками, что на ощупь отличают полезные травы от простых злаков. Вот спроси меня, Ксенофонт: сколько стоит эта еда? Пища, которой я смогу накормить мою жену, моих детей, моего гостя, а заодно насытить и собственный аппетит, который зачастую мой хозяин, но никогда не мой раб?
Ксенофонт окинул взглядом десяток скромных макрелей, выложенных на столешнице. Впрочем, причудливость философа он изучил до тонкостей.
– Ни единой монеты, – сказал он.
– Ни единой монеты! – эхом повторил Сократ. – Да ты, я вижу, оракул! Рыбу на причале мне дал старик Филон за то, что я помог ему починить сеть. Узлы у нее очень интересные, и я унес с собой новый навык, стоящий куда дороже, чем несколько рыбин. Он-то думал, что платит мне за мой труд. – Сократ подался ближе, понизив голос до заговорщического полушепота. – А на деле заплатить ему должен был я. Ведь так?
Он хватил по столешнице кулаком с таким азартом, что рыба на ней слегка подпрыгнула.
Ксенофонт поднял взгляд на стукотню сверху. Уж лучше б его старый учитель взял дар или даже долг и перебрался в более приглядный квартал Афин, но Сократ об этом и слышать не хотел. По другую сторону стены затеяли спор соседи – настолько громко и звучно, будто они находились непосредственно здесь. Перекрывая их сварливые голоса, Сократ продолжал:
– Однако ты меня отвлекаешь, Ксенофонт. Этими своими разговорами о рыбаках и травах. Вернемся лучше к твоей дилемме. Меня не радует, что ты сердишься. Итак… Если ты отложишь мысль нападать на тех безусых юнцов и не будешь грозить им, словно немощная старуха, то соберешь ли ты их подле себя с целью вразумить не задирать тебя и не кидаться камнями?
– Вряд ли, учитель. Мое достоинство этого не выдержит.
– Это так. Озорники бывают грубы, это я до сих пор помню. Слабость они осмеивают. И все же излишняя строгость с ними тебе ни к чему. Или ты будешь колотить их палкой, раздавая пинки и тумаки?
Мне кажется, это все равно предпочтительней, чем копис.
– Возможно, – ответил Ксенофонт, блаженствуя от этой умозрительной сцены.
За разговором он быстро и сноровисто рубил дикую зелень, каждую горсть кидая в объемистую чашу, рассчитанную на семью.
– Ты не принес с собой вина? – спросил Сократ. Ксенофонт смущенно потряс головой. Философ с улыбкой потянулся под стол и, достав оттуда старый кувшин, вынул из него затычку.
– Ничего, здесь кое-что есть. Люди, наделенные даром слова, не могут вести беседу на сухую. Но я же не конь и не вол, чтобы пить воду. Человек пьет вино, чтобы согреть кровь, выйти за свои пределы и вернуться в себя с уже иным суждением. Экстаз, этот выход за пределы, – залог и секрет хорошей жизни. Всегда быть собой чересчур утомительно.
Ксенофонт невольно улыбнулся тому, как пожилой философ поставил перед ними две грубые глиняные чаши и наполнил их.
– В отличие от меня моя дорогая Ксантиппа особой ценности в вине не видит. Она, знаешь ли…
При виде спускающейся по лестнице жены Сократ бдительно сменил тон:
– Мой драгоценный цветок, к нам за вечерней трапезой согласился присоединиться Ксенофонт. Ты разве не слышала, как я звал?
– Слышала, – бросила в ответ Ксантиппа.
Она выглядела раздраженной, и Ксенофонт отвел взгляд в сторону, давая супругам возможность перемолвиться.
– Ты знаешь, что дети опять лазали по соседской крыше?
– Любимая, у нас гость. А мальчикам лазать свойственно. Это в их природе.
– Гм. Чего бы не лазать, если их в этом поощряют. Милости просим в наш дом, советник, – сказала гостю Ксантиппа, как будто только сейчас его заметила.
Гость, как подобает, поклонился ей, после чего они соприкоснулись щеками (руки у Ксенофонта были все в зеленых ошметках трав).
– Сердечно благодарю, – сказал он. – Хотя совета, к сожалению, больше нет. Твой муж помогал мне с одной дилеммой.
– Ох, уж да, – едко усмехнулась Кстантиппа. – Он большой мастак хлопотать за других.
– Моя сладкая смоковница, я разлил последнюю мерку вина, – искательно сказал Сократ. – Не могла бы ты принести нам еще кувшинчик из лавки старого Делиоса?
– Принесу, если у тебя найдется пара драхм, чтобы ему заплатить, – холодно ответила она.
– Он мой друг, любовь моя. Скажи, что я заплачу на следующей неделе.
– Он сказал, что ты сначала должен с ним рассчитаться за прошлый месяц. Только тогда он даст еще.
– И тем не менее, – просительно настаивал Сократ. – Скажи ему, что ко мне на ужин пришел старинный друг. Он поймет.
Ксенофонт потянулся к кошельку, но его рука оказалась схвачена пальцами, с молодости держащими молоток и долото.
– Ты мой гость, – с тихой властностью сказал Сократ. – Не доставай свои монеты в этом доме.
– Это всего-навсего за то, чего я сам не догадался принести.
– Теперь пусть уж будет как есть, – пожал плечами Сократ. – Оставь мне мою гордость, мое глупое тщеславие. Ко мне на прошлой неделе пришли три новых ученика.
– Ну так научи их обтесывать камень, – все с той же усмешкой сказала Ксантиппа. – Пускай они тебе заплатят хотя бы за это. Или за навыки владения копьем и щитом. Не за твои ж мудреные словеса, в конце концов. За то, что ты даешь в таком обилии, денег никто не платит.
– Ты принесешь вина, мой спелый гранат? – спросил Сократ голосом уже более жестким.
Ксантиппа решила, что перечить достаточно, и вышла на улицу, хлопнув дверьми.
– Какая пылкая женщина, – произнес Сократ, с обожанием глядя ей вслед. – Я ее, наверное, не заслуживаю.
– Неужели любовь к мудрствованию так мало стоит? – спросил Ксенофонт. – Я готов платить тебе на правах ученика, если б ты только дал на это согласие. Об этом я тебе уже говорил, когда ты последний раз менял свой дом.
– Я гордый человек, – произнес Сократ. – Как и все афиняне. И не люблю ходить с протянутой рукой, приговаривая «накормите» или «оденьте меня». Нет. У меня свой путь. Жить своим умом. Я кормлю своих сыновей и жену, ну а если в трудные месяцы образуются кое-какие долги, так что с того? Наша жизнь так быстротечна, Ксенофонт! Должен ли я тратить хотя бы день из нее на беспокойство? Уже нынче ночью, когда я засну, меня может, как перышко, унести ветром. И поутру моя дорогая Ксантиппа найдет меня холодным и безжизненным. Остаток дней у нее пройдет в скорби и стенаниях, а моим сыновьям будет уготована участь рабов или жизнь впроголодь. Но что бы изменилось, если б я во сне умер каменотесом? Итог был бы точно такой же. Можно умереть на поле брани, и страдать по тебе будут не меньше и не больше. Я же вместо этого ставлю вопросы, и иногда людям открываются истины, которых они до этого не прозревали. Это само по себе и воздаяние, и награда, друг мой.
– Ну так поставь передо мной, – мрачно сказал Ксенофонт.
– Истина тебе уже известна. А мое желание лишь вычленить ее так, чтобы люди поднесли ее к глазам и разглядели по-настоящему. Некоторые не выносят ее света и впадают в странную гневливость. Одним из таких был Критий, и этот гнев в конце концов его сгубил. Пускай его душа обретет мир.
Ксенофонт склонил голову, вспоминая. Сократ кивнул ему в такт, словно соглашаясь с самим собой.
– Я думаю, ты сделан из лучшего вещества, чем он. Что и хорошо.
Оба смотрели друг на друга через стол, забыв про рыбу и нарезанные овощи.
– Так отчего молодые люди с улицы бросают в тебя камни и гнилые плоды?
– Потому что их необузданности дана воля. Потому что это не зажиточная часть города. Здесь нет порядка.
– Они кидаются камнями во всех, кто проходит по этой улице?
Ксенофонт, помолчав, качнул головой.
– Тогда почему именно в тебя, друг мой?
– Ты прекрасно знаешь, почему.
– Я хочу, чтобы это сказал ты.
– Они много раз видели меня в этом месте. И знают мое имя.
– Значит, им ненавистно твое имя? И они мечут камни в него?
– Они считают меня предателем, – зардевшись, пробормотал Ксенофонт.
– То есть причиной не имя, а твои поступки?
– Я не сделал ничего дурного. Ничего!
– Тогда почему они считают тебя предателем?
Ксенофонт всплеснул руками.
– Я пришел к тебе как друг, а не ученик. К чему нам это дознание? Сейчас оно только портит настрой. Почему бы нам не допить остаток вина, а я схожу возьму еще? Беседовать мы можем о чем угодно. А эту тему впору оставить на улице, в сточной канаве.
Сократ сложил нарезанные овощи и рыбу в горшок, покрыв их куском белого сыра. Все это он облил оливковым маслом и посыпал крупной солью, растирая ее меж пальцев.
– Лучше это делать, когда моей любви нет дома. Она говорит, что я трачу слишком много соли, и это правда, но что за жизнь без ее вкуса? К тому же ты, друг мой, не приходил ко мне целый месяц, хотя весь город пребывает в брожении. Сегодня ты пришел за ответами; возможно, и за советом. Так давай, уподобясь продавцам улиток с их костяными палочками, искать мясо внутри.
Двери в очередной раз хлопнули, возвещая возвращение жены философа. Кольнув взглядом обоих собеседников, на столешницу она со стуком поставила две амфоры.
– Делиос сказал, что ждет оплаты, иначе он больше ничего не даст: все же он торговец, а не заемщик. А если дать тебе волю, так ты своей слабостью к вину его разоришь.
– Дорогой мой друг, герой среди людей, – сказал Сократ нежно и, повыдергивав из горлышек кожаные пробки, с удовольствием их обнюхал.
– Ах как они новы, как сладостно терпки и молоды, любовь моя! Словно первые недели брака, словно новые друзья, новая любовь, новые триумфы!
Жена на это фыркнула, но не противилась, когда он сжал ее в объятиях. То, как Ксантиппа держится с мужем, всегда вызывало у Ксенофонта глухую неприязнь. Он ее, казалось, раздражал и вызывал неловкость, хотя вместе они взращивали троих сыновей. Но сейчас горечь, обычно сквозящая в ее поведении, находилась в тисках любви неказистого мужа, крепко целующего ее на кухне.
– Созывай мальчиков, моя дражайшая, – сказал он ласково. – А советник объяснял мне причину своей разгневанности.
– Совет распущен, – утомленно сообщил Ксенофонт. – Должности я больше не занимаю.
Знакомый с внезапностью вопросов философа и по-прежнему не желая углубляться в эту удручающую тему, он, тем не менее, удивился, насколько быстро Сократ забыл о своих возражениях.
– Значит, совет городу не нужен? И в Афинах более не осталось достойных мужей, способных заведовать общественными делами?
Сократ протянул Ксенофонту чашу молодого вина, и тот, приняв ее, сел и сделал глоток, в то время Ксантиппа с порога крикнула сыновей и стала расставлять на столешнице миски. Она зажгла масляный светильник, и комната позолотела теплым светом.
– Почему я должен говорить то, что ты уже и без того знаешь? – спросил Ксенофонт.
– А почему ты противишься? Ведь ты сам, наверное, и пришел об этом рассказать?
Ксенофонт поджал челюсть; настроение его будто меркло по мере того, как комната наполнялась светом.
– Ну ладно. Совет был распущен вместе со свержением спартанцев. Это то, что ты хотел услышать? Тридцать тиранов были схвачены, и большинство из них растерзаны на улицах толпой. Твоего спартанского ученика Крития побили камнями. Вот совета и не стало.
– Ну а ты, мой друг? – тихо спросил Сократ.
Вопрос был прерван стуком и смехом троих сыновей, спускающихся сверху по лестнице. Растрепанные и шумливо веселые, при виде отца и его гостя они присмирели и за стол садились уже молча.
– Что я?
– Как случилось, что ты остался жив? Как ты уцелел в ходе восстания, сбросившего спартанское владычество?
– Меня помиловали, как и еще три тысячи.
Говоря это, Ксенофонт сжал руку в кулак, который Сократ нежно погладил, чувствуя в нем легкую дрожь.
Перед началом трапезы Ксантиппа возблагодарила за пищу богиню Деметру вместе с морскими нимфами. Из мальчиков двое были рослыми и стройными, как саженцы кипарисов, а третий, с густыми смоляными вихрами, походил, судя по всему, на своего отца в детстве. Все трое с жадностью набросились на еду, каждую каплю масла подтирая хлебными корочками.
– Если ты был прощен, то почему тебя поносят на улицах? – не отступал Сократ. – Почему бросают в тебя камни и гнилые плоды?
Ксенофонт опустил голову.
– Отцы некоторых из них были казнены по приказу Тридцати. И теперь они обвиняют тех из нас, кто помогал им править, хотя мы хотели только порядка и лучшей жизни. А что принесла нам демократия, кроме разрушения? Скольких афинян мы потеряли при Сиракузах? Сколько еще погнило в их пещерных тюрьмах? Трижды к нам приходила Спарта и говорила: «Мы все эллины. Давайте положим конец войне между нами». И трижды демократия Афин голосованием презрела этот благородный жест. Даже когда мы терпели поражение, они пришли и предложили нам мир – но мы, афиняне, его отвергли.
– И ты на них прогневался? Ты счел, что спартанцы более благородны?
– Да, потому что так оно и было. Дело не в свободе мнения. Афины дали голос толпе – а чего она исконно хочет? Жить, не работая, лежать под солнышком и пожинать плоды, созданные другими! Конечно, я примкнул к Тридцати в их трудах. И я был прав.
– Ну а теперь? Афинский народ тебя простил?
– Нет. Он меня истязает. После всего того, что я для него сделал, он видит во мне врага! За долгую историю Афин мы держали власть всего один год. И это было время, когда в городе раздавался хлеб, а на сцене исполнялись великие пьесы. В городе не случалось беспорядков. Ни одному преступнику не было дозволено выбирать себе способ смерти. Те, кто угрожал спокойствию, уничтожались – и результатом тому был мир.
– Ты говоришь, с казнью тех преступников насилие прекратилось? – спросил Сократ почти шепотом.
Ксенофонт с унынием покачал головой.
Мальчики замерли, перестав даже есть.
– Если бы. День ото дня, месяц от месяца становилось все хуже. Мы думали, что со смертью главарей остальные угомонятся и внимут букве закона, но все пошло наоборот. Сначала подняли головы сродники главарей, а там их число начало отрастать, словно головы у Гидры. На каждой улице, словно из ниоткуда, возникали незнакомые крикуны, ратующие перед толпами. Мы приказывали всем разойтись и особо не церемонились. Ввели в кварталах города запрет на ночные гуляния, а число казненных неуклонно росло.
– Но наступил ли в итоге мир? – веско спросил Сократ.
– Нет. Они восстали, с факелами и железом. На всех улицах, приканчивая правителей прямо в постелях, убивая, разграбляя и…
Он передернул плечами, стряхивая с себя тяжелые воспоминания.
– Но с той поры они простили тебя? Ведь минул, кажется, уже год с лишним? Те темные дни, казалось бы, должны были остаться позади? Несомненно, они восстановили стены, разрушенные спартанцами для того, чтобы обнажить нашу покорность перед глазами всей Эллады?
Ксенофонт огляделся, видя перед собой женщину с суровым лицом и ее троих сыновей, зачарованно смотрящих на рассказчика (что не мешало им елозить пальцами по пустым чашкам – вдруг да пристанет какая-нибудь крошка). Он покачал головой:
– Стены обратились в щебень, а камни растащили на строительство новых жилищ. Я же по-прежнему хожу в немилости. Кое-кто из нынешних ораторов призывает к новым карам для тех, кто содействовал Тридцати, и чтобы все помилования были отменены. А то что-то мы чересчур к ним снисходительны.
Нависло молчание, которое никто не прерывал, пока Ксенофонт не заговорил снова:
– Что мне делать, я не знаю. Бежать не могу, а если остаться, то, думаю, добром это не кончится.
– У тебя нет ни жены, ни детей. Твоя жизнь всецело принадлежит тебе. Сколько тебе лет, тридцать?
– Двадцать шесть! – воскликнул Ксенофонт горестно.
Сократ усмешливо вздохнул.
– Когда-нибудь, друг мой, мы побеседуем с тобою о тщеславии. А пока взгляни на свою жизнь такой, какая она есть. Что ты думаешь делать? Будешь жить, как жил? На какие изменения ты способен?
Ксенофонт распрямил спину, принимая еще одну чашу с вином, хотя в голове от выпитого начинало плыть. Сделав глоток, он попробовал отрешиться от себя и окинуть свою жизнь взглядом незнакомца.
Вино воздействовало именно так, как внушал Сократ, и великие откровения посещали тех, у кого доставало духа рассуждать честно.
– Я должен покинуть Афины, – проговорил он, как сквозь дымку. – Пускай это мой дом, но я должен его навсегда оставить.
Сократ улыбнулся и через стол крепко ухватил его за руку.
– Не навсегда, друг мой. Даже афиняне в конечном итоге склонны забывать и прощать. Ты молод, Ксенофонт, и топчешься на месте с бременем беспокойства и страха на плечах. Так сбрось же его! Повидай мир. А со временем ты возвратишься. Уверяю тебя, к той поре все потрясения улягутся и их позабудут. Таков заведенный порядок вещей. Шагай вдаль, смотри вширь, постигай и достигай. А домой придешь с историями, коими развлечешь мою любимую жену.
Ксенофонт встал и обнял своего пожилого собеседника.
– Научиться быть в ладу с собой и через это прийти к благоденствию – это все, что я когда-либо испрашивал у судьбы! – задрожал он губами от чувства. – Ты всегда знал то, что мне приоткрывалось лишь мельком. Вот кого нужно поставить во главе Афин – тебя, Сократ! Тогда бы наш город достиг подлинного величия!
– Он велик и без того, друг мой. Хорошо бы тебе это узреть. Если ты доверяешь моим суждениям, то глас народа тебе подобает ставить несколько выше. Таким был и Критий. Завтра получать мою науку придет юноша, по мнению которого человек нуждается в опекунах так же, как стадо в пастухе. Ну почему получается так, что все мои лучшие ученики упорно отказываются видеть ценность наших афинских диспутов; того, как в спорах и сомнениях рождается истина? В целом свете ступить некуда от обилия указчиков и опекунов. Тиранов, царей и правителей расплодилось не меньше, чем жалящих пчел. И только здесь, в Афинах, даруется право голоса молодым, малоимущим и тем, кто умен. Дается оно и таким нерадивцам, как я, без состояния и богатых покровителей. Мальчик мой, то, что мы здесь имеем, подобно цветку под полуденным солнцем! Оно уязвимей бабочки, более хрупко, чем стекло!
– Советы и правила нам дают боги, – мрачно заметил Ксенофонт. – Подобно тому, как отец наставляет своих сыновей. Цари и вожди не более чем природа человека, изустно повторяющего этот наказ. Или бы ты доверил власть тем, кто кричит громче других? И позволил бы им всем своим множеством зашикать мудрых и праведных?
– Прежде мне уже доводилось своей дерзостью вызывать немилость богов, – сказал Сократ. – Они…
Жена потянулась через мужа, чтобы собрать миски, и скрыла его от Ксенофонта. До слуха донеслось скрытное шипение слов, которыми обменялись супруги; пришлось сделать вид, что он не слышит. Кое-что здесь было не для детских ушей, как и не для ревнителей общественных нравов. Не все в Афинах могли оценить тягу Сократа к спорам и сомнению во всем, даже в перспективе собственной гибели. Мысль была странной, но заняться ею Ксенофонт не успел: ему оказалась поднесена очередная чаша с вином, а на столе появилась доска с сырами, нарезанным хлебом и виноградной гроздью. Мальчики попросились выйти из-за стола и умчались, как только им разрешили.
– Сократ – ты был наставником Крития, который примкнул к Тридцати и правил в Афинах, пока за ним не пришла толпа. Как так получается, что меня преследуют по улицам и угрожают за некогда содеянное, но никто совсем не трогает тебя?
– Меня слишком любят, – ответил Сократ. Его жена в очередной раз фыркнула, вытирая миски, а он поглядел на нее с ласково-вопросительной улыбкой. – На самом деле они чувствуют мою к ним любовь. Они не видят, чтобы я ставил себя выше обычных людей. Это было бы просто безумием! Я житель Афин. Я эллин, каменщик, солдат и любитель ставить вопросы. Я хожу среди них босой, и они видят, как вокруг собираются юноши, чтобы меня послушать. Во мне нет для них угрозы.
– Тебя называют мудрейшим человеком в Афинах, – заметил Ксенофонт сухо.
– Что я сделал такого, что имело б цену хотя бы чаши доброго вина? Когда я тесал камень, на свет появлялось что-то новое. Когда я с товарищами стоял в фаланге, превозмогая кровь и боль, меня страшились враги отечества. Ну а нынче я разглагольствую на рыночной площади.
– Алкивиад сказал, что благодаря тебе он постиг всю рабскую тщету своей жизни, – тихо сказал Ксенофонт. – Хотя есть такие, кому подобные прозрения не по вкусу.
– Он великий человек. Я рад, что спас ему жизнь, даже если бы он более не ходил в военные походы. Что же до остального, то вот я прожил на свете почти семьдесят лет. По рынкам я расхаживаю с пастушьим посохом и в залатанном хитоне. Никто меня не страшится. Но ты, Ксенофонт. Когда ты в духе своего отца возводишь бровь, то те, кто ставит себя выше других, вероятно, полагают, что ты не заслуживаешь их благосклонности.
Какое-то время Ксенофонт молчал, тиская под столом свои пальцы. Как-то незаметно в ход пошла уже вторая амфора вина. В конце концов молодой человек кивнул.
– Я обдумаю сказанное тобой. Пойду, наверное, на рыночную площадь, где сидят вербовщики. И пускай мой путь определят боги.
– Ты прекрасен, достойный сын Афин, – одобрил его замысел Сократ. – Будь я столь же юным, вновь проживающим свои года, я бы отправился с тобой. – Он оглянулся туда, где чутко замерла Ксантиппа. – Но юность моя прошла, я теперь при жене и детях, так что мое время теперь не совсем мое. А потому желаю тебе удачи.
Они еще раз обнялись, и Ксенофонт на не вполне твердых ногах вышел за дверь, глядя перед собой затуманенным взором. Возвратясь к столу, под перевернутой чашкой Сократ обнаружил мешочек с серебряными монетами. Какое-то время он в задумчивости бряцал им на ладони, а затем пожал плечами и послал жену за добавкой вина отметить нежданный прибыток.
6
Город Сарды лежал на западной оконечности державы, к югу от Византия. В Сардах люди считали, что далекие Сузы и есть персидская столица. Город Персеполь, для строительства которого была срезана террасами гора, здесь не воспринимался даже как миф.
По рынкам Сард разгуливали богатые греки со своими охранниками, отбирая товары и специи для своих рынков или же для собственного удовольствия. В городе по непомерным ценам шли белокурые рабы из Галлии и шелка из Китая, хотя истинное богатство было не для пошлого взгляда торгашей. Высокие стены скрывали владения вельмож и сатрапов, чтобы никто из проходящих не знал, что их сады по ту сторону столь же огромны, как и на западе державы.
В центре города в полной готовности содержался царский дворец с прилегающими угодьями, хотя никто из высочайшего семейства не показывался здесь уже с десяток лет. Но армия слуг и рабов все так же исправно подметала, красила и обихаживала его покои и живые изгороди. При этом прислуга держалась на почтительном расстоянии от царевича и его троих спутников, которые вроде бы прогуливались по безлюдным садам. Как и многое другое, уединение здесь было не более чем видимостью.
На Кире в жару были легкие одежды, а у бедра висел изогнутый клинок с рукояткой, уснащенной рубинами. Левую руку царевича украшал золотой перстень – единственный знак богатства и власти. Рядом с Киром шагал Клеарх в красном плаще, морщинящемся под ветерком; спартанец шел босиком и слушал.
– Мне казалось, я знаю ту часть Анатолии, – сказал один из идущих.
Военачальник Проксен не уличил особу царской крови во лжи, но на его тяжелом лице проглянуло сомнение. Все эллины были подтянуты и загорелы под стать своему воинскому поприщу. Лицо беотийца[22] Проксена было словно выточено из кости: лоб нависал над глазами, а клювообразный нос рассекал воздух, как корабль волны. Спартанцу Проксен нравился, хотя он понимал, что присутствует при лукавой игре стратегов, где открытость может погубить тебя раньше, чем ты начнешь представлять собой угрозу.
– Ты же не можешь знать каждое горное племя? – спросил Кир, хлопнув Проксена по спине. – Вся Анатолия является частью державы моего брата, даже мятежный юг. А я командую его воинством. Может, мне двинуть на те горы несколько тысяч восточных персов? Тех, кто никогда не ходил по этим землям раньше? Впрочем, нет. Думаю, мне для этой работы понадобятся греческие солдаты. Клеарх порекомендовал мне тебя, да я и сам слышал о тебе как о прекрасном военачальнике.
– Ты мне льстишь, великий, – скромно откликнулся беотиец.
– Не более, чем ты того заслуживаешь. Ну так что, Проксен, – найдешь мне две тысячи хороших гоплитов? Обученных, опытных людей, которые не дадут деру от диких племен?
– Отчего бы нет. Я знаю с десяток лохагов, у которых есть списки обученных ими людей. Некоторые, разумеется, сейчас в походе, иные в отставке. Но две тысячи – это не бесчисленное множество.
Греческий военачальник поглядел на царевича, затем на Клеарха. Что-то здесь было не так, хотя и не понять, что именно. Мастерство солдат-эллинов ценилось во всей ойкумене. Их брали в наем по самым высоким ценам. И тем не менее Проксен ощущал: что-то здесь не то. Какое-то внутренне чутье тянуло отказаться. Хотя, с другой стороны, царевич предложил целое состояние.
– Мои люди нужны тебе всего на год? Отправиться в горы и очистить их от племен?
– Как будто их никогда и не бывало, – с жаром кивнул Кир.
Клеарх обратил внимание, как царевич преувеличенно расширил глаза. Видимо, для убедительности, чтобы грек принял его сторону. Проксен, между тем, задумчиво поскреб щетину на своем квадратном подбородке.
– Мне, само собой, нужно будет часть заплатить вперед, для их вящей бодрости.
– Как пожелаешь, – пожал плечами Кир. – Я тебя сведу с моим помощником Парвизом. Он устроит первый платеж и все, что будет нужно. А уж ты, предводитель, подготовь своих людей. Отточи их навыки как бритву, чтобы сбривали волосы на лету. А я тебя за это отблагодарю.
– После этого мы двинемся на юг, против писидийцев[23]? – спросил Проксен.
– После этого ты доложишь мне, что вы готовы. Я захочу посмотреть на твоих молодцов, устроить им смотр, прежде чем они походом отправятся за три сотни парасангов.
– Понятно, великий. Твоим доверием ко мне я польщен. Как и добрыми словами Клеарха, хотя мы с ним не виделись десяток лет. Я не подведу ни его, ни тебя. С этой самой минуты я служу трону Персии.
– Ты служишь царевичу Киру, – поправил Клеарх.
Греческий военачальник приостановился, медля опускаться на одно колено.
– Разве это не одно и то же? – удивился он.
Кир рассмеялся, хотя в этот момент готов был спартанца задушить.
– На троне сидит мой брат! – сказал он. – А я на протяжении восьми лет добивался верной службы от каждого человека в его войске от Сард до Индии. Так что, конечно, это все одно и то же.
Грек перед ним приопустился на колено и снова встал, не дожидаясь, когда сын царя даст ему на это соизволение. Кир помрачнел. Эти чужеземцы никогда не выражают почтения должным образом, повергаясь ниц. Понятно, это не их обычай, но во дворцах Персии принято совсем другое. Кира кольнула досада.
Когда Проксен ушел, он повернулся к еще одному своему спутнику, который за все время прогулки не произнес ни слова, а только наблюдал.
– Что-то я утомился! – возгласил Кир.
Не успел он это произнести, как из-за кустов повысыпали слуги со столом, стульями и изящными лазоревыми кубками. Для утоления голода появились тарелки с кушаньями, и Кир, усаживаясь без оглядки на подставляемый сзади стул, потянулся к оливкам и жареному чесноку.
Стимфалец[24] Софенет на всякий случай оглянулся: точно ли слуга приставляет стул и за ним? Ему в руку подали кубок, и он отхлебнул из него прохладного ароматного вина.
– Великий, я к таким вещам непривычен, – признался он.
– Возможно, со временем попривыкнешь, – сказал ему Клеарх, – если будешь верно служить.
– Передо мной, я так понимаю, стратег. Нет? – осведомился Кир.
Гость склонил голову, безропотно снося фамильярность.
– Ты слышал, что я сказал Проксену, – продолжал царский сын. – Ты, должно быть, знаешь, что за минувшие месяцы мне приходилось сталкиваться со многими из них.
– Ты, должно быть, горишь к этим писидийцам лютой страстью? – рассудил Софенет.
Потягивая амброзию и наслаждаясь дыханием ветерка в просторах сада, он оглядел плавную холмистую даль. Клеарху, должно быть, от всего этого роскошества неуютно. Будучи спартанцем, он, небось, высматривает себе какую-нибудь делянку с крапивой и терновником для поддержки своего привычного аскетизма. Такой взгляд на вещи был стратегу чужд. Как можно добровольно подвергать себя лишениям в мире, где вершины холмов овевает легкий ветерок; где упруга и нежна плоть женщин, а глаза их неотразимо сверкают? За своими собеседниками он внимательно наблюдал, в особенности за царевичем. В городе шли разговоры, что Кир из-за своих трудов почти не знает сна; что в войско он стягивает всех, кого только можно, за тысячу стадиев со всех сторон. Золото у него, понятно, течет рекой, словно ничего для него не значит.
Софенет ждал ответа, но его не последовало. Спартанец одеревенел лицом, а его затяжелевшие глаза смотрели куда-то вдаль.
Стратег вздохнул.
– Великий, двадцать долгих лет я служил бок о бок со спартанцами и коринфянами[25], фиванцами[26] и афинянами. Вымостил себе путь к авторитету и доверию, так что люди смотрели на меня в ожидании приказов, жить им или умереть сию же минуту. Участвовал в трех крупных походах и сам возглавлял дюжину сражений помельче, пройдя через них без единой царапины или серьезной раны. А непосредственно в день моего сорокалетия мне на ногу наступил конь и сломал половину костей. Полгода я не мог выходить на поле битвы… ну, и понятно, поиздержался. Поэтому не скажу, что мысль о монетах для меня совсем уж не имеет значения, тем более по ставкам, которые сулишь ты. Ты покупаешь мою службу и мое послушание. Если скажешь: «Софенет, я не хочу обсуждать свои истинные цели», я безоговорочно пойму. У себя в Коринфе я знаю примерно тысячу двести человек, которые вскочат с брачного ложа и отправятся за достойную плату из дома прямиком в поход. Твое имя вызывает у людей уважение, и о тебе хорошо отзываются. Так что я могу собрать тысячу двести человек, каждый из которых равен любому спартанцу.
Клеарх спесиво фыркнул, а Софенет искоса на него посмотрел.
– Клеарха я знаю полжизни. Настолько, что скажу с уверенностью: он не из тех, кто лукавит или говорит полуправду. Полагаю, как и ты, великий. Видимо, у вас обоих есть цель, и я ее не оспариваю. Тем не менее мы люди бывалые, не так ли? И пускай больше не будет разговоров об опасных горных племенах, во всяком случае, между нами. – Он усмехнулся и отхлебнул фруктового вина. – В распоряжении Клеарха, я слышал, пара тысяч спартанцев. И пусть мне пить уксус вместо доброго вина, если в мире отыщется хоть одно дикое племя, которое способно доставить ему хлопот, как бы оно ни плодилось и на каких бы горах ни обитало.
Софенет бросил взгляд на царевича – увидеть, как восприняты его слова, – и озадаченно моргнул, обнаружив, что Кир смеется, а глаза его ярко блестят.
– Я тебя насмешил? – спросил Софенет.
– Вовсе нет, стратег, – ответил тот. – Клеарх сказал мне, что ты не купишься на рассказ, о котором мы с ним условились. Как ты верно заметил, войско я собираю по иным причинам. Но если они станут предметом пересудов на рынке, мне это будет не во благо. – Он пригубил свое вино, оценивая взглядом сидящего напротив собеседника.
– Я, конечно же, понимаю, – степенно кивнул стратег. – И уже сказал: твое золото покупает мои услуги. Я лишь покорное орудие. Топор не спрашивает у дровосека, какое дерево рубить.
Клеарх расхохотался так, что оба обернулись.
– Софенет – покорный? Великий, не принимай эти слова всерьез. Однако я никогда не слышал, чтобы он сплетничал.
Софенет натянуто улыбнулся.
– Возможно, этот скромный топор озаботится вопросом, будет ли он противостоять всадникам или пращникам. Или же будет он сражаться на суше или на море. Хотя выбор, великий, безусловно, за тобой.
Царевич внезапно обернулся с хваткой серьезности. Напряженно-пристальным взглядом он обвел сад, ища любопытные глаза, а может, уши слуг поблизости. По его повелительному жесту стимфалец подался вперед, пока губы Кира не оказались возле его уха. Клеарх, наоборот, откинулся на спинку стула, чтобы наблюдать за тем, как, вероятно, изменится выражение лица стратега.
Когда царевич снова отстранился, Софенет сумел почти ничего не выказать.
– Понятно. Значит, все же писидийцы. Я восхищаюсь человеком, способным так держать свои секреты.
Вместе они поднялись, и Кир хлопнул стимфальца по плечу непринужденно, как старого друга. По его взмаху слуги подошли проводить эллина к воротам, и Кир с Клеархом остались наедине.
– Ты ему сказал? – спросил Клеарх, не вполне уверенный в ответе.
– Сказал, – ответил царский сын. – Чтоб была хоть какая-то надежда, со мной должны стоять лучшие люди. И если есть у меня хотя бы один талант, то он в том, как таких людей находить.
– Ты оказываешь мне честь, великий, – молвил Клеарх, – и вместе с тем возвышаешь себя.
– Сказано правдиво, – величаво кивнул Кир.
Ксенофонт вздрогнул, заслышав позади на оживленной улице свое имя. Афины на протяжении веков были самым богатым городом Эллады. Бедняки исконно стекались сюда в поисках заработка. Одни чаяли поднажиться, уповая на удачу, другие тем временем обслуживали афинские триремы, а нажитое спускали в лавках и тавернах близ обширной пристани. Кое-кто предпочитал воровать, рискуя публичной поркой или изгнанием.
Глазу противно было видеть молодых людей, которые по здоровью вполне годились в отряды гоплитов-наемников, но, гляди-ка, проматывали свою жизнь в пьяных кутежах, не чураясь иной раз поднимать руку на тех, кто проходил мимо.
С некоторыми из них Ксенофонт познакомился, прогуливаясь с Сократом по улицам за беседой. Вид неказистого босяка в хитоне, латаном-перелатаном, как у нищего, что и говорить, привлекал к себе внимание. Ксенофонт, помнится, впервые задержался возле философа на агоре, когда Сократ подозвал к себе юношу по имени Геспий и попросил присесть рядом. Парень, судя по всему, был вожаком какой-то местной шайки. Он подошел нехотя, вразвалку, а его друзья ржали, что старый козел-де сейчас употребит его как женщину. Ксенофонта все это раздражало, а Сократ непринужденно принялся задавать Геспию вопрос за вопросом. Отбрасывая шелуху первых шуточек и грубых ответов, этот необыкновенный старик выщупывал истинную сущность молодого человека. И когда он это делал, что-то новое, иное пробуждалось в главаре этой банды. Один из его дружков подлез с какой-то скабрезностью и получил от Геспия удар такой силы, что, ушибленно взлаяв, отлетел и убрел прихрамывая.
После Ксенофонт наблюдал такое сотни раз. Вместе с тем Сократ отрицал, что вообще что-либо знает, а лишь ставит вопросы, пока людям не откроется сокрытая внутри них истина. Для некоторых она была откровением, подобным восходу солнца над холмами.
Для других это осознание оказывалось нестерпимым, и они вскипали ненавистью – чаще всего к человеку, который открыл, за кого они себя выдавали и кем были на самом деле.
Сейчас Ксенофонт оглянулся и сжал кулаки, углядев поверх колышущейся людской волны бритую голову Геспия. Этот юный повеса был еще и вором, а толпа как раз покидала театр Диониса. Люди шли и обсуждали увиденное; многие после пьесы пребывали в некотором оцепенении, что и способствовало таким, как Геспий, шныряя среди многолюдства, подрезать украшения и мешочки с монетами, которые будто сами просились в нечистые руки. Уличные банды охотились на тех, кто слаб и не может постоять за себя. Ксенофонт относился к ним с острой неприязнью.
Возможно, как раз эту антипатию Геспий в нем и чувствовал.
Хотя за Сократом эта уличная крыса ходила как телохранитель, но в его отсутствие Ксенофонт испытывал на себе всю злобность этого выродка. Ему едва исполнилось восемнадцать, и кости в нем весили больше, чем плоть; при этом он был не настолько глуп, чтобы бросать вызов Ксенофонту напрямую. Вместо этого Геспий, завидев ненавистного ему афинского аристократа, науськивал свою худосочную братию швырять в него камни, тухлые яйца и все, что попадется под руку.
Поначалу гнев Ксенофонта ощущался как панцирь; под его защитой он бросался на своих мучителей, когда те подходили слишком близко или когда что-нибудь мерзкое попадало ему в лицо или шею. Тогда они с глумливыми воплями рассеивались, успевая выкрикивать оскорбления. Если он шел с Сократом, они просто смотрели и ухмылялись, но в одиночестве брали свое, осмеивая «глистократа» и «всадника-задника» своими высокими ломкими голосами.
В этот день его поносили чисто по привычке: у воришек в толпе была добыча повидней. Ксенофонт шел, огибая глыбину городского театра, где каждый год тысячи горожан сходились на фестиваль драмы, окунаясь в феерическую атмосферу трагедий и комедий. Сократ был известен и здесь: над ним со сцены потешались сатирики, а сам их прототип так заливисто хохотал над актерской игрой, что, бывало, сводил на нет намеченный эффект.
Ксенофонт обнаружил, что ноги занесли его далеко от общественных конюшен, где его ждал конь. Родовое имение Ксенофонта располагалось за городом, но туда он нынче предпочитал наведываться как можно реже. Жены у него не было, как и кого-нибудь, кто в нем бы нуждался. Родители оставили ему денег достаточно, чтобы не утруждать себя работой, но годы тянулись как-то уныло, без радости о грядущем. Он оглядел прилавки рыночных вербовщиков – ряд разномастных навесов, в тени которых стояли кувшины с прохладной водой, а кое-где и с вином. Дельцы почувствовали его интерес, словно ястребы, и обернулись, живо оглядывая рослого молодого мужчину в расцвете сил.
Какое-то время он стоял в задумчивости, не откликаясь на их зазывные возгласы. Тем временем театральная толпа расходилась, увлекая с собой на какой-нибудь новый порок и грязную свору Геспия. Что ни говори, а в Афинах для Ксенофонта не оставалось ничего, во всяком случае, в этом году. Хотя когда-то он знал под собою силу, будучи одним из управленцев Тридцати. Тридцать тиранов, как их именовали тогда, хотя Ксенофонт знал их как порядочных людей, безжалостных разве что в своих требованиях. Уж при них уличные банды сидели бы тихо, а не орудовали вот так внаглую. Но каким-то образом публичные казни зажгли под городом огонь, который в одну памятную ночь взвился пламенными языками насилия. После этого жизнь Ксенофонта изменилась до неузнаваемости, и вновь обрести покой никак не получалось.
Ксенофонт подошел к первому вербовщику, по одежде спартанцу. Тот оглядел его и удовлетворенно кивнул. Это выражение Ксенофонт встречал на лицах людей множество раз.
– Поставь свою метку, юноша, – сказал вербовщик. – А взамен мы сделаем из тебя мужчину. Когда ты вернешься домой, мать не узнает тебя, а девушки при виде тебя будут украшать волосы цветами. Ох, они любят солдат.
– Очень хорошо, – ответил Ксенофонт.
На лице вербовщика мелькнуло удивление, когда вместо одной буквы или приложенного пальца Ксенофонт написал на дощечке свое имя.
– У тебя есть еще какие-то навыки, юноша? Кроме письма?
– Лошади, – сказал Ксенофонт. Он чувствовал себя на удивление отстраненно, как будто не собой. – Умею обращаться с лошадьми.
Спартанец приподнял кустоватые брови.
– Ты, я вижу, благородный афинянин? Скрываешься от отца? Или долги припекли?
– Я… Я служил Тридцати, – промолвил Ксенофонт нехотя. – Мне нужно в жизни новое начало.
Лицо вербовщика прояснилось, в глазах появилось что-то похожее на сочувствие. Как спартанец, о негодовании афинян он знал несколько больше других.
– Ах вот как, – понимающе качнул он головой. – Тогда я должен поблагодарить тебя за службу, сын отечества. Афины склонны забывать, что мы трижды предлагали им замириться. Всякий раз они отказывались, и мы вынуждены были снести их стены.
– Я высказывал то же самое, – признался Ксенофонт.
Мысли прояснялись, и обнаружилось, что при обдумывании будущего старые тревоги как-то отходят.
– Куда меня отправят? – спросил он.
– Народ обычно сначала спрашивает о жалованье. Но уж коли ты из благородных, то я тебе скажу. Мы отправляемся в южную Анатолию. Сражаться с писидийцами. Мерзкие, жестокие ублюдки с дротиками. Мы покажем им, чего они стоят против эллинской выучки, привезем назад несколько свирепых голов, обойдемся по-свойски с их женщинами и вернемся к следующей весне домой. Ты привезешь парочку шрамов для своих возлюбленных и несколько занятных историй для своих сыновей. Честно говоря, плату за это должен взимать не ты, а скорее я.
Он с подмигиванием протянул Ксенофонту каменный знак и указал вдоль ряда на стол, за которым сидел писец, а вокруг стояло с полдюжины человек.
– Видишь вон того, со стилосом? Он внесет твое имя и все что положено. Оплата тебе идет с сегодняшнего дня, хотя набор у нас еще идет.
– Скоро ли выходим? – спросил Ксенофонт.
– Вот это дух. Настоящий, эллинский, – сдержанно похвалил вербовщик. – Думаю, через день-два, не раньше. Кораблем отплываем на восток, а собираемся у Сард. Ты сделал верный выбор, сын отчизны. Уходишь юношей, а возвратишься мужем, ручаюсь тебе в этом.
Под навес зашел очередной желающий, и внимание спартанца переключилось на него. Ксенофонт не мог поверить в то, что сейчас сделал, но чувствовал, что поступил правильно. Он умеет обращаться с лошадьми и знает людей. Навыки, которых пока недостает, непременно можно добрать в дороге к Сардам. В город – туда, где оставил в конюшне коня, – он возвращался с более легким сердцем. В целом решение принято верное. Хотя, может, в оставшееся время взять несколько уроков мечевого боя?
7
В тронном зале Персеполя на черном мраморном полу лежал простертый Тиссаферн. Он научился не вставать прежде, чем велено, – недавние полосы на его спине были тому свидетельством. Артаксеркс не прощал ни малейшей оплошности, ни мельчайшего урона своему величию. Восседая на своем троне, молодой царь принимал дань поклонения равно от правителей и сатрапов, как будто все они были его бессловесными рабами. Тиссаферн видел угрюмо-покорные взоры вельмож, выходящих от царя с оставленным на полу достоинством. Двадцать восемь народов державы прислали на похороны Дария своих сыновей и старейшин. На протяжении сорока дней империя оплакивала его утрату, и тысячи невольников ежечасно возглашали молитвы Ахурамазде, чтобы ускорить восхождение души царя к небесам.
Огромная гробница была выложена листовым золотом, и стражи избраны для заклания сообразно красоте, а не только боевому мастерству. Каждый из них с готовностью подставил грудь под единственный удар жертвенного ножа. Их тела были уложены на полу у золотых тронов, оставленные охранять вход в царство мертвых. Имена их будут вписаны рядом с именем царя, а их семьям возданы почести.
В ту последнюю ночь в гробнице Тиссаферну вспомнилось ощущение, будто горы вокруг застыли, и лишь чуть слышно потрескивали факела по сторонам. Артаксеркс ступил за внешний предел, дабы пообщаться с отцом, плача и шепча на ухо усопшему свои сокровенные тайны. А вслед за их уходом деревянные лестницы, по которым ходили каменотесы и работники, были снесены, и усыпальница осталась в недосягаемости – высоко в отвесной скале, словно высеченное в камне окно.
Тиссаферн опасливо ощутил, как мышцы спины сводит от боли. Все это время он ждал, когда прежний ученик наконец соизволит узреть лежачего. Для человека на седьмом десятке поза была крайне неудобная, хотя понятно, что молодой повелитель желает впечатлить двор своей строгостью. По его повелению все слуги здесь носили обувь из войлока, понимая, что любое нарекание чревато рубкой головы на отвал. Новый царь дотошно выискивал признаки лености в тех, кто ему служит, и малейший проступок карался без промедления.
Тиссаферн поднял взгляд на прикосновение. Ему протягивал руку слуга, который услужливо помог царедворцу подняться и препроводил по всей протяженности тронного зала. Вдоль прохода шириной с улицу истуканами застыла стража, вытянувшись между колоннами из полированного гранита, больше века назад доставленного морем из Египта. Капители и основания каждой были покрыты золотом – богатство державы, что в конечном итоге стекалось сюда, во дворцы и храмы ее властелина.
В дальнем конце зала на троне развалился Артаксеркс, потягивая из золотой чаши какое-то питье, от которого глаза у него, не мигая, мерцали, как сквозь стылую дымку. С приближением Тиссаферна чашу он резко перевернул, не успев утереть в уголках рта красные следы. Тиссаферн снова начал падать, но тут царь бросил чашу рабу и встал, делая шаг. При этом с его пути быстро отошли две молодых наложницы. Тиссаферн заметил, как одна из них тайком от Артаксеркса сердито ущипнула другую. Из-под опущенных бровей царедворец смерил их взыскательным взглядом знатока. Когда две молодые женщины отобраны из множества, обучены и откормлены для услады повелителя, их красота, понятное дело, захватывающа. У той из них, что щипалась, смоляные волосы были подстрижены, оставляя открытой шею. Судя по живости выразительного лица, она поймала направленный на нее взыскующий взгляд. Другая больше походила на куклу, воплощающую бездушное совершенство.
– Мой старый друг, – с наигранной задушевностью сказал Артаксеркс. – Я полагаю, ты можешь просто кланяться. Да. Пожалуй, я предоставлю тебе право, являясь по моему зову, ограничиваться при мне просто поклоном. В знак моего уважения к твоему возрасту и опытности.
Тиссаферн от такой щедрости был в восторге, но ответ его был продиктован обычаем:
– Мой возраст ничто, повелитель, если я могу оказать тебе честь.
Артаксеркс задумчиво нахмурился, затем отступил на шаг и томно взмахнул кистью руки:
– Ну будь по-твоему, мой старый друг. Можешь продолжать падать ниц.
Традиция, как видно, держит нас всех в цепях. И даже я ею связан.
– Разумеется, повелитель, – поспешил согласиться Тиссаферн, вновь припадая к полу. По крайней мере, здесь он был чист.
Поднимаясь, краем глаза он заметил, что та сердитая наложница, надув темные пухлые губы, за ним наблюдает. Понимая, что за разглядывание царевой услады можно ненароком поплатиться жизнью, Тиссаферн предпочел отвести глаза, мысленно от нее отрекаясь. Женщина в ответ занялась разглядыванием своего кулона.
Артаксеркс снова сел на свое царское место, пытаясь изобразить суровый взор отца, хотя стать была, конечно же, не та.
– Повелитель, у меня есть сведения о твоем брате Кире. Моему разумению они не поддаются.
Тиссаферн приумолк. Зная царя достаточно хорошо, он закинул приманку и ждал, когда Артаксеркс ее проглотит. Конечно же, с упоминанием Кира томность с царя тотчас сошла. В зале нависла пустынная тишина.
После унижения, вызванного вмешательством матери, о своем брате Артаксеркс говорить избегал. Какое-то время казалось, что Кир навсегда отлучен от дома. Жизнь в державе продолжалась, а с ней и донесения нарочных изо всех двадцати восьми сатрапий. С запада, где Персия граничит с Элладой, исправно приходили сообщения о передвижениях Кира, которые в целом были незначительны.
На вид поверхность озера, куда Тиссаферн бросил камешек, вроде как успокоилась, однако он слишком хорошо знал сыновей Дария, чтобы этому поверить.
– Что тебя так волнует? – спросил Артаксеркс, между тем покосившись на рабов и слуг, которые могли невзначай подслушать частные семейные дела. Хотя что он, не царь в тронном зале своей столицы? Он негодующе взмахнул рукой, отгоняя от себя столь мелочные мысли.
– Повелитель, ты знаешь, что я учил Кира, когда он был мальчиком. Эти самые руки наказали его, когда он оставил у меня в комнате черную кобру.
– А потом еще страуса, – смешливо фыркнул Артаксеркс. – Да, вот была потеха.
Веселья царя насчет этих памятных шалостей Тиссаферн не разделял.
– Я хорошо его знаю, повелитель. Настолько, что смею подозревать: он не так уж легко простит потерю своих спартанских телохранителей, а затем едва ли не собственной головы. Если б не заступничество твоей матери…
– Довольно, – пресек Артаксеркс. – Его смерть нас бы ослабила. Живущие под нами народы более всего нуждаются в незыблемом правлении, Тиссаферн. А Кир знает наши войска лучше всех, вместе взятых. Со временем я его, может, и заменю, но как сказала мать: сделать это так скоро после смерти нашего отца значило бы навлечь хаос. Так что пощадить жизнь моего брата было, что ни говори, мудрым решением, – заключил он с сухой строгостью.
Артаксеркс подался вперед, а вторая наложница припала своим жарким бедром к его обнажившейся ноге. Опустить глаза Тиссаферн не посмел: царь смотрел на него повелительным, упорным взглядом удава. Ни дать ни взять та кобра, которую мальчишки много лет назад подкинули ему в комнату. Перед змеями Тиссаферн всегда испытывал ужас. Тогда он завизжал, как женщина, в то время как двое царских недорослей, давясь смехом, упали головами на плечи друг другу.
– Если только у тебя нет каких-то новых сведений, Тиссаферн. Что докладывают твои осведомители? Хранит ли мой брат верность?
– Человеческая душа, повелитель, загадка из загадок. Хотя сведения есть. Из царской казны утекают огромные суммы. Не то шестьдесят, не то восемьдесят тысяч дариков, а то и больше.
– Ну так что с того? Быть может, Кир строит новые казармы или оснащает войска. Войско – могучая десница империи, Тиссаферн. Тебе вот не нравится расходование наших средств. А добрая половина из них каждый год уходит на одно лишь пропитание солдат. А лошади, а доспехи? Да что там, взять одни лишь стрелы! Я помню отцову гордость от одного лишь числа воинов, которое мы могли выставить в поле. Понимаешь ли ты это? Мой отец на расходы не сетовал, а наоборот, ими хвалился! Кто еще мог позволить себе содержать такую махину? Кто, как не дом Ахеменидов? Если брюзжание – это все, что у тебя есть, то ты меня разочаровал, почтенный.
Тиссаферн ответил кивком. Внимание царя было ухвачено, о наложницах он позабыл. Пора было дергать крючок с наживкой.
– Не смею с тобой спорить, повелитель, но потраченная царевичем сумма вдвое больше прошлогодней. Хотя настораживает меня скорее не это, а число солдат-эллинов, которых он позвал в свое войско.
– Вспомогатели? Мы знаем его симпатию к тем наемникам, особенно спартанцам. Ну так что? Несколько тысяч здесь и там для обучения и даже подзадоривания наших Бессмертных – кто же возражает? Мой брат, если ты забыл, распоряжается войсками вот уже столько лет. И пускай мы с ним… кое в чем не сходимся, державе он не угрожает, пусть даже с тьмой своих спартанцев.
– Повелитель, мне сообщают о многих тысячах. Он посылает их на север и восток. Часть их проходит выучку во Фракии, часть на Крите. Тем не менее все они подчинены ему. Не берусь судить, но впору заподозрить, что речь идет о воинстве вторжения. Не знаю, сколько он позвал греков, но одних только персидских воинов под ним тридцать-сорок тысяч по всем нашим западным окраинам. А теперь, может, и больше.
Артаксеркс хотел ответить, но примолк и вообще впал в задумчивость. Тиссаферн выжидательно молчал, приподняв брови. Последний камешек в озеро брошен пока не был.
– Ты знаешь, повелитель: возводить напраслину и обвинять впустую я не стану. Годами по всей нашей державе для меня смотрели глаза лазутчиков и записывали руки писцов, расположенных в нужных местах. Из них некоторые близки к Киру. Так что о его намерениях я не слышал ни слова сомнений. Ни от кого и ни разу.
– И что, они теперь иные, чем были? – с отвердевшим лицом спросил Артаксеркс.
– Нет. Они такие же, что и всегда. Я чувствую предгрозье. И не без тревоги смотрю, что там может происходить на наших западных границах.
Артаксерс поглаживал волосы сидящей у его колена наложницы примерно так, как гладят любимую гончую. Тиссаферн осмелился на нее взглянуть и увидел в ее глазах насмешливое, едва ли не презрительное непокорство. Вспыхнув, он поспешно отвел глаза.
– Что ж, Тиссаферн. Я знаю тебя достаточно, чтобы относиться к твоему чутью с уважением. Если ты что-то такое чувствуешь, отметать сие было бы глупо. А стало быть, отправляйся на запад. Людей с собой много не бери и непременно встреться с моим братом. По нему узри, верен ли он нам по-прежнему.
Тиссаферн неуютно заерзал, представляя себе месяцы тягот в пути.
– Повелитель, последний раз я приходил к твоему брату, чтобы отвести его на казнь. Поэтому опасаюсь, он не будет со мною любезен, равно как и…
– Делай, как я повелел, – отрезал Артаксеркс. – Я позволил моему брату сохранить его прежние звания и полномочия. И отменил указы, данные мной в горе, вызванном смертью отца. Если Кир тебя убьет, я пойму, что он все еще гневается. – Царь ощерился зубастой улыбкой. – Даже в смерти ты можешь оказаться мне полезен.
Тиссаферн отдавал себе отчет, что возражать не только бесполезно, но и опасно. Он простерся в ногах у царя.
– О державный, для меня это честь! Я пойду, куда ты скажешь, и вернусь к тебе с правдой. Или же погибну. Но, вне зависимости от исхода, я служу твоей империи.
Стоя под знойным солнцем, Ксенофонт смотрел, как греческий матрос пытается одолеть перепуганного коня. На море он, может, действовал и сноровисто, но сейчас строю новобранцев, стоящему у причала, оставалось только глазеть, как он пыжится усмирить страдальчески ржущее животное. Конь шало косил глазами, показывая белки, а матрос с руганью стегал его по крупу кожаным ремешком, как будто ярость и боль способствовали его послушанию! Раскорячившись перед мостками, он всем своим весом пятился назад на корабль. С усилиями единственного матроса, пускай и разгоряченного, это действо могло затянуться до темноты.
Две сотни юношей из эллинских полисов все продолжали сходить по дощатым мосткам на пристань. Спуститься на чужую землю их успело всего несколько десятков, и там они ждали тех, кто направит их дальше. Ксенофонт, поджав подбородок, высматривал кого-нибудь из начальников, которые должны были встречать здесь прибывшее пополнение. К сожалению, они не походили на того вербовщика в Афинах. О чем оставалось только сожалеть. Прибывших вверили попечительству двух старых забулдыг с тридцатью годами службы за пазухой, которые отпечатались у них на щеках и особенно на носах. Едва корабль пришвартовался, они сошли с него без оглядки и, вне сомнения, направились в ближайшее питейное заведение. Младые эллины, прибывшие сражаться за царевича Кира, оказались предоставлены сами себе.
На пристани, покуда хватало глаз, кипела разгрузка и погрузка. Ксенофонт в строю полез себе под новый кожаный панцирь и начал с упоением чесаться. Он видел, как некоторые суют себе под доспехи камешки и поерзывают; так Ксенофонт усвоил, как можно смягчать зуд. Те, кто поопытней, знали, какие места на теле лучше смазывать маслом, как выкуривать из плащей блох, а еще как важно иметь при себе пусть даже мелкую посудину с водой. Эти сотни мелочей, составляющих разницу между бедствием и спасением от него, были ему покуда неизвестны. Ксенофонт постигал их со всей возможной быстротой, но… Он тихо ругнулся.
Матрос потерял терпение и озлобленно орал на коня, весь красный от натуги. Вокруг уже собирался люд. Ксенофонт подошел в тот самый момент, когда конь мотнул головой, заодно сдернув с места и своего истязателя. Едва успев оправиться, тот снова замахнулся плеткой.
Ксенофонт сзади выхватил ее у него из руки и отбросил в сторону.
– Ты пугаешь существо, которое сильнее тебя. Неужто хочешь, чтобы оно прямо здесь, у мостков, сломало ногу?
Матрос был так разъярен, что подумывал ударить этого молодого выскочку. Намерение промелькнуло в его глазах, но в следующую секунду порыв унялся. Матрос не знал, кто перед ним, но ведал, что за оскорбление вышестоящих полагается суровое наказание. Воспользовавшись замешательством, Ксенофонт вынул из его рук поводья.
– Давай-ка лучше его успокоим, – предложил Ксенофонт, стараясь звучать мирно скорее ради лошади, чем для матроса. Тот буркнул какую-то грубость, которую он пропустил мимо ушей. На самом деле матрос был даже рад передохнуть от своих потуг, хотя и остался стоять рядом, со злорадной ухмылкой, скрестив руки на груди. Судя по всему, он изготовился злословить насчет действий этого доброхота, как, видимо, злословили о нем самом. Разница была в том, что оценки матроса Ксенофонта не занимали.
Смену человека при узде лошадь наблюдала выпученными глазами. Ксенофонт не раз задавался мыслью, есть ли у лошадей сметливость и как она развита. Похоже, в какой-то степени им были присущи и злопамятность, и даже лицедейство.
– Ну-ка, ну-ка. Дай я на тебя полюбуюсь, – ласково произнес он. – Какой красавец.
Поводья он держал крепко, но не тянул и уж тем более не мерялся силами с жеребцом, способным без труда уволочь человека за собой. Разговаривая, Ксенофонт повернулся, как бы собираясь уходить.
Конь словно прирос к месту. Краем глаза было заметно, как матрос злорадно ухмыляется. Он наклонился что-то сказать тому, кто стоял рядом. Ксенофонт глянул в их сторону и нахмурился, узнав в том зеваке Геспия.
Он записался на службу в тот же день и у того же вербовщика. Нет сомнения, что спартанец на этом неплохо заработал. Геспия Ксенофонт заметил на пристани в Афинах и поначалу даже не понял, что он там делает. Друзьями они определенно не были. После отплытия меж собой не обменялись ни словом, хотя сознавали, что едут бок о бок. Не убедил ли Геспия поступить в войско Сократ, чтобы Ксенофонт за ним приглядывал? О годах своего солдатства старик философ всегда отзывался как о наиболее отрадных. Так что с него вполне могло статься рекомендовать провести несколько лет в походах и боях, тем самым заложив основу своей жизни, а будущие свои тяготы и неурядицы отодвинуть на потом.
– Ну же, гнедой, – увещевал Ксенофонт жеребца. – Не хочешь же ты торчать здесь весь день? К твоему сведению, сзади ждут еще и другие.
Разговор обещал быть непростым. И тут неожиданно сбоку подшагнул Геспий.
– Скажи мне, что нужно делать, – обратился он.
Ксенофонт в удивлении поднял брови, но затем кивнул.
– Хорошо, слушай. Какое-то время мы будем спокойно разговаривать, чтобы до него дошло, что опасности ему нет. После плавания он, наверное, чувствует себя неуютно. Лошади не блюют, их просто мутит. И бывает, что они впадают в злость. Давай-ка погладь его по шее, только осторожно: как бы ненароком не укусил. Глаза все еще диковатые.
Ксенофонт смотрел, как молодой бритоголовый афинянин впервые в жизни притрагивается к лошади. Шея у животного подрагивала, как будто по ней ползали мухи, но человеческую руку жеребец не цапнул. Геспий, поглаживая конскую шкуру, издавал восторженные смешки.
– Ух ты, какие у него жилы, – изумленно произнес он.
Ксенофонт улыбнулся:
– Да, хотя его огромное сердце мало-помалу успокаивается. Они отзывчивы на прикосновение. Продолжай его поглаживать. Ну вот, почтенный. Может, пройдемся сейчас по этим хлипким доскам? Тебе, наверное, казалось безумием идти по этим жердочкам, которые к тому же трясутся и подпрыгивают. Я тебя понимаю. Ну что, пошли?
Ксенофонт снова повернулся, и конь послушно пошел за ним вниз, как будто и не выказывал до этого страха. На пристани он немного поводил его туда-сюда. Все это время рядом неотлучно шел Геспий, ласково похлопывая или просто держа руку на могучем конском плече. Под его прикосновением с кожи стекали крупные капли пота, но животное на глазах становилось все спокойней, покорно опуская голову.
– У тебя с ними получается, – сказал Геспию Ксенофонт.
Тот посмотрел удивленным, абсолютно беззащитным взглядом.
– Спасибо, – сказал он, отводя глаза. – Мне б еще уметь на них ездить. Всегда хотел научиться.
Матрос, что боролся с лошадью, раздраженно махнул им вслед рукой и пошел вверх по сходням за другой.
На другой стороне пристани показались те два начальника, подсвеженные и явно навеселе, готовые снова командовать. К себе они подозвали Ксенофонта и Геспия, которые стояли все еще возле коня.
– Это ты, что ли, знаешь, как обихаживать лошадей? – спросил тот из них, что постарше.
Ксенофонт кивнул. Неизвестно, какая пометка стояла против его имени, но он знал, как лошадей побаиваются те, кто не привычен к ним с детства.
– Я. Мой отец их разводил.
– Это славно. Пара людей, знающих в чем-то толк, здесь в цене. До Сард отсюда четыре, а то и пять дневных переходов под жарой. За присмотр за лошадьми можете рассчитывать на прибавку в кормежке и прочее. В Сардах есть своя конница. Там кони хорошие, не то что эти старые клячи.
Ксенофонт заметил, как Геспий прикрывает коню ухо, словно защищая его от этих нелестных слов – движение настолько курьезное, что вызвало у Ксенофонта улыбку. Сократ сулил ему новые впечатления. Что ж. Старик, вслух заявлявший о своем неведении, оказывался даже мудрее, чем казался.
8
Ветер под знойным солнцем не стихал, хотя Кир едва его чувствовал, гарцуя на холеном жеребце по краю равнины, тянущейся к дальним синеватым горам. С восходом солнца он наблюдал за воинским обучением, а рядом с ним ехал неразлучный Парвиз. Он всегда держался подле господина. Человек, по случайности первым подавший царевичу воды, стал ему личным слугой и возвысился так, что сам едва тому верил. Киру же, в свою очередь, нравились в Парвизе живой нрав и снисходительное презрение к трудностям. «На все стены можно взобраться», – говаривал он (надо же, какой дерзкий девиз для охранника мелкой крепостицы).
На равнине под Сардами шесть сотен коринфских гоплитов маршировали и останавливались, разделялись по линиям, неразличимым для Кира, и с картинной броскостью атаковали друг друга. Видимо, для них война была сродни театральному искусству. Кир слышал, что грекам нравится, когда перед ними разыгрываются представления великих трагедий; они плачут или смеются, а потом расходятся странно просветленными. Кира такие вещи не интересовали, хотя и занимал вопрос, играют ли они какую-то роль в ратной выучке. При отсутствии реального врага он не видел особых различий между лохосами эллинских полисов и войском Персии. Персы тоже умели маршировать и по-разному перестраиваться.
И тем не менее с зовом трубы, когда мечи вынимались для неистовой кровавой брани, греки прожимались сквозь ряды персов, скашивая их словно железный серп жнет колосья. Воистину загадка. В этой пляске не выстаивали даже Бессмертные, особенно против спартанцев. Кир знал: для эллина при этом важно держать отцов щит, братов меч, биться в дядином бронзовом шлеме. Случалось, что в бой они несли честь всей своей семьи. Их можно было убить, но нельзя заставить бежать, когда на них взирают души их умерших храбрецов.
Стимфалец Софенет оказался верен своему слову. Обучил новых солдат и назначил среди них командиров, создав прекрасный отряд численностью в тысячу двести человек. Вместе со спартанцами они поднимались за час до рассвета и несколько часов бегали по холмам и равнине, после чего возвращались на завтрак и приступали к ратным упражнениям. Сравнение с персидскими военачальниками было не в пользу последних. Те вели жизнь вельможных особ, каковыми и являлись: поднимались, когда основательно выспятся, во всем им прислуживали рабы, и редко упражнялись до пота. А Софенет, Клеарх, Проксен и остальные – все бегали вместе со своими людьми, не видя в этом ничего зазорного. Вот чему бы поучиться и персам.
Кир вгляделся и невольно прищурился: через равнину во весь опор неслись два всадника. Такая скорость была никчемно опасна: к чему рисковать жизнью, да к тому же загонять лошадей, породистость которых различалась даже на таком расстоянии. Равнина хотя и плоская, но на ней все равно может подвернуться случайный камень или углубление, в которое может угодить стремглав летящее копыто. Под обоими всадниками виднелись леопардовые шкуры, что делало посадку выше, давая седокам обжимать коленями конские плечи. Один скакал красиво, как истинный наездник. У второго опыта было заметно меньше: держался он угловато и вцеплялся в конскую гриву, словно заранее уверенный в своем неизбежном падении.
Кир любил лошадей, хотя это зрелище было редким в своем безумстве. Было видно, что животные скачут прямиком на строй марширующих гоплитов. Те тоже заметили это приближение и под выкрики приказов остановились. Люди сомкнули ряды; золотой каймой взблеснули на солнце дружно поднятые щиты. За ними частоколом темнели копья. Маневр прошел безукоризненно, но те два всадника не замедлялись, а летели на строй гоплитов пущенной стрелой. Под изумленные взгляды один из них огрел свою лошадь плетью и нагнулся под таким углом, что стало ясно: сейчас он неминуемо сорвется. Тут Кир разглядел: смельчак пытается дотянуться до поводьев второй лошади, которые вольно болтались на скаку. Оказывается, та, обезумев, понесла, а ее выпустивший поводья седок был теперь абсолютно беспомощен.
Каким-то чудом тому удальцу удалось их ухватить, и он на скаку гладко развернул обеих лошадей, переведя их с галопа сначала на рысь, затем на шаг, а там и вовсе остановив. Кир тронул своего коня вперед, желая все подробно рассмотреть. Появление царевича не прошло незамеченным: стратег Софенет скомандовал своему воинству встать навытяжку, как на смотре. Солдаты сомкнулись плечом к плечу и замерли.
Молодой удалец спешился, внимательно оглядывая ноги обеих лошадей. С командой Софенета он поднял голову. Его товарищ попытался положить ему руку на плечо, но тот ее сердито стряхнул. Заслышав стук копыт, оба обернулись к царевичу, который в этот момент подъехал и спрыгнул на землю. Гнев и пристыженность на лицах конников сменились безмерным удивлением, когда они увидели, кто перед ними. Тот, чья лошадь понесла, ограничился поклоном, а спасший его удалец опустился на одно колено и склонил голову. Царевич проникся любопытством.
– Как твое имя? – спросил он коленопреклоненного.
– Ксенофонт, великий.
– Ты действовал храбро, Ксенофонт. Рисковал жизнью во спасение своего товарища.
– Скорее во спасение лошади. Она здесь одна из самых лучших. Геспию не следовало на нее садиться, не имея должного опыта.
– Сказано верно. Поднимись. Я встречал многих греков, которые мне лишь кланяются или припадают на колено, вскакивая так быстро, будто земля под ними накалена. А ты, я вижу, не стесняешься выражать свое почтение как подобает?
Ксенофонт стоял в полный рост. По его лицу, раскрасневшемуся от напряжения, скатывались бисерины пота.
– Почтение к другому человеку не умаляет моего достоинства, – пожал он плечами. – И воздавая тебе честь, великий, я не лишаюсь ни толики своей. В конце концов, я ведь тоже жду подчинения от таких как, скажем, Геспий. Подразумевая, что он с должным уважением относится к моим опытности и званию. Низкопоклонствовать он, понятно, не обязан, но эти требования с него никак не снимаются.
Кир моргнул, увидев, как голова второго грека чуть заметно качнулась, выражая несогласие со сказанным.
– Дивлюсь я на вас, эллинов, – ухмыльнулся царевич. – Вы как будто всё вначале подвергаете проверке мыслью. А вы можете просто действовать, безо всех этих предварительных головоломок?
– Вообще я подвизался сражаться с писидийцами, великий, – развел руками Ксенофонт. – Представлял себе службу как боевое товарищество, испытание мужества. Хотел опробовать себя. А вместо этого я здесь месяц за месяцем кого-то натаскиваю, а кто-то натаскивает меня. И невольно рождается вопрос: хорошо ли я изначально свое решение продумал?
Строптивый нрав этого эллина вкупе с мрачноватым юмором, различимым в его насмешливом тоне, забавлял.
– Полагаю, Ксенофонт, с таким нравом заводить друзей у тебя получается не очень, – предположил Кир.
Грек выпятил подбородок, выказывая свое упрямство. Своей приподнятой головой он словно бросал Киру вызов. Царевич рассмеялся, примирительно воздев руки:
– Не обижайся. Я лишь пытаюсь понять. В городах моего отца… – Кир замялся, а на его лице мелькнула тень. – В городах моего брата всяк точно знает свое место. От своей родни и родословной, из опыта продвижения по службе, от соратников и из связей – но это место до последней крупицы известно на чаше весов, где стоит тот или иной человек. Мы не тратим свою жизнь на неопределенность, на скитания в поиске неосуществленных возможностей. Это не игра в кости. Человек заранее знает, каким образом выстелиться ниц перед своим господином и как, в свою очередь, требовать подчинения от тех, кто сам находится ступенькой ниже.
– Это звучит… успокоительно, – сказал Ксенофонт. Честность заставила его продолжить: – Хотя, по правде говоря, мне думается…
Он неуверенно смолк.
– Продолжай, – взмахнул рукой Кир. – Пока ты у меня на службе, заверяю – ничто из тобою сказанного не будет истолковываться мной как обида. Я желаю слышать только правду.
Ксенофонт слабо улыбнулся. Сын царя Персии, привлекший на обучение в Сарды людей с доброй половины ойкумены, ему определенно нравился.
– Великий, когда ты описываешь уложение, разделяющее подданных на хозяев и слуг, я им восторгаюсь, потому что сам тотчас представляю себя хозяином. А хозяину, безусловно, нравится система, направленная ему во благо. Но если бы я зрил себя кем-то, принуждаемым к рабскому труду под полуденным зноем, или, скажем, видел над собой человека, в моих глазах недостойного… я бы, наверное, вознегодовал. Если я преклоняю пред тобой колена, то это потому, что я воздаю честь традиции и потому, что, по моему убеждению, человек должен знать свое место в жизни. Тем не менее ты проявил ко мне доброту. Если б ты насмехался или оскорблял меня, сгибать колени меня бы тянуло куда меньше. Впрочем, что бы там ни было, великий, я свободный эллин и афинянин. Я присягнул служить тебе и принял в уплату твое серебро. Моя клятва держит меня, но, и представ перед богами, я все равно скажу, что этот выбор сделал я сам.
Кир усмехнулся, позабавленный серьезностью молодого человека, который поберегся вступать в сколь-либо ожесточенный спор. Царевич не чувствовал в себе встречного гнева – это было все равно что злиться на щенка, играючи тяпающего тебя за пальцы. Вызов без истовой грызни, от которого нет ущерба или вреда. Хотя похоже, что, живя в свою бытность среди греков, он изучил их недостаточно.
Вместо того чтобы спорить, Кир провел ладонью по ноге большущего нехолощеного жеребца, на котором ехал Ксенофонт.
– Хороший коняга, – похвалил он, – статный. Пожалуй, может даже сравниться с моим Пасаком.
Ксенофонт бросил сведущий взгляд на коня царевича и кивнул в знак согласия.
– Твой Пасак на ладонь выше, великий, но в целом да. Мой отец занимался разведением лошадей сорок лет. И с Персией у него, видимо, был оборот на целое состояние.
– Мой самый лучший на свете, – с жаром сказал Кир, потрепав своего скакуна по холке.
Ксенофонт в ответ улыбнулся. Краснота с его лица сошла, и Кир понял, что этих наездников можно отсылать по их обычным делам. Хотя эту беседу не мешало бы продолжить; надо будет за вечерней трапезой упомянуть об этом спартанскому военачальнику.
– Воистину, Ксенофонт, ты афинянин, который мыслит как перс, – сказал он. – А себя я порой вижу персом, мыслящим подобно афинянину.
Ксенофонт с легкой улыбкой взял под уздцы обеих лошадей, не глядя на пристыженного Геспия, который исподлобья поглядывал на собеседников в этом странном разговоре. Ксенофонт все так и терялся в догадках, не стоит ли за этим одновременным зачислением в войско Сократ. Эта мысль спровоцировала следующую фразу:
– Твои слова да передать бы моему другу Сократу, – мечтательно вздохнул Ксенофонт. – Если когда-нибудь выдастся случай, великий, сыщи его в Афинах. Беседа доставит вам обоим удовольствие.
Кир в ответ покачал головой.
– Не думаю, что я в обозримом будущем снова попаду в вашу Элладу. Дела ведут меня на восток, в глубь пустынь.
– С сожалением это слышу. Ты оказал бы нам честь, великий.
С этими словами Ксенофонт вновь опустился на одно колено, только на этот раз с улыбкой. Неожиданно для себя Кир тоже ему поклонился, после чего оба, усмешливо переглянувшись, сели на коней. Ксенофонт повел за собой на длинном поводу вторую лошадь, а посрамленный Геспий был вынужден, вздымая пыль, трусцой семенить сзади.
Кир с угасающей улыбкой смотрел им вслед. Со смерти отца минуло около года. За это время он, царский сын, восстановился на своем поприще главного военачальника, и вроде бы все шло своим чередом, без перемен – хотя на самом деле изменилось все. Он привел на поле брани эллинов, да еще и вышколил их под началом лучших наставников. В общей сложности у него было примерно двенадцать тысяч гоплитов, но этого было недостаточно. Его брат мог выставить на поле шестьсот тысяч человек – Кир знал это лучше, чем кто-либо другой. Ему требовалось больше персидского войска. Всего с двенадцатью тысячами греков такой силы не одолеть! Однако чем больше он вводил в игру персидских сил, чем ближе придвигал их к Сардам, тем явственней становилась опасность. Кое-кто из наемных хилиархов[27] уже прозревал этот подвох. В мире не так уж много врагов, на свержение которых требуется такая сила. А по мере того, как она из месяца в месяц росла, становилось все очевидней, что столь могущественный враг может существовать только один.
Кир прикусил губу, пожевывая на ветерке кусочек отслоившейся кожи.
Он собрал войско, но персидская его часть сошлась потому, что он был царевичем и главным полководцем империи. Военачальников он выбирал осмотрительно, сам их взращивал, люди верили в него, восхищались им. Однако наступит момент, когда до этих войск дойдет, куда и зачем они направляются. И если поднимется мятеж, то это будет означать погибель.
Выступить против его отца было бы немыслимо – предприятие, обреченное с самого начала. Против брата, возможно, какой-то шанс и был. Для войск Персии Кир был прежде всего царевич, которого они знают и любят, правая рука нового царя. Возможно, они поддержат его. Но с определенного момента на кон окажутся поставлены вся его жизнь и судьба всей державы.
Ему подумалось о тех молодых афинянах, что, словно вихрем, мчались на своих конях. Друзьями они явно не были, однако один из них, Ксенофонт, рискнул жизнью, спасая другого. Такие люди и впрямь достойны восхищения. Кир всегда знал отведенное ему место в царском роду и при дворе. Однако та непрожитая жизнь начинала становиться для него подобием смерти.
Что ж, неплохо было опрокинуть весь этот порядок вверх дном. Он преуспеет или потерпит неудачу, но никто не посмеет его упрекнуть в безвольном смирении. Кир улыбнулся. Такая мысль обнадеживала.
9
Возле Кира хмурился грузный беотиец Проксен, вид у которого под дождем был унылым. Клеарх, обернутый насквозь промокшим плащом, стоял, скрестив на груди руки. Ночами было слышно, как Проксен у себя в шатре надсадно кашляет. Но никаких жалоб от него, как и следовало ожидать, не поступало. Было заметно, что вблизи спартанцев эллины старались сдерживать свои сетования – по всей видимости, из редкостного уважения. Клеарх этого как будто не сознавал, хотя втайне, быть может, ему было отрадно.
Горы на севере Фригии были покрыты густыми лесами, так что целые армии могли здесь упражняться незаметно для посторонних глаз или врагов. Шесть дней пути к северу от Сард обеспечили уединения достаточно, чтобы наконец впервые свести воедино ряды персидских и эллинских войск. На этом настоял Клеарх. В этом был один из забавных казусов положения Кира: его персидские подчиненные еще не знали, зачем в кулак собрана такая могучая сила, а вот у спартанских лохагов имелось подозрение, что воевать они вышли вовсе не с горными племенами.
Клеарх запросил показать ему качество персидских полков, которыми он будет командовать в бою – вроде бы простой и единственно здравый замысел, но после полутора месяцев упражнений и имитаций боя Кир уже жалел о данном им разрешении. Только сегодня утром он наблюдал очередной разгром персидского полка, который гнали среди деревьев коринфяне, вооруженные лишь посохами да дубинками. Персидский полемарх[28] дожидался на лошади в десятке шагов от Кира, вытянув шею в поисках какого-нибудь знака, позволяющего ему приблизиться к царской особе.
На душе у Кира кипело. Солдаты эллинов опять и опять громили персидское воинство, врываясь и сминая его ряды. Проксен и Клеарх неистощимо созидали новые планы, казалось, на ровном месте, а эллинские гоплиты воплощали их быстро и четко. Персидские силы в сравнении с ними выглядели неуклюжими и тугодумными. Не раз они продолжали тупо выполнять уже отмененный предыдущий приказ, в то время как «враги» стояли в стороне, наблюдая и потешаясь. Оставалось уповать, что с назначением новых строевых начальников все постепенно наладится. Кир посмотрел налево и вздохнул при виде яркоглазого персидского полемарха. Решив более не медлить, Кир жестом подозвал его к себе. Тот незамедлительно прошел через наружную охрану и приблизился, выпячивая грудь, словно бойцовый петух.
Клеарх и Проксен смотрели, как перс плашмя растянулся в грязи. По крайней мере, в этом полемарх Эраз Тираз был безукоризнен. Впрочем, не так уж много приятности в том, когда подобострастие сопровождается полным разгромом твоего войска уже третий раз на дню.
– Повелитель, ты оказываешь мне большую честь, – сконфуженно произнес военачальник. – Я недостоин даже находиться в твоем присутствии. Предоставь мне всего лишь минуту своего времени, и я буду тысячу раз благословен выше всего моего достоинства.
В эту минуту Кир тосковал по грубоватой простоте спартанцев.
– Ты просил слова, полемарх. Если мое время столь ценно, то ты должен как можно меньше его тянуть или говорить более быстро.
– Воистину, повелитель. Я лишь хотел сказать, как я сегодня разочарован своими людьми.
– И только ими? – поднял бровь Кир.
– Повелитель, взываю к пониманию: полки, вверенные моему командованию, состоят из сельских увальней, и большинство из них мидяне[29]. Неотесанные и грубые, как варвары. Топают, как скот, туда-сюда. Останавливаются, когда им велят остановиться, но при этом просто стоят, как мулы, ни о чем не думая. Я сотнями порол их за нерадивость, но их непролазная тупость с каждым днем все растет.
– Чего же ты хочешь, полемарх Тираз? Вернуться домой? Я могу тебе это устроить.
– О нет, повелитель! – с истовой уязвленностью воскликнул перс. – Я лишь прошу, чтобы мне дали часть войска, состоящую из персов. Возможно, мои мидяне с бо́льшим удовольствием слушали бы того, кто ближе им по языку.
– Они тебя не понимают? – тихо спросил Кир.
Перс покачал головой, припоминая свой недавний гнев.
– Они толстолобые сельские увальни, повелитель. Мотыжники. В Персеполе я проходил выучку с выходцами из знатных семейств. У меня самого в родословной насчитывается сорок три поколения. Так неужто же я, Эраз Тираз, должен, словно какой-нибудь пастух, пасти этих козлищ? – Он ухмыльнулся своему остроумию. – Думаю, повелитель, мольбы мои понятны.
– Понятны вполне, – кивнул Кир. – Только увидеть затруднение – совсем не то, что устранить его причину. Лично тебе я мог бы устроить порку. Или отрезать тебе уши и выжечь клеймо в знак твоего позора. Или же отправить тебя домой, дав веревку с повелением на ней повеситься. Но таких, как ты, у меня сотни – сотни начальников, не видящих своей ответственности в том, что их люди сломлены, рассеяны и бегут раз за разом, раз за разом!
Последнее Кир проревел, грозно надвигаясь на Эраза Тираза.
Полемарх на это снова повалился ему в ноги, прикрыв голову руками.
– Стража! – рявкнул царевич. – Взять этого умника, раздеть и всыпать ему сорок плетей перед его же строем!
Полемарх, поняв смысл сказанного, закричал в боязливом смятении:
– Повелитель, как я мог удостоиться такой кары? Молю, дай мне повеситься, чем перенести такое бесчестье! Что я такое содеял? Прошу тебя, я не понимаю…
Его уволокли прочь, при этом до слуха еще какое-то время доносились жалобно умоляющие возгласы.
Кир поднял лицо навстречу дождю, льдистыми струйками стекающему по шее. На расстоянии раскатисто чихнул Проксен. Кир, пятками ударив коня в бока, подлетел к нему, по-прежнему беспомощно на себя ярясь. Эллинский военачальник в смиренном жесте поднял руки, после чего достал тряпицу и звучно в нее высморкался.
Рядом с ним прокашлялся спартанец, и Кир перевел внимание на него.
– Ты что-то можешь добавить, Клеарх?
– Если твое повеление высечь минует меня, то, может, и да.
Кир не без труда овладел собой и, кривя рот, сказал:
– Уймись. Я не стал бы сечь эллина, даже если б у меня на то была причина. Ты знаешь, как и я, что твоя служба не есть рабство. Но ты должен понимать, что начальники из персов таких мер ждать от меня должны. Увидев, как Тираза секут перед его людьми, остальные поймут, что он хотя бы отчасти, но повинен в никудышном отражении броска сегодня утром. Так что пускай несколько дней проведет на попечении лекарей. А если порку он вынесет, не уронив лица, то глядишь, и в войске его будут уважать больше, чем нынче. Наверное, я пошлю к нему наставника из мидян, чтобы тот выучил его приказаниям на их языке. Пусть усвоит, пока идет на поправку. Да, пожалуй, это имеет смысл.
Клеарх кивнул, хотя и видел, как царевич при разговоре сжимает и разжимает кулаки.
– Я рад, что ты не стал бы отдавать такой приказ. А то, знаешь, редкий царедворец сознает свои пределы.
Кир метнул взгляд на дерзеца, говорящего, что не стал бы сносить такое наказание, – дерзеца, который ему служил. Лицо царевича зарделось от нахлынувшего гнева. Клеарх, в свою очередь, не без любопытства взирал на попытку царского сына совладать с собой.
– Прости, если что не так, – уже мирным тоном сказал Кир, – но у меня из головы не идет сегодняшнее. Твои воины… просто непостижимы. Я думал, что легенда о спартанцах мне знакома и понятна, но то, как вы действуете в условиях, приближенных к битве… правда превосходит саму себя. Каждый спартанец мыслит так, будто он военачальник, но вместе с тем выполняет приказы, как солдат. Как это все у вас делается, Клеарх? Имея тысяч десять таких, как вы, я бы не нуждался во всем остальном войске. И мир завоевал бы одним этим числом.
– Нас с детства приучают думать за себя, – сказал Клеарх, – но без рассудительности в свободе толку немного. Все мои люди, великий, обучались и сражались вместе годами, еще с той поры, как нас дома натаскивали в мальчишеских казармах. Наши воины, конечно же, подчиняются приказам, но если кто-то из нас узревает возможность для прорыва или слабость врага, то он может решиться нарушить строй и атаковать. Всю битву в совокупности не охватывает ни лохаг, ни простой гоплит. Вот почему ты сидишь на высоком коне, а мы высылаем вперед и по флангам разведчиков. Но какой бы хорошей ни была подготовка, в бою для гоплита неизбежно наступает момент, когда он натыкается на двоих человек слабее его и отрывается от остальных – может статься, к бреши в стене или к вражескому военачальнику. Если дожидаться приказа, драгоценный момент может оказаться упущен. Если бездумно рвануть вперед, то нарушится строй, что может повлечь за собой гибель товарищей. Вот здесь все и решает рассудительность, ее тонкая грань. Если выбор оказывается верным, то воин получает повышение. Его производят в начальники. Ему в награду дают венки, а бывает, что и дом. Если же из-за него наши ряды несут урон, то при воспоминании о том дне все плюются и детей не нарекают именем того, чье имя на веки вечные должно завять в семейной родословной. Вот так, мера за меру, – пожал плечами Клеарх.
На секунду он отвел взгляд, взвешивая свои слова. Кир жестом велел ему продолжать.
– Мне кажется, начальник, которого ты велел высечь, для своей должности слишком глуп. В нем нет ни любви к своим людям, ни справедливой оценки их навыков и храбрости. Я видел его мидян – все дюжие, стойкие люди, которых не так легко сломать. Конечно, они не горят желанием мотаться вверх-вниз по взгорьям со спартанцами и коринфянами, волками воя у них по флангам. Промокшие, продрогшие, они устали, и походная жизнь им в тягость. А тут еще этот напыщенный индюк над ними, которого они даже не понимают – удивительно, что они до сих пор с ним не расправились. Мне кажется, боевой дух у них ниже некуда.
– А как бы с таким человеком поступили спартанцы? – в отчаянии воскликнул Кир. – У меня несколько десятков таких, которые едва ли лучше. И еще несколько, которые явно хуже.
– Мы бы для начала с ним по-тихому перемолвились, – ответил Клеарх. – Впятером или вшестером втолковали бы, что именно он делает не так, если он сам того не замечает. Попытались бы объяснить как можно доходчивей. А потом посмотрели бы, постиг он мудрость или нет. Кого-то этот опыт ломает. Другие считают его признаком зрелости и становятся сильней. Если нет, то, боюсь, их отправляют на пищу волкам. Мы не допускаем слабости, сын царя, но… наши пути не для всех. Наш путь – это, по сути, то, что сегодня сломило один из твоих полков. Можно каждодневно истязать лошадь или собаку – это сделает ее покладистой или злой, но не сделает ее лучше, чем она была.
Кир с ругательством саданул себе кулаком по панцирю так, что закровянились костяшки. Клеарх взирал на него со смешливым интересом.
– Не обессудь, великий, но ты иногда бываешь чересчур подвержен гневу. Между тем каждому войску на выучку потребно время. Мне доводилось видеть, как разрозненные шайки и орды становятся достойными полками. Вы, персы, из известных мне никому не уступаете ни силой, ни выносливостью. Но ты день ото дня заводишься и становишься все жестче, как натянутая тетива. По-твоему, это единственно верный способ управляться с властью?
Кир ответил с горечью:
– В таком случае и трон моего отца не более чем безделушка? И, в твоих глазах, борьба за него ничего не стоит?
– Вовсе нет! Мне и помыслить сложно о награде большей, чем та, которой взыскуешь ты. – Спартанец слегка напрягся, завидев, как к ним придвигается Проксен явно с желанием послушать.
– Но… жизнь одной лишь войной не бывает счастливой. Когда человек месяцами, а то и годами не мыслит больше ни о чем, в нем теряется что-то наиважнейшее. Пожалуй, сродни этому жажда мести, если она разгорается в пожар. Собственная ярость, великий, способна человека разрушить. Я это не раз видел сам. Рассудок человека мутнеет, а может и вовсе утонуть, если человека до этого не прикончит спазм, от которого разрывается сердце или лицо оплывает подобно талому воску. Думаю, если б меня дома не ждали жена, сыновья и дочери, я бы не воевал с таким усердием. А когда я дома, у меня там есть надел, который я мирно возделываю. Там я выращиваю чеснок, оливы. И именно об этом своем местечке я думаю, когда вокруг, слепя и оглушая, звенит металл и веет смертью.
Ощутив на себе удивленный взгляд Проксена, Клеарх зарделся. Он не был привычен к долгим речам, однако к царевичу чувствовал расположение. Вообще Кир пленил своим обаянием – черта, в которой Клеарх стеснялся себе сознаться. Хоть он и вел, бывало, в бой целые фаланги, но в глубине души и у него, и у его воинов неистребимо жило тайное стремление: следовать за достойным человеком. За такого, Клеарх был убежден, его гоплиты пойдут хоть в огонь. Он и сам был к этому готов.
– Великий. Мне порой бывает нелегко все время думать о Спарте. Я отдаю ей всю свою жизнь, кровь и пот, я пожертвовал ей свою молодость, но удерживать ее в мыслях не так-то просто под дождем, когда ремни доспехов тянут и режут, а сам я устал. С моей Каландрой все же полегче.
– Я знал большую любовь, – задумчиво и с тоской вздохнул Кир. – Одну-единственную. Но она досталась в жены другому.
– Может, судьба рассудит иначе, если у тебя здесь все получится, – предположил Клеарх.
Рядом трубно высморкался Проксен; оба обернулись к нему, а тот, хмыкнув, вытер себе тряпицей разбухший нос.
– Великий, у спартанца я бы охотно спрашивал совета насчет войны. А вот за советом насчет любви я бы к нему не ходил. Своих жен они выбирают из тех, кто побеждает в забеге.
– Неправда, – возразил Клеарх. Кир посмотрел на него, прищурясь. – Ладно, иногда бывает. Быстрые женщины рожают сильных сыновей.
– Быстрые женщины с тонкими бархатистыми усиками, – уточнил Проксен и потупился под твердым взором спартанца. А тот, разразившись заливистым хохотом, хватил его по плечу так, что тот покачнулся.
– Царевич Кир, – сказал, отсмеявшись, Клеарх, – ты собрал под свое начало хороших людей. Дай мне год, и я сделаю из них войско, способное потрясти мир. Спартанцев из твоих персов я сделать не обещаю, но коринфяне или афиняне из них получатся вполне. А то и беотийцы. Для тебя этого будет достаточно.
Проксен шутливо замахнулся на него локтем, а Клеарх сделал вид, что уворачивается. Дождь хлестал с нарастающей силой, но настроение у всех троих, как ни странно, улучшилось. Потому они благодушно повернулись к юному гонцу, который сейчас, оскальзываясь, торопливо взбирался по раскисшему косогору. Мальчик был персом – подбежав, он раскинул тростниковый коврик и пал на него, протягивая кожаный футляр для свитков. Кир с хмурым видом сломал печать и растянул кусок пергамента, по которому забарабанил дождь, норовя размыть написанное.
Кир пождал губы.
– Не думаю, Клеарх, что у нас есть нужный тебе год, – сказал он тяжелым тоном. – Мой брат послал нашего старого друга осмотреть войска на западе. Тиссаферн прибыл в Сарды и требует, чтобы я незамедлительно явился к нему.
Кир свернул свиток, который намок настолько, что не лез обратно в футляр. Смяв футляр о колено, он откинул его в сторону и свистнул своего коня, на которого вскочил прямо с земли. Сверху он посмотрел на двоих эллинов, которые приложили правую руку к левому плечу и склонили головы.
– Архонт Клеарх, архонт Проксен. Был бы вам признателен за помощь советом в Сардах. Интересно, какое вы составите мнение об этом царевом посланце. Вам готовить коней?
Мешая спартанцу сказать что-нибудь против, первым откликнулся Проксен:
– Конечно, великий, если таков твой приказ. Мы же присягали тебе на верность.
Клеарх сердито покосился на беотийца, избегая говорить, что ему больше по душе пешая ходьба. Кир действовал почти без колебаний, мысленно уже находясь на встрече с человеком, которого охотнее бы видел с отрубленной головой, чем царским поверенным.
– Так будет быстрее, Клеарх.
– Если хочешь, садись ко мне на лошадь и цепляйся за меня, – предложил Проксен.
– Еще чего, – буркнул в ответ спартанец и снова приложил руку к плечу. – Уж как распорядится великий.
Во дворце Сард Тиссаферн пребывал уже неделю, когда туда всего с сорока воинами прибыл Кир. Что до царского посланника, то его сопровождала охрана из шестисот Бессмертных. Надо сказать, что и это было со стороны Тиссаферна определенной храбростью после того, что произошло тогда между ними на царской террасе. Въехав на пространство внутреннего двора, царевич спешился перед молчаливо застывшими черными рядами Бессмертных. Интересно, был ли кто-то из них в Персеполе, когда его жизнь висела на волоске.
Спрыгивая с коней, сопровождающие Кира всадники подняли облако пыли, подернувшее воинство Тиссаферна рыжеватой дымкой. Коней под уздцы увели мальчики-рабы. Сердце у Кира безудержно стучало. Нельзя исключать того, что брат приказал его убить. Была даже мысль вернуться сюда с войском в несколько тысяч, но это уж наверняка привело бы державу в состояние войны. Надо действовать так, словно он забыл и простил все, что между ними было, и больше не считает Артаксеркса и Тиссаферна своими врагами. Даже если ценой тому жизнь, надо придерживаться именно такого поведения.
Соответственно, он бодро пошагал вперед и сделал вид, что не замечает возросшей напряженности в рядах Бессмертных. Кир с улыбкой протянул руки и заключил старого прихвостня в объятия, еще и трижды облобызав сообразно обычаю. Невольно вспоминалась старая греческая басня о человеке, подобравшем в снегу гадюку. Сжалившись над околевающей тварью, он сунул ее за пазуху, чтобы та отогрелась у груди. А она, воспрянув, всадила в него зубья и убила смертельным ядом. Так и Кир вынашивал под сердцем змею в облике Тиссаферна, который прикидывался другом. Ну да ладно, повтора этой ошибки не будет.
Вместе с Проксеном и Клеархом царевича сопровождал и стимфалец Софенет. Он тоже вышагнул поприветствовать персидского вельможу, который брезгливо сморщил нос на запах человеческого и конского пота, жаркой волной точащегося от собравшихся для приветствия людей. Личный телохранитель Тиссаферна потянулся остановить чересчур близко подошедшего грека, на что Софенет так крутнул ему пальцы, что тот от неожиданности вякнул. Тиссаферн обратил на него взгляд, полный яда:
– Ступай-ка лучше на кухни и проверь, готова ли трапеза.
Телохранитель гневливо вспыхнул, полоснув злым взглядом стимфальца. Софенет как будто и не обратил внимания на происшедшее, зато Кир млел от того, что подпортил представление, которое Тиссаферн намеревался устроить. Мало того что он был вынужден миловаться с недругом; так еще и выходило, будто бы он, особа царской крови, во дворце гость, а Тиссаферн в нем полноправный хозяин, что было откровенным унижением. Царевич с показной улыбкой возложил ему руки на плечи и повернул к себе. Зная неприязнь вельможи к телесной близости, он тем не менее крепко обхватил его на входе:
– Я так рад видеть в этой дали знакомое лицо, мой старый лев! Ведь я по тебе скучал. Думал, ты все еще на меня сердишься за… – он пренебрежительно махнул рукой, – за все, что там было в Персеполе. Может, это все мое воображение, но я решил лучше остаться подальше, лет на несколько, прежде чем мой брат освоится на царском троне как истинно богоподобный властелин…
– Понятно, – ответил Тиссаферн, бросая подозрительный взгляд на троих эллинских военачальников, шествующих позади. Он точно не знал, говорят ли они на языке персидской державы. – Повелитель, а ты тут, я вижу, по-прежнему привечаешь греков?
К удивлению, Кир погрозил ему пальцем, как какому-нибудь мелкому шалунишке.
– Да будет тебе известно, старый лев, из-за тебя я влез в долги перед спартанцами. За потерянную охрану одними извинениями перед ними было не отделаться. А выплаты их семьям! Твое лукавство обошлось мне в такую сумму золотом, что можно было оснастить целое войско. И что я мог сделать? При этом я неизменно хранил верность, ты же сам это утверждал. Всю свою жизнь я служил трону и моему отцу, а теперь вот желаю состоять в услужении у моего дорогого брата. Ты ж меня знаешь, мой старый лев. Все наши неприятные моменты оставлены мною позади. Чего же еще нужно?
Поток велеречивых слов да еще эти ободряющие пожатия стародавнего ученика Тиссаферна убаюкивали. Однако с углублением в переходы дворца, отсекающие зной снаружи, он так и не хотел расставаться с ролью хозяина.
Помимо охранников Тиссаферн привел с собой еще и целую орду слуг, среди которых повара, отравители, постельничие, убийцы и вообще все, кто может так или иначе понадобиться. Всех сподвижников Кира взяли под опеку банщики и массажисты, после чего их ждала приготовленная Тиссаферном трапеза. На лице царевича не читалось ни намека на какое-либо недовольство.
– Ужин будет подан на закате, повелитель, – объявил Тиссаферн. – Мой повар колдует над блюдами уже несколько дней.
С некоторой обескураженностью он склонялся к выводу, что докладывать Артаксерксу об измене не придется. Хотя всю эту неделю в городе Тиссаферн не бездействовал. Три его лучших лазутчика отправились добывать любые относящиеся к делу сведения. В каждом городе существовала сеть, снабжающая царевых людей донесениями. Так что через определенное время у Тиссаферна должна была сложиться совокупная картина всего полугодичного пребывания царевича в Сардах: все его разговоры, каждый его шаг и всякое решение. Лазутчики собирали все крупицы по мере поступления, а общие выводы Тиссаферн должен был сделать, сложив все воедино. Помимо этого, с Киром он собирался ежедневно трапезничать, а попутно за ним наблюдать. Зная его с младых ногтей, все его утайки и обманы Тиссаферн рассчитывал распознавать мгновенно. От осознания такого высокого доверия старый наставник расправил плечи и горделиво выпятил грудь. Его оценка была, по сути, выбором между жизнью и смертью, а от его слова зависело движение несметных ратей.
Взмахом Тиссаферн подозвал двух молодых рабов, чтобы сопроводили его в баню. Купания он любил, а сейчас настроение у него было особенно приподнятым. Еще бы: ведь он правая рука всевеликого царя, карающая десница царского дома. Сама эта мысль вызывала удовольствие.
Ужин в тот вечер проходил в уединенной обстановке. Несмотря на то что людей у Тиссаферна было достаточно, чтобы поставить их на каждом углу и переходе дворца, стоять вдоль стен в обеденной зале он допустил всего шестерых. Сам он облачился в шитый темным золотом, свободно ниспадающий наряд, под которым, тем не менее, угадывались припудренные складки жира, которых в прежние времена Кир на своем наставнике не замечал.
Окна здесь находились в верхней части стен. В этой зале некогда развлекал сатрапа Индии царь Дарий, бросая гостям спрятанные в чашах со сливами рубины, словно это были кусочки сластей. По особым воздуховодам, прихотливо размещенным в черепичной крыше (чудо изобретательности безымянного архитектора), зала обдувалась прохладным ветерком. Стол был облицован темно-зеленым мрамором, отшлифованным до такой зеркальности, что между блюдами проглядывали отражения потолочных балок и лица нагибающихся слуг. Царевич восседал во главе стола с Тиссаферном по правую руку. По левую сидел Клеарх, а Проксен и Софенет далее вдоль стола.
Тиссаферн продолжал разыгрывать из себя хозяина, рекомендуя то или иное яство. При этом он чутко наблюдал, не замешкается ли Кир прежде, чем их отведать. Но если царевич и опасался яда, внешне он этого не выказывал. Отсутствие подозрительности, надо признать, предполагало отсутствие измены. Если человек затеял что-то неладное, то он подозревает его и в остальных. Между тем Кир преломлял хлеб и отпивал вино неторопливо и расслабленно, со спокойной небрежностью в движениях.
– А скажи мне, повелитель: эти греки говорят на нашем языке? – задал вопрос Тиссаферн.
К его удивлению, и Проксен, и спартанец Клеарх кивнули, хотя первый при этом шевельнул пальцами: дескать, способность так себе. Софенет огляделся с таким видом, будто слышит не более чем лай собак – грубоватость, означающая непонимание. Видимо, звуки чужой речи он воспринимал как нечто постороннее, чего можно не слушать или вовсе говорить поверх.
– Как видишь, старый лев, персидский язык – язык торговли и войны, по крайней мере, среди тех, кто делает войну своим ремеслом.
Кир говорил непринужденно, будто они по-прежнему были друзьями.
– Вижу, повелитель. И постараюсь не допустить опрометчивости. Однако твой брат распорядился, чтобы я оценил готовность наших войск, размещенных здесь. И моя задача справиться об их численности. Она тебе известна?
– Разумеется, – ответил Кир, щедро накладывая ложкой икру на хлеб. – Я прикажу, чтобы мой эконом показал тебе все наши записи. Это ведь ты в свое время наставлял меня вести всему учет. И было бы стыдно, если б ты нынче уличил меня в нерадивости.
Тиссаферн рассмеялся, опорожняя кубок и подставляя слуге, чтобы тот наполнил его снова. Вино блаженно размягчало, и он улыбнулся царевичу. Возможно, младший сын Дария оказался душою милостивей, чем можно было предположить.
– Еда хороша, – произнес Клеарх на греческом.
Тиссаферн на эту бестактность нахмурился, но Кир быстро перевел. Зато Софенета первые понятные ему слова, наоборот, порадовали.
– Так ведь я привез своего повара, – пояснил Тиссаферн. – Честно сказать, в моем возрасте странствовать без него негоже. Ничто не усваивается мной, если только не приготовлено его руками. – Он сокрушенно похлопал себя по животу. – Стерегись старческого несварения, Кир.
Царевич улыбнулся открытой улыбкой, словно они, как когда-то, действительно были добрыми друзьями. Хотя именно этот сидящий рядом человек не так уж давно добивался, чтобы его голова слетела с плеч. И ни приязненности, ни доброты не было в этом жирном старике, уминающем баранину с апельсинами. Одного лишь взгляда на стражу, стоящую вдоль стен, было достаточно, чтобы понять: по знаку хозяина они в любую секунду готовы вступить в схватку. На Кира они смотрели как на врага, напоминая, что таковым он и является. Тем не менее угощение было отменным, и Проксен поднимался из-за стола со стоном. Было свыше десятка перемен блюд и вин, все это с объявлениями и дифирамбами в адрес повара (Киру под конец уже хотелось Тиссаферна удушить). Эллины ели мало, видимо, следуя примеру Клеарха, который лишь пробовал поднесенное, словно проверяя его на наличие яда. По всей видимости, именно этим он и занимался.
В сумерках, на исходе долгого дня, было трудно сдерживать зевоту. Кир откинул голову и похлопал себя по открытому рту.
– Завтра, старый лев, я проведу перед тобой некоторые из наших лучших полков. Я потратил на них целое состояние, но думаю, ты согласишься, что оно того стоило.
– Надеюсь на это, повелитель, – отозвался Тиссаферн с ноткой предупреждения в голосе.
В нависшей тишине Тиссаферн увидел, как младший сын царя возвел бровь. Было видно, что он ждет, когда вельможа расстелется перед ним ниц. Хотя для человека, прибывшего давать оценку, такое было, согласитесь, не вполне уместно. Тиссаферн неловко поклонился в пояс и выпрямился, зардевшись под взглядом Кира, полным холодного недоумения.
Тиссаферн искательно заулыбался:
– Сейчас иные времена, повелитель.
К его удивлению, лицо Кира сделалось жестким.
– Нет, Тиссаферн. Я сын своего отца и брат великого царя Артаксеркса. Ты хочешь выказать непочтительность высочайшему семейству, правящему дому?
Быть может, это и мелко, но после вечера с нелицеприятным человеком и осторожничанья как бы чего не вышло, Киру сейчас мучительно хотелось поквитаться, и он держал на себе взгляд Тиссаферна, пока тот, побагровев лицом, не начал опускаться, медленно и плавно, пока наконец не растянулся на полу плашмя.
– Ну вот. Очень важно помнить, кто из нас здесь хозяин, а кто гость, – тихо и уже без нажима молвил Кир, а затем протянул руку, помогая вельможе подняться на ноги. – Этим эллинам неведом ритуал поклонения особе царской крови. У тебя, Тиссаферн, это так хорошо получается, что я прямо чувствую тоску по дому.
– Благодарю, повелитель. Ты делаешь мне честь, – сипло выдавил Тиссаферн, так насмешив Проксена, что тот поспешил громко, с треском высморкаться, дабы это скрыть.
10
Подлинный ранг Тиссаферна как гостя определить было невозможно. Знатности в нем не было ни капли, однако при нем была державная печать, дающая ему полномочия действовать от имени царя, и уж он не видел себя не кем иным, как посланцем, надзирающим за всей западной частью империи. Вид у него был отнюдь не просительный: атласные одежды, породистый жеребец, почетное место на парадном кругу Сард. Присутствовать на событии попросился местный сатрап, а за ним стал напрашиваться и весь цвет города – кто подкупом, кто лестью, а кто и угрозами.
Мимо вельможного гостя по пропеченному солнцем полю шли ряды, гарцевали кони и громыхали колесницы. Для защиты от зноя над важными особами был растянут льняной навес, а рабы веяли опахалами. У Кира радость от зрелища подтачивалась мыслью, что все это будет изложено брату с невесть какими замечаниями.
В более невинные времена царевич с удовольствием показывал свое отборное воинство и наиболее сложные маневры своему наставнику в надежде, что вести о его успехах дойдут до ушей отца в Персеполе. Сегодня это проще простого: за месяцы собрана и обучена такая силища. Тысячи эллинов и столько же персидских полков шагали парадным шагом, делали сложные перестроения, демонстрировали приемы и схватки единоборцев и небольших групп. Для того чтобы впечатлить Тиссаферна, у Кира была заготовлена постановочная битва, рассчитанная на зрителя. Но теперь это казалось излишеством. С улыбкой посылая за охлажденными напитками, он истекал потом.
На обширном пространстве поля царевич и Тиссаферн были единственными конными, а остальные гости и посетители располагались по обе стороны на искривленных скамьях, все равно что зрители в греческом театре. Настроение, несмотря на гнетущий зной, было приподнятым. Из купцов и знати многие прихватили с собой незамужних дочерей, чтобы те, хотя бы ненароком, оказались замечены неженатым царевичем, который, по слухам, недолюбливает гуляния и редко на них показывается.
Найдется ли хоть какой-нибудь слушок, который не дойдет до ушей Тиссаферна, а через него и брата? Сомнительно. Пока Артаксеркс не произвел наследника, Кир по прямой линии преемник трона. А его любовные связи или их отсутствие – предмет большого беспокойства для высочайшего дома. Надо же, не создать за отпущенные месяцы ширму понадежней! Он весь ушел в создание большой военной силы, отряд за отрядом, полк за полком. Ему и в голову не приходило, что брат может подослать человека с якобы невинным вопросом насчет того, посещает ли царевич театр, не ухаживает ли за какими-нибудь женщинами из высокопоставленных семейств. Две его греческих пассии не в счет.
Кир чувствовал, как по щеке стекают капли пота, и сознавал, что стягивает себя узлом. Ложь была ему ненавистна, а напряжение от вынужденного притворства изматывало. Помнится, мать ему однажды рассказывала про одного премудрого, который был знаменит суровостью своего нрава и тем, что смирял его в себе настолько, что никто и никогда не замечал его во гневе. Когда он умер, возникло подозрение, что причиной смерти мог послужить яд, и тогда тело вскрыли для выяснения причин гибели. Мышцы у премудрого оказались связаны в корявые узлы, что образовались за долгие годы сдерживания гнева, направленного против себя, но который он никогда не выпускал наружу.
И вот теперь, когда Тиссаферн то и дело оборачивался с одобрительным возгласом насчет того или иного поединщика, Кир ощущал себя тем премудрым. Сейчас ему оставалось послушно кивать и склабиться на солнце, в то время как страхи в нем только росли. Всем было известно, что его отец держал по всей империи соглядатаев – но даже они сами не знали об истинных размерах той сети. Кир взял себе за правило действовать так, будто он находится под наблюдением; как будто каждое слово, произнесенное им, может подслушать худший из врагов. Это выглядело наиболее безопасным, когда нельзя было понять, кому верить. И вместе с тем предосторожность легко забывалась теплыми ночами под доброе вино, друзей и услады. В такие минуты казалось возможным выплеснуть всю свою жизнь в нескольких словах.
Толпа на скамьях сдержанно гудела, когда через ворота на поле вошли четыре сотни спартанцев и, разворачивая строй, проворной рысцой устремились наперерез персидскому полку, недвижно застывшему на другой стороне. Зрители завороженно следили за мельканием красных плащей, проворно движущихся идеально ровными рядами. Насчет этих плащей не было единства мнений даже у самих спартанцев. Одни командиры перед боем приказывали их снимать, так как это одежда для зимы и для показа, а в сражении за нее легко может цепляться и дергать неприятель. Другие, такие как Клеарх, использовали их для ухватывания вражьих клинков, а также для ослепления врага взмахами плаща с последующим вонзанием через него меча. Вообще это было делом личного выбора людей, чья жизнь зависела от их боевых навыков, но надо признать, что на строевом поле они смотрелись действительно впечатляюще. Постановочный бой, который задумали царевич с Клеархом, должен был потешить если не греков, то, во всяком случае, персидских зрителей. Сами спартанцы, отрабатывая этот маневр, лишь пожимали плечами. Они знали о своем превосходстве, неважно, что там персидский царевич желал явить своему старику наставнику.
Менее чем в сорока шагах от Тиссаферна и Кира спартанцы сняли со спин щиты и надели их ремни на руки. Одновременно с этим они медленно опустили свои длинные копья, держа их навесом, а не как посохи. Через считаные секунды они готовы были атаковать; Кир невольно сглотнул от мысли, каково оно, стоять перед такими людьми на поле брани. Все прочие построения затихли, готовясь наблюдать эту заключительную сцену. Толпа замерла, смолкли даже птицы.
Кир молча взмолился, чтобы персидский полк не разбежался прямо на строевом поле. Полку были приданы восемьсот лучников, которые должны были стрелять стрелами без наконечников. Спилить острия у спартанских копий, не выведя их при этом из строя, не получилось. Клеарх отказался ради какой-то потехи уничтожать оружие отцов. Так что гоплитам предстояло вытерпеть град стрел, но удержаться от растерзания персов в ответ.
Две силы сближались на вид неспешно. У Кира непроизвольно сжались кулаки, когда ряды персов остановились в двухстах шагах. Лучники с плавной гладкостью натянули тетивы и с дружным выкриком отпустили их – впечатление такое, будто взмахнула крылами огромная птичья стая. В то же мгновение со стороны спартанцев грянули команды, и над присевшими рядами образовался золотистый купол из сомкнутых щитов, по которым секунду спустя дробно застучал град из сыплющихся стрел. В колчане каждого из восьмисот лучников их было двенадцать, так что на щиты обрушился почти десяток тысяч. С расстояния зрелище смотрелось величественно, особенно после долгих предварительных стрельб по мишеням. Некоторое число неизбежно ушло на сторону, что Тиссаферн не преминул едко заметить. Хотя в целом он взирал благосклонно и, сидя верхом, похлопывал залпу в ладоши.
На поле спартанцы неторопливо распрямились. Вновь стихла толпа, ненадолго ожившая смешками и одобрительными возгласами. Зрители буквально кожей чувствовали зловещие взгляды спартанцев, направленные на персидский полк. Медленно повернулись бронзовые шлемы, глазными прорезями остановившись на зубоскалящих лучниках. Кое-кто из спартанцев выдергивал стрелы, застрявшие в щитах. Бронзу и дерево могли пронзить только наконечники, а это значит, что не все стрелы оказались безопасны. Неизвестно, был ли это случайный просчет или злой умысел кого-нибудь из персидских начальников, втайне надеющихся положить на поле несколько греков. Было видно, как спартанцы перед броском что-то меж собой обсуждают – о боги, хоть бы не намерение поквитаться. Воины в красных плащах, поддразнивая врага, приняли чуть согбенную позу готовых прянуть гончих. Серьезных ран, похоже, никому не досталось. Но укрытые шлемами взгляды тем не менее упирались в лучников. Киру вспомнились слова царя Леонида при Фермопилах. Тогда персы передали ему, что их стрелы закроют солнце, а тот ответил: тогда будем сражаться в тени.
Тиссаферн хохотнул каким-то своим мыслям об увиденном, а спартанские лохаги скомандовали своим мрачным воинам снова встать прямо. Острия длинных копий поднялись, а щиты были убраны за спину, как в походном порядке. Поглядывая на них через поле, персидские лучники с прежней веселостью хлопали друг друга по спинам, стоя врассыпную, словно пришли на гуляние или свадьбу. Кир внутренне кипел. Если б не стыдоба перед Тиссаферном, он бы сейчас криком призвал спартанцев наброситься именно сейчас, дав урок его растяпам насчет потери бдительности. Ведь это все равно что запускать лис в курятник! Даже простой урок не обойдется без крови.
Тиссаферн головотяпства персидских лучников как будто не замечал. С помощью телохранителей он слез с коня, а с ним был вынужден спешиться и Кир. Коней передали слугам. Тиссаферн, длинно потянувшись, зевнул, на царевича глядя с лукавством. Щелчком пальцев он затребовал еще один напиток со льдом – четвертый по счету, – хотя каждый из них стоил целый золотой (размер месячного жалования). Лед для этих целей поступал насеченными глыбами с высокогорных озер и летней порой хранился в недрах глубоких подземелий. Получается, одна лишь чаша голубого стекла являлась своеобразным символом цивилизованности и богатства. Тиссаферн имел пристрастие к сладким сокам с горкой ледяных осколков. А еще более он был пристрастен к власти, которая дает рукам доступ к этому богатству.
– Зрелище было великолепным, – похвалил он, со сладострастным причмокиванием отхлебнув из кубка. – Хорошо, что эти чужеземцы чувствуют на себе победную силу, особенно персидских войск. Мне бы не хотелось докладывать твоему брату, что здесь твои греки мнят себя выше, чем им отведено, – нахмурив брови, он оглядел стоящее на поле воинство. – Отчего-то я не вижу на спинах спартанцев полос от порки. В достаточной ли мере ты с ними строг?
Последнее он произнес вопросительным тоном, и Кир придавил в себе изначальный позыв к резкости. Как сын царя, он командовал всеми войсками Персии. Тиссаферн, безусловно, понимал, что смыслит в этих вопросах куда меньше, чем он. Но старику хотелось его поподдевать, слегка отыграться за свою вчерашнюю приниженность, как будто их двоих уравнивало то, что при нем были печать и доверие царя Артексеркса. Истинный охват его полномочий узнать было невозможно. Прямой вопрос на этот счет был бы неуместен, а посылать к брату гонца уже не имело смысла. В результате приходилось сносить осиные укусы и грозные намеки, не выказывая в ответ негодования. Тиссаферну, насколько известно, было велено проверить царевича, и именно этим он сейчас и занимался.
– Дисциплину среди спартанцев я поверяю их начальникам, – сказал Кир. – К примеру, если кто-нибудь из их числа начнет проявлять леность или прожорливость, его накажут весьма жестоко, так как, по их понятиям, это ставит под угрозу жизни остальных. К этим вопросам они относятся с редкостной серьезностью, как к посягательству на свою честь и вообще репутацию их родного города.
– Гляди-ка. Варвары, а какие утонченные, – ухмыльнулся язвительно Тиссаферн. – Как будто у них действительно есть понимание о чести, да и вообще о благородстве как таковом. Уверен, твой брат не оценил бы твоих восторгов касательно этих вояк. Или ты станешь это отрицать?
В Кире вновь поднял голову гнев, так что было даже сложно ответить на эти слова без горячности.
– Отрицать я не буду. Сродни этому отрицание того, что небо голубое. Я восхищаюсь хорошими воинами. А со спартанцами в этом не сравнится никто.
– Ты хочешь сказать, что они превосходят наших Бессмертных? – с нажимом спросил Тиссаферн.
– Фермопилы тому свидетельство. Платеи тоже. Если я хочу, чтобы границы моего брата были крепки, я должен брать к себе лучших, чтобы они обучали наши полки.
Тиссаферн поостыл, хотя прежде, чем ответить, помешкал.
– Кому-то лучше про Платеи не упоминать. Место, где спартанцы разгромили нашу пехоту, а затем устроили резню уцелевших в лагере. То был поистине черный день. А ты вот восхваляешь сыновей и внуков тех самых варваров и негодяев! Посмотри, как они там стоят таращатся! Будь ты исправным хозяином, ты бы взял одного из их начальников да высек за дерзость своих людей. Честно сказать, я удивлен, как твой брат…
– Артаксеркс должен знать, что его держава пребывает в мире, – перебил его Кир, – а мир выигрывается за счет сильных границ. И что хорошо обученные войска готовы выступить в любой час. Я собрал самых лучших, чтобы улучшить наши персидские полки. Для меня они точило, которое натачивает и заостряет. В этом и состоит для него их важность.
Кир решил не продолжать, пока из уст не вылетела какая-нибудь непоправимая колкость. Непонятно, искренне ли Тессаферн гневается на заносчивость спартанцев, или же хочет вызвать на откровенность, способную погубить.
– Так или иначе, все это моя забота.
Тиссаферн обернулся к одному из прибывших с ним начальников:
– Полемарх Бехкас, видишь вон того спартанского военачальника в леопардовой шкуре? Да, в шлеме с перьями. Подзови его сюда.
У Кира от удивления приоткрылся рот. Вмешиваться в приказ он не пытался, ибо это означало пожертвовать своим достоинством. Офицера привел с собой Тиссаферн; несомненно, он подчиняется лишь одному хозяину.
– Ты думаешь распоряжаться в моих казармах? – спросил он с мятущимися мыслями.
Тиссаферн полоснул его косым взглядом. Что примечательно, его рука сейчас лежала рядом с засунутым под кушак кинжалом, как будто Тиссаферн подумывал его вынуть. День неожиданно пошел насмарку, выявив озлобленность царедворца. Смятенным взглядом Кир встретил Клеарха, который тяжеловатой трусцой подбежал к всадникам, снимая на ходу шлем. Спартанец с невозмутимым видом встал, держа ноги на ширине плеч. Судя по виду, он рассчитывал на похвалу, и никак не на взыскание. А потому брови у него поползли вверх, когда Тисаферн сердито указал в его сторону:
– Заносчивость этого человека вызывает у меня неудовольствие! – возгласил он. – И, будучи полномочным представителем царя Артаксеркса, да будет стократ благословенно его имя, я желаю подвергнуть этого человека порке в назидание остальным. Полемарх Бехкас, выделить одного из людей покрепче, пусть приготовит розги! Раздеть этого спартанца до пояса и уложить. Отсчитывать удары буду я.
– Этому не бывать, – процедил Кир, изумление которого сменилось жарким гневом. – У тебя нет таких полномочий. – Он ткнул рукой в шедшего брать Клеарха начальника: – Не сметь трогать этого человека. Лечь к ногам моим, сейчас же!
Последнее вырвалось рычащим криком, и полемарх повиновался. Но что изумляло, Тиссаферн оставался стоять, хотя побледнел и мелко трясся.
– Повелитель, – ссекающимся голосом выговорил он, – твой царствующий брат пожелал, чтобы все шло без нарушений. Я его голос, а значит власть самого трона роз. Во всяком случае, в этой крысиной норе, далекой от остального мира. Вели принести сюда мою суму: в ней лежит его личная печать – его священное слово, оправленное в золото. Не дерзнешь же ты ослушаться прямого приказа самого трона?
– Ты не трон. И ты здесь не властен, Тиссаферн, – уничижительно и властно рек царевич. – Войсками империи распоряжаюсь я. Один. Что ты знаешь о войне? Ты видишь на поле этих спартанцев с копьями, мечами на боку и кописами у поясницы? Если ты посягнешь на их военачальника, сидеть сложа руки они не будут. Если ты ожжешь его плетью, то от злой участи мне не уберечь ни тебя, ни твоих людей.
– Ах вот как, – вытеснил Тиссаферн. От напряжения его губы посерели, и он брызгал желчью и ядом, сбросив с себя маску смешливого терпения. – Так они своим дикарством наводят на тебя страх? Право, забавно. Остается лишь недоумевать, кто же здесь истинный хозяин, если твои дикие псы могут так легко срываться с поводка.
– С вашего позволения, – встрял вдруг Клеарх, удивив их обоих. – Прошу не серчать, но царевич Кир в своих наблюдениях не вполне точен. Мои спартанцы вмешаются только в том случае, если я отдам приказ.
На придворном персидском он говорил четко и ясно, с легким сузским выговором. Тиссаферн раздраженно воззрился, но спартанец оставил это без внимания, обращаясь к Киру:
– Великий, если мои люди чем-то прогневали посланца твоего брата, то порку я, конечно же, перенесу. Эка невидаль. Не поднимут мои люди и оружия. Дисциплину мы понимаем наряду со справедливостью. Думаю, это будет для них отличным уроком.
Клеарх смолк в ожидании ответа, пристально глядя на Кира, который сейчас все взвешивал. Под немигающим взглядом Тиссаферна взаимные намерения обоим приходилось угадывать, одновременно утаивая их от злокозненного наблюдателя.
После долгой паузы царевич кивнул:
– Что ж. Тиссаферн тут действительно нашел в поведении твоих воинов что-то предосудительное. Если ты снимешь плащ и нагрудник, то тогда эта показная кара состоится.
Под устало-протяжный вздох Кира спартанец опустился на одно колено и склонил голову, после чего начал разоблачаться. Обычно касанию колен о грязь он предпочитал поклон, значит… выбор сделан правильный? Кир старался не выдать своего облегчения. Между тем всего несколько дней назад Клеарх сказал, что он не может приказать его высечь, и вот те раз. Когда на Клеархе остались только кожаная юбка и сандалии, он, как ни странно, стал казаться крупнее, словно высеченный из глыб темно-янтарной древесины. Рельефные твердые мышцы, упрятанные под металл нагрудника, более впечатляли открытые глазу.
На поле спартанские шлемы по-прежнему скрывали лица воинов, недвижно взирающих на все с холодной отстраненностью. Там все видели, что Клеарх обнажился до пояса. Даже не глядя в их сторону, он подошел к зрительским скамьям и оперся там о белый крашеный столб, одну руку положив поверх другой. На глыбы спартанских мышц Тиссаферн поглядел блекло и снова услал одного из своих за розгами. Представление он решил досмотреть до конца. Кульминация, которую он хотел спроворить, вышла несколько боком, но оставалась хоть какая-то надежда, что этот грек закричит. Мысль о том, что спартанец под розгами завопит или расплачется, была некоторым воздаянием за зряшный, по сути, день.
Пока воин готовил розги, спартанцы встали навытяжку. Клеарх возвел глаза к небу и пробормотал что-то, невнятное из-за расстояния. Слышно было, как, рассекая воздух, загудели прутья со свинцовыми наконечниками.
Хлестко щелкнул первый удар, красными рубцами ложась на старые шрамы; брызги крови попали на секущего, и тот невольно отпрянул.
– Один, – ехидно кривя рот, произнес Тиссаферн, у которого от долгого стояния затекла спина. При втором ударе он пошептал слуге, и тот принес стул, на который Тиссаферн с томительным вздохом опустился.
– Два-а, – протянул он со злорадной дрожью. – Или это было три? Может, начнем отчет сначала?
– Было два, – сказал Кир. – Я буду вести счет до сорока. Пожалуйста, усладись еще одним ледяным соком.
Слова прозвучали как оскорбление, так что Тиссаферн вспыхнул. Кир недоумевал, как он раньше не замечал в этом человеке злобы. Была ли она в нем всегда или каким-то образом появилась с переменой хозяина розового трона? В этом человеке Кир на протяжении десятилетий видел друга, но, вероятно, тогда он был царевичем, а Тиссаферн небогатым воинским начальником и учителем. Когда один возрос, а другой понизился, это выявило в пожилом человеке горечь или слабость, которая, возможно, присутствовала в нем всегда.
Клеарх мужественно терпел удар за ударом. В плети была примерно дюжина жгутов. Каждый удар разрывал кожу крест-накрест, обнажая внизу более светлую плоть. Руки спартанец держал на столбе, и был момент, когда Клеарх заметил, что впивается в дерево чересчур сильно. Выдохнув, он приослабил хватку, слегка согнув ноги.
Ритм ударов отслеживать было непросто. Если удар делался в момент вдоха, то воздух выбивало из легких. Было видно, как Клеарх пытается улучать моменты на то, чтобы вдохнуть, но секущий был неопытен, и ритм получался неровным. Несколько раз он приостанавливался, чтобы разодрать жгуты, слипшиеся меж собой от крови.
К тридцатому удару тело спартанца уже лоснилось от пота, а сам он был весь в темно-алых крапинах. Капли крови долетали и до зачарованно застывших зрителей. Какая-то молодая женщина в восхищенном ужасе рассматривала рубиновую капельку у себя на пальце.
Еще дважды Клеарх делал попытку отвести от столба руки, и всякий раз это ему давалось все труднее. Криков боли он не издавал, лишь иногда надсадно кряхтя в тот момент, когда плеть некстати вышибала из груди воздух. На сороковом ударе толпа благоговейно замерла. В этот день персидские зеваки постигли, что представляет собой Спарта, а по хмурости Тиссаферна можно было судить, что он крайне раздосадован.
К царевичу Клеарх поворотился со скупой улыбкой на лице.
– Надеюсь, великий, моя кровь искупает бесчестье. Спасибо за твою веру в меня и моих людей. Ты оказываешь нам честь.
– Забудем об этом, – сказал Кир, хотя обоим было понятно, что это не забудется. – Возвращайся к своим воинам. И скажи им, что твоя храбрость меня впечатлила.
Спартанский архонт скованно опустился на одно колено, после чего принял плащ, шлем и леопардовую шкуру от персидского начальника, стоящего с круглыми от изумления глазами. После этого Клеарх возвратился к своим, и они без слов ушли с поля.
Тиссаферн проводил их кислым взглядом.
– Меня занимает мысль, а взаправду ли они стоят того ручья золота, который ты на них расходуешь? – спросил он.
– Пожалуй, что да, – ответил Кир, покачав головой в изумлении от таких слов.
– Гм. Что-то я утомился после такого долгого стояния на солнце. В этом городе у меня еще остались нерешенные вопросы торговли, а затем еще вручение даров твоему брату в знак верности и служебного рвения. Но все это я проделаю завтра, перед тем как отправляться в обратный путь.
– Ты у нас как старый семейный пес, – усмехнулся Кир. – Беззубый, слепой, со скрипом в суставах, а все еще живой.
Дряблые щеки Тиссаферна тронула розовая краска:
– Беззубым я бы себя не назвал, повелитель. Ох, не назвал бы.
С безупречной учтивостью он растянулся на земле ниц и лежал, пока Кир не приказал ему подняться. Расставались они без сожаления, а вслед за ними, судача на все лады, разошлась и толпа.
11
Когда солнце взошло в голубой пустоте неба, Тиссаферн со своей свитой отправился в центр города. Вельможу сопровождало столько рогов, барабанов и реющих вымпелов, что поездка больше напоминала царский выход. Целые кварталы Сард замерли, дабы посмотреть на восточного вельможу, соизволившего выехать в народ.
Всю эту суету Кир наблюдал с высоты дворцового балкона. Даже на изрядном расстоянии Тиссаферн был различим – надменно сидящий на сером скакуне, а по бокам от него рабы мечут в толпу серебряные монеты. Следом за конем, посверкивая оружием, шагали Бессмертные в грозных черных доспехах.
Кир стиснул челюсти, слыша, как скрипнули зубы, и, упершись руками о камень, вдохнул прохладный утренний воздух. К этому времени он уже не сомневался, что за ним следят соглядатаи, а потому вместе со своим Парвизом спустился в конюшню, где шум города и восторженный гомон толпы были слегка глуше. Сев здесь на коня, он с легкой душой повернул от ворот конюшни налево, направляясь от Тиссаферна прочь, к казармам на другой стороне города.
В этом квартале Сард настроение царило совсем другое. Стражники у ворот молча расступились, склонив головы, и Кир въехал на почти безмолвное подворье. Здесь упражнялись всего несколько молодых воинов. При виде спешивающихся гостей свои занятия они прекратили. Воздух здесь дышал угрозой, но слуга дал себе клятву защищать своего хозяина, а потому огляделся с видом бойцового петушка, хотя любой из стражников мог забрать у него меч.
Под недобрыми взглядами Кир горделиво поднял голову. Если с тобой и меряются взглядами, следует, пожалуй, вспомнить слова Клеарха о том, что все молодые люди глупы. Если им повезет, то возможно, они доживут до зрелых лет, и тогда у них появится острейшее желание всю свою мудрость и опытность обменять всего лишь на денек славного, бесшабашного бытия своей юности. Да уже не получится.
Ступив в полумрак помещения, Кир приостановился, давая глазам привыкнуть к темноте. Стены здесь были побелены, что сказывалось на освещенности. Везде чистота и опрятность, припахивало соломой, а еще мазями и притирками, которые эллины используют для врачевания ран и ушибов. До слуха донесся сдавленный стон. Кир кивком поприветствовал двоих спартанцев, сидящих за каменным столом. При каждом из них была мелкая плошка; по столешнице были разбросаны игральные кости, а также лежала пригоршня медных монет. Караульные. Ни один из них перед ним не встал; оба лишь недвижно смотрели. Кир непроизвольно сжал руку в кулак, но что-то его остановило, и он ограничился тем, что подался к караульным через стол.
– Вы больше не чтите своих старших начальников? Что бы на такую дерзость сказал архонт Клеарх?
Оба, переглянувшись, встали, забыв об игре. Кир, не дав им опомниться, быстрым шагом прошел мимо.
Он остановился на пороге смежной комнаты, завидев там молодую женщину, которая сейчас вытягивала из спины архонта нитку, сморщивая кожу, как ткань. Там уже виднелся десяток аккуратных черных стежков червячками на плоти.
Клеарх обернулся на звук, непроизвольно втянув зубами воздух.
– А я думал, спартанцы не чувствуют боль, – сказал с порога Кир и вошел внутрь.
– Кто тебе это сказал? Мы что, сделаны из камня? Конечно, мы ее чувствуем, только не показываем этого. Во всяком случае, перед врагами.
Киру было приятно, что спартанец не считает врагом его. Он улыбнулся. Клеарх тоже издал смешок, но ему трудно было это делать, и он устало прикрыл глаза.
– Панея всю ночь трудилась над моими швами. Надеюсь, твой друг остался доволен.
– Тиссаферн мне не друг, – категорично ответил Кир. – Сомневаюсь, что он вообще когда-либо им был. А пришел я затем, чтобы тебя поблагодарить. Не знаю, хотел ли он просто мне досадить или же показывал, насколько возвысилось его положение при дворце. Был он обыкновенным наставником царских детей. Теперь же он доверенное лицо Царя Царей. Я же, напротив, низвержен, и мне позволяется жить своей жизнью и заниматься тем, к чему я приставлен, но не более того. Тиссаферн желал показать, что моя чаша весов качнулась книзу. Если бы ты воспротивился…
Кир поглядел на молодую женщину, работающую со спокойной сосредоточенностью. Заметив его взгляд, Клеарх качнул головой:
– Она глуха, великий. И тебя не слышит. Хотя иглой и нитью владеет с большим умением.
– Все равно не мешало бы перерезать ей горло, – нарочито громко сказал Кир, вынимая нож.
На эти слова Патея и ухом не повела, так что царевич сунул нож обратно в ножны. Между тем Клеарх приподнял брови, и тогда Кир закрыл за собой дверь и, подтянув к себе стул, сел возле ложа.
– Ты отстоял несколько дней, архонт. Однако того года, о котором ты говорил, у нас, скорее всего, нет. Завтра Тиссаферн уезжает, и что именно он там доложит, я сказать не берусь.
– Так пусть он упадет с балкона, – поморщась, высказал мысль Клеарх.
– Он уже послал сообщения с птицами, которых привез с собой из Персеполя. Доберутся ли они из такой дали, сказать сложно. Но нельзя и с уверенностью сказать, что нет. При этом мне неизвестно, как в ожидании Тиссаферна будет действовать мой брат. Говоря откровенно, я всей душой был бы рад видеть падение этого старого глупца с большой высоты. Но мне необходимы даже те три месяца или около того, что уйдут у него на возвращение…
По старой привычке, произнести перед посторонним название столицы брата оказалось нелегко:
– …в Персеполь. Хорошо хоть, что со старостью уходит и подвижность. По Царской дороге он будет идти медленно.
Женщина похлопала Клеарха по плечу и указала жестом, что ему следует лечь на живот. После этого она полила заштопанные шрамы вином, вытирая со своей работы запекшуюся кровь. Промокнув тряпкой черные швы, она погладила архонта, словно любимого пса. Клеарх ей улыбнулся, и Киру подумалось, не любовники ли они. У спартанцев такие вещи происходили открыто, и они признавали шесть разновидностей любви. Этим они значительно отличались от персов со всеми их запретами, которые Кир впитал с молоком матери.
С ложа Клеарх встал уже снова военачальником Спарты, пробуя диапазон движений, позволительный рукам. Довольный, Панее он кивнул и протянул золотой дарик.
– Очень хорошо, – вслух похвалил он ее.
Женщина расцвела улыбкой и глубоко ему поклонилась. И Кир, и Клеарх не преминули осмотреть ее груди, приоткрывшиеся в поклоне.
Когда они остались одни, Кир тоже встал.
– Тиссаферн мне враг, – объявил он. – Если раньше я в этом еще сомневался, то теперь уверен. Для него даже неважно, чем я здесь занимаюсь, и, даже ничего не подозревая о моем замысле, он наверняка нашепчет моему брату, что меня следует заменить, а на мое место назначить его или кого-нибудь из своих любимцев.
– Тогда тебе можно не мучиться с выбором, – заключил Клеарх. – Ты можешь бросить свое нынешнее занятие и начать жизнь попроще, скажем, в Афинах, на Крите или еще где подальше от персидского владычества. Или же ты можешь повести уже набранные тобой полки, пока их еще никто не ждет. Если ты прав насчет Тиссаферна и желаешь довести задуманное до конца, то выступить следует без промедления и быть твердым со своими людьми. Под твоим братом огромные силы. Я верю, мы сможем их одолеть, но лучше, если о нашем приближении никто не будет знать. Внезапность стоит десятка тысяч жизней.
Какое-то время Кир молчал, размышляя. А когда поднял глаза, то поглядел пристально, надменно и сурово. Клеарху не пришлось уточнять, в какую сторону он решил направить свой прыжок.
– Я когда-нибудь рассказывал, что мой отец был не старшим сыном?
– Кажется, да. Трижды, если мне не изменяет память.
– Он был даже не вторым. Второй сын убил первого – и тут из толпы с бронзовым мечом вышел отец, жаждущий мести. Это и есть то, чего я хочу достичь. Справедливость и отмщение. А еще трон. Не думаю, что я прошу чересчур многого.
– Хорошо, великий. Я устрою так, чтобы всякий лучник и сокольничий вокруг Сард сбивали всех почтовых птиц, которых Тиссаферн мог оставить своим соглядатаям для рассылки. Каждая комната в городе будет обыскана: нет ли там птичьих клеток. А мы тем временем будем сводить войска, собранные под твое начало – и эллинские, и персидские, из всех городов Эллады, из Лидии и Египта, которые будут прибывать к тебе на кораблях.
Военачальник неожиданно смолк, а по его лицу прошла тень.
– Что случилось? – насторожился Кир.
– Великий, – сказал, качнув головой, спартанец, – я верю тебе, когда ты говоришь о доверии всех этих людей, знающих тебя невесть сколько. Я и сам это знаю, видев тебя достаточно. Но класть по твоему зову свои жизни они будут еще и потому, что знают, кто ты такой. Ты начальствуешь над войском в том числе и потому, что ты персидский царевич, верный сын своего семейства. – Он вздохнул глубоко и скорбно. – И когда ты взовешь к своим людям восстать против царского трона, среди них найдутся и такие, кто учинит мятеж. Можешь в этом не сомневаться. Я могу этот момент предвосхитить. В полки я поставлю лохагов, которым верю, которые лично поклялись тебе в верности. Могу даже распространить историю о том, как твой отец отнял трон у своего старшего брата-отступника. Но настанет день, когда они поймут, что они не писидийцы и не горные племена – во всяком случае, не те, против кого мы ратуем, – а врагом им является сам розовый трон и царь Артаксеркс, властитель могучей силы, произрастающей из своего народа. И тогда мы можем проиграть без единой пущенной стрелы, без единого вынутого меча. Таковы ставки, великий. И, возможно, тебе следует подумать о том, чтобы и впрямь уединиться в каких-нибудь владениях, где ты бы разводил коней и растил сыновей. Я говорю все это вслух, чтобы оно не звучало как страшный сон. Многие б на твоем месте призадумались, не встать ли им лучше на тропу, ведущую к миру.
Кир улыбнулся с оттенком печали. Беленая комната, казавшаяся вначале прохладной, при закрытой двери становилась душна.
– Я не многие, архонт, – с устоявшейся болью сказал он. – Я сын царя из дома Ахеменидов. А что самое важное, я признал моего великого мудрого брата негодным для нашего престола. Я был ему верен всю свою жизнь. Но довольно. Я его свергну. Царство по праву принадлежит мне. Таково мое решение.
– Да будет по-твоему, великий, – с наклоном головы произнес Клеарх. – Тогда я начинаю собирать твои войска в кулак.
Тиссаферн сидел, с удобством расположившись в частных покоях богатейшего ростовщика Сард. По бокам от него черными колоннами застыли воины в черных клобуках. Тиссаферн огладил на себе складки мантии. Тот, кто стоял перед ним, был дальним родственником через хитросплетение родственных уз при царском дворе. Джамшида Тиссаферн видел впервые, хотя с людьми такого склада был знаком. Свои связи с троном Джамшид использовал на строительство торговой империи, простершейся от Инда до Египта.
Пользуясь доверием престола, огромное богатство он стяжал на одних поставках для двора. Судоходство, зерно, само золото – каждая сделка сопровождалась тем, что какая-то часть монет прилипала к его рукам. На седьмом десятке он уже частично отошел от дел; их вершили шестеро его сыновей и племянников. Однако весть о пожаловавшем высоком госте заставила его поспешить через весь город для встречи с вельможей, вещающим устами самого Артаксеркса.
Царская печать лежала между ними на столе, маня взгляд, и, казалось, источала мягкое золотистое сияние. Печать изображала благородного всадника и орла царствующего дома. Если какие-то сомнения в свидетельстве царской милости и имелись, то в присутствии дворцовых стражников из Персеполя они тут же отпадали. Джамшид едва сдерживал волнение от мысли, какой же должна быть сделка, для которой потребовалось его личное присутствие. Для начала он дождался, когда слуги принесут гостю вина, а ему самому исходящую паром стеклянную чашу, благоухающую на все помещение.
Приняв кубок красного вина, Тиссаферн передал его пригубить кому-то из своей свиты. Купец сделал вид, что не заметил этого, хотя внутри его кольнула обида. Он был уже извещен, что это тот самый человек, который приказал высечь спартанского военачальника; весь город об этом только и судачил. Надо сказать, этот высокий гость редкостный выжига.
Для скрытия своего неуюта Джамшид указал на свою чашу:
– Травы от несварения желудка, коим я с некоторых пор неимоверно страдаю. Между тем ларец с лекарственными снадобьями вместе с сорока тюками красного шелка прибыл из китайской провинции Юньнань для нашего богоравного царя.
– Весьма великодушно, Джамшид, – кивнул Тиссаферн милостиво и улыбнулся, когда торговец не смог скрыть своего смятения от этой тонкой издевки. – Великий Артаксеркс будет в восторге от такого подарка.
– Благость для всех нас, – с трелью в голосе произнес Джамшид.
Воистину оса, да с каким жалом! Купец отхлебнул из чаши и тихонько прошипел, обжегшись о все еще слишком горячее питье. Тиссаферн на его глазах осушил кубок и вновь наполнил из того же кувшина. Оба откинулись на подушки и улыбались, цепко наблюдая друг за другом.
– По рынку ходит молва, что завтра ты возвращаешься на восток, – сказал Джамшид.
Тиссаферн учтиво кивнул:
– Мудрость молвы редко бывает ошибочной.
– Я надеялся, что мой гость соблаговолит навестить мои службы днем ранее. Осмелюсь сказать, что иметь дела с доверенными лицами царя Артаксеркса для меня большая радость. Смею заверить, что все счета ведутся с большим тщанием и учетом до последней монетки, а все долги и прибыли исчисляются безукоризненно. Мир наконец-то оправился после прискорбной кончины солнцеликого царя-отца, да пусть его прах благоухает, а сам он правит на небесах еще десять по десять тысяч лет.
– Насчет долгов… – Тиссаферн поглядел на собеседника сладко-надменными глазами и потеребил бороду на своих жирных брылях. – В прошлые месяцы ты, я так понимаю, щедро ссужал царевичу Киру золото и серебро? Трудно и сыскать купца или торговый дом, который бы этим не занимался.
Кровь отлила от лица ростовщика, а с ней и лукавая уверенность. Таким бывает достаточно и намека, чтобы они заметались в мыслях о побеге со всем своим скарбом, рабами и деньгами за пазухой.
– Мой господин, если тебе известно что-то, полезное для моих ушей, то прошу тебя, скажи без утайки, – тревожно взмолился Джамшид. – Я… Из моих собственных скромных накоплений благородному царевичу Киру я выдал девяносто тысяч дариков. Кому-то другому такую сумму я бы не выдал ни за что, но ведь это главный военачальник персидского войска. У него ограничений по ссудам не было. Все его требования в прошлом удовлетворялись неукоснительно! Есть ли что-либо, что мне следует знать? Мой дом и все ростовщики Сард будут тебе через это благодарны!
Тиссаферн, чуть откинув голову, прихлебнул вина.
– Дом Ахеменидов чтит свои долгосрочные долги, это не подлежит сомнению, – с нажимом заговорил он. – Однако времена меняются, а бывает, что и истекают. Бывает, что люди – да что там люди, царедворцы! – возносятся и опадают. Такова природа вещей, будь то смена дня и ночи или переход молодости, хе-хе, в старость.
Видя на лице Джамшида смятение, он с лицемерным участием вздохнул.
– Буду с тобою прям и откровенен. Кое-кто полагает, что царевич Кир слишком уж благоволит греческим наемникам, и все это в обход наших персидских воинов. А потому царь более не намерен расточать такие богатства по сундукам греческих городов. Кто они нам – рабы? Или состоят под нашей опекой? Нет. Так зачем же нам набивать их алчущие рты золотыми монетами? А потому мой тебе совет, Джамшид, – а заодно и твоим собратьям по торговле – не тратить почем зря свою мошну. Вот, пожалуй, и все. На этом умолкаю. Я и так сказал слишком многое.
Джамшид, лепеча несвязные извинения, поднялся и склонился над столом, ткнувшись лбом в полированное дерево. Было заметно, что он подрагивает.
– Благодарю тебя, мой господин. Ты друг этому дому, не погнушавшийся прийти сюда со своим остережением. Тысячу раз благодарю.
– Ты верный слуга престола, Джамшид, – ответил Тиссаферн. – За твою услугу, а также молчание позволяю тебе сделать с этой печати слепок и повесить у себя на дверь. Пусть люди знают, что на тебе покровительство Артаксеркса и благословение царствующего дома.
С этими словами Тиссаферн перешагнул через простертого Джамшида, исходящего на полу благоговейными рыданиями, и направился к еще одному ростовщику, которого Джамшид не мог ни о чем известить в силу острейшей неприязни. До захода солнца надо было обойти всех мало-мальски заметных купцов и менял. Сожаление Тиссаферна вызывало лишь то, что ему не удастся застать первые отказы в деньгах и в поставках продовольствия. А наемникам нужна оплата. Так что недалек тот день, когда царевич Кир окажется вынужден отказаться от своих греков.
Усаживаясь на коня с помощью натужно крякнувшего слуги, Тиссаферн издал короткий смешок. Решение незадачи с царевичем было выполнено одним умелым ходом. Дан повод неодобрению, хотя и без открытого столкновения. Как только Кир поймет, что приток золота из персидской казны иссяк, он будет вынужден податься ко двору брата, чтобы узнать о своем новом положении. И не будет более заносчивых выходок и обидных насмешек со стороны этого недоростка. Тиссаферн с повелительной улыбкой оглядел строй царских стражников. Вот они, истинные хранители державы и трона.
– Ну что, ведите меня домой, – распорядился он, с упоением предвкушая свой рассказ о поездке к царю. Есть, есть еще способы приструнить отбившуюся от рук собаку.
Вечером после отъезда Тиссаферна Кир вошел в нефритовый обеденный зал дворца, где его в мрачноватом молчании дожидалась группа приближенных.
Здесь были Проксен и Софенет, Клеарх и слуга Парвиз, сиротливо обнявший какую-то кожаную суму. Еще был нанятый три месяца назад немногословный фессалиец[30] Менон. Между тем с собой он привел тысячу гоплитов, а в придачу к ним около сотни копейщиков-пелтастов[31] – все как один ладные, молодые и быстроногие. Кир был в восторге, зная, что молниеносностью своего натиска группа пелтастов способна обратить вспять даже превосходящий по численности тяжеловооруженный отряд.
Ни Менон, ни сидящий с ним рядом Сосис из Сиракуз[32] не подозревали об истинной цели готовящегося похода. Людей они собирали и обучали за его, Кира, серебро и золото. Впечатление было такое, будто в этом году он собрал под свое начало всех военачальников и лохагов Эллады.
Взгляд Кира упал на двоих персов, испытывающих явную неловкость от разговора, который перед приходом царевича наверняка велся на греческом. Одним из них был Оронт – старший военачальник персидских сил, которые за последние месяцы были доведены до нужного уровня. Смуглее и худее остальных, Оронт тем не менее мог считаться здесь старшим по числу своих войск, превосходящих всех эллинов вместе взятых. Однако персов здесь сидело всего двое, и держались они особняком. Старшинство за столом негласно принадлежало спартанцу Клеарху.
Другой перс, Арией, был фигурой весьма приметной. Кир знал его прежде всего по репутации наездника, которой он, по отзывам знатоков, славился. Второй по значимости в персидских войсках, он и по виду был заправским рубакой. Честно говоря, Кир и сам бы предпочитал иметь дело с Ариеем, а не с чопорным Оронтом. С волосами до плеч, широкими плечами и мощными ногами он мог бы потягаться с любым спартанцем. Поговаривали, что девушкам он предпочитает общество юношей, а вечерами слагает стихи, посвященные их красоте. Эллины тоже, без сомнения, предпочитали его Оронту. Хотя возрастом и положением своей семьи он ему уступал. Так что, несмотря на предпочтения царевича, персидской частью войска командовал все же Оронт.
С появлением Кира все встали. Греки склонили головы. Арией поступил точно так же, как будто так и надо. Это краем глаза заметил Оронт, уже опершись было одной рукой о стол, чтобы растянуться на полу. Кир невозмутимо пронаблюдал, как он, замешкавшись, поклонился ниже других и замер навытяжку, по жесту царевича сев со всеми обратно за стол. Греческие манеры распространялись в персидских рядах ползуче, словно болезнь. Хотя если это обернется такой же стойкостью, что и у эллинов, обмен будет в принципе справедлив.
С краев залы вереницей вошли слуги, неся череду аппетитно дымящихся блюд. Все были голодны, но к еде не приступали. Вместо этого военачальники потаенно переглядывались, как будто не решались произнести нечто, что может царевичу не понравиться. На Парвизе не было лица; казалось, он вот-вот расплачется.
– Хватит этого молчания и этих настороженных взглядов! – строго сказал Кир. – Что стряслось? Кто-нибудь скажите наконец!
– Похоже, великий, Тиссаферн оставил после себя прощальный подарок, – тяжело произнес Клеарх. – Денежные выплаты тебе прекращены. На данный момент мы в Сардах не можем получить ни единой серебряной драхмы. Хотя не мне тебе разъяснять, что под тобой двенадцать тысяч наемных воинов, которые получают выплаты в первый день месяца – а до него чуть больше недели.
– А на остальных нам не хватает пропитания! – сообщил Парвиз, показывая издали таблички с символами, которые Кир через стол не мог рассмотреть. – Еще на неделю нам хватит, но без денег соглашения с наемниками прерываются, а без еды люди начнут голодать.
Военачальник Оронт сделал подсчет зерна и мяса, потребных для ратного обучения восьмидесяти тысяч воинов. Получается что-то… невозможное. Мы так долго не протянем. Прошла весть, и теперь ни один скотник или зеленщик в Сардах не продляет нашу задолженность ни на один день.
Слушая, Кир ладонью сгребал со стола крошки. Стряхнув их все обратно, он встал.
– Тиссаферн уехал нынче утром. Возможно, ростовщики Сард позакрывали свои лавки, но как быстро могут разлетаться вести? Могу ли я их опередить? Золото есть в Византии, в четырех днях пути к северу. Мое имя и печать там по-прежнему в силе. Сколько нам нужно денег?
Люди за столом воззрились на него. Первым из персов заговорил Оронт:
– Повелитель, если черпать новые долги из царской казны, нам перестанут ссужать. Ты будешь не только унижаться с протянутой рукой перед менялами Византия, но и уронишь честь царствующего дома! Надо изыскать какой-то другой способ. Прошу тебя!
Кир слушал, прищурившись. Досадливо дернул головой, припоминая, что Оронт не знает его истинных намерений и не понимает угроз, которые могут встать на пути. Но и при этом хранить учтивость было трудно.
– Военачальник Оронт. Тиссаферн нарушил пределы доверия, означенные ему моим братом, царем Артаксерксом. Хорошо ли, худо ли, но при любом из раскладов я должен иметь золото, чтобы заплатить своим людям. Куда бо́льшим бесчестьем будет распустить армию наемников, чтобы те разнесли весть, что, дескать, Персия не может заплатить им свои долги! Нет уж. – Он сделал задумчивую паузу. – На задуманное мной нужно еще девяносто тысяч дариков. И еще вдвое больше, если я смогу их раздобыть. Такое количество даст мне возможность дышать и запас времени достаточный, чтобы обратиться к моему брату за решением важнейшего вопроса, от которого я не отступлюсь. Ты понимаешь меня?
Перс передумал ограничиваться поклоном и, отойдя от стола, бросился Киру в ноги. Арией наблюдал за этим с некоторым лукавством.
– Повелитель, прошу простить мое тугодумство. Я все осознал и служу тебе.
– За что я и благодарен, – уклончиво ответил Кир, понимая, что на него смотрят эллины. – Клеарх, мне понадобится стража из твоих сограждан. Сам я в купеческий дом Византия войти не могу. С твоей спиной, я не могу настаивать…
– Заживет, пока я буду скакать, великий, – отмахнулся Клеарх. – Уж больно дело срочное.
– Вот и хорошо. Приведи десяток своих людей. Парвиз? Ты едешь тоже. Беги в дворцовые конюшни и готовь лошадей. Если по дороге впереди кто-то едет с сообщением, нам нужно его опередить, иначе мы теряем всё.
– Повелитель, можно я тоже буду тебя сопровождать? – глухим голосом спросил Оронт.
Кир, опустив глаза, покачал головой.
– Оставайся здесь. Я возьму Ариея. А ты с моим возвращением начинай готовить людей к походу.
Арией от такого решения просиял и на Оронта поглядел со снисходительной жалостью. Этот взгляд не укрылся от Кира. Сейчас собственные подчиненные вызывали в нем лишь досадливость. Некоторых из них больше заботили мелкие дрязги между собой, чем служение сыну царя.
12
Четыре дня изнурительной скачки сказывались на всех, но в особенности на Клеархе. Несмотря на легендарную спартанскую выносливость, швы у него начали сочиться после парасанга тряски на коне, которого он недолюбливал, да к тому же едва с ним управлялся. На исходе каждого дня Кир заводил коней и конников в придорожные постоялые дворы, а сам принимался ждать Клеарха, который догонял остальных лишь среди ночи. При своей гордости и личной ответственности Кир не покидал обочины дороги до тех пор, пока Клеарх не добирался до него с мертвыми от усталости глазами. Ждать с каждым днем приходилось все дольше, а спартанец тем временем серел лицом, и спина его кровоточила через повязки. Но ни единой жалобы не срывалось с его уст даже по утрам, когда боль была самой несносной.
Их маленький отряд не потревожили ни разбойники, ни городская стража Византия. К концу пути Кир мучился по каждому потерянному часу и хотел прямо с ходу устремиться к самому богатому ростовщику города. Поэтому его удивило, когда Парвиз внутри стен перехватил поводья его коня, заставляя хозяина остановиться. Под недоуменным взглядом царевича слуга поклонился так низко, что едва не сверзился на дорогу. При этом он испуганно затвердил:
– Повелитель, ты весь в поту и в пыли. Прости меня, но… у тебя на лице написано отчаяние, которое видно всем. Между тем ты проделал весь этот путь… Вели меня, ничтожного, казнить, но опрометчивой поспешностью сейчас можно сгубить все на корню. Заклинаю тебя, хозяин мой… У твоего отца здесь есть… был прекрасный дом. Тебе сейчас лучше омыться и надеть одежды, более подобающие твоему положению царского сына.
– А если, пока я омываюсь, из Сард прибудет гонец?
Верный слуга лишь сидел, не меняя согбенной позы.
Кир высвободил поводья, потирая на них пальцем узорчатую вышивку.
– Хвалю тебя, Парвиз. Ты, конечно же, прав. Но и здесь поторопись.
Не прошло и двух часов, как царевич, отмытый от дорожной пыли и в атласном хитоне, гибко спрыгнул с коня возле купеческого дома Шастра. Пока он приводил себя в надлежащий вид, Парвиз по его приказу съездил и возвестил его появление, чтобы ворота перед сыном царя были открыты. Смена облика смотрелась, что и говорить, выигрышно. Во двор Кир заходил со спокойным достоинством, а на боку у него висел меч в усыпанных каменьями ножнах (тысяч на пять дариков, не меньше). Такое проявление знатности и богатства было сейчас крайне важно.
С Шастром Кир прежде не встречался, хотя за годы слышал его имя с десяток раз. Изо всех купцов и ростовщиков Византия Шастр был, пожалуй, единственным способным перенести урон для своей мошны, когда престол откажется оплатить долг Кира. По слухам, этот человек был богат как Крез, древний царь Лидии.
При виде спешащего навстречу хозяина дома Кир с радушной улыбкой протянул руки, не давая Шастру пасть ниц, а лишь коснуться коленом дворовой плитки.
– Да будет тебе, добрый хозяин! Для тебя я просто гость. И по срочному делу розового трона. Как удачно, что ты оказался в городе, мимо которого я как раз проезжал. Византий доподлинно жемчужина запада. И мне не хотелось переносить свое дело в Сарды.
Произнося последнее, Кир пытливо вгляделся. Эту фразу они согласовали с Клеархом, чтобы увидеть, как она отзовется на толстосуме. Но тот лишь облобызал царевичу руку, припав губами к костяшкам. Бородищу Шастр вряд ли стриг хотя бы раз. Она покрывала ему все лицо, помимо лба, глаз и бугорчатого сизоватого носа. При движениях она то и дело задевала амулеты и побрякушки с драгоценными камнями, которые в такт позвякивали.
– Я не имею слов, чтобы выразить мое почтение. Долгие, долгие годы я мечтал с тобою встретиться. И семейство мое будет несказанно радо, когда я сообщу ему о твоем приходе. Все будут вне себя от счастья!
Кир ощутил укол вины, вспоминая слова Оронта. Трудно смотреть человеку в глаза и при этом его губить. И тем не менее Кир заставил себя улыбнуться шире. Правота на его стороне, а став царем, он за все воздаст сторицей. За это Кир сейчас и держался, изгоняя из сердца тихий стон совести.
– Сожалею лишь о том, что не могу задержаться и познакомиться с твоей семьей, любезный Шастр. До меня дошла весть о большом восстании во Фракии. Мятежники должны быть сурово наказаны. Подо мной двенадцать тысяч наемного войска, лучшего в Греции. Таким воинам нужно и должно платить. Разумеется, брат мой Артаксеркс этот долг оплатит. А я в знак ручательства готов приложить свою печать. У тебя здесь найдется тысяч девяносто? Я привел с собой людей, которые понесут сундуки.
Внутри неприятно похолодело, когда Шастр в явном замешательстве начал колечками накручивать на пальцы бороду. Не успей Кир ухватить его за руку, он бы снова пал на пол.
– Повелитель! Прости меня, недостойного! Но такая сумма! У меня есть тридцать тысяч в личном подвале. Если б ты дал мне хотя бы два дня, я бы доставил тебе остальное в Сарды или б даже препроводил в твое войско, пока оно идет на восток. Повелитель, мне нет прощения. Если бы меня уведомили раньше, я бы уже все тебе подготовил.
Кир как мог скрывал свою досаду.
– Ничего, – ласково тронул он старика за плечо. – Пусть хотя бы тридцать. Вели принести сюда воск и стилос. Я оставлю помету в твоих учетных записях.
– Да, повелитель, слушаю и повинуюсь. Мне так неловко…
– Задерживаться я здесь не могу, – с вежливым нетерпением напомнил Кир.
Купец как на пожар заспешил со двора, совершенно не догадываясь, что только что уберег себя от разорения.
Под тридцать тысяч монет понадобилось две повозки, которые вышли из города с восходом луны, окруженные конными спартанцами. Еще четыре за ненадобностью были брошены у дороги. Маленькому отряду невольно передавалось настроение его начальника, который кипел досадой на себя – то ли из-за вынужденной лжи и влезания в неподъемный долг, то ли из-за того, что взять получилось лишь третью часть нужной суммы.
Наутро с восходом солнца на дороге показался всадник, едущий со стороны Сард. Эта часть империи была мирной, однако при виде столь хорошо вооруженного отряда гонец насторожился. Он увидел его еще издали и объехал на изрядном расстоянии. В свою очередь, Клеарх со своими спартанцами с подозрением оглядел на нем кожаную сумку: что за вести могут в ней быть?
– Хочешь, мы его возьмем? – спросил Клеарх царевича.
– Незачем. Пускай едет, – бросил через плечо Кир. – Что бы он ни вез, уже не имеет значения. Мой путь определен.
По прошествии дней возле Сард начали собираться войска, как персидские, так и греческие. Равнины вокруг города изрезали канавы отхожих мест; тысячами прирастали походные палатки, шатры и костровища. Поля, где зеленели ячмень и пшеница, были вытоптаны с полной потерей будущего урожая. К побережью причаливали массивные гребные суда с эллинскими гоплитами, а со стороны пустыни прибывали полки персидской пехоты, командиры которой с благоговением и радостью приветствовали Кира. Впрочем, их восторг от вида первого полководца империи держался лишь до той поры, пока они не вливались в общий состав растущего войска. Внутренний круг своих приближенных Кир, как мог, сужал, но, как предостерегал Клеарх, истинной цели такой силищи скрывать было невозможно. Любой, у кого есть глаза, понимал, что нет на свете горных племен, на усмирение которых требуется такая армия. На покорение целых народов требовалось силы меньше, чем та, что скапливалась нынче вокруг Сард.
Ночами Кир спал всего по нескольку часов, падая на свой походный топчан в полном изнеможении, но уже снова просыпаясь, когда к его плечу притрагивался Парвиз. Вечерами он устраивал встречи с десятками персидских воинских начальников, пробуя их на преданность и на прочность. На таких сходах неизменно присутствовали Клеарх, Проксен и Софенет, следившие за своими персидскими соратниками пытливыми, колючими взглядами. Были вопросы, которых нельзя избежать, и, отвечая на них из раза в раз, Кир становился все более вспыльчивым. Нет, нападения на свободные греческие города не будет. Нет, враг не будет назван вплоть до той минуты, когда пора будет это сделать. Клеарх залечил свои раны греческими снадобьями и гусиным жиром, а нагноение на плече влажным хлебом, который вывел яд. Свои раны он предлагал показать кое-кому из персов, но те уклонялись, чувствуя себя неуютно от мрачноватой истовости этого странного греческого военачальника. Именно Клеарх отсиживал каждый такой вечер до последнего, когда все остальные уже откланивались. Если находились такие, кто не расходился прежде хозяев, Кир заново собирал узкий круг своих доверенных лиц в одной из комнат опустевшего дворца, слуги которого, умаявшись, спали вповалку.
– С нами или нет? – задавал он один и тот же вопрос.
Эллинам если и льстило, что к их мнениям относятся всерьез, то они этого не показывали, а перед ответом мрачно переглядывались между собой.
– Тот молчун за сегодня ни разу не поглядел тебе в глаза, – высказал свое наблюдение Клеарх. – Да и мне, когда я пробовал втянуть его в разговор. Он не из тех, кого ты назначал?
– Суждение твое верно, – кивнул Кир. – На службе он состоит уже давно, а в начальники его произвел еще мой отец. Увы, он толков и боевит, и я в нем нуждаюсь. А ты что думаешь, Проксен?
– Мне он не понравился, а я своему чутью верю. Поэтому доверие к нему у меня не длиннее моего плевка. – Ширококостный грек пошевелил плечами, словно жерновами мельницы. – Не то что тот живчик-балагур прошлым вечером, не помню, как его звать. Ты герой для многих своих людей, великий, но не для всех. Так что этому сегодняшнему полемарху – как там его, Аррас или Араз? – я б доверять не стал. Лучше его отстранить или услать с каким-нибудь заданием. Не думаю, что он будет тебе предан.
– Я не могу отсылать каждого, кто выглядит замкнутым или не выказывает должного почтения, – натянуто сказал Кир. – Чтобы победить, мне нужно знать, что я могу положиться на них, на их умение и опытность. – Он раздраженно повел плечами, как обычно при подступающем гневе. – Не победить мне и без доверия тех военачальников, что готовы идти на бой лишь потому, что я глаголю от имени царя. Скажите мне: как я вообще смогу повести их в битву против моего брата? Возможно ли такое?
Он оглядел людей, собранных его именем. Правда состояла в том, что эллинам, получающим месячное жалование, он доверял куда больше, чем своим персам, несущим службу по присяге. Эллины жаждали победы, и это было самым существенным. Более того, они, похоже, испытывали личную неприязнь к Тиссаферну и всему, что он собою представлял. После того как по приказу этого перса был высечен один из их числа – неважно, как стойко вынес то унижение Клеарх, – в свой ратный труд они стали вносить какой-то несвойственный ремесленникам энтузиазм.
Прочистил горло стимфалец Софенет. На этой зрелой стадии Кир примирился с мыслью, что эллинам его замысел придется все-таки приоткрыть. Пускай он скрепя сердце водил за нос своих соплеменников, но хотя бы со своими наиболее доверенными наемниками можно было обойтись без недомолвок и утаиваний. Он поглядел на Софенета, вспоминая, как они вместе прогуливались в садах Сард, обсуждая якобы страшную угрозу, которую являют собой писидийцы. Тот ни на секунду этому не поверил, что так или иначе указывало на здравость его рассудка.
– Великий, я тут с некоторых пор размышляю над этой дилеммой. И думается мне, что ты все-таки не имеешь права сидеть на троне вместо своего брата.
– Осторожней, Софенет, – буркнул Клеарх, не поднимая глаз.
– Я имел в виду, что твои персидские полки не захотят пойти против истинного царя и не пошли бы на это ни за кого иного на свете, кроме тебя. Ты же, в конце концов, наследник трона. Если мы вызовем царя Артаксеркса на битву и он падет – споткнется ль под ним конь, а он сломает себе шею, – прав ли я в суждении, что с момента его смерти царем становишься ты?
– Это так, – ответил Кир.
Софенет кивнул.
– Тогда, возможно, у тебя есть право бросить ему вызов. И вместо воинского похода, направленного на резню и уничтожение, ты тем самым свершишь личное возмездие над своим братом за зло, причиненное им тебе. А твое войско лишь заставит его принять этот вызов и убережет тебя, пока ты вершишь справедливость, в которой тебе раньше отказывалось. Насколько я знаю, твоя личная стража была вероломно убита, а ты посажен в каземат и приготовлен к казни. Ты – претерпевший злую обиду сын царя. И если твои персы воспротивятся – более того, посмеют грозить мятежом, – я бы высказал им это.
В комнате воцарилось молчание. Клеарх сидел с остро сдвинутыми бровями.
– Ну Софенет, ну старый лис, – щуря тяжелый глаз, произнес наконец Проксен. – Вот так бы и надо сыграть. Личные струны, великий, твоих командиров наверняка затронут. Дело семейной чести и воздаяния. Может, и в самом деле получиться.
– Кто-нибудь, бесспорно, воспротивится, – продолжал стимфалец. – Но с этими можно будет справляться по мере проявления таких случаев. Худших из тех жалобщиков и горлопанов надо будет просто приканчивать до того, как мы сойдемся с врагом на поле боя. – Софенет осклабился этой мысли и хмыкнул, получив от Клеарха радушный шлепок по спине.
– Хорошо, – промолвил Кир. – Я намерен не ждать более тех немногих отрядов, что еще не подошли. Сбор войска уже и так занял столько недель. Тиссаферн впереди все еще будет где-то в дороге. Чтоб достичь хотя бы скромного успеха, нам нужно выходить как можно скорее. – Оглядевшись, своих военачальников он застиг за переглядыванием. – Что еще?
– По-прежнему остался вопрос выплат, великий, – сказал за всех Клеарх. – Те тридцать тысяч, что мы взяли в Византии, почти истекли. На них закуплены возы с провизией, которой войску в походе хватит на месяц-полтора, если довольствия выдавать по две трети. Но этого все равно недостаточно.
На удивление, Кир махнул рукой, выказывая эдакую беспечную уверенность, которой эти люди не видели в нем без малого год.
– Я уже задумывался над этим и разослал письма моим самым давним и богатым сподвижникам, коих немного. К тому времени как нам останется пробавляться одной мучной пылью и проточной водой, думаю, мы уже обретем все, что нам нужно. Не могу заверить, что в пути нас совсем уж минуют нужда и невзгоды, но какой поход обходится без них? Полная уверенность у вас может быть только в одном. В том, что если я при вашем содействии стану царем, пусть и через поверженное тело моего брата, вы более не будете знать нужды ни в чем. Этого вам достаточно? В этом я клянусь своей честью и сомкнусь ладонью с каждым из вас, если вы того пожелаете.
Эллины один за другим, подходя, брали его руку и сжимали так, что белели костяшки. Глаза Кира смотрели ясно и жестко, без тени сомнения – даже непонятно, к добру или к худу, учитывая неоднозначность замысла.
Лето уже набирало силу, когда к выходу из Сард изготовилась необозримая воинская колонна. Отряды эллинов просто затерялись бы в море персидской пехоты, если б Клеарх не настоял, что его спартанцы должны идти впереди. Он объяснил, что общая скорость колонны возрастет, если темп будут задавать его люди, хотя прочие эллины роптали, что он-де опять ставит себя выше остальных.
Персидская часть войска в своем окончательном виде насчитывала чуть больше ста тысяч пехоты. Нехватка чувствовалась и в лучниках и в пращниках (первых было всего несколько тысяч). Досадно немногочисленной была и конница, хотя знакомый Киру афинянин Ксенофонт содержал животных в надлежащем порядке. Молодой грек вполне освоился на своем поприще коневода и благожелательным взглядом проводил царевича, проскакавшего мимо на своем скакуне. В целом же собранное Киром войско никак не соответствовало той силе, которую он рассчитывал повести на брата против совокупной мощи Персидской державы. Никак не покидала безутешная мысль, что вся затея губительна своей поспешностью. Собрать силу, способную пересилить могущество персидского царя, с самого начала казалось чем-то неосуществимым. Люди не были подготовлены так, как того хотелось, хотя Клеарх обещал в походе продолжить ратную выучку, а значит, день ото дня навыки воинов будут все-таки крепнуть. Войско в сто двадцать тысяч человек отправлялось на юго-восток в пустыню – вдалеке от Царской дороги и любопытствующих глаз. И, несмотря на все недочеты, Кир ощущал за свое воинство отчаянную, болезненную гордость.
Первые разведчики и застрельщики из пелтастов ушли вперед за день от основных сил, и после этого каждые шесть часов вслед предыдущим бодрой рысцой выходил новый десяток легковооруженных воинов. Для главной колонны становилось своеобразной игрой попытаться выследить и обнаружить этих сорвиголов. Начальники знали, что это поднимает дух при долгих унылых переходах через безликие земли, и не запрещали это озорство. Перспектива поймать группу лазутчиков укрепляла бдительность, а также была источником азартных споров и ставок среди полков и, конечно, самих разведчиков.
На последнем смотре конечного места назначения Кир не указал, дав лишь знать, что бездельничать в пути никому не придется. Идти предстояло через местности более дикие, чем те, по которым перемещался Тиссаферн. На самом же деле пунктом прибытия можно было считать то место, где перед ними встанет войско Артаксеркса. Мысль о непостижимости таких расстояний пугала не в последнюю очередь потому, что все необходимое приходилось тащить с собой.
Кир тихо свирепел от одного лишь числа увязавшихся за колонной праздных людей. На протяжении восьми месяцев Сарды служили местом сбора войск; здесь получали оплату золотом наемники, а серебром персидские полки. Все это время город полонили тысячи вооруженных людей при деньгах. Торговля и ремесла процветали, от кожевников, шорников и кузнецов до искусных оружейников; что уж говорить о своднях и продажных женщинах и мужчинах всех мастей и возрастов, которые буквально наводнили улицы, выдавливая деньги из одиноких, уходящих на войну людей. Кое-кто из этой публики успел привязаться к отдельным грекам и персам. Другие просто решили продолжить свой доходный промысел. В итоге к войску примкнуло еще двенадцать тысяч, негодных для сражений, но которых приходилось так или иначе кормить, одевать и охранять.
Кир стиснул кулаки так, что на ладонях остались красноватые вмятины от ногтей. Будь проклят Тиссаферн! Если б не эта шакалья падаль, он бы и не подумал устраивать поход нынешним летом, когда зной буквально высасывает из людей жизненную силу. А что едва ли не хуже, этот подлый враг отсек его от денег – удар, нанесенный скорее из мелочной мстительности, чем из сомнения в его преданности брату. За все свои годы на поприще полководца Киру ни разу не приходилось думать о трудностях подготовки к походу без неисчерпаемого резервуара царской казны за спиной. Это было все равно что глядеть на море и вдруг увидеть, что оно исчезло, будто б сам мир перевернулся вверх дном. Впервые в жизни ему приходилось рядиться с поставщиками и торговцами, злобно торгуясь из-за каждой серебряной монеты. К своему удивлению, он открыл, что ему это нравится. Выкручивая скрягам руки на предмет скидок, он испытывал неведомое прежде удовольствие, сродни победе над недругом без кровопролития. Мысль для царского сына весьма странная. Глядя на змеящуюся колонну, Кир ощущал ее принадлежность себе гораздо сильнее, чем в прежние времена, когда в избытке было и времени, и денег. И он ею гордился – даже блудницами, даже людьми, которые в конце концов предадут.
Они сошлись по его зову, вне зависимости от движущих ими причин, благородных и не очень. Сила из собранных им соплеменников и эллинов сама по себе образовывала на голой земле море – колонну, растянувшуюся на столько, что те, кто впереди, отстояли от хвоста на целый дневной переход. От одной этой мысли в груди делалось свободно, и волны сладкой дрожи проходили по телу. По мере готовности сотники ревели приказы строиться, и колонна в виде неровной змеи начала обретать черты построения – квадрат за квадратом, квадрат за квадратом. Кир с Клеархом поскакали в голову колонны, где к двум вбитым в землю железным столбам были привязаны два белых быка. Спартанец вызвался дождаться двух последних отрядов гоплитов, прибывающих с Крита. От предложенной лошади он отказался: мол, раз уже попробовал, и хватит. Вместе с тем он поклялся обязательно привести этих людей в общий строй.
Кир втянул воздух, пахнущий древесным дымом с привкусом лимона и мяты. Прорицатели готовились пронаблюдать и истолковать то, как брызнет кровь жертвенных животных, а для тысяцких и сотников это был верный знак, что вечером к их кострищам попадет по хорошему ломтю мяса, и на этих быков они поглядывали с жадноватым предвкушением. Кир вознес руку, и на несколько секунд повисла тишина, нарушаемая лишь ветром, который, словно крыльями, хлопал складками одежд.
По взмаху его руки прорицатели вонзили в мускулистые бычьи шеи ножи из обсидиана. Обильно хлынула кровь. Согласно ритуалу, войску надлежало пройти через натекшие лужи, оставляя за собой на протяжении парасангов багровые следы. Расстояние не имело значения – воины здесь и находились ради крови. Такая силища не собирается для мира.
Пронзая утро, захрипели рога. Тут и там над колонной вскинулись и неистово затрепетали на ветру флаги и вымпелы. Полковые барабанщики начали мерно отстукивать, задавая походный темп.
Кир вознес молитву небесам, испрашивая удачи, которая принесет ему золотой венец. В трех днях пути по зеленым долам Лидии течет река Меандр, а в дневном переходе от нее город Колоссы. Именно там предстоит дождаться отставших критян, которых приведет Клеарх. Сидя на коне, царевич наблюдал, как, помахивая в такт движению руками, молча двинулись в путь спартанцы. Первые дни пути, несомненно, выявят слабости: просчеты в ожиданиях, уйму забытых или не принятых во внимание мелочей.
Но они же покажут, чего им стоит ожидать – а те, кто доберется к месту отдыха в Колоссах благополучно, смогут сделать вывод, что к заданию готовы. Кир понимал, что из десятка набранных лишь один вырастает в истинного воина, и то постепенно, шаг за шагом. Так что он улыбнулся, натягом уздечки и легким ударом пяток поворачивая коня. Позади с десятком телохранителей оставался лишь спартанский архонт.
Было видно, как Клеарх, приставив к бровям ладонь, смотрит вслед. Кир, давая понять, что видит, коротко кивнул и увидел, как то же самое сделал и спартанец. Путь вперед был открыт, куда бы он ни вел.
13
К реке Меандр колонна вышла достаточно бодрым шагом. Поначалу возникла легкая неразбериха, когда те, кто не привык держаться в строю по шесть-семь часов, начали спотыкаться и сминать сзади стоящих. Хотя для начала долгого похода состояние людей было вполне сносным. Были, конечно же, требующие перевязки новые волдыри, но при этом большинство из тех, кто пострадал, вняли совету спартанцев: лучше давать коже затвердевать на открытом воздухе, чем рисковать нагноением, если плоть отсыреет.
Реку переходили по наспех сооруженным мосткам из семи привязанных друг к другу рыбацких лодок. Здесь не обошлось без потехи. Из персов плавать умели лишь немногие, и их солдаты, хватаясь за борта побелевшими от напряжения пальцами, осторожно, по-женски перебирались с одной лодки на другую, вызывая глумливый смех товарищей. Спартанцы чувствовали себя как рыба в воде и, переправившись, в порядке ожидания плескались на отмели или рыбачили, пользуясь возможностью охладиться.
По прошествии еще одного долгого дневного перехода у людей начали проявляться определенные признаки закалки. Не обошлось без растяжений и ран – в общей сложности с полдесятка – но не бывает так, чтобы перемещение людей и оружия по дикой местности обходилось без вывихнутых голеней или случайного накола на острие.
Вместе с тем это был совместно нажитый опыт. И Кир надеялся выстроить свое войско вокруг этой общей истории, так чтобы его персидские полки, увидев врага, выбрали сторону своего верного полководца, а не какого-то там призрачного заумного царя, правящего по другую сторону страны. Человека, которого они знают, который месяц за месяцем ехал рядом с ними на коне, деля на равных все невзгоды и испытания, а не чужака на троне.
Более гладкого начала сложно было и представить. В Колоссах Кир дал людям недельный отдых, а сам охотился там в царских угодьях. Клеарх все не показывался, но прибыл с четырьмя сотнями фессалиец Менон и принес весть, что Клеарх нагонит войско в Келенах и чтобы его в пути не дожидались. Для своих нужд из царских конюшен Кир взял десяток скакунов и передал их попечению Ксенофонта. Этого все равно было недостаточно, но появления из воздуха обученных конников ждать не приходилось, а на их покупку не было средств. Помимо собственного конного отряда из шестисот всадников Кир знал о преимуществах быстрых верховых гонцов. Будь его воля, он бы пересадил на них всех своих разведчиков. Но коней для них не было, а потому оставалось печально взирать, как медленно и неповоротливо движется его огромное войско, уязвимое перед внезапным броском или засадой. Ко времени выхода из Колоссов мозоли у его воинства затвердели, а натруженные мышцы налились крепостью. В поход отдохнувшие люди выходили пружинистым шагом, а кони под рев рогов с заливистым ржанием вскидывались на дыбы. Конные телохранители Кира, сидящие поверх шкур барсов и газелей, смотрелись всем на зависть.
Как оказалось, часами скакать вдоль воинских рядов было ему в удовольствие. Выходя к дороге или широкой тропе, они шли по ней. Хотя в основном дни проходили в переходах через холмистые равнины, к слабо различимым путевым отметинам, которые приходилось удерживать в поле зрения вне зависимости от изгибов местности.
Кир чувствовал, что и в нем самом прибавилось сил и ловкости – но все равно его пробирало беспокойство, когда колонна начинала петлять меж горных громад или ее поглощал хвойный лес. Временами он отряжал на дорогу дозорных, высматривать Клеарха, но его по-прежнему нигде не было видно. За пределами Сард до царевича дошло, насколько он проникся доверием к этому спартанцу и даже стал зависеть от него. Без его незыблемого присутствия и твердости в решениях все как будто становилось полым, словно борьба за венец представляла собой не более чем видимость.
Из всех посвященных Кир лучше всего знал восточные войска своего брата; пожалуй, лучше, чем сам Артаксеркс. Восприняв Кира как серьезную угрозу и подняв все свои полки, в поле он мог бы вывести шестьсот тысяч войска – численность, от которой впору вскочить и возопить среди ночи. Более того, под ним были богатства всех двадцати восьми сатрапий и царская казна. Царь Царей не страдал от нехватки еды и хвороста, и ему не приходилось думать об их пополнении. В походе он мог себе позволить ежевечерне опиваться вином, так как воинов у него было больше, чем звезд на небе.
Город Келены находился примерно в трех днях хода от Колосс, на реке Марсий. Здесь Кир остановился ждать Клеарха с его пополнением, сожалея, что вообще оставил архонта одного. Что ни день, то воины посматривали на царевича все удивленней, особенно персы. Они никак не могли взять в толк, зачем целому войску дожидаться какого-то спартанца, вне зависимости от его чина. Однако Кир с места не двигался, хотя до этого сам же всех подгонял. Первоначальная взволнованность постепенно улеглась, и люди настроились на неторопливый уклад становища, развлечений ища в городе. Киру не сообщали ни о казни мародеров, ни о массовой драке отряда стимфальцев с персидским полком. Он пребывал в напряженном ожидании, и его не рисковали беспокоить.
На исходе второй недели Клеарх прибыл, спокойный, как весенний ветерок. С собой он привел восемь сотен гоплитов из разных городов, двести копейщиков-пелтастов и сорок критских лучников. При виде такого воинства Кир простил ему задержку, но спартанец в знак извинения опустился перед ним на одно колено на виду у вновь прибывших.
– Это последние, великий. И им повезло выжить, когда их корабль на подходе из Крита пошел ко дну. У них за плечами тысяча историй, и не сомневаюсь, мы услышим их все, когда двинемся дальше. Теперь мы сами по себе. Больше за нами никто не следует. – Спартанец с прищуром посмотрел вдаль, трепетнув ноздрями, как охотничий пес, вынюхивающий добычу.
– Я уж начал подумывать, ты не придешь, – признался Кир.
Клеарх посмотрел пристально.
– Великий, я давал слово. А значит, меня проще было убить, чем оттащить от тебя. – На улыбку царевича он добавил: – И так вполне могло случиться.
Выход в путь проходил в настроении чуть ли не праздничном. Часть пути пролегала через сатрапию, где дороги были выложены как следует. Люди с наслаждением шагали по плоским вытесанным камням, а битва впереди если и ждала, то так нескоро, что о ней можно было пока и не задумываться.
У командиров настроение было иным. Клеарх так и вовсе обрывал любую радужную беспечность. К своему ремеслу он относился серьезно, и, по крайней мере, чувствовал напряжение от ждущих впереди испытаний. Ушел в себя и Кир, целые дни пешего или конного пути по кровеносным сосудам империи проводя в молчании. Голову все не покидали мысли о Тиссаферне: как он там, шакалья падаль? Обошли ли они его на Царской дороге, или он по-прежнему держится впереди? По этим же камням ступал некогда первый царь Дарий, вторгаясь в Грецию. Его сына Ксеркса эта дорога повела на запад, к грядущему разгрому на суше и потере флота на море. А он, Кир, вынужден сейчас держаться пути на юг, подальше от царских посыльных, которые, едва завидев колонну, немедленно помчатся сообщать в столицу.
Такие мысли на протяжении многих часов и вкупе с палящим солнцем действовали угнетающе. Терялось и восприятие собственного воинства как поджарой ратной силы после того, как выяснилось, что одна лишь дневная кормежка занимает по полдня. Колонна, по сути, представляла собой движущийся город, который среди дня останавливался и превращался в кочевье. На все лады стучала и брякала кухонная утварь, люди расходились за хворостом и разводили костры. Весь стан окутывала атмосфера летнего празднества, вплоть до того, что устанавливались палатки, куда выстраивалась очередь для желающих за плату вкусить плотских утех. Все это занимало, казалось, целую вечность. Киру оставалось лишь тягостно смотреть на солнце в небе, щурясь и приставив к бровям руку.
Люди, подобно саранче, облепляли любое питейное заведение, неважно, насколько мелкое и убогое, какое только попадалось навстречу. На Царской дороге такие места воздвигались высочайшим указом по установленному лекалу. Все блага цивилизации для усталых путников тянулись вдоль дороги, словно бусины на цепочке, до самых Суз.
Лишенное этих роскошеств, Кирово войско обирало до нитки окрестные селения, изымая все, что жители не успевали спрятать от голодных солдат. Без этой дополнительной поживы в войске начался бы голод – неизбежное следствие, еще острее ощущаемое Киром по мере исчезновения его последних золотых, тающих, казалось, еще до пересчета. Когда последние монеты умещались, можно сказать, на одной ладони, он увел свою колонну на двадцать парасангов в сторону, к городу Тириею в небольшом царстве Киликия. Здесь он остановился на отдых в имении, хорошо знакомом ему с детства.
Спустя два дня, как он и ожидал, для разговора с ним военачальники избрали Клеарха. Выплат не было ни греческим, ни персидским полкам, сундуки пустовали, а наполнить их было нечем. Царевич сидел за столиком на террасе и под рыжеватыми лучами закатного солнца неторопливо смаковал финики и местный мягкий сыр.
– Архонт? Я так и знал, что ко мне пошлют именно тебя. Весьма кстати. Присаживайся, присоединяйся к моей трапезе. Таких знатных фиников ты, наверное, нигде и не пробовал.
Вид у Клеарха был точь-в-точь такой же, как на их первой встрече, словно время было над ним не властно. В свою очередь, спартанец разглядел, что под бременем непомерной ответственности молодой полководец несколько осунулся.
– Благодарю, великий, – сказал Клеарх и, взяв с блюда финик, сжевал его, продолговатую косточку сплюнув в ладонь. – Очень вкусно.
Между ними застыла тишина. Кир ждал, забавляясь этой игрой в молчанку. Так, втихомолку, они управились с блюдом, а слуга поставил на столик тарелку с тонкими ломтиками мяса и жареные зубчики чеснока, в которых Клеарх души не чаял; взяв сразу пригоршню, он начал с аппетитом похрустывать.
– Великий, – вымолвил он после, казалось, бесконечной паузы.
Кир со смешком его перебил:
– Ты славный человек, Клеарх. Несмотря на всю свою нелюбовь к подобным делам, ты все же вызвался задать мне вопрос об оплате. Я тебе, кажется, уже говорил о гонцах, которых я разослал? Причина, по которой мне и пришлось отклониться от нашего основного пути. В Киликии у меня есть друг, который нам поможет.
– Ты знаешь здешнего царя? – спросил Клеарх, поднимая за богов чашу с вином и делая из нее долгий глоток, чтобы как-то пригасить во рту вкус чеснока. – У вас с ним дружба?
Кир от его вопроса заметно помрачнел.
– Дружбы у нас нет. Хотя в ранней юности мы были близки. Но потом у нас произошла размолвка, и мы перестали с ним ладить.
– Он увел ее у тебя, или ты увел ее у него?
Кир поперхнулся вином, забрызгав столешницу.
– Тебе и впрямь всегда нужно быть истинным спартанцем, таким бесцеремонным?
Клеарх пожал плечами:
– Жизнь показывает, что такие вещи обычно проще, чем мы их подаем.
– В данном случае да, мы с ним любили одну женщину. А она любила меня, но вышла за него! Ты это именуешь простотой? Это не какая-нибудь вздорная сказка о двух влюбленных, спартанец. Она избрала не того человека, вот что я тебе скажу. – Царевич вздохнул какому-то своему воспоминанию, и его темные глаза в закатном свете блеснули золотом. – И я все еще по ней грущу.
Клеарх сел на стуле прямее. Он успел повторно осушить чашу и едва заметил подошедшего ее наполнить слугу.
– Есть люди мелочные и мелкие даже в своих победах. Я вижу, ты привел на его землю недюжинное войско – такое, с которым ему вряд ли по силам совладать. Это что, покорение? Ты думаешь его умертвить?
Кир долгим, задумчивым взором оглядел архонта, потирая кулак о ладонь с мозолями от поводьев.
– Если бы он на скаку упал с коня и разбился, я б истолковал это как знак, – медленно произнес он. – Но она любит его и родила ему двоих детей. Я знаю, что она любит меня, но избрала все-таки его. Так что обратный путь нам уже заказан навсегда.
– Женщины, – вздохнул Клеарх, поднимая чашу. – Источник чудес и наших чудачеств.
Содвинув чаши, оба выпили до дна. По жилам теплой волной уже расходился хмель.
– Я люблю ее, – потупив голову, повторил Кир. – И любил всегда. Мы сейчас возле самой границы с Киликией. Я послал гонцов сообщить, что я здесь, и она отозвалась. Не знаю, поможет ли она мне, архонт, но больше помочь мне некому.
– Она придет к тебе? Или мне готовить лошадей?
– Придет. Во всяком случае, так передал мой посыльный. Завтра, среди дня.
– А о своем муже она упомянула, хотя бы мимолетно? – поинтересовался спартанец.
Кир покачал головой, на что Клеарх поднял брови:
– Вот как? Звучит обещающе.
– Да как сказать. Она любила нас обоих, но выбрала его, – с тихим отчаянием промолвил Кир, делая очередной глоток.
От вина его зубы имели красноватый оттенок, а глаза подернулись дымкой.
Внезапно Клеарх, вырывая царевича из размышлений, хватил ладонью по столу:
– Так давай же, великий, покажем ей, чего она лишилась! Завтра я задам воинам прекрасный смотр. Пусть она увидит своего возлюбленного царевича во всем его боевом великолепии, как истинного полководца и вождя! Ее муж, наверное, деспот? Жестокий, старый, безобразный коротышка?
– Да нет, – пожатием плеч ответил Кир. – Просто мужчина, как и все. Каких-либо особых достоинств я в нем не вижу. Но как я уже сказал, она…
– Да, выбрала его, – закончил за Кира архонт. – Оставь это мне, великий. И не пей больше, а то завтра от тебя будет мало толку. С твоего позволения я пойду обратно к людям.
Кир, отпуская его вялым взмахом, поднял для очередного наполнения чашу; глаза его при этом были закрыты. Клеарх усмехнулся: неужели и он вот теряет голову от выпитого? Похоже, что все-таки нет. Уходя в быстро густеющих сумерках, архонт с шага перешел на трусцу: еще многое предстояло сделать.
Проснувшись на рассвете, Кир первым делом проблевался. На земле имения был пруд, и он в нем выкупался, после чего позавтракал яйцами и сыром для успокоения желудка. К той поре как он оделся и с помощью слуг и подставки взгромоздился на коня, утро было уже в разгаре и солнце купалось в синей чаше небес. Вместе с тем нарастал и зной, а с ним тяжкое тупое биение в голове. Отчего-то становилось легче, если держать закрытым левый глаз; в таком виде Кир и приблизился к лагерю, где его остановили дозорные. Все они уже знали своего полководца в лицо, но соблюдали ритуал и почтительно расступились. Краем уха Кир услышал, как кто-то отпустил скабрезную шутку насчет похмелья, но не имел ни силы, ни воли придать ей значение.
Постепенно начали проступать признаки царящей вокруг сутолоки, и Кира начало пробирать сомнение, смыкал ли нынче глаза спартанский командир. Каждый полк был занят надраиванием своего снаряжения, которое на свету сверкало и блестело, можно сказать, до неестественности. В голове плыло от смятения. Он что, приказывал устроить какой-то показательный смотр? Припомнить этого что-то не удавалось. Некоторые моменты давешнего вечера как-то размылись или выстреливали разрозненными отбликами, от которых делалось настолько неловко, что кривился рот. Он, кажется… рассказывал спартанцу о своей любви? О боги! Кир невольно закрыл лицо рукой.
– Великий, – окликнул его кто-то.
Поведя глазами, царевич увидел молодого афинянина, что заведовал лошадьми. Под туманным взглядом Кира Ксенофонт, досадно бодрый и здоровый, обратился к нему:
– Великий, если ты ненадолго сойдешь с коня, я его расчешу, заплету ему гриву и хвост, чтобы он достойно предстал на смотре.
– На смотре? – медленно переспросил Кир. Память по крупицам восстанавливалась, и по спине скользнула струйка холодного пота. Он поглядел на солнце и, увидев, как много прошло времени, сухо переглотнул. Утро прошло в такой разбитости, что он только и делал, что потел и постанывал. Потрогав подбородок, он тихо выругался, ощущая под рукой покалывание щетины.
– Ксенофонт, мне нужен мой слуга Парвиз.
Кир спешился и, оказавшись на непослушных, словно чужих, ногах, невзначай уткнулся в афинянина.
– Мне нужно побриться и переодеться в свежее. Зови Парвиза, со всех ног.
Ксенофонт припустил трусцой, ведя за собой в поводу боевого коня. Кир прищурился на солнце. Чтобы снова хоть раз так напиться? Нет и еще раз нет. Слишком дорого это обходится.
– Вот ты где, повелитель! – послышался голос Парвиза.
Человек, когда-то стерегший пустынную крепостишку, вошел в свой новый образ с гордостью и живостью.
С собой Парвиз нес складной ременчатый стул, на который Кир благодарно водрузился. Его обступили слуги с чашами, лоскутом ткани и ароматным маслом. Парвиз деловито вострил лезвие о кусок кожи, затем о шершавую ткань и, наконец, о сам воздух, крутя блесткий металл на ветерке. Брить царевича он не дозволял никому, и между ними двоими это стало чем-то вроде ритуала. Кир прикрыл глаза.
– А ну тень сюда, живо! – зычно командовал над ухом Парвиз. – Балдахин сыну царя! И свежую одежду. Да потише – здесь вам не базар! Ширмы поставьте сюда, вот так.
Облегчением было чувствовать, что Парвиз рядом и у него все спорится. Кир открыл глаза, ощутив, как ему в руку что-то вдавливается. Оказалось, что чашка с молоком. Кир блаженно улыбнулся:
– Благодарю, Парвиз. Хотелось бы этого побольше. Давай уж сюда всю корову целиком.
Когда солнце начало свой неторопливый путь по послеполуденному небу, полки уже были построены квадратами, а ряды в них безукоризненно выверены. Каждый воин стоял, слегка расставив ноги, в ожидании появления царицы. Со стороны общего становища прибыли люди с носилками. Среди стоящих под безжалостным солнцем, как правило, случались внезапные обмороки. Без этого редко когда обходилось, а поскольку люди валились, как деревья, не выставляя рук, ранения подчас получались весьма серьезные. Остальной лагерь был смещен назад на парасанг, чтобы вид царским очам не портили блудницы и мелкие попрошайки.
Кир не находил себе места. В ожидании появления Эпиаксы он водил коня возле передних рядов. Этой женщины он не видел уже шесть лет. За это время он стал мужчиной, а тогда был, по сути, еще мальчишкой, уверенным, что она выберет его, и чересчур большого мнения о себе. Желудок у него успел успокоиться, а головная боль, хвала богам, почти уже прошла.
– Вон она! – послышался рядом взволнованный голос Парвиза. – Едет, едет!
На склоне холма показалась колесница, запряженная парой гнедых и окруженная бегущими солдатами в черных панцирях и кожаных юбках. Рядом со своей госпожой их поспешало около сотни – очередное напоминание, что это чужая жена и к тому же царица. Уместив перед собой на барсовой шкуре скрещенные кулаки, Кир следил за приближением колесницы, размышляя, выглядит ли Эпиакса так же, как прежде, и что увидит она, остановив свой взгляд на нем.
Вдоль воинских рядов загудели рога, хотя сейчас это было скорее приветствие, чем боевой клич. Колесница направлялась к царевичу, сидящему перед своим воинством на боевом коне, а потом заложила большой круг, часть пути пройдя буквально в обратную сторону.
Киликийская царица Эпиакса протянула руку подскочившему колесничему и сошла на землю. Боль, сдавившая Киру грудь, не имела никакого отношения к выпитому накануне. Тугие смоляные косы Эпиаксы колыхались за плечами. Она была той же – прежняя, совершенно не тронутая временем. Царевич спешился и молча смотрел, как она преклоняет перед ним колено. Глядя на основание ее стройной шеи, он невольно задался вопросом, понимают ли эллины значение этого жеста. Персидскую державу населяли двадцать восемь народов – все подданные сатрапий, властители и властительницы которых преклоняли колено перед членами высочайшего семейства. И когда то же самое, в противовес падению ниц, проделывали эллины, они через это как бы получали благоволение царствующего дома.
До Кира вдруг дошло, что он все еще не дал ей разрешения подняться: ее смугло-янтарная шея чуть потемнела от румянца. Вероятно, Эпиакса думала, что он все еще на нее сердит.
– Эпиакса, прошу тебя, поднимись. Я был зачарован тем, как мало ты изменилась. Словно возле тебя сейчас стоял я прежний, совсем еще молодой.
Говоря это, Кир взял ее за руку и смутился, заметив, как неуютно заерзали колесничий и ближняя свита. Телохранители царицы были явно непривычны к тому, что к их госпоже кто-то прикасается.
– Царевич Кир наш давний друг, – с улыбкой пояснила она. – Здесь я вне опасности. Любезный Рауш, ты доставил меня благополучно и можешь уезжать. Когда понадобится, я пошлю к тебе гонца.
Приближенный немедленно распростерся в пыли, причем так, что поклон хотя и предназначался обоим, но все-таки ставил его госпожу несколько выше Кира. Колесничий влез на свою скамейку и взял вожжи. Кир с завистью поглядел на ходкую колесницу и заговорил прежде, чем тот успел взмахнуть своим длинным хлыстом.
– Драгоценная Эпиакса, я приготовил для тебя смотр моего скромного войска. Если ты отошлешь своего возницу со свитой, я сочту за честь занять его место.
Царица склонила голову, и колесничий безропотно положил свой кнут и вожжи, хотя и удостоил Кира косого взгляда, когда тот их подхватил. Открыв дверцу, Эпиакса заняла место на обитом сафьяном заднем сиденье, но не села, а лишь прислонилась к спинке. Тепло и ветерок вполне располагали к поездке. Кир с лихой ухмылкой тряхнул вожжами, и колесница дернулась вперед, рассеяв телохранителей, которые иначе попали бы под колеса.
– Прошу простить, я лишь обвыкаюсь, – бросил Кир через плечо.
Его спутница верно определила, что сделал он это не случайно. Кир снова хлестнул вожжами, и лошади кинулись в галоп. Слышно было, как царевич ухарски подбадривает их гиканьем, заставляя лететь все быстрее и быстрее, совсем уже прочь от войска, построенного им для ее впечатления. Скорость была ужасающей и вместе с тем сладостно волновала, воскрешая память о том, как Кир и его друг необузданно мчались по берегу привольной реки.
В нем по-прежнему чувствовалась притягательность. На скаку, когда оставалось лишь полагаться на его умение и силу, Эпиакса следила за его спиной и слаженностью движений, вспоминая, как выпукло, твердо напрягались его мышцы, когда он держал ее в объятиях. Чувствовалось, как на глаза наворачиваются слезы – сложно даже сказать, в память ли о минувшей юности, об утраченной любви или же просто от пыли и ветра.
14
После первого дикого заезда Кир, уступая просьбе царицы, вернулся и уже более степенно повел колесницу вдоль своих замерших рядов. Временами он даже останавливался, давая молодой царице спускаться и беседовать с некоторыми из военачальников. Эпиаксе, казалось, общение было одинаково по нраву и с эллинами, и с персами. Клеарх разговаривал с ней чуть ли не отечески, с видимым удовольствием отвечая на вопросы. Рдел, словно юноша, Оронт, дружески взятый ею за руку. Рядом с этой женщиной царевич ощущал доподлинное блаженство от того, что день, начавшийся из рук вон, так неожиданно хорошо заканчивается. Невольно посещали мысли, как бы изменилась его жизнь, если б Эпиакса все же пришла к нему в тот последний раз, когда он ждал ее в кипарисовой роще. То была самая долгая ночь в его жизни, а когда начало светать, он решительно сел на коня и ускакал.
Они уже невесть сколько находились под солнечным зноем. Кое-кто из людей и в самом деле упал в обморок; их незаметно вынесли и положили подальше от глаз приходить в чувство. Ко времени возвращения в шатер, возведенный стараниями Парвиза для вечерней трапезы, Кир и царица чувствовали странную усталость. Полки по приказу пустились в обратный путь к лагерю. После дня, проведенного под солнцем, их ждал ужин и отдых. Потные и разгоряченные, люди улыбались явному обожанию царевича той красавицы рядом с ним. Кое-кто на ходу обменивался непристойными жестами, с оглядкой, не смотрит ли начальство, а то за такое можно ненароком лишиться рук.
Тем вечером Оронт, Арией и Клеарх вместе с другими военачальниками расселись за длинным походным столом. По разные концы стола, лицом друг к другу, сидели Кир и Эпиакса. Правая рука царевича лежала между блюдами ладонью вверх, будто в немой мольбе. Сложно судить, отвечала ли его чувствам Эпиакса, но у нее на скатерти находилось левое предплечье, и она как будто исподволь тянулась к царевичу. Спартанец втихомолку улыбнулся своему наблюдению.
Оронт принялся за еду с видимым интересом. Для своей гостьи Кир выставил на стол все самое лучшее; персы чуть ли не аханьем встречали блюда, приправленные шафраном, кардамоном и лепестками роз – травы столь дорогие, что в полках с их скудноватым рационом о таких и не слыхивали.
К трапезе с царевичем и его гостьей были допущены и прочие военачальники эллинов. Здесь был Проксен, опекавший кувшин вина так, будто тот принадлежал исключительно ему, невзирая на посягательства порхающих вокруг слуг. Софенет о чем-то голосисто смеялся с Меноном, но оба тут же сконфузились, обнаружив, что на них смотрят. Вино текло рекой, а незадачи и сутолока этого дня пошли на спад, хотя у половины людей кожа все еще дышала жаром, словно где-то внутри у них тлел очажок дневного зноя.
Опыта сидящим было не занимать, так что Клеарх был не единственным, кто заметил это неслучайное положение рук на столе. А потому за непринужденными разговорами ели быстро, а от лишних добавок отказывались. Через какое-то время, осушив чаши и вытерев ножи о скатерть, как того требовал этикет, военачальники один за другим стали подниматься и откланиваться (первый поклон Киру, второй его гостье).
Царевич в тот вечер вина не пил, отшутившись, что, дескать, желудок не простит ему второй попытки его погубить. С уходом последнего из начальников послышалась мягко-чарующая музыка, и в шатер под соловьиный голосок флейты вошли музыканты в бесшумной войлочной обуви. Кир в безотчетном порыве встал и, пройдя вдоль стола, сел рядом с Эпиаксой.
– Лучше так, – сказал он. – А то я из-за музыки не расслышу тебя. Как хорошо, что ты меня навестила. День выдался чудесный, опаловый просверк средь грозовых туч. Повидала мое войско преданных мне воинов. Их общество меня иной раз тяготит. И тогда я лишь сильнее тоскую по разговорам, что мы с тобой вели. Ты ведь помнишь?
– Конечно, – грустно и благодарно поглядела она.
Он взял ее руку, которую она на скатерти вложила ему в ладонь. Рука Эпиаксы чуть подрагивала; нежданная близость, позволившая ему говорить о вещах других, для него более важных.
– Я тогда прождал всю ночь, прежде чем понял, что ты не придешь. Все внушал себе, что время еще не миновало, пока вокруг не проглянули роща и зелень окрестных холмов.
– Мне надо было к тебе кого-нибудь послать, – с тихим сожалением вздохнула она. – И вообще жаль, что так получилось.
– Жалеть не нужно. Ты сделала свой выбор. А мне лучше было уйти и начать жить своей жизнью.
– Ты все не женишься, – молвила она, подаваясь ближе.
Он пожал плечами, хотя ее слова резали как нож.
– Получается, не смог найти другую, – неловко усмехнулся он, – которая могла бы сравниться с тобой. Наверное, звучит вздорно?
– Вовсе нет, – ответила она. – Я много раз думала…
Чувствовалось, что она колеблется.
– О чем? Мы здесь одни, Эпиакса. Можешь говорить без утайки.
– О том, как бы сложилась моя жизнь, если бы я той ночью пришла к тебе. – Ее рука повернулась в его ладони, словно птичка в гнезде. При этом она ее не убрала. – Сиеннесий холоден душой. Ты бы его сейчас, наверное, не узнал. Со мной он за день едва обмолвливается словом. Да что там за день – бывает, целыми неделями не разговаривает. Хотя если бы я тогда не ушла к нему, у меня бы не было моих сыновей. Все так непросто. Если бы не они, то, думаю…
Она качнула головой и смежила ресницы, из-под которых хрусталинкой выплавилась слеза, оставив на щеке влажный след. Кир медленно поднес ее руку к губам и поцеловал, чувствуя, как Эпиоксу пробивает дрожь.
– Всякий раз с закатом солнца я думал о тебе, – произнес он.
– Прошу, не надо слов. Вели слугам уйти, – прошептала она.
Поутру Клеарх, пройдя расстояние, отделяющее стан от шатра, застал Кира и Эпиаксу за завтраком – в непринужденной беседе, под приветливым румяным солнышком. Утро ласкало прохладой, а трава искрилась росой, хотя обычно та спозаранку уже испарялась.
– Архонт! – дружески помахал рукой царевич. – Не откажи в любезности разделить с нами трапезу.
Клеарх в знак приветствия церемонно поклонился обоим и сел рядом. Слуги не замедлили подать ему ломтики дыни, фиги и белый сыр. В таком обществе даже упоминать о пустующих сундуках было бы безнравственно, не говоря уже об отношениях этой пары. Какое-то время спартанец молча ел, наблюдая, как Кир и Эпиакса смотрят друг на друга.
– Кир, если ты доставишь меня домой, то колесницу и повозки я пришлю тебе уже этим утром, – сказала Эпиакса. – Как мы с тобой… обсудили.
Царевич потянулся и тронул ее руку так, словно в целом мире для него не было ничего более естественного. В обществе Клеарха Эпиакса стыдливо зарумянилась, но он сейчас с нарочитой увлеченностью поглощал содержимое своей тарелки.
Кир поднялся и протянул руку, глянув на нее взором, горящим темным огнем от их никому не ведомых ночных разговоров.
– Идем, любовь моя. Я отвезу тебя обратно к твоему мужу и сыновьям.
Глаза Эпиаксы в ответ зажглись дерзкими искрами – или же это были слезы. Она встала, и они вдвоем удалились. Клеарх глядел им вслед, задумчиво надкусывая ломоть дыни. Хорошо бы, если б царица в итоге все же предоставила эти столь нужные им монеты. Дружба с Киром – это одно, но военачальник должен так или иначе рассчитываться с собранным им воинством или будет вынужден продолжать путь без него. Месяц-другой войско потерпит и без серебра, но затем начнется разброд, и люди начнут покидать ряды. Причина – нарушенная полководцем договоренность. Эллины знали себе цену, а персы привыкли к своим помесячным выплатам.
Ответственность перед всеми лежала на Кире. Сложно предположить, как бы с таким положением справлялся он, Клеарх, но вид у царевича был на удивление хладнокровный. Во всяком случае, куда более расслабленный, чем можно было упомнить. Любопытно было наблюдать за двумя наложницами, сопровождающими Кира в его походе на восток. Одна из них внешне очень напоминала царицу Киликии.
Клеарху подумалось о своей жене и сыновьях. Вряд ли это можно было назвать браком по любви – во всяком случае, на первых порах, хотя к своей Каландре он испытывал нежную привязанность. От всех спартанцев, решивших пойти по стезе наемничества, требовалось вначале завести детей – единственно разумный расклад, учитывая превратности воинского ремесла. Клеарх мучительно вздохнул. За годы своего солдатства любовь он знавал всего раз или два. Все это нынче казалось не таким уж и значимым, как когда-то. Тем не менее в памяти оно еще жило, а потому сердце ему щипнула тихая зависть к этой молодой паре. Пусть даже глаза их светились печалью и утратой.
Кир возвратился в сопровождении полудюжины повозок и того же колесничего, что и накануне. Клеарх, Проксен и Оронт буквально взапуски кинулись смотреть содержимое сундуков. Все втроем они запускали руки в груды монет, упиваясь звонким шелестом золота и серебра и облегченно смеясь. Этих запасов было вполне достаточно. Из всех троих только перс Оронт, возможно, не знал конечной цели похода, но глупцом он отнюдь не был. Он прекрасно понимал: случилось что-то важное, и явно не в пользу царевича, который вдруг лишился услуг всей сети ростовщиков. Между тем монеты означали все: пропитание, снабжение оружием и доспехами, а еще месяцы ратного труда в поле, о которых при отсутствии оплаты не было бы и речи. Монеты означали саму войну: посредством их была запущена в действие огромная сила, собранная Киром.
Для Клеарха и Проксена эти сундуки были шансом возвести царевича на престол. Изрядная часть тех монет должна была перепасть менялам персидских городов вдоль Царской дороги. Далее по их долговым распискам, переданным на запад через посыльных, этим средствам предстояло перекочевать через границы персидской державы к греческим трапезитам[33].
Сила этих денег оберегала безопасность и силу Спарты, позволяла Афинам строить корабли, писать пьесы и спорить на агоре. Какими бы благородными ни были идеалы, реальность всегда покупалась золотом и серебром.
Спустя два дня, с выходом огромной колонны из города, Кир заметно помрачнел. Войско направлялось прочь от границы с Киликией, идя на восток. Царевич часами сидел верхом, наблюдая за движением текущих мимо рядов с безучастностью валуна, который не в силах с собой увлечь людской поток. Люди шли, горделиво выпрямив спины, на загляденье полководцу и самим себе, но взгляд Кира был далеко, а мысли по-прежнему в объятиях женщины, которая даровала ему всего одну ночь. Этого было недостаточно. По ее просьбе Кир легко бы двинул на ее спасение все свое войско; без колебаний выставил бы на копье голову ее мужа поверх его собственных стен. Но Эпиакса не попросила. Видимо, она слишком любила своих сыновей, а с ними и мужчину, с которым связала себя узами супружества. Сердце женщины непостижимо в своей сложности. Она подарила ему ночь, но оставила гложущее ощущение недовершенности.
– Я еще вернусь сюда, к тебе, – вполголоса сам себе пообещал он. – Как только выполню свое обещание.
За следующие три дня войско Кира прошло полтора десятка парасангов. Идти было легко, а дни стояли безоблачные; тем не менее Клеарх настоял на том, чтобы при подходе к любой реке все бочки и фляги наполнялись водой. На эту процедуру всякий раз уходила изрядная часть дня, но только так можно было бороться с неотступной летней жарой; к тому же солдаты, потея, в дороге то и дело пили. При остановках на каждом городском базаре Кир закупал соль. Пот на людях засыхал беловатым налетом, и опытным было ведомо, что без соли тело ослабнет, а в голове начнет плыть так, что идти невмоготу.
Иметь при себе сундуки, ссуженные Эпиаксой, было большим облегчением.
Кир даже не спросил, как ее муж отнесется к тому, что она выгребет из казны уйму денег и отдаст их своему стародавнему ухажеру. Мысленно Кир внушал себе, что все долги вернет после того, как встретится со своим венценосным братом и поквитается с ним. Так что справедливость свершится после мести.
Держась на коне рядом с Клеархом и Проксеном или Оронтом и Ариеем, оказывая им честь по очереди, он клонился головой всякий раз, когда улавливал аромат жасмина, словно бы Эпиакса ехала с ним рядом. До остановки в Киликии она была приглушенной, полузабытой тоской. Теперь же, хотя и оставленная далеко позади, она воскресала в его воспоминаниях, делая боль, что крепко бродила в нем, все острее и несносней.
В Персеполе перед восходом солнца Тиссаферна купали и умащивали царские рабы. Освещенный светильниками, он услаждал себя благами цивилизации, которых так недоставало остальному миру. По конским ступеням к караульной на плато он взъехал, чувствуя прохладу и приятную свежесть. По другую сторону стены уже взошло солнце, так что он находился в тени, а мир позади был в это время озарен утренним золотом. Повернув голову, Тиссаферн подъехал к воротам. Здесь ему вспомнилось, как он стоял у этой последней черты с тремя сотнями спартанцев и молодым царевичем, в то время как у себя, в земном раю, на смертном одре, отходил в мир иной Дарий. Своим ласковым дуновением Тиссаферна обдал рассветный ветерок, и вельможа улыбнулся. Надо же, как все изменилось. Поднимаясь по этим ступеням, он поднялся и в прочих отношениях – в своем месте при троне, во влиянии. Он теперь сидел по правую руку от великого царя. Даже Кир, почувствовав это его новое могущество, пришел в растерянное смущение.
Ворота открыли караульщики, не замедлившие простереться перед Тиссаферном ниц. Этот жест он оценил, хотя его звание при дворе было до сих пор неопределенным. Собственные слуги и рабы звали его, конечно же, «повелитель Тиссаферн»: при своем дворе любой хозяин волен звать себя как заблагорассудится. А так кто он есть? Просто приближенный, пускай и доверенный, допущенный в ближний круг. Отсутствие официального звания раздражало, словно колючка, попавшая под ноготь. Оставалось лишь надеяться, что Артаксеркс сам устранит это недоразумение, когда выслушает отчет. Тиссаферн был вдали от двора и его удобств вот уже без малого полгода. Разве за такое испытание не полагается награда?
Сады в своей красоте были безупречны, как и всегда, а рабы здесь подбирали каждый опавший листик и обрезали каждый куст до таких идеальных форм, что он казался произведением искусства, а не природы. Тиссаферн был облачен в свободные одеяния из шелка и легкие сандалии. Вслед за подоспевшим провожатым он тронулся по тенистым тропинкам сада, но не в ту сторону, где находилось крыло, в котором умер прежний царь. Оно было снесено, а на его месте посеян новый лужок, за которым чутко ухаживали, взлелеивая каждую травинку. Камни, и те были здесь выложены наново. От этого охватывало даже нечто большее, чем удовлетворение. Чувство совершенства было таким изысканным, что по остроте своей напоминало боль. О, сколько жизней роится в грязи в поисках пищи, чтоб хотя бы выжить в этом мире! Тем отраднее созерцать, что можно сделать при наличии воли и неограниченного богатства. Сложно и представить что-либо лучшее для существования, чем двор персидского царя. Царское семейство для простонародья, должно быть, равно богам. А значит, ты, Тиссаферн, состоишь в прямом услужении у небожителей. Неужели это может не нравиться и не вызывать зависть у других?
Впереди, на краю травяного поля, стоял царь Артаксеркс, держа в руках натянутый лук из черного рога. Инкрустированное золотом оружие выглядело зловеще, воистину смертельно. Приближаясь, Тиссаферн осторожно на него поглядывал. Возле поля он предусмотрительно расстелил циновку, дабы не испортить чистые шелка, и простерся на ней, почтительно поднеся руки к голове. Артаксеркс мог прервать это действо в любой момент, но предпочитал смотреть на кончик стрелы. Тоже сын своего отца, возросший с его смертью. Артаксеркс по-прежнему требовал к себе ритуалов повиновения, хотя на словах неустанно твердил, что все это для достоинства трона, а не для его собственного удовольствия.
В тот момент, когда Тиссаферн поднимался, царь поместил на тетиву стрелу и через простор поля поглядел на шестерых невольниц, разгуливающих там с поднятыми спартанскими щитами. Женщины были красивы, а одеты в короткие, до бедра, накидки. Впору покачать головой, хотя, если вдуматься, царь по возрасту молодой человек, которому еще не прискучила подобного рода забава. Ходили слухи, что к нему со всей империи свозятся девушки, избранные за свою красоту. Некоторых из них он оставляет себе, а остальных раздает в качестве награды своим телохранителям.
Тиссаферн смекнул, что это, видимо, те, кто впал у него в немилость и должен теперь носить щиты для царской стрельбы из лука – понятно, не совсем наказание, а скорее знак неудовольствия или предупреждение. Тиссаферн вздохнул. С женщинами его хозяин, конечно же, строг, но со временем смягчится, как и все мужчины.
– Гляди, Тиссаферн, – бросил царь через плечо.
Плавным движением он отпустил тетиву, посылая стрелу по дуге в самый дальний щит. Сила удара опрокинула молодую женщину, которая вместе со щитом кувыркнулась на землю, вскинув ноги. Артаксеркс удовлетворенно хмыкнул и не глядя протянул руку, в ладонь которой раб вложил очередную стрелу с нарядным оперением. На протяжении трех выстрелов, все из которых пришлись в цель, царь хранил молчание. Из женщин больше никто не падал, хотя все покачнулись при ударах.
– Прекрасные попадания, повелитель. А твои навыки, я вижу, только улучшились. Воистину ты мастер во владении оружием.
Прозвучало как явная лесть, но Артаксеркс упражнялся каждый день и в самом деле заслуживал похвалы. Хотя большинство по-прежнему считало его менее воинственным из двух царских сыновей. Правда в том, что он сделал себя сильным, не разглашая это на весь свет. Тиссаферн лучше других знал, что царь способен с честью сражаться мечом и боевым копьем, а также стрелять из лука. Некоторые рождены, чтобы быть воинами. Это известно всем. По некоторым видно, что они дерзновенней, быстрее и гибче. У них есть навыки, которые неподготовленным кажутся сродни волшебству. Но есть и другой путь, хотя он не такой скорый и менее броский. Человеку достаточно просто упражняться изо дня в день. Свидетельством тому был Артаксеркс. Если в человеке есть усердие и старание, то кости у него станут тверже, мышцы тугими, как канаты, а мастерство несравненно выше.
Сноровку можно будет развить до невиданных скоростей. Каждое утро Артаксеркс упражнялся до седьмого пота. По его зову являлись наставники по мечевому бою, и он бился с ними на закрытом дворе. Говорили, что царевич Кир родился воином. Артаксеркс, в отличие от него, себя им сделал. Это было видно уже по тому, как царь движется. Некогда любитель наук и искусств, со временем он сделался леопардом в мантии с подбоем.
После еще одного десятка выстрелов царь потер себе предплечья, щурясь от того, как под кожей упруго перекатываются мышцы. Свой грозный лук он передал рабу и обратил взор на своего царедворца:
– Ну что, Тиссаферн. Докладывай, как там, на западе, зализывает раны мой дорогой брат.
Говоря это, царь пошагал, так что Тиссаферну для того, чтобы держаться рядом, приходилось семенить трусцой. Рабы остались позади, а они через зеленый квадрат поля двинулись к краю террасы, граничащему с солнечно-голубой пустотой неба. Артаксеркс махнул девицам, и те, передвинув щиты на плечи, начали расходиться, мелькая смуглыми ногами и потупив взоры, чтобы не гневить своего повелителя. Тиссаферн, не удержавшись, скользнул взглядом по одной или двум (все-таки ему было шестьдесят два, а не восемьдесят).
Артаксеркс подошел к самому краю, поставив правую ногу так, что половина ступни торчала над отвесной пропастью и пустотой. Ниже по склону лениво чертили круги птицы, так что царь с Тиссаферном находились выше их. Под ногами у Артаксеркса в паутинке дорог и лоскутах садов и наделов раскинулся первый город державы. Кверху тонкими струйками вились дымы от костров, кузниц и пекарен, образуя сизоватую дымку. Тиссаферна вся эта картина одновременно пугала и очаровывала. Если отсюда сорваться и упасть, то лететь, наверное, долго, пока не занемеет ум. Нутром чуя опасность такой высоты, он сторонился кромки, а желудок предательски подпирал снизу горло.
– Повелитель, – угодливо начал Тиссаферн, – царевича Кира я встретил на западной оконечности нашей державы, где он до сих пор водит дружбу с греками и другими наемниками. Двенадцать дней я провел в Сардах и имел хорошую возможность наблюдать за ним и его окружением.
– И что же ты увидел, Тиссаферн? Я послал тебя, потому что ты знаешь его лучше других. Верен ли он нам по-прежнему?
Тиссаферн ответил глубоким вздохом. Он читал и перечитывал свои собственные записи и отчеты соглядатаев, которые множество раз настигали его в дороге. С ответом на этот вопрос он боролся каждый стадий своего бесконечного пути домой. Те месяцы странствия, что разделяли запад и сердце империи, подразумевали, что многое в ней менялось буквально на ходу. И даже сейчас, непосредственно в момент доклада. Тем не менее он увидел многое.
– Повелитель, мне так не кажется, – вымолвил Тиссаферн.
Артаксеркс повернулся к нему резко, забыв про величественный вид.
Лицо его застыло, а глаза сверкнули ястребиным взглядом, придающим ему сходство с покойным отцом.
– Ты уверен? – спросил он ледяным тоном. – Следи за своими словами, Тиссаферн. За ними может идти война.
Тиссаферн нервно сглотнул и продолжил:
– Повелитель, в Сардах я разговаривал с тремя лазутчиками. Все они сказали мне, что царевич собрал огромное число солдат. Просто необычайное. С одной стороны, это, казалось бы, не столь удивительно – там идет много разговоров о каких-то горных племенах и их восстаниях.
– И все же ты считаешь, что он отвернулся от меня, от своего дома?
Тиссаферн медленно склонил голову.
– Он окружил себя десятком греческих военачальников, но наших там еще больше. Хотя заправляют, похоже, именно греки, такое у меня появилось подозрение. Персы выстраиваются на больших площадях, но греки разбросаны по всему западу. У меня есть донесения с Крита, из Афин, из Лидии и Кипра. В тех местах они готовятся, но подчиняются твоему брату, а оплату получают персидским золотом.
– Сколько ж их там? – блеснул глазами Артаксеркс. Новость его как будто и не смутила. Наоборот, вид у него был благодушный.
– Сказать точно нельзя, повелитель. Один мне в разговоре сказал, что насчитал тридцать тысяч греков, другой – что всего восемь. В этом-то и суть моих подозрений. Если твой брат командует всеми силами державы, то зачем держать их порознь?
– Каково же твое заключение, Тиссаферн?
– Я думаю, он собирает войско, чтобы прийти сюда. Занять царский трон и надеть венец.
К удивлению Тиссаферна, Артаксеркс закинул голову и разразился длинным хохотом, который постепенно становился рваным, захлебывающимся.
– Хотелось бы… О как бы я хотел, чтобы мой отец стоял сейчас рядом и слышал тебя! Ведь он это предсказывал, я помню те его слова! Теперь я с удовольствием выскажу моей матери, к чему привело ее неуместное милосердие. Какого змея она уберегла в живых и через это поставила всех нас под угрозу!
Голос его стал жестким, наигранную веселость как рукой сняло.
– Хвалю, Тиссаферн. Ты хорошо потрудился. Доказал мне свою преданность, и я тебе за это благодарен. Возможно, ты даже спас мне жизнь, поэтому я дарую тебе звание почетного старейшины. Ты муж, умудренный опытом, и все, кто ниже тебя по положению, будут отныне обращаться к тебе «мудрейший» или «старейшина Тиссаферн». Распорядитель двора сделает об этом запись, и тебя с ней ознакомят.
Тиссаферн пал царю в ноги плашмя, не расстилая даже коврик. От едкой дорожной пыли на глаза навернулись слезы, что в данных обстоятельствах было весьма кстати.
– Повелитель, я ошеломлен. Честь, что ты мне оказываешь, несравненна.
– Перестань, Тиссаферн. Разве хорошие известия того не стоят?
– Хорошие известия?
– Ну а как же! Это моя обязанность и задача – вывести войско державы на поле битвы, как делали владыки древности. А ты будешь меня сопровождать. Ты всегда так храбро и рьяно рассказывал о своих временах в войске. Так что я с удовольствием дам тебе вспомнить о золотых годах твоей молодости.
Тиссаферну оставалось лишь изречь свое бесконечное восхищение таким замыслом, хотя мысль о новых месяцах на хребте лошади тянула разрыдаться от отчаяния.
Царь посмотрел вниз на столицу, дремливо расстелившуюся под ними внизу.
– Если мой брат хочет со мною сразиться, то, возможно, я его немного удивлю. – Артаксеркс медленно сжал и поднял кулак, будто направляя свою клятву солнцу. – Мой отец, несомненно, будет с неба взирать на нас обоих. Если на поле боя сойдутся два царских сына, то живым из них может остаться только один. А второй останется кормить ворон и коршунов. Так уж заведено.
15
После постоянного подстегивания своего воинства на протяжении многих дней Кир остановил колонну в Тапсаке. Город был одновременно богатым и древним, и Кир жаждал ванны в уединении, которое дают богатство и власть. Над городом возвышалась величавая белая арка, а рядом возле городских стен нес свои воды Евфрат. Тапсак сформировался вокруг обширного русла этой древней реки, начав свое существование как место для водопоя скота и меновой торговли. За бесчисленное множество поколений город вырос в один из самых крупных центров всей этой местности. Теперь здесь соперничали за место базар специй и невольничий рынок, а богатства было достаточно для поддержания улиц, парков и дворца здешнего сатрапа. На западе это был последний оплот цивилизации перед удушающей жарой пустынь, что распахивали свои холмистые просторы за его пределами.
Свою колонну Кир завел в город, разместив в его стенах как можно больше людей. Наряду с шафраном и сахаром, слоновой костью и железными гвоздями рыночные торговцы приторговывали еще и новостями. Уже в пределах часа Кир знал, что Тиссаферн прибыл в Сузы месяц назад, проведя здесь на отдыхе всего один день. Получается, колонна понемногу его нагоняла – мысль, от которой становилось приятно.
К раннему вечеру все конюшни в городе были уже заполнены народом; не оставалось ни одного свободного подвала и склада, был занят каждый дом. Кир набил людьми царский парк, позволив своим полкам отдых в кущах, обустроенных его дедом. Но все равно все не умещались.
За стенами мастеровые ставили палатки в окружении повозок, разворачивали кузницы, мастерские и кухни, рыли канавы отхожих мест. В летние месяцы особой нужды в укрытиях не было. Случались, правда, пылевые бури, но сегодня было безветренно, и большая часть колонны устроилась на ночлег под звездами, довольствуясь тонкими одеялами и плащами.
Солнце размазывало по горизонту красные и лиловые пятна облаков, когда старшие военачальники сошлись через двор небольшого царского дворца к своему полководцу. Великолепие вокруг всех слегка сковывало. В золоченых чашах светильников трепетали масляные огни, в каждой стенной нише теплились желтоватым светом толстые свечи. Сам свет был символом достатка и власти, придавая вечеру ощущение приватной попойки или тайного ритуала.
В пиршественном зале Кир стоял несколько в стороне, а не лицом к входящим. Пока все собирались, он, казалось, непринужденно беседовал с Клеархом. На самом же деле он цепко наблюдал и оценивал прибывающих. Зал был одним из немногих мест в Тапсаке, где ему можно было собрать всех командиров. Театров в персидских городах не было, хотя Кир дал себе зарок, что непременно их построит, когда покончит с братом. Если царь смог переделать целую гору, то его сыну наверняка по силам переделать империю. За шестьдесят дней, проведенных в дороге, Кир узнал имена своих непосредственных подчиненных и десятков тех, кто рангом поменьше. Эти два месяца стали для него, по сути, отдыхом, о котором можно мечтать, – совместное путешествие без особой спешки, с небольшим количеством отвлечений и в целом без опасности. С началом долгого похода на восток добавить кого-либо к их числу он не мог; не мог и существенно разогнать темп. На своем пути войско напоминало пущенную стрелу: отозвать его обратно было уже нельзя.
Как Клеарх и обещал, ратная подготовка продолжалась в дни отдыха и по вечерам, но в основном люди просто шли и шли. После двух месяцев, проведенных бок о бок, уже сложно было чувствовать себя от них отчужденным. Кир ощущал, что скован с остальными связью вроде железного обруча. Он, например, чувствовал, с кем из командиров ему иметь дело предпочтительней, а кого лучше избегать. Видя на входе Проксена и стимфальца Софенета, он приветствовал их как друзей и соратников.
Со своими соплеменниками связь была, но более тонкая, обусловленная в основном общим языком и обычаями, эллинам непонятными. Люди вроде Оронта и Ариея казались пережитками прошлого, из мира, который он желал опрокинуть. При виде них Кира кольнула неприязнь, но он встретил их появление улыбкой. Кто-то считает, что верным быть не принудишь, однако у Клеарха на этот счет имелась гипотеза, в которой Кир усматривал зерно истины. Независимо от того, что командир на самом деле чувствует к своим людям, нужно не столь уж и многое, чтобы оставить в них о себе драгоценную память на всю оставшуюся жизнь. Царский сын уже и без того был так превознесен своими военачальниками, что одного его слова может оказаться достаточно, чтобы вонзиться в умы и сердца воинов не хуже клинка. Ради одного этого слова они будут сражаться насмерть, если он произнесет его с умом и вовремя. Таков был совет, высказанный спартанцем, и Кир не чурался в нужный момент его опробовать.
Царевич заставил себя кивнуть Оронту и Ариею, которые не замедлили дружно простереться ниц, вызвав любопытные взгляды эллинов. Поднявшись по соизволению, Арией окликнул кого-то из своих знакомых и, взяв внушительный кубок с вином, приветственно его перед ними поднял. В Оронте такой легкости не было, а пригублял он лишь плодовый сок. В этом человеке Кир с самого начала видел лишь холодное подчинение. Не было в нем того железного обруча, что выковывается осознанием братства. Помимо Оронта и Ариея здесь присутствовало еще с полдюжины персидских командиров, которые смотрели на Кира, словно ослепленные солнцем. Он вздохнул. Что и говорить, самый старший военачальник у него холоден, как рыба. Если б нынче ночью, упав с городской стены, Оронт сломал бы себе шею, эту потерю можно было бы перенести стоически. Но он, к сожалению, еще и не пил вина.
Оронт был образцом добродетельного в своем воздержании перса. После трапезы он вполне мог проводить вечер за молитвой в храме Ахурамазды. Кир покачал головой и сделал глоток из чаши. Некоторые люди рождаются без чувства величия в себе; такова бесхитростная правда. Оронт хорошо знал свое ремесло, но той золотой нити, того сокровенного колодца в нем не было. А если и были, то со своим царевичем он предпочитал этим не делиться.
Благоговейно оглядывая сводчатый потолок, в зал вошел фессалиец Менон, а с ним Сосис из Сиракуз. Им Кир тоже улыбнулся, отчасти из-за воспоминания о молодом спартанце, который плохо выговаривал звук «с». Клеарх на один день приставил его подручным к Сосису, который начал требовать от помощника объявлять о своем появлении всюду, куда бы они ни пошли. Кончилось тем, что Сосис, бессильно обвисая на своем помощнике, отирал слезы хохота, а тот стоял с мрачно-растерянной миной.
Каждому из вошедших указывали место за столом, где ждали слуги, принимая на руки плащи с накидками и безмолвно с ними исчезая.
Некоторые из приглашенных оставались стоять, собираясь со знакомыми за болтовней в небольшие кружки. Другие сразу усаживались и выкладывали свои ножи для еды рядом с теми, что уже были приготовлены на столе. Вот один из эллинов с любопытством взял причудливый ножик для дыни и проверил его большим пальцем на остроту, улыбчиво покачав головой. Царевича это одновременно позабавило и восхитило. Надо сказать, что его уважение к эллинам лишь углублялось. Театр они ценили больше, чем поэзию, дисциплину ставили выше подчинения, а слова выше, чем музыку.
За годы он узнал о них, казалось, все, что можно, а за месяцы в походе между ними установилась связь, какой прежде не бывало. Оказалось, что жизнь плечом к плечу с воинами дает редкостное прозрение. К этой поре Кир уже знал, в какой мере успешность эллинов в бою зависит от личной гордости; от абсолютной уверенности, что они лучшие на всем свете, а у Эллады нет равных ни на поле сражения, ни в области искусств. Кир болезненно поморщился, припоминая вечер персидской музыки, который он устроил для своих военачальников. Было много смеха, тем более язвительного, что они изо всех сил старались его скрывать.
Из старших военачальников Оронт, пожалуй, имел наименее драчливый нрав, но и он был доведен их смешками до кипения. Его даже пришлось отговаривать от вызова Проксена на поединок, хотя эллин, вероятно, съел бы его живьем. Где-то в глубине, тайком Кир признавал, что все эти греки в каком-то смысле варвары. Однако же они сражались, как демоны Аримана[34], и никогда не уступали. В этом, по всей видимости, и крылся секрет их успеха. Вне зависимости от того, какой оборот принимала битва, как близко веяли черные крылья беды и смерти, они не страшились и не показывали спину. Любое персидское воинство, которое он когда-либо видел, признавало, что бывали времена, когда битва склонялась явно не в их пользу, командиры лежали поверженные, а враг с ревом наседал. Тогда единственно верным и здравым решением было бежать в горы. Это коренилось в самом имперском укладе. Гордость за свои успехи, верность начальству – это само собой, но если налицо неудача, сценарий меняется. Когда твоя сторона смята и раздавлена, день назад уже не отыграть. Нужно смириться с неудачей.
Прошептав короткую молитву Ахурамазде, Кир допил чашу и решительно подошел в своему месту во главе стола. Собравшиеся отреагировали тем, что встали с мест или замерли там, где стояли. Царевич оглядел зал, где военачальники, не сговариваясь, образовали подобие строя. Он кивнул головой, неожиданно ощутив прилив раздражения и на эллинов, и на персов. Заговорив на греческом, он затем повторил свои слова на персидском. Уроки языка тоже являлись частью долгого похода, но успехи здесь были куда скромней, чем он рассчитывал.
– Славные воины, вы здесь заняли разные стороны стола – по одну эллины, по другую персы. Разве вы недруги? Вовсе нет. Уже на протяжении месяцев вы совместно принимаете пищу и вместе упражняетесь, я это видел сам. Так что призываю вас пересесть, чтобы быть сообща, а не порознь.
Собрание встретило его слова дружным смехом. В целом надежды царевича не оправдались – получилось, что стороны просто поменялись местами – но это разрядило настроение, и уже от этого на душе стало отрадней.
– Ну вот, так лучше, – сказал Кир и подал знак дворцовому распорядителю. Все слуги поспешили выйти, оставляя гостей разливать вино по чашам и кубкам. Кое-кто, не мешкая, к этому приступил.
– Видя вас здесь, сидящих как друзья, – обратился он к своему высшему воинству, – я преисполняюсь надежды за наши народы и за нашу будущность. У нас в ходу разные монеты, но серебро и золото в цене у всех, неважно, чьей они чеканки. Всего важнее сам металл. Так и мы, сидящие за этим столом, можем говорить на разных языках, но все мы воины, все солдаты. Мы понимаем, что значит несправедливость. И что такое бесчестье.
По мере того как голос его твердел, улыбки вокруг тускнели, а взгляды сосредоточивались на нем. Кир говорил негромко, однако в зале не было более слышно ни звука; все одинаково внимали обоим языкам. Глянув на Клеарха, он заприметил, как тот чуть заметно склонил голову. Это был момент, который они замышляли и готовили. И пускай в сердце Кира бушевали вихри, но он согласился, что нельзя ждать, пока в поле перед ними предстанет черная стена царского войска – тогда говорить что-либо будет уже поздно. Нужно задать людям истинную цель сейчас, иначе слишком велик риск, что в самый неподходящий момент они переметнутся.
– Славные воины, вместе с вами я ехал и шел от самых Сард. И пусть наше будущее в руках богов, но вместе со мной вы прошли через земли Вавилона. Вы видели великий Евфрат, эту главную жилу империи. Созерцание вас здесь наполняет мое сердце гордостью. Однако кое для кого из вас наше странствие может закончиться уже нынешним вечером. – Он глубоко вздохнул, так как даже малейшее движение сейчас требовало напряжения мысли и воли. Кир поднялся из-за стола и, упершись в него костяшками пальцев, обвел всех тяжелым взором. Когда он снова заговорил, в его голосе слышался кинжальный звон:
– Разыскивать в горах писидийские племена в мои намерения не входит и никогда не входило. Я не мог раскрыть вам всех своих планов, пока в Сардах меня подслушивали чужие уши. Надеюсь, что вы простите мне этот невольный обман. Не исключено, что даже сейчас меня могут слушать лазутчики, готовя на меня донос. Однако я все равно вас здесь собрал.
Он приостановился, чтобы хлебнуть из чаши вина. Клеарх за столом не сводил с него глаз, мысленно заклиная изыскивать нужные слова.
– Мой отец, царь Дарий, не был в семье старшим сыном. Трон он отнял у своего брата, придя к выводу, что тот не годится на царство. А корону взял, когда она была еще мокра от крови, и надел ее себе на голову. Мои славные воины…
В это мгновение он снова подался вперед, а сидящие замерли, затаив дыхание; он словно глядел на фреску (мысль, не лишенная приятности).
– Я полагаю, что мой брат Артаксеркс не годен для розового трона. А вас я собрал, обучил и привел сюда не в знак окончания, а в знак начала нового правления.
Персидские военачальники переглядывались, сверкая глазами и тихо переговариваясь в явном потрясении. Грекам пришлось изобразить удивление – настолько наигранно, что сложно было предположить, есть ли среди них хоть кто-то, для кого истинная цель похода такого войска на восток до сих пор неизвестна.
– Я главный военачальник всех войск Персии, – продолжал свое Кир. – Сын моего отца по прямой линии дома Ахеменидов. На данный момент я наследник трона. Случись нынче у Артаксеркса во сне удар со смертельным исходом, и тогда назавтра я уже царь! Прошу правильно меня понять. Я не узурпатор, не изменник отечества. Я и есть трон, я следующий царь. И как до меня мой отец, я вызываю своего брата на поле боя по своему древнему праву.
Клеарх, кивнув, одобрительно взревел; в этом к нему присоединились многие командиры эллинов. В знак поддержки царевича они стучали кулаками по столешнице, подкрепляя стук ободряющими возгласами; при этом они раскачивались, подбивая на решение тех, кто сидел рядом. То же самое делал и весельчак Арией, который сейчас шумно призывал внимать полководцу, не забывая между тем подливать в свой кубок. Большого удивления эта поддержка почему-то не вызывала. На небольшом пространстве зала противостоять такому порыву было затруднительно. И хорошо, если так. Произнося свою речь, Кир не осмеливался взглянуть на Оронта, хотя каждое сухожилие в нем напрягалось в желании повернуться в его сторону и посмотреть, как главный перс воспринимает его слова. Будучи самым старшим из военачальников, Оронт мог повести за собой всех персов. С другой стороны, своим отказом он мог посеять семя раздора, грозящее разрастись и удушить их всех.
– Будете ли вы оспаривать мое право на вызов? – грозно оглядел Кир присутствующих.
Говорящие на обоих языках греки дважды прокричали слово «нет», вливаясь в многоголосый хор поддержки. Все больше присоединялось и персов. Кир наконец набрался решимости взглянуть на Оронта и увидел, что и многие другие смотрят на него в ожидании, как им быть с ответом, чью сторону взять. В эти мгновения становилось ясно, что этот внешне спокойный, не атлетического сложения человек действительно ведет за собой людей. Они оглядывались на него так же, как оглядываются на Клеарха, хотя, кроме этой скромной правды, было непонятно, что вообще между ними двумя может быть общего.
Оронт смотрел на него расширенными глазами, закусив наискось губу. Было видно, что он не прозревал столь резкого поворота событий. Чувствуя, что над ним верх еще не одержан, Кир внезапно почувствовал себя тверже, понимая необходимость натиска. И над общим гулом он властно возвысил свой голос:
– Полемарх Оронт! В свой нынешний ранг ты возвышен рукой моего отца. Ты давал ему клятву верности. А значит, давал ее и мне как начальнику над всем войском!
– А еще твоему брату, – вымолвил Оронт.
Слова отчасти заглушал рокот голосов, но Кир своим напряженным слухом их уловил. Брови у него сурово срослись над переносицей, а лицо потемнело от гнева. Ранее Клеарх с Проксеном обсуждали, как быть с теми, кто откажется подчиняться. Возможный отказ Оронта царевич воспринимал с неохотой, но, стиснув зубы, поклялся, что при необходимости заставит упрямца переступить через себя. Возврат уже невозможен. А по местам все будет расставлено тогда, когда он станет царем. При необходимости он воздаст почести и семье Оронта за его смерть. Что поделать: еще один долг, еще одна нелегкая выплата.
– Ты оспариваешь мое право на вызов, полемарх? – процеживая слова, тихо спросил он.
Шум поубавился; было видно, как Оронт что-то хмуро обдумывает. Наконец он качнул головой и не с радостью, а скорее с усталой покорностью произнес:
– Нет, повелитель. Не оспариваю.
Зал взорвался ликующими криками, так что Кира едва не сбили с ног повскакавшие соседи по столу. Оронт среди их множества медленно отер лоб, на котором росой выступил мелкий пот. Царевича полемарх не отверг. Хотя уж лучше бы он поступил именно так: все было бы честно и в открытую, а рана от меча мгновенной и надежно смертельной. Теперь же он покинет застолье живым, не вызывая меж тем у царевича полного доверия. С напряженной улыбкой Кир поднял чашу во здравие людей, которых собрал нынче у себя. В чаше Оронта была вода, и вместе они выпили за царствующий дом Ахеменидов и за вызов царского сына. Вот и свершилось. Водой ли или вином, но все эти люди отныне с ним.
Царь Артаксеркс объезжал свои полки, тянущиеся в утренней дымке, насколько хватает глаз. Грудь его горделиво вздымалась от мысли, как он по мановению руки смог выставить в поле такую силищу – все равно что сокол взлетел с охотничьей рукавицы. По его слову они готовы истреблять всех и вся. Вот она, единственно настоящая сила в мире, и от обладания ею голова у него шла кругом, словно от перестоявшего в сулее сладкого вина.
По зову царя войско сходилось четырьмя частями, каждая размером с город. Это было не просто передвижение войск, а миграция народов. На север, юг и восток Артаксеркс разослал гонцов, но на запад слать не стал. Не хотел до срока настораживать брата. Вместо этого царствующий дом Ахеменидов начал собирать силу, равную по числу песчинкам в пустыне. Шествуя по просторам державы, она обгладывала местность, все возрастая и возрастая.
С высоты своего коня царь наблюдал приближение Тиссаферна. В попытке проникнуть старейшина витал с неотвязной назойливостью слепня, но его с холодной безучастностью отгоняли плотные ряды царских телохранителей. Артаксеркс уже жалел, что дал ему такой титул и сообразные ему привилегии. Царь сделал это забавы ради. Он знал, что его старый наставник неудобствам походной жизни предпочел бы тихую уютную жизнь при дворе. Артаксерксу же хотелось позабавиться и снова послать старика в поле, чтобы тот изобразил на своей физиономии притворную радость. Однако Тиссаферн взялся исполнять свои новые обязанности столь ревностно, что царь был не на шутку удивлен. Своим крылом войска старик командовал неусыпно и сурово, указывая на ошибки в размещении и построении с такой навязчивостью, что на него пожаловалось с полдесятка человек. Артаксеркс приказал их высечь, трое померли, и жалобы резко прекратились.
Артаксеркс понял, что уже устал от бесконечного числа вопросов касательно содержания всей этой солдатской прорвы: их еды, питья, оснащения, не говоря уже о скоте, лошадях, кузнях, колесницах, шатрах… о боги! Он прикрыл глаза. Брат уже и без того обходился ему в невообразимую сумму золотом. Но почему он, Царь Царей, должен этим заниматься? Он соколиный охотник. А его войско – сокол, гордо реющий в воздушных потоках.
– Повелитель! – издали докладывал Тиссаферн, лавируя так и эдак, чтобы быть различимым из-за плеч телохранителей. – Повелитель, сегодня утром прибыл один из моих гонцов! Птица, всевеликий!
Артаксеркс упорно не обращал на него внимания, желая только тишины. Его старому наставнику была присуща какая-то вздорная неугомонность; странно, что он не подмечал ее в нем раньше. Бывают люди с душой безмятежной и тихой, дающие окружающим мир и покой. Тиссаферн же постоянно стремился к обратному, оставляя за собой круги, подобные камню, брошенному в пруд сердитой рукой. Понятно, царь мог бы убить его одним лишь словом, брошенным кому-нибудь из караульных. Те вмиг отсекли бы надоеде голову или хотя бы язык. Впрочем, таким веяниям следует противиться. Он не ребенок, чтобы по своему капризу чудачить так или эдак. Его ответы должны быть взвешены, но тем ужасней должна быть сила их воздействия.
– Повелитель, птица принесла известия о твоем брате! – не сдавался Тиссаферн.
Царь наконец обратил на него взгляд. На солнце тучный старик побагровел и истекал потом, того и гляди лопнет или рухнет без чувств. Артаксеркс нетерпеливым взмахом велел его пропустить, и Тиссаферн не замедлил припустить трусцой, подобрав полы своей изрядно намокшей мантии. Царь терпеливо дожидался, когда слуги помогут старику расстелить коврик, на котором тот простерся, брезгливо припав толстым лицом к песчаной почве.
– Докладывай, мудрейший. Что там слышно о Кире?
– Повелитель, служба оповещения держит птичники в Сузах, Ларисе и Меспиле. Твой отец, будь он стократ благословен, отличался редкостной прозорливостью, обустроив все это. Его мудрость по-прежнему нас опекает. Разумеется, птичники есть и в Персеполе, поэтому по возвращении сюда птицы приносят вести из других краев. Сколь предусмотрительно это оказалось…
– Тиссаферн. Рассказывай мне только о моем брате. Я желаю отдохнуть и принять ванну, а не выслушивать здесь тебя.
– Конечно, конечно, всевеликий. Лишь одна из птиц добралась до места, но с ней пришло сообщение об огромном войске, возглавляемом царевичем Киром. Все, как я и предрекал. Оно направляется с запада, от Сард.
– Что еще? – спросил Артаксеркс.
Мудрейший смиренно потупил голову.
– Пока ничего, повелитель. Свитки на лапках птиц всегда крохотные, иначе они не поднимутся в воздух. Чудо уже то, что одному из голубей удалось проделать путь до Персеполя, миновав крылатых хищников, бури и злые чары пустынь. – Под острым взглядом Артаксеркса он спохватился и закончил быстро: – Больше ничего, всевеликий.
– Вот и хорошо. Этого достаточно. Нам известно, где он был несколько недель назад?
Тиссаферн ответил кивком.
– Хорошо. Я собрал целый океан людей. Такого у меня может больше не получиться, так что хвала богам. В этот единственный раз я созвал все ратные силы державы, кроме тех, что на западе.
Артаксеркс оглядел полки, шагающие по чаше пустыни, щурясь против пыли и стойкого ветра.
– Мне следует возблагодарить моего брата за то, что он позволяет мне пережить подобное. Я пытаюсь закрепить это в моей памяти с тем, чтобы вспоминать это во все времена, когда мне случится падать духом. Это… просто несравненный по своей славе, воистину царственный вид.
Тиссаферн поднял голову на размеренно шагающие ряды. В нем не было той романтической струнки, которая, словно по наследству, укоренилась в обоих сыновьях Дария. Но ему нравилась сама грубая сила этого войска. Такого громадного и многообразного больше не было во всем свете. Чего еще, казалось бы, надо? Он ехал бок о бок с Царем Царей на правое дело, уничтожать изменников. Сложно и представить что-либо более прекрасное в своей отрадности.
16
В пятнадцати парасангах от Тапсака местность всего за один день обратилась в пустыню. Кустистая поросль и травы начали сменяться все более протяженными участками иссушенного накаленного песка, а там и вовсе потянулись настоящие пустынные барханы, переливающиеся мерцанием под волнами зноя. Теперь ни одна речушка не пропускалась без наполнения каждого бочонка, бурдюка и фляги, что имелись в наличии. На картах реки изображались темными извилистыми нитями, хотя их точность оставляла желать лучшего, при том что от нее напрямую зависело выживание. В Вавилоне стоял конец лета, и жара была как живое существо с огненным языком, льнущим и лихорадочно облизывающим шагающую по песку колонну.
Чувствовалось, что настроение в рядах ухудшается, и именно с того времени, как они покинули Тапсак. Это ощущалось в тихих и сдержанно-тревожных разговорах солдат и в потаенно-лукавых взглядах, что то и дело скользили по Киру. Весть в конце концов разнеслась. Ни один из этих людей, ни эллин, ни перс, не вызывались и не получали оплату за то, чтобы противостоять несметному войску Царя Царей.
Чувство братства, развившееся за месяцы совместного обучения и участия в походе, разлезалось, словно истлевшая ткань. Вечерами при кострах нередко случались драки – так было всегда. Сочетание людей, монет, вина и оружия – всегда кипучая смесь. Но куда реже свары происходили непосредственно в пути. Особенно вопиющей оказалась схватка с сотнями дерущихся, в конце которой на земле остались лежать трое персов и четверо эллинов. Хуже того, люди затруднялись назвать, что послужило причиной этой заварухи. Сомнительно, что зачинщики и сами ее знали. Люди беспричинно злели день ото дня, и здесь, похоже, не обошлось без жары. О ее опасном воздействии на поведение предупреждал начальников Клеарх. Он лично обходил полк за полком и рассказывал угрюмо молчащим рядам, как нужно стирать с себя старый пот, а как обращаться с мозолями и нарывами на коже. Он давал тысячи указаний, намеренно отводя общее негодование на себя. Однако настрой только ухудшался.
Шесть дней прошли в пути на юго-восток в глубь пустыни. За это время канули последние следы и признаки людского быта и цивилизации. На седьмой день у подножия холма встала как вкопанная вся греческая пехота, а сзади на нее стали наталкиваться персидские полки. Вдоль рядов взад и вперед растерянно забегали командиры, рявкая приказы. Но воины стояли, как мулы, сжав челюсти и упершись пятками в землю. Персы, ступая в обход, недоуменно на них оглядывались, а через какое-то время остановились и они. Расползшаяся колонна стояла под полуденным солнцем, свирепо стегающим своими лучами неприкрытую кожу. Эллины не отзывались ни на команды, ни на угрозы. Вместо этого они сели, хотя песок на ощупь был обжигающим.
От головы колонны, впереди которой по-прежнему продвигались лазутчики, примчался на коне Кир. Он послал за Ариеем. По сравнению с Оронтом этот военачальник пользовался в персидском войске расположением. Ариея обычно сопровождали юноши, избранные им за красоту наружности. Один такой как раз ехал сейчас с ним рядом. Арией бросил ему поводья, поспешно слез с коня и сделал попытку пасть ниц, которую Кир сердито пресек.
– В чем дело, Арией? – с ходу спросил он. – Почему мы остановились? Я приказа не давал.
Арией все равно встал на колени, хотя песок немилосердно их жег. Терпение Кира истончалось.
– Отвечай! Встань и говори прямо.
Перс, поднимаясь, с мольбой смотрел маслянисто-черными глазами.
– Повелитель, я не хотел обидеть, – нервно-прерывающимся голосом сказал он. – Наши полки остановились потому, что первыми встали греки. Я так понимаю, они плохо восприняли новость. Насчет… того, куда мы идем.
– Что? – сорванно выдохнул Кир. – Они учиняют бунт?
Само это слово подразумевало суровейшую кару. Прежде в державе целые полки забивались, как скот, из-за неповиновения всего одного отступника. В результате вслух редко произносилось даже само это слово: как бы ни накликать беды. Лица Ариея и его спутника подернулись бледностью. Было облегчением, когда на иссушенной белой равнине все трое заметили приближение всадника. Обернувшись и приложив к бровям руки, на фоне солнца они различили, что к ним во весь опор несется Оронт. А сзади него, ухватившись за хвост лошади, бежал Клеарх.
– Полемарх, спешиться и поклониться мне, – сухо бросил Кир, не давая им раскрыть рта. – Это что, мятеж?
Лицо перса исказила гримаса, как от удара хлыстом, но спартанец упрямо тряхнул головой:
– Великий, дай мне вначале переговорить с ними, а уж потом будем это как-то называть. Да, волнение, безусловно, бродит. Но оно не сильнее, чем мы предусматривали. – Чувствуя на себе взгляды двоих персов, он переиграл фразу: – Не сильнее, чем ты предугадывал. Они думают, что их обманули и страшатся того, что их ждет: встреча с державным войском.
– Повелитель, – обратился Арией. – Только скажи, и я велю их всех высечь, а каждого десятого лишить перед строем мужского достояния. После этого отказов идти уже не будет, можешь быть уверен. Этим иноземцам нужно лишь напомнить, что ты наследник трона дома Ахеменидов. И ты имеешь полное право оспаривать первенство у своего брата.
Ишь ты, рот словно намазан медом. Чувствовалось, что Арией силится изъясняться по возможности кратко, но все равно получалось тягуче и неприятно.
– Если Арией попытается проделать такое с моими спартанцами, они уничтожат вокруг себя это войско, – мрачно сказал Клеарх.
– Так уж и уничтожат? – вызывающе переспросил Кир.
Клеарх воззрился с дерзкими огнями в глазах, все еще в негодовании от угроз, исходящих от персов. Первым взор отвел Кир. Он повернулся к Ариею:
– Для меня важно стронуть их с места. И без потерь ценных для нас людей. Пусть пока помаются под жарой. В конце концов, это они решили остановиться в разгаре дня там, где нет тени! Повремени несколько часов, а затем предложи им передвинуться в долину, что лежит впереди на наших картах. Тогда я пошлю им прохладной воды, а вместе с ней беспристрастного заступника, когда они будут готовы меня выслушать.
Клеарх вопросительно поднял бровь, и Кир, отворачиваясь, кивнул. Арией был превосходным наездником, но в беспристрастные судьи явно не годился. Если к эллинам послать этого красавца, даже при отмене его угрозы насчет оскопления, то безусловно последует новый бунт.
От греческого войска трусцой подбегал фессалиец Менон. Под правым глазом у него уже красовался свежий синяк. Следом за ним держался кряжистый Проксен с лицом, полыхающим то ли от солнца, то ли от растерянности. Оба поклонились, после чего перед царевичем заговорил Менон:
– Великий, перед тем как последует какое-то наказание, дай мне обратиться к моим людям. Мы знали, что возможно… отторжение. Они ведь подряжались биться с горными племенами, а не с войском персидского царя. Они невиновны в большинстве своем. Подозреваю, что их на это подбили спартанцы. Я уверен, лично мой полк готов примкнуть к тебе. Дай мне поговорить с моими лохагами, и я знаю наперед, что отделю моих молодцов от остальных.
– Твое лицо, – обратил внимание Кир, – что случилось?
– А, это? Да так, личное разногласие с одним из… В общем, долг в кости.
Ложь была такая очевидная, что Кир даже не стал уточнять.
Тут заговорил Клеарх:
– Похоже, Менон, к тебе разок приложились. Неужели ты думаешь, что и я не мог бы удержать своих спартанцев? Это не просто молодцы, которых я сам обучал и давал им плату, но люди, которых я знаю всю свою жизнь! У меня в этих рядах четверо двоюродных братьев и двое племянников!
– И что с того? Если б ты был уверен, ты бы, наверное, уже попробовал, – удивляя всех своей резкостью, бросил Менон. – Однако твои излюбленные спартанцы чего-то не отделяют себя от зачинщиков. Отказываются идти вперед, как и остальные. Я не видел, как они отходят от них в сторону, а ты? Так что сейчас, в кои-то веки, твое бахвальство насчет спартанцев неуместно.
Последовавшее молчание было удручающим.
– Я не держу сомнения, что вы оба можете вернуть своих людей в колонну, – строго вмешался Кир. – Тем не менее, если вам дать сейчас отправиться к своим для разъяснений, это увидят другие, и они вас наверняка убьют. Даже если вы правы, то получится, что в строй ваши люди вернутся не по своей воле. А у меня нет места вольнонаемным, которые чувствуют себя рабами!
Голос Кира крепчал, и оба военачальника задействовали его искру гнева для своей безмолвной борьбы.
Клеарх, глубоко посмотрев на царевича, опустился на одно колено (жест, при котором Менон страдальчески завел глаза), что не укрылось от остальных.
– Великий, мне уже случалось иметь дело с подобным. Позволь мне вначале поговорить со всеми ними. Если у меня не получится, то Менон может попробовать отозвать хотя бы своих. Может, ему это удастся, или они заспорят, и может вспыхнуть новое насилие. Но как бы там ни было, дай сначала поговорить мне с ними наедине.
– Перед спартанцами у них благоговение, – отметил Кир. – Все мои люди тебя знают, и все народы Эллады смотрят на тебя. Что это, всего лишь миф? Или есть в этом нечто большее, чем дисциплина и опытность во владении мечом?
Клеарх напряженно рассмеялся.
– В Спарте мы не ставим памятников и не ваяем статуй. У нас даже нет городских стен. Стены – это мы, великий. И мы же памятники. Я спартанец, и все спартанцы знают меня, потому что я из их числа.
Он пожал плечами, видя вокруг себя пустые непонимающие взгляды.
– Кто-то рожден, чтобы вести за собой. Кто-то просто рожден. В Лакедемоне мы закаляем не только тело, но и ум. – Он улыбнулся чуть задумчиво, словно что-то припоминая. – Надо сказать, что ум важен ничуть не менее. Поэтому позволь мне попробовать первому. Дай мне обсудить дилемму. Прежде чем кого-то отзывать, сечь или кастрировать. Прошу тебя. Ты же отправляйся со своими персами, обозом и всеми, кто примкнул, туда, где вы должны были остановиться в этот вечер. Я к вам туда приду. Даю тебе мое слово и призываю в свидетели Ариея. Если я не буду убит, то приду.
– Хорошо. Будь по-твоему, – ответствовал Кир.
Самой большой честью для спартанца было бы, если б царевич сейчас тронул коня и ускакал с таким видом, будто вопрос исчерпан.
Тем временем, пока шел разговор, колонну нагнали тысячи иждивенцев при лагере, и в растерянном удивлении оглядывали ряды сидящих воинов, которые о чем-то уже спорили и жестикулировали. Некоторые из женщин, проходя, окликали знакомых им мужчин, но те их или игнорировали, или досадливо отмахивались.
Взгляд Кира упал на табун из нескольких десятков лошадей. В едущих по бокам верховых он признал того молодого афинянина Ксенофонта и его напарника Геспия. Было видно, что лошади, а также стайка оборвышей-пастухов смотрятся вполне неплохо и по ходу обмениваются с сидящими греками новостями. Сцена, такая мирная и будничная, вдруг показалась вопиющей в своей ужасности. У Кира под плащом словно открылось прободение, из которого тошнотно улетучивались все силы. Он встряхнул головой, наддал коню пятками по бокам и тронул его вперед.
– Жду на закате, архонт, – сказал он через плечо. – Вино с меня.
Клеарх оглядел военачальников, что собрались здесь.
– Слышали царевича, друзья? – кивнул он вслед отъехавшему полководцу. – Идемте.
Менон хотел что-то сказать, но его, проходя, двинул плечом Проксен, и момент был утерян. В разных настроениях, от гнева до мрачного смирения, они разошлись, оставляя спартанского тирана наедине разговаривать с греками.
Клеарх стоял один перед полчищем. Поначалу в него, чтобы отогнать, изредка кидали камни, но затем его соплеменники спартанцы положили этому конец жесткими окриками и жестами. Именно Клеарх вмешался, чтобы в этих жгучих песках между ними не развязалась драка. Под свирепым зноем солнца люди, уже вконец иссушенные, тяжело, по-собачьи, дышали.
– Воины, – успокаивая, обратился он, – соберитесь рядом, ближе, и послушайте меня. Но только не проливайте кровь в этом и без того гиблом месте. Здесь нет ничего, кроме иссохших костей. Хотели бы вы остаться здесь на веки вечные? Думаю, что нет. Так отчего же вы кричите и грозитесь людям, которые еще вчера были вам как братья?
В ответ всколыхнулся разрозненный гул голосов, но Клеарх отрадно заметил, что люд начинает придвигаться ближе. Голос у него был зычный, сильный, которого, он знал, хватит и на тысячи, но только если они соберутся вокруг, как на театральное действо. Он ждал, пока воины соберутся ближе, подзывая их жестами обеих рук, а сам при этом думал. Царевича видно не было, не было и Оронта с Ариеем. Ушли и прочие военачальники, оставив спартанца увещевать воинство, чувствующее, что его предали. Оставалось лишь соображать, как это сделать.
Поначалу рокот, выкрики и шевеление в людской массе преобладали. Кто-то уже сокрушался в содеянном, другие, наоборот, окрепли в своей решимости, продиктованной во многом страхом. Эти спорили на крике, божились и грозили друг другу, но постепенно вокруг Клеарха образовывалась сфера молчания, которая начинала разрастаться, пока не охватила всех. Спартанец стоял перед людьми, а по его лицу стекали слезы. Когда воцарилась тишина, он резким движением, чуть ли не с гневом, вытер их.
– Ну что? Думали, спартанец не умеет плакать? Сейчас мне самое время это делать. Царевич Кир стал моим другом, когда я маялся в изгнании, отвергнутый собственной страной как изгой. Ну а что же теперь? Поскольку вы не желаете идти с ним, я вынужден делать выбор. Вам я командир; ему я друг. Я должен либо порвать нашу дружбу и отправиться с вами, или иже нарушить свою верность по отношению к вам и пойти с ним. Вы поставили меня в немыслимое положение.
Люди подавались вперед, напирая друг на друга; кто-то горячо спорил приглушенными голосами.
– Я знаю, что должен выбрать вас, – поведал он. – Да! Как я буду находить в себе силы рассказывать кому-нибудь, что завел эллинов в пустыню и бросил их перед войском из местных солдат? На это я пойти не могу. Ну а поскольку вы мне больше не подчиняетесь, я буду просто идти рядом. Сносить и терпеть все, что будет выпадать на вашу долю, находясь подле вас. Меньшего я сделать не могу. Я привел вас в это место. Я вас обучал и бегал с вами. Вы мой народ, мои друзья и союзники. И я вас никогда не брошу. Особенно теперь.
Кто-то его подбадривал, другие своим видом выражали обеспокоенность. Клеарх не удивился, когда с полдесятка человек встали, желая ему ответить, как будто они находились на агоре в Афинах. Афиняне не могли даже слышать, что небо синее, без диспута на эту тему с соответствующими выводами. За это он их и любил, хотя порой от этого веяло неким безумием.
Вокруг него столпились фессалийцы. Самые сердитые были из числа тех, что пришли с Меноном – то ли из-за его неважнецких качеств вожака, то ли из-за наличия среди них подстрекателей. Они, безусловно, не ждали, что спартанец окажется на их стороне, и теперь лучились улыбками и предложили ему несколько глотков теплой воды. Клеарх терпеливо выслушал троих ораторов из греческих полков, хотя они просто пересказывали свое ощущение обманутости. Один молодой человек завел всю песню с самого начала и повторил, что царевич просил их драться с горными племенами, а не с персидским царем. Клеарх кивал на все его сентенции, хотя в душе понимал, что этот парень недалек умом.
– Тем не менее мы дошли до этой черты, – произнес наконец Клеарх, когда юный грек, казалось, окончательно запутался в своих доводах, – и теперь находимся здесь. Обратно пойти мы не можем, как не можем исправить ничего в прошлом. Мы стоим здесь, в этом месте, без тени под палящим солнцем. И больше всего нас должно волновать, пожалуй, отсутствие припасов. Если мы порвем свою договоренность с царевичем, нас сегодня не ждут ни еда, ни вода. Я не представляю, чтобы он нам на дорожку закатил последний пир! Нет, воины. Царевич мне друг, как я уже говорил, и большой союзник Эллады. Его золото будет взращивать у нас дома сыновей и дочерей на поколение вперед. Но если ему волею судеб суждено стать моим врагом, то я предпочту находиться от него подальше. Числом мы уступаем ему в десяток раз, и я не думаю, что он отпустит нас со всем, что нам необходимо для пересечения пустыни.
В желании говорить повскакали новые люди. Клеарх кивал без разбора, когда они призывали вернуться в Элладу или купить провизию на лагерном рынке. Он лишь надеялся, что эти дебаты слушает кто-нибудь из более рассудительных людей. По его опыту, важнее всех обычно оказывались те, кто не спешит высказаться; те, кто все досконально продумывает и отличается лучшим пониманием, чем те, кого он про себя именовал «матросами» – людьми ветра. С радостью для себя он не обнаруживал среди ораторов спартанцев, которые смотрели на него и выжидали. В одном Менон не ошибся: при нужных обстоятельствах спартанцы могли повести за собой остальных. Вместе с тем одно неверное слово могло распалить старые страсти, особенно среди народа Афин. История Эллады почти целиком состояла из войн, в ней глубоко коренилось застарелое соперничество.
Клеарх позволил им говорить до пересыхания горла на послеполуденной жаре, добавляя свои собственные доводы всякий раз, когда у них иссякали аргументы и размашистые жесты. Он надеялся, что мало-помалу до них дойдет, насколько ничтожен их выбор. Никакого бунта они и не планировали, а просто выплескивали в резком действии свое негодование, как делают иной раз малолетние несмышленыши, пиная с досады дверь.
Правда в том, что уйти незамеченными они не могли – а если были бы замечены, то на них почти наверняка бы набросились те самые люди, с которыми они шли бок о бок на протяжении нескольких месяцев. Перспектива, что и говорить, незавидная. Более того, даже уйдя, они не имели бы при себе ни пищи, ни воды, ни средств для их переноски. Так что будущее их ждало довольно мрачное. Клеарх пункт за пунктом разъяснял это им, при этом неустанно повторяя, что он на их стороне. Возражение он высказал лишь раз, когда самые резкие и опрометчивые возымели желание атаковать Кирово войско с целью разграбить обоз.
На это Клеарх покачал своей лобастой головой, сказав, что в таком явном вероломстве участвовать не будет; лучше уж поможет избрать им нового вожака. Так что решение не прошло, а диспут продолжился дальше.
– Друзья мои, славнейшие из славных! – воззвал наконец Клеарх, когда солнце зависло над горизонтом, а тяжкая жара начала понемногу спадать. Ей на смену тут же пришли полчища гнуса, обсевшего пропотевшие тела. С бесшумной яростью насекомые впивались в обожженную кожу, поедом ели глаза.
– Не мне вам рассказывать, что жизнь наемного солдата всегда сопряжена с опасностью, а зачастую и со смертью. Таково уж наше ремесло, хотя никто из нас не возражал бы переложить это на кого-нибудь другого. – Клеарх подождал, пока над толпой стихнут смешки. – Может, вы и не ожидали противостояния с братом нашего царевича или с Бессмертными, коих мы, помнится, однажды уже били при Платеях и Марафоне. За опасность службы обычно полагается надбавка в полцены, не так ли? То есть не дарик, а полтора дарика в месяц. Вам, небось, такую цену и не предлагали?
Все согласились, что столько золота им действительно не сулили. Многие при упоминании такой суммы призадумались. Опытный ремесленник, и тот получает от нее едва ли пятую часть. Для большинства наемников это означало трех-четырехгодичную оплату за один-единственный поход. Ждать пришлось считаные секунды; с места встал какой-то коринфянин.
– А что, если нам послать к царевичу людей с требованием надбавки за опасность службы? Полтора дарика на человека в месяц? Он согласился бы на это?
Сотни голов дружно повернулись к Клеарху в ожидании ответа.
– Уверен, что да, – помолчав, сказал спартанец. – Но он не простит, если вы возьмете плату, а затем откажетесь с ним идти. Если вы на это согласны, то и остановимся на этом. Клянусь, что победу мы вырвем. Я приведу вас к ней. Мы эллины. И нам хорошо платят потому, что нам нет равных. Да, и еще одно: лучше не упоминать о размере такой надбавки персам.
Эти слова вызвали громовой смех, на который он ответил улыбкой. Чувствовалось, что «бунт» миновал. Эллины полк за полком поднимались на ноги и отряхивались от песка. Дело было не столько в золоте, сколько в желании излить свое негодование, а Клеарх его выслушал. Когда он призвал спартанцев вперед, те быстро сформировали строй. Поначалу они избегали смотреть архонту в глаза, но уже стояли, готовые к маршу.
– Спартанцы, сомкнуть ряды! – скомандовал Клеарх. – Выше головы!
Он дождался, когда они начнут смотреть на него, и встретил их глаза твердым, уверенным взором.
– На поле битвы нам предстоит сражаться за царевича Кира, против его неправедного старшего брата. Есть ли среди вас такие, кто предпочел бы отправиться домой?
В ответ тишина, лишь вечерний ветерок обдавал обожженные икры благостной прохладой. Спартанцы стояли в строю с товарищами своей юности. Бежать? Уж проще отрастить крылья и лететь, как птицы.
Клеарх склонил перед строем голову движением, напоминающим поклон. Для того он и вызвал их вперед – а еще из убежденности, что спартанцы всегда должны идти во главе и вести за собою других. После всего этого никаких разговоров об измене среди них не будет.
– Вместе со мной идем к лагерю, – объявил он. – А от вашего имени я пойду к царевичу. И оговорю для вас всех надбавку за опасность. Страха за сегодняшнее не держите. Я добьюсь для вас милости.
Сказанное им отчего-то не казалось несбыточным. Клеарх стоял и выстоял перед рассерженной толпой. А свой путь по пескам продолжил с воинством эллинов, шагающих следом безупречно ровными рядами.
Кир не находил в себе сил сидеть и ждать в лагере над миской похлебки с куском черствого хлеба. В самом деле, до ожиданий ли тут, когда решается участь сей отважной эпопеи! Поэтому он велел Парвизу привести ему свежего коня, дав верному Пасаку отдых. Ксенофонт с Геспием привели ему поджарого гнедого мерина, гарцующего на длинном поводе между их собственными лошадьми. Кир подметил, что подручный конюшего теперь держится верхом более уверенно, двигаясь вместе с лошадью.
– Ты, я вижу, ездишь лучше, чем когда я видел тебя в первый раз, – похвалил царевич.
Юноша сконфуженно кивнул. Спешившись, он поклонился под углом, подразумевающим, что перед ним, по меньшей мере, царственная особа, если не царь небольшого царства. Кир со вздохом сел на коня.
– Один из лазутчиков заприметил к востоку отсюда страусов. С собой я думаю взять дротики и поохотиться, пока архонт Клеарх возвращается в лагерь. Как только он объявится, немедленно пошлите кого-нибудь за мной.
Царевич оглядывал горизонт в поисках хотя бы одной из этих внушительных быстроногих птиц, бродящих подобно оленям и покрывающим огромные расстояния. Отсюда они, скорее всего, уже ушли, но ему хотелось проехаться верхом. Он ожидал, что персы, заслышав о его противостоянии брату, доставят ему хлопот. А тут еще этот выпад отказавшихся от похода греков, крушащий все его планы. Такой удар сложно и перенести.
Наперерез через лагерь к нему скакал Арией. Не обращая внимания на юного афинянина с поводьями, он соскочил с коня и распростерся.
– Повелитель, я посылал нескольких дозорных пронаблюдать за греками, – доложил он. – Только что возвратился один из них. Он говорит, что они идут сюда ровным строем как ни в чем не бывало.
Военачальник поглядел на наблюдавшую за ними пару. Геспий таращился так, словно слышал какую-то тарабарщину, но второй внимал вдумчиво. Арией повернулся к царевичу, демонстративно загораживая греков.
– Повелитель, а вдруг они настроены враждебно? – спросил он с тихой озабоченностью. – Может, поднять против них лагерь? Что, если они идут посягать нашу воду и припасы?
– Клеарх у них как пленник? – сухо осведомился Кир.
– Не похоже, повелитель. Дозорный сообщил, что он шагает рядом со строем.
– Тогда будем приветствовать их, как прежде. Вели подать в мой шатер вина. Я обещал спартанцу целый бурдюк, если он приведет их всех. А страусы могут подождать до завтра.
17
Наутро Кир очнулся с гудением в голове. Перед глазами стояло кожаное ведро, от которого он с отвращением отвернулся. За ночь в обществе Клеарха он упился до бесчувствия. Припоминание, что он тянул на придворном персидском возвышенную песнь, заставило его издать стон ужаса. Спартанец, помнится, к пению не присоединился. Он сказал, что в Спарте поют только при восшествии нового царя или приближении смертного мига. Из смутных обрывков вечера становилось понятно, что архонт в сравнении с ним был не так уж пьян, хотя пил много и ровно, как истовый кутила. «А ну постой…» – похолодел Кир от мысли. Он что, дурачась спьяну, в самом деле изображал рев осла, валясь со смехом на спартанца? О боги, хоть бы это было дурным сном.
Откинув ковер в углу шатра, Кир, не разлепляя набухших век, помочился в песок. Жара здесь припахивала отхожим местом, а в воздухе сонно кружили мухи. Пересилив рвотный позыв, он мысленно себя обругал. До вечера самочувствия теперь не поправить. Вчерашними излишествами погублен целый день. Надо будет поесть, выпить побольше воды и несколько часов до пота погонять верхом, чтобы в животе улеглось. Интимных прибежищ среди пустыни не было, а раскидывать всякий раз палатку для того лишь, чтобы присесть над ямкой в песке, все же излишне. Растревоженное нутро в долгом походе становится одним из уязвимых мест – момент, не так часто упоминаемый при ратном обучении. Кир уповал на то, что не позволит себе осрамиться. Отец как-то сказал, что полководцам войско прощает многое, кроме двух вещей. Второе из них трусость.
Слуги омыли царевича в широкой лохани, после чего он дал себя обернуть в прохладную ткань, а его побрили, зачесали и завязали сзади волосы. После этого он возлег на складной стол, где ему размяли мышцы, а затем голым сел на скамью, а ему поднесли исподнее и оружие с доспехами.
За завтраком от жирноватых фиников и белого сыра он отказался. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Кир появился из своего шатра. Еще заканчивая одевание, он слышал, как над лагерем раздались властные голоса, понукающие людей живее шевелиться. Шум и суета росли, а Кир, преодолевая в себе недомогание, вышел наружу, щурясь на горизонт.
Впереди, насколько хватает глаз, тянулась пустыня, однако холмы и барханы скрывали собою долины, обветренные шпили камней, реки с зелеными берегами и даже селения. А потому, несмотря на кажущуюся уединенность, горизонт являл иную картину.
Где-то за ним тянулись к небу темные нити дымов. Кир вел людей на восток, неуклонно держа путь на отцову столицу. Никакое вражье воинство незамеченным к Персеполю подойти не могло, так что об их приближении Артаксеркс в конце концов был бы извещен. Но царское войско было настолько огромно, что собрать его не то что за день, а и за месяц было затруднительно. Кир в задумчивости закусил губу. Даже четверть воинства Бессмертных была крупнее всех сил, которые Кир привел с собой. Успех его замысла зависел от того, чтобы ни в коем случае не противостоять разом более чем одной отборной части войска, вставшего заслоном перед его братом. Кир догадывался, что означают эти дымы, поэтому не удивился, когда к его разбираемому на дневной переход шатру подъехал на черном жеребце Оронт. Спешившись и отдав свой меч слуге, он лег лицом на землю и не вставал, пока царевич не приказал ему подняться и доложить обстановку.
– Повелитель, у меня есть вести от разведчиков, что впереди. Самые дальние сообщают о сожженных посевах и брошенных селениях. Если идти весь день, к нынешнему вечеру мы выйдем на первые из них.
Кир молчал, с тяжелой пристальностью глядя на нити дымов, с такого расстояния тонкие, как волоски.
– Тиссаферн, – произнес он в конце концов. – Похоже, мой старый друг знал больше, чем я рассчитывал.
Он глянул на Оронта, но тот в присутствии царевича озаботился не выказывать никаких чувств. Кир, начиная от Сард, быть может, и догадывался о его крайних намерениях, но персидские военачальники их, конечно же, не прозревали.
– Повелитель, я думаю… – Оронт замялся.
– Что ты думаешь? Говори откровенно.
– Если твой брат Артаксеркс и вышел в поле, то до нас он еще не дошел. Царские войска, будь они близко, мы бы уже углядели.
– Продолжай, – велел Кир.
Эти слова Оронта как будто укрепили, и он заговорил с большей уверенностью:
– Селения и поля сжигаются перед наступающим войском – таковы обычные указания военачальников. Делается это для того, чтобы привести сильного врага в состояние слабости. Не указывает ли это на то, что у твоего брата нет сил, нужных для данной местности, во всяком случае пока?
– Возможно. Но если ты и прав, я не вижу, чем это может обернуться мне на пользу. Без пополнения запасов в пути мы располагаем провизией на сколько – на неделю? Девять, десять дней? Будучи опытным военачальником, ты знаешь, что для противостояния такой тактике существуют определенные приемы. Если местность по ходу нашего движения подвергается поджогам…
– Нужно сменить направление, – закончил за него Оронт. – Хотя я придерживаюсь своего, повелитель. Если войско царя Артаксеркса еще не подошло, мы, скорее всего, сойдемся с силой гораздо меньшей. Речь может идти всего о нескольких сотнях поджигателей, действующих впереди наших разведчиков, и им велено нас ослаблять и наносить как можно больше вреда. Если мы сумеем их перехватить, мы сможем положить этому конец или, во всяком случае, замедлить их, ограничив ущерб, который они способны нанести.
– Ты о лазутчиках? – спросил Кир. – Их порубят на куски, стоит мне отдать приказ. Большинство из них просто мальчишки.
Оронт улучил момент, чтобы встать на колени и вновь простереться перед царевичем.
– Повелитель, дай мне сотню из своей охраны очистить наш путь от этой нечисти. Всего сотню, которая станет брошенным твоей рукой копьем. Я поскачу вперед наших разведчиков и застигну тех негодяев внезапно на их поджогах и грабежах. Чтобы уничтожить запасы, нужно время. Так что я успею их схватить, я уверен в этом.
Такого пыла в Оронте Кир не замечал никогда. Он буквально трясся, поедая глазами даль.
– Встань, полемарх, – возгласил он, блестя глазами (эх, если бы их сейчас видел Клеарх). – Будь по-твоему. Скачи далеко и быстро, а ко мне возвращайся с головами тех, кто жжет селения на землях моего отца.
Оронт поднялся, припав к руке царевича и коротко притиснув ее к своему лбу.
– Ты оказываешь мне честь, повелитель! – истово воскликнул он.
Кир повернулся к подведенному слугами коню, возле которого поставили приступку. По-прежнему чувствуя в себе похмельную грузность, царевич с удовольствием воспользовался этим приспособлением и, с надсадным кряхтом перебросив ногу через конский хребет, устроился и взял поводья.
– Ты говоришь, что моего брата поблизости быть не может. Но и сказать, что он во многих днях пути отсюда, тоже нельзя. Войско я поведу самым спорым шагом. Нынче же вечером пошли ко мне гонца с новостями, которые узнаешь. А до этих пор пусть Ариман не глянет в твою сторону, и удача да сопутствует тебе.
Колонна формировалась в те минуты, что Оронт разговаривал с царевичем, и ждала приказа выступать. Кир поехал в ее голову, где ждал Клеарх, на вид свежий и отдохнувший. Он смотрел за их разговором и взглядом проводил Оронта, когда тот вскочил на коня и галопом понесся вдоль фланга, взмахами призывая к себе людей из личной охраны Кира. Напрямую они Клеарху не подчинялись, хотя он так или иначе нес за них ответственность. Архонт сузил глаза, наблюдая, как Оронт набирает себе всадников и трогается с ними в дорогу.
Спартанец подошел к двум молодым афинянам, с которыми успел познакомиться. Старший из них, Ксенофонт, сейчас что-то сердито говорил, посылая вслед конным персам оскорбительный жест. Имени второго конюшего Клеарх не припоминал.
– Я вижу, персидский начальник взял ваших свободных лошадей, – сказал Клеарх. – Зачем они ему понадобились?
При виде того, кто к нему обращается, Ксенофонт едва не поперхнулся. Кланяясь и откашливаясь, он попутно дал подзатыльник своему молодому подручному, который стоял и жалостно лупил глаза.
– Архонт Клеарх, стоять перед тобой мне за честь, – выговорил наконец Ксенофонт. – Твои заслуги идут впереди тебя.
– Включают ли они еще и терпение к тем, кто не отвечает на мои вопросы? – спросил Клеарх.
Ксенофонт потряс головой.
– Полемарх Оронт желает ехать впереди наших основных сил, разыскивать налетчиков, что палят землю впереди нас.
– Так почему же ты зол?
– Он… Полемарх не пожелал, чтобы я сопровождал его. Сказал, что не возьмет с собой греков, к которым у него нет доверия.
– Ах вон оно что, – произнес Клеарх, задумчиво потирая подбородок.
Оронт был не из тех, кто очертя голову бросается с кем-то биться. Такое скорее присуще Ариею. Что-то во всем этом спартанца смущало.
– Сколько лошадей у нас теперь осталось? – спросил он.
Ксенофонт раздраженно выдохнул.
– Включая двоих коней царевича Кира, сорок шесть. Потому я и досадую. Ведь я как раз заведую лошадьми – а что мне этот перс теперь оставил?
Клеарх кивнул, глядя куда-то вдаль. Надо задать вопрос царевичу. Хотя возникало тоскливо-беспомощное ощущение, что уже поздно.
Видя подъезжающего персидского всадника, Кир ладонью прикрыл от солнца глаза. Между тем всадник остановился возле телохранителей царевича, не осмеливаясь двинуться дальше.
– Молю слова, повелитель. О моем двоюродном брате Оронте.
Заслышав это, Кир повернулся.
– Он сейчас отбывает по моему повелению. Что у тебя? – спросил он строго.
Видя напряженное лицо всадника, он нетерпеливым кивком подозвал его к себе.
Сходства с Оронтом у перса было немного; разве что нос. Под холодным пытливым взглядом царевича всадник спрыгнул с лошади и в коленопреклоненной позе протянул свиток со знакомым Киру оттиском: колос и вздыбленный конь – символы дома Оронта, которые тот носил на перстне с резным сапфиром. Печать на свитке была по краю надломлена. Ум у Кира заныл в мучительном предчувствии.
– Какая такая важность привела тебя ко мне? – спросил он, холодея сердцем от возможного ответа.
– Повелитель, мой двоюродный брат послал меня с этим к царю Артаксерксу. Здесь говорится, что из твоего войска он приведет отряд всадников, и умоляет Царя Царей не карать его, когда он перед ним предстанет. Этот человек одной со мной крови. Но если б я только мог, повелитель, я бы в великом стыде своем отрезал все скрепляющие нас родственные узы.
Кир похолодел. Он ощутил на себе взгляд начальника стражи, который тотчас смекнул, что нужно делать. Кир, в свою очередь, знаком велел командирам прекратить всякую подготовку к движению. На всю эту сумятицу колонны из отдаления оглянулся Оронт. Несмотря на отдаленность, Киру показалось, что он различает на лице изменника страх и ужас уже по тому, как тот воровато съежился на коне.
Еще оставался момент, когда Оронт мог бы рвануть прочь от остальных, но в зыбучих песках он бы далеко не ушел. Начальник стражи уже выслал людей преградить ему дорогу на случай бегства; между тем Кир тяжелым пытливым взглядом смотрел, когда до изменника дойдет, что на свободу ему уже не вырваться. Внезапно голова военачальника поникла, и он сидел, пустым взором созерцая свои смуглые узластые руки, сжавшие поводья. На глазах у Кира изменника заставили спешиться, а руки связали. Подоспевший Арией длинной веревкой привязал его к подседельнику своего коня. Слышать их диалог Киру мешало расстояние, но он пообещал себе, что к вечеру вызнает каждую сказанную ими фразу. Наконец колонна нехотя пришла в движение; многие головы в ней оборачивались поглядеть на высокопоставленного изменщика, бредущего сейчас с потухшим горестным лицом.
Царевич Кир поставил своего коня сбоку колонны, где мимо него тысяча за тысячей проходили воины, и ждал момента, когда с ним поравняется Ариэль, ведущий на привязи своего новоиспеченного невольника. Поначалу царевич думал проводить их взглядом, полным надменного презрения, но почувствовал, как в душе взбухает гнев. Едва уловимым движением пальцев он подозвал Ариея к себе.
Клеарх, а с ним Проксен и Софенет, подошли ближе, чтобы наблюдать. Приблизился и Менон, но их со спартанцем отнесло по ходу колонны, поэтому он оказался дальше других. Вместе с тем все они были заинтригованы деянием Оронта и тем, как с ним теперь поступит Кир.
Арией, чувствуя на себе их взгляды, картинно спрыгнул со своей серой кобылицы. Он мог дать Оронту сохранить достоинство, но вместо этого дернул за веревку так, что тот растянулся перед принцем на животе. В мгновение ока его соплеменник уже стоял над ним. При попытке Оронта подняться он подставил ему к горлу теплое острие ножа, и тот замер, сознавая, что его жизнь сейчас измеряется одним лишь словом нелюбимого им царевича или же гневливой выходкой яркого воина, которого он исконно недолюбливал. Оронт понял и то, что способен соблюдать спокойствие. Он сам много раз наблюдал его в тех, кто глядит в глаза своей смерти. Борения перед концом не было. Оронт выдохнул с мучительным облегчением человека, что готовится отойти в вечность более-менее с достоинством.
– Нет ли у тебя сожалений, Оронт? – неожиданно вопросил Кир. – Или каких-то доводов?
Военачальник, возглавлявший некогда полки царской семьи, мутно повел взглядом туда, где, опустив глаза, стоял его двоюродный брат.
– Похоже, повелитель, я доверял человеку, который того не заслуживал.
– Значит, хоть в одном мы с тобой едины, – бросил ему Кир.
Оронт, пожав плечами, поглядел на восток.
– Повелитель… А впрочем, неважно, – вяло и безразлично выдохнул он.
Кир смотрел на него с холодной пристальностью.
– Притеснял ли я в чем-либо тебя, начальник войска?
Оронт бессловесно покачал головой.
– Тогда как истолковать это предательство? Или я не сын своего отца? Разве ты не присягал служить моей семье верой и правдой?
– Нет, повелитель, – сухим измученным голосом ответил Оронт. – Я присягал служить державе. Об этом я думал, приступая к служению твоему брату, царю. Я… Мне жаль. Я долгое время взвешивал свои поступки. Мне не хотелось стоять против тебя, мой царевич. От тебя я знал только добро. Люди восхваляли тебя. И все же… Я чувствовал, что не могу так продолжать. – Он поднял голову – в его глазах горели слезы. – Повелитель, свой выбор я сделал. И принимаю все последствия.
Кир долгое время молчал. Он знал, что должен отдать приказ, и жизнь этого человека на излете. Этого от царевича ждали все, кто на него смотрел. И тем не менее мысленно он изыскивал возможность оставить Оронта в живых. При всех дрязгах вокруг своего имени, он был прекрасным солдатом и пользовался уважением в полках. Прозвучи сейчас хоть одно слово, убеждающее царевича в его верности, он бы тотчас распорядился вернуть этого человека в строй. Кир посмотрел на Клеарха, глазами вопрошая слов, которых сам не мог произнести. Но тот встретил его взгляд молчанием, и Кир, помедлив, тягостно вздохнул.
– Убрать этого падшего с глаз моих, – повелел он своим телохранителям. – Пусть смерть его будет быстрой, с одного удара, – и оказать ему честь, дав время к ней подготовиться.
Он обернулся к своему безмолвно взирающему пленнику. Вынув нож, Кир рассек веревки на его запястьях, и Оронт принялся их растирать.
– Повелитель, могу ли я перед казнью написать своей семье? – смиренным и будничным тоном спросил он.
Кир подавил в себе вспышку гнева, вполне способную прикончить Оронта прямо тут, на месте. Хотя особе царской крови, а тем более сыну царя, так поступать не пристало. Он быстро овладел собой.
– Разрешаю, – сказал он, навсегда отворачиваясь от обреченного.
Всем был слышен вздох Оронта, смиряющегося со своей участью. В эти секунды он встал на колени, и, хотя смерть уже осеняла его своим крылом, в последний раз простерся перед царевичем дома Ахеменидов.
– Военачальник Арией! – не оборачиваясь, позвал Кир.
Тот, готовый к приказаниям, поцеловал песок еще прежде, чем царевич произнес следующее слово. Кир повелительно кивнул:
– Ставлю тебя начальствовать над персидскими силами. Вторым при тебе назначаю этого благородного мужа, двоюродного брата Оронта. Распоряжения давать будешь всем, кроме эллинов, а сам будешь слушаться приказов Клеарха. Ясно ли тебе это? Будешь ли служить мне верой и правдой во исполнение сказанного мной?
– Всей душой, повелитель, – почтительно ответил Арией. – И эту честь унесу с собой в могилу. Клянусь, что моей верной службой ты будешь горд.
– Пускай она будет исправней, чем у твоего предшественника, – мрачно усмехнулся царевич.
Он повернул коня, успев заметить, как Клеарх склонил перед Оронтом голову. Проксен с Софенетом поскакали с царевичем назад вдоль колонны, за ними на расстоянии следовал Менон. Греки были мрачновато-серьезны, как подобает в связи с утратой товарища по оружию, хотя несогласия с решением царевича никто из них не высказал. К вечеру колонна должна была углубиться в пустыни. Телу Оронта суждено было остаться позади, брошенным без погребения под палящим солнцем на пищу хищным птицам и потребу зверям.
Тем вечером в лагере царевич Кир пришел к кострам спартанцев разделить с ними вечернюю трапезу. Увидев, насколько скуден их рацион, он запоздало пожалел, что не прихватил ничего с собой: единственной усладой здесь была холодная вода. Однако встретили его приветливо и с достоинством; вместе с лохагами он, скрестив ноги, сидел на жесткой земле, бок о бок с Клеархом. На ужин им подали по миске жиденькой зерновой каши, немного творога, козьего сыра и по засушенной морщинистой фиге.
– Оронт намеревался поскакать к моему брату, – сказал Кир, неотрывно глядя в мелковатый костер. Он думал попросить, чтобы в огонь подкинули поленьев, но вспомнил, что даже это непозволительная роскошь: в этих голых местах даже каждый кусок дерева приходилось тащить с собой. Жизнь здесь – без воды, без тепла в ночном мраке – с трудом пробивалась из небытия. К ночи холодало уже настолько, что начинали постукивать зубы.
– Он думал, что царское войско уже где-то неподалеку. Мне он предложил услать его вперед, расправляться с теми, кто выжигает посевы и портит колодцы. Мысль была хорошая – собственно, она таковой и остается.
– Предоставь это мне, великий, – вызвался Клеарх. – Я вышлю кое-кого из моих молодцов. А может, того афинянина, что так озлел, когда у него забрали лошадей.
– Возможно, – растерянно согласился Кир. – Нам нужны глаза далеко впереди, чтобы знать, где раскидывает шатер мой брат. Но… я не знаю, как мне быть с теми, кого отобрал себе Оронт. Может ли статься, что измена проникла и в ряды моей охраны? Как-то даже не верится. И как я могу им теперь доверять?
Вместо ответа Клеарх подтянул к себе из-за спины суму и вынул из нее фляжку. В желтоватом свете костра она казалась сделанной из слоновой кости, а ее поверхность покрывали символы в виде фигурок. Может, она привлекалась для какой-то игры или забавы – в полутьме разобрать сложно.
– Остаток моих запасов, – ухмыльнулся спартанец. – Возможно, самая подходящая для этого ночка. На-ка, великий, хлебни.
Царевич принял фляжку и сделал крупный глоток. Горло ожгло так, что он выпучил глаза.
– Это что, из винограда? – враз осипшим голосом спросил он.
– Да так, из кожицы, – снова ухмыльнулся Клеарх.
Тоже отпив, он со смаком отер губы.
– Оронт, скажу я тебе, в самом деле вел за собою людей. Я знаю, он был в родстве с одним из ваших знатных семейств. Но возвысился он не из-за этого, а потому, что был быстр умом и хваток. А за такими как раз и идут.
– Ты поэтому ему и поклонился? – задал вопрос Кир.
– А, ты заметил? Нет, великий. Я просто отдал ему честь за то, как он встретил смерть. Ту весть он принял как спартанец. Свойство в людях довольно редкое. Бывает, что и у нас взрослые мужчины сетуют эфорам на то, что их укусила чья-то собака. Как дети! Мы здесь воины, великий. Каждый из нас понимает, что завтрашний день для него может оказаться последним. Или послезавтрашний. Солдату совсем неподвластно время или то, когда и где он умрет. Он волен лишь избрать, каким образом ему принять свою смерть.
Какое-то время оба сидели молча, передавая друг другу фляжку, пока она не опустела. Жжение в горле ослабло, став даже приятным.
– А остальные?
– Остальные считали, что выполняют твои указы. Я бы сказал, не больше и не меньше. Кто-то учится чтению, овладевает грамотой – я не думаю, что это врожденное наше стремление. Большинство же желает, чтобы их вели. Они мало что просят от жизни, кроме пищи, вина и тепла – ну а затем еще детей и крова. Они не хотят на развилках пути решать, куда им двигаться. Не хотят, чтобы и другие донимали их своими криками «на запад или на восток?», «жить или умирать?». Эти решения они оставляют жестким и одиноким людям вроде тебя, великий.
– Или таким, как ты, – зачарованно отозвался Кир.
– Ну, я сын Лакедемона. У меня серебряный череп, а вместо крови в жилах расплавленная бронза. Я ходил улицами Спарты и вкушал воду Эврота, что струится по жарким солнечным долам. Стоя на акрополе Спарты, я кричал в рассветное небо свое взрослое имя.
Говоря это, он улыбался. При этом от его слов веяло спокойной устоявшейся силой – как на каком-нибудь ритуале, от которого душу пробирают бередящие волны испуга и одновременно радости.
Неожиданно Клеарх зевнул и длинно потянулся. Поглядев на звезды, он встряхнул головой.
– Вот уж и ночи недолго осталось. Поутру, великий, я вышлю вперед молодцов на конях. Так что всех вражьих лазутчиков мы найдем и перевешаем. А если отыщем армию твоего брата, так порубим ее на куски. За тем мы сюда, собственно, и явились. Оронту надо было еще чуток повременить.
Царевич поднялся на ноги, приободренный выпитым и тем, что услышал от спартанца. Склонив перед Клеархом голову примерно так, как тот сделал перед Оронтом, он побрел по песчаным наносам туда, где под звездами его дожидался шатер с походным ложем и одеялом.
Встал и Клеарх, потягиваясь и глядя царевичу вслед, пока тот не скрылся из виду. К этому молодому человеку спартанец испытывал живую симпатию, при всех его сомнениях, угрызениях и нужде в подбадривании. Царь из него выйдет замечательный, если только боги соблаговолят возвести его на трон.
18
Сигнальные рога протрубили еще затемно. Всклокоченные солдаты выкатывались из своих одеял и палаток, мутно озираясь и привычно хватая свои мечи и щиты. Слышался перестук копыт и конское ржание, которым вторили своим ревом командиры, созывая людей в строй. Надеть поножи и наручи получалось не сразу, как ни пыхти. Люди сидели кучками, возясь с узлами и ремнями. Внезапного вражьего броска вроде не намечалось. Между сидящими расхаживали десятники и сотники, поторапливая и напоминая как следует зашнуровывать обувь и плотно надевать шлемы. Начальственное рыканье было почти родным, знакомым, а потому даже успокаивало. Разброд и хаос, несомненно, где-то существовали, но только не в этих рядах. Может, это была лишь очередная проверка навыков, непременно по указу того главного спартанца, который будто черпал удовольствие во всем этом натаскивании, вместо того чтобы дать умаянным спокойно спать.
Воины заученно, без паники строились в квадраты, с перекличками в темноте каждого полка: «Равняться по Деметрию из Афин!», «Первая четверка, выстраиваться у знамени!».
Полковые командиры зычно выкликали своих людей по именам и званиям, ставя их на места, выученные за месяцы наизусть. Все это занимало время, хотя, казалось, длилось всего-то секунды. С хрипловатыми возгласами прощания и пожеланиями удачи откочевывали назад те, кто не в войске, оставляя своих возлюбленных, друзей и хозяев. Воины Эллады и Персии оставались одни на гигантской дуге, незримо прочерченной в песках. Рога замерли вдали, построение было завершено. Войско стояло без разговоров, но отнюдь не в тишине. Поскрипыванье кожи, нервное постукивание ладоней по щитам, тихий скрежет несмазанных доспехов, высушенных зноем и песком, – все это создавало в пустыне глухой шум, как будто где-то во мраке пробудилось громадное темное чудище из чешуйчатой бронзы и сейчас грузно шевелилось, готовясь к титанической схватке.
Более опытные оружия пока не вынимали, хотя ладони непроизвольно сжимались и разжимались, с верным клинком чувствуя себя более надежно. Если сегодня предстоит сеча, в ход пойдут любые уловки, чтобы с восходом солнца беречь крупицы сил. Вот где по-настоящему надо будет страшиться безжалостного, иссушающего зноя.
Все воины в походе стали смуглее, чем у себя в Сардах или Элладе, хотя некоторые все еще облезали лоскутьями в тех местах, где их до костей пропекало солнце. Остальные на скудном рационе отощали, а кожа на них превратилась в шкуру из-за терки песка и полчищ гнуса.
Идя за сыном царя, они проделали долгий путь. Многие сейчас были взвинчены, но на них успокаивающе воздействовали близстоящие; вместе они выжидали, что же было причиной того тревожного рева рогов. Сотни просили милости у богов, касаясь своих взятых из дома амулетов и оберегов, украдкой поднося их к губам с нашептываньем невнятных молитв. Затем миновало и это. Все мочились книзу в песок – напористо, яростно, так что кверху шли клубы пара.
Над полками вразнобой всколыхивались стяги, которые развертывали отроки из лагеря, несущие тяжелые шесты с великой гордостью. Там, где стояли эллины, колыхались крылатый Пегас, бык, сова и спартанская лямбда. Персидские полки стояли подо львом, соколом, грифоном и солнышком. По зову солдат мальчики приносили из лагеря воду или сновали туда-сюда за какими-нибудь забытыми принадлежностями, насчет которых в полку только сейчас спохватились. На бегу мальчуганы перекликались своими резкими, по-птичьи высокими голосами, но они тут же понижались до шепота, стоило им очутиться меж рядами готовых к битве людей. Присутствие войска под призрачным звездным светом вселяло боязливое благоговение.
На востоке затлела бледная полоска зари, принося с собой спокойное, еще по-утреннему тихое дуновение ветерка, которому предстояло сдуть занавес ночи. В нарождающемся свете смутно проступили очертания войска Кира. Воинство стояло, подняв лица к востоку, где солнечный восход готовился сжечь все детские ночные страхи. Люди стояли, созерцая полоску зари в ожидании первого тепла на коже, знаменующего конец слепоты мрака, когда каждый держится в одиночку, согреваемый лишь чувством близости к товарищам.
Горизонт был подобен темному клинку, отсекающему землю от неба. По мере того как предрассветная бледность, растекаясь, ширилась, те, у кого наиболее острое зрение, издали тревожный вскрик, в то время как другие лишь высматривали и выспрашивали, что случилось. Среди эллинов и персов были тысячи таких, кто не прозревал даль, хотя на расстоянии меча мог орудовать вполне успешно. Эти ухватывали мальчишек из лагеря, поворачивали их к светлеющей полоске неба и требовали сообщить, что там, за грядой темных холмов.
Дети напряженно, до рези в глазах вглядывались, видя, как горизонт вдали рябит, как будто б в движение пришла сама земля. Постепенно в сумраке прорезались знамена; казалось, что они плавают над туманом. Завидев их, мальчики наперебой заголосили, указывая пальцами. До всех тех, кто шел с Киром, начал доноситься глубокий сдержанный гул, как от камнепада в каких-нибудь дальних горах, – долгий, нескончаемый, рокочущий. Вдалеке показалась линия, напоминающая неровный рельеф самой земли. Через какое-то время она сформировалась в ряд черных щитов; было видно, как поблизости пылит конница. Из полутьмы темным сонмом безглазо надвигалась силища несметная, растекшаяся по всей равнине, – войско Персии, по численности которому нет равных.
Некоторые из полков Кира вызывающе взревели, возбуждая друг в друге боевой пыл. Какое-то время звук нарастал, а затем угас, сменившись потрясенным молчанием. Неприятельские ряды впереди продолжали расти, пока не заполонили, казалось, весь мир. Ни один из воинов царевича не видел в одном месте столько солдат – воистину безбрежное море.
С собою Кир привел сто тысяч персов и двенадцать тысяч эллинов. Позади, за его полками, в ужасе настороженно притихли еще тысячи, видя, как шаг за шагом от них отползают обоз и лагерь. По зеленым просторам Ниневии эти люди шагали бодрой поступью; с легкой душой двинулись и дальше в пустыню, подбадриваемые одной своей численностью. Но все это пожухло и съежилось при виде такой силы, пришедшей с ними расправиться без жалости и пощады. Волосы вставали дыбом, а нутро судорожно сжималось у тех, кто шел с царевичем от Сард. Пот льдистыми струйками стекал по ребрам, а душу сжимало тоскливое смятение.
Бросив свой шлем одному из телохранителей, Кир дал шпоры коню, понимая чутьем вожака, что его люди сейчас должны его видеть. И он выехал с распущенными волосами, с трепещущими позади флажками и знаками царственной власти, а следом под перестук копыт за ним мчались его слуга Парвиз и шесть сотен всадников. На войско своего брата Кир даже не обращал головы, предпочитая смотреть на ряды тех, кто пришел в такую даль от его имени. Они принадлежали ему так, что сложно даже высказать. Их жизни обусловливались одним его словом. Это была связь не менее глубинная, чем в единой сплоченной семье, а ставки высоки настолько, насколько лишь бывает возможно.
Клеарх с эллинами располагался на правом крыле вблизи Евфрата во избежание окружения или обхода с фланга. Сам Кир находился посредине, под своим личным штандартом – соколом на шелковом квадрате, выложенном каменьями. Он оглядел строй, с гордостью видя сотни полковых символов – история, жизнь и устои войска, запечатленные на древках воинских копий.
По левую руку тянулись персидские полки под командованием Ариея. Кир держал центр – где как не там в глазах воинства надлежит быть верховному военачальнику? Однако оглядывая в предутреннем свете близящееся войско брата, царского орла Ахеменидов он там по центру отчего-то не замечал.
Через ряды к Киру проник гонец, несмотря на рань, уже лоснящийся от пота. Обогнув лошадей, он поднырнул так ловко и близко, что едва не угодил под копыта царственного скакуна.
– Великий! Архонт Клеарх спрашивает, какие будут указания. А заодно просит передать, что и вся листва леса не устоит перед острым мечом!
Губы царевича скривились в судорожной ухмылке. Спартанец и здесь не забывает взбадривать дух. Временами ну просто отец всему войску.
Прежде чем Кир ответил, его телохранители стали всматриваться куда-то влево и с тихой тревогой переговариваться, держа у бровей ладони против рассветного солнца.
Где-то там, как из преисподней, призрачный сонм голосов выкликал имя царя Артаксеркса. Кир посмотрел на восток и нервно сглотнул, с мертвенным ужасом осознавая положение. Его брат все же был в центре. Только войско его было такой величины, что его середина находилась за самым дальним краем войск царевича. Впервые за все время Кир почувствовал, что дрожит, а дыхание стискивалось в горле. Его брат или, возможно, Тиссаферн сумели пойти на опережение. Кир оглянулся через правое плечо, мимо ждущего приказа юного грека, охватывая взором все крыло под командованием Клеарха, Проксена и Софенета. Фессалиец Менон тоже был там, но на стыке с персами, формируя левую оконечность сил эллинов – судя по всему, наименее почитаемую. Эти греки ссорились и дрались между собой, цапались на марше и в лагере. И тем не менее они являли собою преимущество, которого не имел его брат. Ту единственную силу, с которой Царь Царей не мог сравниться и сладить. Смежив веки от восходящего солнца, Кир вознес молитву Ахурамазде.
– Мчись со всех ног, – повелел он гонцу. – И передай мой приказ. Архонту Клеарху стремительно наступать всем правым крылом – от реки, поперек нашего расположения, пока враг еще не упорядочился. Метить в центр царских рядов, туда, где штандарты с орлом, то есть слева от того места, где нахожусь я. Повтори.
Гонец безошибочно, хотя и с выпученными глазами, повторил сказанное на персидском. А затем, наспех поклонившись, рванул с места бегом, роняя с кожи бисеринки пота.
С мрачным очарованием Кир взирал, как смещаются, становясь ближе, бессчетные воинские ряды брата – все равно что путник, завороженно наблюдающий за горной лавиной, которая вскоре может поглотить его самого, а он стоит, будто прирос к месту.
Клеарх взглядом следил, как к нему во весь дух летит посланный гонец. Правое крыло молчаливо выжидало, когда неприятель придвинется на расстояние, пригодное для дротиков и камня. Настрой был не мрачноватым, хотя сомнения в своих силах эллинские наемники не чувствовали. Мерку персидским солдатам они знали по тем, кого сами подтягивали до своего уровня. Перспектива сразиться с ними на поле брани излишнего беспокойства не вызывала. Тем не менее одно лишь число вражеского войска подавляло смех и разговоры. Навстречу словно катился безудержный прилив, заставляя относиться к себе с должной серьезностью.
– У меня… приказ… от царевича, – выдохнул запыхавшийся от бега гонец.
– Что-то рано выдохся, юноша, – попрекнул Клеарх. – Тебе еще сегодня весь день бегать.
– Прошу прощения, архонт, – выпалил тот. – Царевич велит наступать всеми вверенными тебе силами на вражеский центр, вон туда.
Он указал рукой, но Клеарх не озаботился даже взглянуть. Невдалеке находился Проксен, чрезвычайно довольный тем, что сидит на коне, а не топчется в пешем строю. Клеарх жестом приказал гонцу умолкнуть, дожидаясь Проксена, который, подъехав, вопросительно поднял брови.
– Царевич Кир ждет от нас броска впереди своих персов, чтобы мы атаковали царскую гвардию по центру. По всей видимости, это слева от нас. Хотя так далеко, что я отсюда даже не различаю.
– Оставить реку? – незамедлительно спросил Проксен. – Это… весьма опрометчивый шаг. – С прищуром прикинув расстояние, он покачал головой. – Неприятель, вполне вероятно, предпримет что-нибудь подобное. Удар с фланга или обход. Не знаю, смогу ли я хотя бы сдвинуть моих людей с места прежде вражеского натиска.
В присутствии солдат и гонца, ждущего повторной отправки, военачальники безмолвно воззрились друг на друга. Приказ был подобен отчаянному бросанию костей, чреватому всеобщей гибелью – или же мгновенным верным ударом, способным принести победу еще до начала битвы.
Проксен определенно был настроен неохотно, но по распоряжению Клеарха стал бы его выполнять. Остальные эллины тоже могли иметь собственное мнение, но дисциплина была для них стержнем и основой всего. Они понимали, что военачальник или царевич порою вынуждены посылать людей на смерть для удержания какого-нибудь холма или ровности строя. Их же задача – следовать приказам и обходиться врагу дорогой ценой, внося свою лепту в победу. На это необходимо было доверие, а еще вера в тех, кто их ведет. Более того, требовалось, чтобы люди, отдавая себе отчет, что их начальники могут ошибаться, а то и просто посылать их на смерть по своему заблуждению или прихоти, тем не менее шли на эту жертву.
И все же некоторое время Клеарх молчал. Было видно, как в попытке углядеть, что происходит, в их сторону изгибается фессалиец Менон, но это заставило Клеарха определиться с решением еще быстрее. Этот болтун, помнится, высказал ряд глупостей о Спарте с ее единственным театром и речушкой в засушливой долине. Не будь они союзниками, Клеарх за такие словеса призвал бы его к ответу. Может, оно еще и получится, если этот словоблуд уцелеет в битве. Менона он поставил на самую левую оконечность эллинского крыла в знак своего нерасположения, хотя этот колючий острослов то ли делал вид, что не понимал, то ли не придавал этому значения.
– Возвращайся к царевичу Киру, – указал Клеарх гонцу. – Скажи ему, что мы выступим согласно его приказанию.
Гонец поклонился и помчался выполнять распоряжение. Проксен отвернулся от того места, с которого оглядывал неприятельские ряды. Его глаза вновь с тяжелой пытливостью уставились на Клеарха.
– Если двинуться поперек поля, друг мой, нас неминуемо окружат. Войско царя слева нас перекроет. А если взять вправо, они сведут крылья флангов, и тогда… Тогда конец.
– Да, – кивнул Клеарх непреклонно. – Прежде чем прорваться в центр, мы должны будем смять крыло, что спереди. А сделав это быстро, мы сумеем пробиться и к их царю. Я не дам царевичу Киру повода упрекнуть нас в ослушании, но для начала мы должны пронзить их всех подобно ножу.
Проксен звучно хмыкнул.
– Ты мне нравишься, спартанец.
– До этого мне дела нет, – буркнул Клеарх не то шутливым, не то ворчливым тоном, отчего улыбка Проксена поблекла. – Возвращайся к своим людям. Скажи им, чтобы готовились.
Клеарх перевел взгляд на двух своих трубачей с длинными посеребренными рогами.
– Трубите наступление, – сухо скомандовал он.
Проверив, гладко ли ходит в ножнах меч и удобно ль подвешен к пояснице копис, на левой руке он поднял свой увесистый, верный старый щит. Во властно протянутую правую ему подали копье. Подбросив его в ладони, Клеарх ощерился улыбкой, наводящей ужас.
Грозно и сипло загудели рога. Спартанцы дружно тронулись с места, задавая темп всему эллинскому крылу, в одиночку выходящему против персидского войска. Река оставалась по правую руку; в стремительном ходе развевались складки красных плащей. На расстоянии взгляду раскрывалась подвижная мозаика из лучников и всадников в белых накидках. Впереди войска выстраивались в ряд колесницы, которых, увязая в мягком песке, волокли упряжные лошади. Примерно на уровне пояса их колеса были снабжены лезвиями кос – грозное оружие, если мчаться по твердой земле. Этой частью персидского войска заправлял новоиспеченный старейшина Тиссаферн, в снежно-белом халате восседающий на серой кобылице.
Видя, как эллины пришли в движение, Кир мысленно горячо их благословил. Вот они отделились от остальных шеренг, начали ходко продвигаться, и… Царевич стиснул зубы: они никак не отклонялись от выбранного ими пути. Позиции Артаксеркса были все еще далеко слева, но греки упорно шагали вперед, как будто Клеарх не понял его приказания. Царевич нервно елозил ладонью по древку копья, а конь под ним, чуя встревоженность хозяина, с фырканьем рыл копытом песок.
Справа под лучами раннего солнца огненно-переливчатым блеском вспыхнули воды реки. Понятно: Клеарх пытается не допустить, чтобы вокруг него кольцом сомкнулась бесчисленно превосходящая рать неприятеля – но ведь он, Кир, наследник трона. И со смертью брата он в мгновение становится командующим всем совокупным полем брани.
На его глазах эллины все сильнее отдалялись от остального войска, идя на царские полки с решимостью защитников отечества – все равно как если б один мелкорослый храбрец с палкой восставал на целую прорву обидчиков. Кир сглотнул стиснувший горло ком. Эти воины не отказались и не побежали, заслышав его приказ. Как же он теперь может стоять и равнодушно взирать на расправу с ними?
– Трубить наступление! Общее! – окрыляясь на борьбу, вскричал он. – Всем изготовиться! Вперед, на врага!
Рога проревели по всем построениям, и полки царевича, чуть накренясь, двинулись вперед; их черные квадраты казались мелкими на фоне силы, которой они собирались противостоять. И тем не менее, вдохновленные примером, они тоже нашли в себе мужество. Кир занял место в передних рядах центра, хотя его брат прямой схватки наверняка избежит: из-за разницы в числе он при столкновении будет защищен множеством своих рядов. Единственный шанс – это совершить на поле обходный маневр или прорваться своим наиболее сильным правым флангом через более слабое левое крыло врага. С каждым шагом все ясней становились знамена над рядами. В восьмистах шагах друг от друга лучники и копейщики, готовясь к атаке, начали разминать руки и плечи, в то время как остальные, кому предстояло выдержать их удар, готовили щиты и молились, чтобы выстоять под ним благополучно.
При виде рядов вокруг своего брата у Кира перехватило дыхание. Царь Артаксеркс был скрыт от глаз движущимся заслоном из воинов и колесниц. Там, в людском скоплении слева, виднелся золотой орел Ахеменидов. С вызовом на бой к нему явился сокол Кира. Одному из них суждено пасть.
Клеарх грузноватой трусцой бежал с восемью рядами спартанцев и еще четырьмя рабов-илотов; каждый в ширину насчитывал двести сорок человек. За ними следовали отряды Проксена и Софенета; замыкал их всех ворчун Менон. Сейчас Клеарх хмуро оглядывал колесницы впереди, зная, что они вызывают страх у тех, кто видит их впервые.
– Видите вон те старые телеги, что вязнут в песке? – зычно крикнул он вдоль строя. – По бокам из колес там торчат ножички! Мой вам совет: просто перескакивайте через них! У себя в гимнасиях мы прыгали куда выше!
Послышались смешки: его спартанцы припоминали свои годы выучки. Клеарха вдруг разобрала злая решимость не давать этим персам чести, которую они, возможно, рассчитывали снискать.
– Сыны Эллады! – громовым голосом обратился он, не сбавляя хода. – Кто эти люди, что осмеливаются стоять перед нами? Никто, несмотря на всю их напыщенность и тщеславие! А мы воины, лучшие из всех, каких когда-либо видел мир. Homaemon — мы одной крови! Homotropa – у нас едины обычаи! Homoglosson – мы говорим на одном языке! – Голос его все возрастал по громкости и силе воздействия. – Homothriskon — у нас единые храмы и боги. Вот почему мы побеждаем! Мы один неразделимый народ. И сегодня мы не спартанцы, не фессалийцы и не афиняне. Мы эллины, мы народ Эллады. Так покажем же им, что это значит!
Его спартанцы азартно зарычали; оскалились хищными улыбками и остальные. Темп движения неуклонно нарастал. Они знали, что уже недалек рубеж, за которым тебя досягают стрела и камень из пращи. Миг близился.
Все, кто ехал верхом, соскочили с лошадей и перебросили поводья мальчишкам, что бежали рядом. Те повели животных назад к лагерю, отстоящему теперь на несколько десятков стадиев. Напоследок мальчуганы высокими озорными голосами подбодрили воинов.
– Ускорить шаг! Вдвое! – рявкнул Клеарх. Приказ вспышкой дыхания разлетелся по строю, вызвав напряжение в стане неприятеля. Тысячи голосов торжественно завели пеан – песнь смерти.
– Готовить щиты и копья! – скомандовал Клеарх.
Внезапным движением первые ряды персов выпустили в небо тучу стрел – густой сонм травинок или черных волосков на охристом фоне взошедшего солнца.
– Щиты вверх! Держать шаг! – ревел команды Клеарх, нисколько не запыхавшись (каждодневные боевые упражнения были тому залогом). – Крушим врага, не нарушая строя! Порядок и дисциплина! За царство Кира! За Элладу, за Афины! И да будут с нами боги, за Спарту!
Приказы продолжались уже на бегу; последнюю сотню шагов атака напоминала набирающий силу взмах клинка. Пеан оборвался скорее с печалью, чем с победным ревом, но и этого оказалось достаточно, чтобы вселить во врага ужас. Стрелы дробно застучали по щитам, но большинство их пролетело сверху – лучники не рассчитали ходкости эллинов.
Персидские ряды разбил шквал греческих дротиков. Их с надсадным гиканьем метали из задних рядов илоты. Спартанцы наступали, ощетинившись выставленными вперед копьями.
Часть войска под началом Тиссаферна рассыпалась еще до подхода греков. Передние ряды вверглись в хаос и откатывались назад, подальше от красных плащей спартанцев, несущих в руках смерть. Колесницы опрокидывались, застряв в песке, или же их растаскивали лошади.
Клеарх ликовал, видя, как беспрепятственно расчищается путь. Его спартанцы гнали врага, словно скот, убивая чересчур нерасторопных, но сохраняя дисциплину. Несмотря на это, он все равно выкрикивал предостережения – неотступный страх любого военачальника, что его люди в победном пылу могут нарушить строй. Прежде он уже наблюдал, как целые армии превращаются в толпы, что всегда оборачивалось их уничтожением.
Его спартанцы были кромкой щита, так, чтобы никто из сзади идущих не мог, обезумев, ринуться вперед через своих союзников. Продвигались они с четкой размеренностью, держа наготове щиты и нанося колющие удары копьями. Кое-кто из задних рядов вынул ножи и на пути бдительно приканчивал раненых, чтобы уже никто не мог вскочить и устроить сзади хаос после прохода основных рядов.
Все персидское крыло было смято, а последовавшая затем бойня была ужасающей: каждый эллин был забрызган кровью чужеземцев. От полного уничтожения персов спасло лишь то, что среди них было много конных. Тиссаферн отвел несколько тысяч за пределы досягаемости копий и пращей, заодно спасшись и сам. Клеарх с Проксеном видели его на коне среди белого шелка знамен; только теперь он благополучно отступил в глубь рядов, и до него было не дотянуться. Видно было, как готовятся к броску афинские всадники, но Клеарх приказал им оставаться на месте. Преследовать отступающие силы могли молодые и менее подготовленные. А бывалым имело смысл сделать передышку и шаг за шагом подниматься на гору. Лошадей у них не так уж много. Так что, если их поберечь, на исход битвы это не повлияет.
Клеарху приходилось на крике удерживать своих, которые продолжали теснить силы неприятеля, за которыми местами открывался вид на равнины. В эдаком месте, чтобы за всем уследить, требовались воистину глаза Аргуса[35]. Пока эллины справлялись неплохо, но урон войску царя был нанесен едва заметный, а общее его число по-прежнему ошеломляло. Мертвых оставляли лежать там, где они упали. При этом эллинов встречали свежие силы персов, хотя глаза их и были расширены от страха.
– Теперь берем влево! Влево! – по-бычьи ревел Клеарх. – Пробиваемся через них к центру!
Его эллинам требовалось скатать передний край персидской змеи подобно ковру, с одного конца в другой. Это привело бы их в соприкосновение с позицией Царя Царей, точно так, как приказал Кир. По мере того как первое возбуждение сошло, Клеарх стряхнул с себя усталость. Это была работа, самая тяжелая из тех, которые он мог упомнить. Солнце пекло все сильнее, и он чувствовал, как во рту пересохло. Мальчишек-водоносов нигде не было видно, и он, пожав плечами, в минуты передышки занялся чисткой меча.
Повернувшись, он послал Проксена во фланг с линией критских лучников на случай, если Тиссаферн попытается собрать своих персов для броска. Пока было известно, что потери эллинов минимальны; хорошо, если бы и дальше так. На его глазах одного парня срезало лезвие колесницы – собственный страх удерживал его на месте там, где любой другой унырнул бы и остался жив. Это урок. Им нужно продолжать двигаться. Если затормозить и остановиться, то их могут опрокинуть, как ястреба способна заклевать стая воронья.
19
Кир чувствовал омерзительный, гнусный страх – такой, что тянуло пришпорить коня и мчаться с поля во весь опор. Подобного он не ощущал никогда; его как будто схватили и трясли за горло. Дыхание было мелким и частым, а сердце колотилось и рвалось из-под ребер так, что все вокруг наверняка слышали и знали, что он раздавлен страхом. В этих нескончаемых рядах, звончатом перестуке мечей и металлическом поблескивании Евфрата он видел свою собственную смерть.
– Я царевич, – настойчиво шептал он себе, – из дома Ахеменидов. Я сын царя Дария и внук Ксеркса. Я не побегу от всего этого. Я буду стоять.
Было видно, как впереди Клеарх ведет своих греков, врезаясь в царское войско, словно лодка в водный вал, который, обрушиваясь, скрывает ее под собой. Персы обтекали эллинов потоком, и те скрылись из глаз, не переставая, однако, упрямо пропахивать себе путь через скопище неприятеля. Слева солдаты Артаксеркса перекрывали крыло Клеарха целыми полками. Между тем у Кира не имелось и малой доли войска, чтобы воспрепятствовать этому окружению. Ничто так не подтачивает в борьбе силы, как понимание, что путь к отступлению отрезан и бежать теперь некуда и что враги обступают тебя сзади точно так же, как и спереди.
Это была предельно простая тактика Ахеменидов – вывести на поле боя столько народа, что ошеломленным окажется любой противник, что бы он собой ни представлял. Сама суть войны состоит в пагубе и уничтожении, как можно более быстром и жестоком. Кир сглотнул враз пересохшим горлом. Войско брата сомкнется вокруг его собственного когтистой тигриной лапой – и все будет кончено.
И тут, стоило Киру представить наихудшее, как страх истаял сам собой. Если его брат падет, то царем станет он, Кир. В этом и есть главный смысл. Пусть Артаксеркс стянет сюда, на равнину этой великой реки, хоть целый мир – исход судьбоносной битвы будут решать всего две жизни. На душу снизошел прохладный покой. Кир наконец-то смог сделать глубокий вдох. Вот так, не столь уж и плохо. И не так уж сложно. Один удар положит конец всему.
В качестве личной охраны с царевичем ехало шестьсот всадников, все как один истово преданные своему повелителю. Те, кто тронулся было с Оронтом, все еще чувствовали горький стыд и подозрительность к себе товарищей. Теперь они отчаянно стремились себя проявить, доказав свою верность и искупив вину. Сейчас, видя, как силы брата обкладывают его войско со всех сторон, царевич убедился, что выбор у него остался лишь один. Надо поставить на кон свою жизнь, всего на один ближайший час. Он будет острием разящего копья – которое, будучи брошенным, вернуться назад уже не сможет.
– Парвиз! – наигранно бодрясь, гаркнул он.
Верный слуга вскинул голову, радуясь тому, что может чем-то пригодиться.
Парвиз неплохо держался на своей старой кляче, но сравниться с воинскими качествами телохранителей, конечно же, не мог.
– Езжай-ка назад, – велел ему Кир. – Здесь тебе не место.
На лице Парвиза мелькнуло смятение, но, во всяком случае, ему была дарована жизнь.
А Кир уже подзывал к себе другого подчиненного:
– Сотник Хадид!
Сотник, подъехав, почтительно склонился в ожидании приказаний, на которые времени, в сущности, не оставалось. Расстояние между двумя силами сужалось, будто щель последнего закатного света на исходе дня. С их столкновением выскакивать из бучи будет уже поздно. Да и некуда.
– Верные, за мной! – призвал телохранителей Кир, уже не оглядываясь.
Его жеребец, повинуясь удару пяток в бока, с диким визгливым храпом взвился на дыбы и рванул впереди остальных. Телохранители с гиканьем устремились вслед за царевичем, который понесся над полем – в бешеной веселой лихости, словно нет в нем веса, нет под ним тверди. Он летел стрижом, спешащим под грозовыми тучами, царственным соколом среди кипящей бури.
Внутри занималось, распаляло чувство схватки. Воздух хлестал порывами, а ритм галопа упруго и ритмично бил снизу, как тугой барабан. Упершись коленями в чересседельник, Кир сидел высоко, подавшись через плечи своего скакуна; вместе они сейчас составляли единое целое. В одной руке он держал приопущенное копье, а меч у него чутко дремал сзади, готовый быть выхваченным.
Штандарты брата с расстояния зазывно манили. Краем глаза Кир видел несущихся рядом телохранителей, на скаку образующих клин. Это было безумием, но он что-то вызывающе вопил вражьим рядам. Голос терялся в тяжелозвонких раскатах и выкриках боя, хотя слов и не было, а был лишь первозданно дикий крик и жажда отмщения. Глаза жгли злые слезы, припорошенные мелкой жаркой пылью.
Враг, конечно же, знал, кто он. С первых же секунд, что царевич отделился от своих полков, он был замечен. Никто другой, кроме царевича рода Ахеменидов, не поскачет во главе шестисот всадников. Те, кто первыми принял на себя удар этой темной крылатой бури, попросту отскакивали – то ли из страха перед молниеносным броском, то ли лично перед царским сыном. Расстояние само по себе было небольшим – какие-то секунды, – и приказов о перестроении не поступало.
Кто-то не успевал даже вскинуть руки перед конями и копьями стремглав летящих всадников. Десятки шарахались или в страхе отпрыгивали в стороны. Те, кто отважней или просто медлительней, разлетались истоптанными и рваными в клочья тряпичными куклами. Кира на скаку что-то крепко хлестнуло под колено. Мощные плечи его коня сшибали людей десятками, увлекая их под мелькающие копыта; тонкие вопли тут же гасли позади. Хлопотливо работали копьями телохранители, свирепым безудержным натиском пробиваясь к живому заслону перед персидским царем.
Два царственных брата увидали друг друга в единое мгновение, мимолетно зависшее глухой тишиной. Кир будто забыл о своей неистовой скачке в шевелящейся толще людей и видел лишь изумленные глаза Артаксеркса в богато украшенном шлеме, повернутом к нему. Открытый рот брата был влажно-красным. Рука спешно и слепо нашаривала меч, но Кир был быстрее и тверже – воплощение мести, в коей поклялся. Копье осталось всаженным в чью-то грудь, и в руке он сжимал меч. Замахнувшись, Кир сплеча рубанул брата по шее, отчего тот откинулся и, забившись, закричал от ужаса. Клинок лязгнул о металл и провернулся в руке, зацепившись за край нагрудника. Тем не менее Кир увидел кровь. В этот момент совершенной ясности воздух был сладок до озноба. Кир с упоением выдохнул, словно отходя от морока.
Времени на самодовольство у Клеарха не было. Квадрат эллинов прорубался сквозь царское войско, лишая его возможности сплотиться. Персы не успевали реагировать достаточно быстро. Пока до их начальства доходило, что происходит, спартанцы уже проходили очередной полк насквозь и раскраивали новый. Впереди них уже начиналось повальное бегство: солдаты поворачивались и обращались вспять, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с этими кроваво-красными силуэтами в гривастых шлемах и плащах, несущими в мелькании мечей безжалостную смерть.
Клеарх, со щитом и копьем в руках, сражался плечом к плечу с людьми, которых знал долгие годы. В этот день их всех объединяло поле Кунаксы близ сероватой змеи Евфрата, неторопливо несущего свои воды среди пустыни, животворно зеленеющей от такого соприкосновения.
– Куда, куда прете? Кто вас просил? А ну отойти, держать дистанцию в рядах! – через плечо ором выговаривал Клеарх людям Проксена, что двигались непосредственно за спартанцами. Устыженные, они отшаркивали назад, странно успокаиваясь этим его брюзжанием перед лицом врага. Если архонт находил время на нотации, значит, все не так безнадежно, как некоторым из них казалось. Хотя прежде ни один из них еще не видал такого людского скопища – ни в театре Диониса в Афинах, ни в священных Дельфийских рощах, где по праздникам собираются целые толпы. Таков был их мимолетный, через призму вражды, взгляд на империю гораздо большую, чем они себе представляли. Оставалось лишь оторопело моргать, дивиться и пробиваться дальше.
Эллины продвигались прямоугольником, в котором двести сорок спартанцев и их илоты составляли рубящую кромку, а сзади шествовало сорок рядов. Дрались они мастерски, как и были обучены, с хладнокровной свирепостью. Преследовать неприятеля из рядов не отлучался ни один. Вперед они шли, как идут по узкому проходу – и все, кто в этом проходе находился, срезались под корень. Те, что по бокам, игнорировались, если только сами не ввязывались в схватку. Впереди себя спартанцы держали круглые щиты, уже утыканные обломками стрел и с вмятинами от камней. Поверх щитов враг различал лишь шлемы, до которых не дотянуться, а снизу поножи. Эти люди были словно отлиты из бронзы, без изъянов или слабостей. Из-за щитов, подобно змеиным языкам, выстреливали острия копий, обратно втягиваясь уже окровавленными.
На глазах у Клеарха один из воинов внезапно пошатнулся. Что-то, брошенное через людскую давку, со звоном стукнулось ему о шлем. Это не укрылось от внимания архонта, заставляя его взглянуть на своих людей свежими глазами. Передние ряды от усталости замедляли ход.
– Проксен, неужто ты допустишь, чтобы мои спартанцы забрали себе всю славу? – воззвал он вдоль рядов.
Тот возвел глаза к небесам.
– Так пропусти ж меня вперед, и я покажу тебе, что такое слава! – отозвался он. – Почему тебя, спартанец, всегда тянет быть первым? Или ты в детстве натерпелся от соседских мальчишек?
– Кто из нас натерпелся, тебе невдомек! – рыкнул Клеарх, улыбчиво щерясь. Будучи десяти лет от роду, он, помнится, выиграл три кулачных состязания у мальчишек старше и сильнее, чем он. Хотя последняя победа досталась ему ценой перелома правой кисти. Сейчас он, припоминая, мимоходом глянул на свои костяшки пальцев.
– Спартанцам разредить передние ряды! Пускаем вперед замену! Свою выучку вы уже показали. Пускай теперь Проксен покажет свою! Менону передайте надвинуться и занять место справа от нас, рядами по сто двадцать человек в ширину. И держать строй, не шарахаться!
Лица спартанцев были сокрыты бесстрастными масками шлемов, но они определенно утомились. Подготовка у его людей была превосходной, но они нуждались в передышке. Ничто не утомляет так, как бой, хотя, на удивление, рубка дров стоит здесь по соседству. Неотрывно следя за перестроением, Клеарх высматривал малейшие изъяны. При всей внешней непринужденности провести перестроение трех тысяч в разгар битвы было убийственно сложно. Все это оборачивалось потерянными жизнями в случае недогляда или из-за броска неприятеля, считающего, что враг поддается, и потому усиливающего натиск. Однако если этого не сделать, лучшие во всем свете воины начнут нести потери. Все, кого они до сих пор исправно побивали, были свежими, не уставшими. А биться днями напролет без устали могут разве что боги.
Клеарх наблюдал, как его люди замедляют свою гибельную поступь. Персы победно взвыли, завидев, что ненавистный враг вроде как слабеет. Клеарх тихо зарычал в желании вышибить из них это радостное предвкушение. Видно было, как постепенно скапливаются для удара Бессмертные в черных одеждах, но противостоять им должны были уже Проксен с Меноном.
– Я на месте, Клеарх! – подал через плечо голос Проксен. – Поди, дай отдых своим старым ногам.
– Уж я лучше останусь. Очень хочется посмотреть, как сражается Менон.
На словах-то он герой, а вот каков он в деле?
– Ты, спартанский бурдюк! Враг тот, что вонзает спереди, а не с зада! – не замедлил, обернувшись, рявкнуть фессалиец, чем вызвал у Клеарха смешок.
Этого выжигу архонт недолюбливал, но в его словах была определенная доля истины. И если Менон сражается так же лихо, как бахвалится и цапается, то он и в самом деле будет герой, а остальное ему можно будет простить. Пускай они с ним не друзья, но за столом-то сидят рука об руку и подливают друг другу в чаши вино.
Через просторы поля до слуха доносился замешанный на крови и смерти звонкий перестук и лязг оружия; дрожью прокатывались в воздухе предсмертные вопли. Бренность всего живого сходила с губ кисловатым железистым привкусом. Как известно, поле битвы – место неизбывного страха. И хороший командир должен сосредоточиваться прежде всего на поставленной задаче, а не терзать себе разум мыслями об остальном сражении. Воины Клеарха и впрямь были способны на великие подвиги, но этих людей предстояло беречь и расходовать так, как трясется за свои монеты скряга. Эллинов в Вавилон царевич Кир привел от силы двенадцать тысяч. Так что бо́льшая часть битвы будет все равно происходить у персов с персами.
К бурной радости Кира, Артаксеркс слетел с лошади. Оковы призрачного страха и слабости канули без следа. Личная стража царевича по-прежнему сминала конями обезумевших от ужаса воинов, оставив Царя Царей наедине со своим братом. Вся битва бушевала как будто не здесь, а где-то вдалеке. Кир чувствовал в себе ясность ума и спокойствие, а его поверженный брат в это время лежал на спине и отплевывался кровью. Артаксеркс, сидящий почти неподвижно, был застигнут врасплох и сбит Киром на полном скаку. Придись удар клинком хотя бы на палец выше, и царский венец Ахеменида покатился бы в пыль вместе с отрубленной головой.
Царевич видел, как телохранители брата поедом едят глазами своего хозяина, но Артаксеркс был явно оглушен и не мог отдавать приказания. Подняв глаза, Кир оглядел знакомые ему лица, которые сейчас узнавали его.
Он приковывал к себе их взгляды как мятежник, дерзнувший поднять руку на царя. В следующую секунду они бросились на Кира, который, к своему удивлению, увидел, что к нему на выручку подоспел Парвиз. Верный слуга, оказывается, ослушался и продолжал сопровождать своего хозяина. На глазах у Кира Парвиз выставил свою старую кобылу наперерез троим царским телохранителям, преграждая им путь.
Полета дротика Кир не видел. Кто-то из царской стражи, видя нападение на Артаксеркса, с гневной торопливостью метнул оружие. Кир вскинул глаза лишь тогда, когда дротик, описав дугу, ударил его наконечником в щеку, проломив скуловую кость и откинув царевича вбок. Что происходит, он не понимал. Он знал, что одержал верх, однако мир отчего-то взвихрился, дико накренясь, а солнце в небе дернулось, вторя его глухому, плашмя, удару оземь. Что-то в голове громко треснуло, и он завозился, силясь встать. Изо рта по разорванной щеке липко и жарко текла кровь. Язык ощущал мелкие острые осколки, вроде обломков горшка. Кир тряхнул головой, но от движения стало лишь хуже, так что фигуры подступающих Бессмертных зыбко качнулись и поплыли, как в туманном сне. Было видно, что сверху над ним склонился Парвиз, отказываясь отступать перед теми, кто сейчас сюда подбегал.
У Кира на глазах его невысокий верткий слуга ударом бывалого солдата всадил тот самый дротик в царева телохранителя. В следующую секунду Парвиз отлетел и рухнул навзничь, недвижно уставясь поверх утоптанного песка. Кир, силясь встать, протянул для опоры руку и изумленно вскрикнул, когда та под ним бессильно прогнулась. Он недоуменно таращился на свою правую ладонь, не понимая, отчего она висит плетью вместо того, чтобы обхватить рукоять лежащего рядом меча. Слух возвратился, хотя царевич до этой секунды даже не понимал, что был все это время глух.
Нестерпимо ярко бил свет, и до боли звонким был стук металла о металл. Телохранители Кира спешились, держа вокруг него оборону на земле, а коней используя как заслон. Надо всем этим гремел рев слепившихся в кучу Бессмертных. Люди Кира падали один за одним, некоторые из них чуть ли не на самого царевича. Постепенно возвращались чувства; он уже снова понимал, кто он и где находится. Нужна была какая-то минута, чтобы отдышаться и найти в себе силы вновь противостоять своему брату.
Видно было, как Артаксерс неторопливо поднимается и принимает от своих телохранителей меч. Подбородок у Царя Царей алел от сплюнутой крови, а передвигался он согбенно, держась левой рукой за сломанные ребра. Кир снова попытался встать, но все в нем как-то одрябло. Он видел, как брат, схватившись с одним из его людей, хитрым движением выбивает у него меч и срубает тремя ударами. Вот тебе и ученый затворник. Мог бы и не изображать из себя немощного, шаркая по полю. Смоляная завитая борода царя свисала над обшитой пластинами мантией, которую, помнится, в свое время носил еще отец.
Подойдя, Артаксеркс остановился над ним, и Кир незаметно вынул из-за пояса припрятанный кинжал. Он вкрадчиво зашевелился, но тут царь поставил ему на грудь свой остроносый сапог и крепко надавил.
– Благодарю тебя, брат, – молвил Артаксеркс, поднимая меч. – Пожалуй, на самом деле я и царем-то не был, пока против меня не встал ты. Понимаешь ли ты это? Сегодня ты преподнес мне… великий дар.
На последнем слове Кир пришел в движение, но слишком нерасторопно.
Артаксеркс рубанул сверху вниз, и его меч рассек Киру горло.
Помимо первой вспышки боли, Кир уже не чувствовал, как брат продолжает один за другим наносить исступленные удары. Вот Артаксеркс поднял окончательно отделенную от тела голову, показывая ее тем, кто остолбенело застыл вокруг. Глаза царевича угасли, из черных став молочными, а губы, чуть заметно шевельнувшись, скорбно обвисли.
Артаксеркс неспешно повернул голову брата к себе и какое-то время взирал на нее с недоуменным удивлением, после чего почти с нежностью поцеловал в губы.
Битва бушевала по-прежнему, но ему не было до этого дела. Единственной жизнью, имевшей для него значение, была жизнь Кира. Артаксеркс взял ее в точности так, как когда-то, давным-давно, пообещал своему отцу. Глаза царю туманили слезы гордости и воспоминаний. Даже его мать не стала бы отрицать, что он, как царь, действовал в своем праве. Ему бросили вызов, и он самолично, с оружием в руках, выступил навстречу той угрозе. В этот день Кир поистине сделал его царем, причем сделал так, как не могли бы сделать ни первородство, ни престолонаследие. В безотчетном порыве Артаксеркс опустился на колени и стал молиться, при каждом поклоне головы поднося ко рту сжатый кулак. В эти мгновения он как никогда уверился в благоволении Ахурамазды. После этого он встал и кинул голову своего младшего брата тысячнику Бессмертных.
– Водрузите это на копье и держите высоко. Пусть видят! Всех тех, кто пришел сюда с Киром, призовите сложить оружие. Наступайте на их лагерь. Битва закончена. Воздайте хвалу богам! Победа за нами.
Его слова были встречены широкогорлым, оглушительным победным ревом. Царь вдруг схватился и дернул на себе меченую вмятиной закраину нагрудника, где сжимало и саднило больше всего. Нагрудник развалился надвое по трещине, идущей от шеи до самого пояса. Чтобы вновь взгромоздиться на коня, Артаксерксу пришлось прибегнуть к помощи двух своих воинов. Брат нанес ему жуткой силы удар, и несколько ребер наверняка было сломано. По-прежнему сочилась изо рта кровь, хотя ее причиной мог быть прикушенный при падении язык, а не какое-нибудь внутреннее ранение. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. В эту минуту, когда рядом на пике торчала голова отступника-брата, упасть без чувств было недопустимо. С избавлением от кольчуги дышать и сидеть верхом стало несколько легче. Под гудение рогов Артаксеркс закрыл глаза в мучительном облегчении. Если на него сейчас взирает отец, то наверняка с гордостью.
Солнце близилось к полудню. Клеарх готов был снова вывести спартанцев вперед. Менон и впрямь справлялся со своей задачей хорошо, но по-настоящему отличились полки Проксена, которые мало чем уступали самим спартанцам (возможно, воинов подбадривало то, что они идут сзади).
Клеарх похвалил их за добротность. После того как спартанцы отступили на отдых, эллины продвинулись больше чем на полторы тысячи шагов, из которых ни один не давался без боя. О численности стоящего впереди неприятеля Клеарх старался не думать. На долю Кира и его Ариея тоже приходится вдоволь царских полков: у персов друг к другу свои счеты. Оставалось лишь надеяться, что этот фланговый натиск изнутри подорвет моральный дух Артаксерксова войска. Добраться до самого царя прежде, чем две рати сойдутся меж собой, времени не было. С уверенностью можно было сказать лишь то, что потери врага исчисляются тысячами, а замысел его наступления наверняка подорван. Хотя не было и четкого выхода.
Солдаты царя в черных и белых одеждах наседали со всех сторон. Те, что впереди, пятились назад, а любая их попытка сплотиться и двинуться встречным валом быстро пресекалась. Кир пытался муштровать персов во время похода, но с оружием они упражнялись редко. Эта нехватка опыта проявлялась всякий раз, когда через них неизменно пробивались эллины – истинные воины против земледельцев с мотыгами, подверженных стадному страху, что этих неистовых греков им не остановить, и страх этот перекидывался с ряда на ряд.
Продолжаться бесконечно такое не могло. Рано или поздно найдется один сотник или полк, которому хватит самоотверженности биться до конца. И, как только натиск эллинов, наткнувшись на преграду, застопорится, персы неизбежно набросятся всем скопом. Как-то раз Клеарху довелось наблюдать, как пчелы задушили шершня, облепив его живым копошащимся комом. Отдельная пчела или даже десяток их противостоять ему не могли, но противиться целому рою этот налетчик не мог – они расправились с ним одной своей массой и оголтелостью. Так и с людьми. Роковая для греков минута начала близиться с того момента, как Клеарх вновь вывел своих отдохнувших спартанцев вперед.
При виде красных плащей и бронзовых щитов, выходящих на передний план, воины царя побледнели. Взяв себя в руки, они изготовились умирать. Темп хода увеличился, и шагающий с мечом Клеарх непроизвольно осклабился.
Несмотря на безумство их положения, противоречащего всем известным правилам боя, складывалось ощущение, что от поражения еще можно и спастись. Клеарх чувствовал это буквально нутром. Насколько можно судить, с начала битвы они потеряли не больше сотни человек, при этом убив и ранив тысячи. Если персы так и не сумели противопоставить большего перед их оружием и боевыми навыками, то не исключено, что день может увенчаться победой даже над самым огромным войском из всех, какие только бывают. Знобяще-восторженное предчувствие победы овладело Клеархом; резким взмахом он отер с глаз едкий пот. Где-то на дальнем конце поля загудели рога, победно взмыли голоса. Клеарх приложил ладонь к уху, напряженно вслушиваясь: неужто и вправду победа?
Артаксеркс ехал вдоль строя с высоко поднятым копьем, на котором торчала голова брата. Битва увязла и расползлась, потеряв очертания, а люди Кира теперь опасались мести со стороны царя. И правильно делали: он себе в этом поклялся. Будет, будет массовая казнь – целыми полками, что дерзнули встать против престола. Надо только, чтобы они сложили оружие и дали себя связать. Сердце царя взбухало от гордости. Ребра ныли сильнее, чем ожидалось, но настроение победительного самодовольства кружило голову легкостью. Тут и там заходились хрипом рога, а черные полки Бессмертных и белые конников взывали к войску Кира, уговаривая сдаться. Голова на копье творила воистину чудеса, хотя никто из многих тысяч не мог бы сказать, что этот грязный взъерошенный ком на острие был когда-то особой царской крови.
Из-за маневров и перестроений поле боя расширилось, так что дальние края отстояли друг от друга на часы. Тем не менее весть о победе царя разносилась; о ней возвещал лично Царь Царей, объезжая свое войско по дуге. От дротиков и камней его надежно защищали сотни всадников, скачущих вокруг своего повелителя с победными криками. Некоторые из них указывали мечами на полки, предавшие царствующий дом, и сулили перепуганным солдатам кару. Из людей Кира многие еще даже не успели вступить в битву, но уже обреченно дрожали при виде царя, величаво скачущего по полю средь струящегося шелка своих знамен.
Военачальник Арией с самого начала находился в гуще сражения. Его волосы под шлемом взмокли от пота, но такой роскоши, как передышка, он не мог себе позволить ни на секунду – слишком уж много пращников и лучников вокруг жаждали заполучить награду в виде него.
Арией отрешился от всякой мысли насчет числа и силы неприятеля. Его меч, верность и сама жизнь были обещаны царевичу Киру. Единственное клятвопреступление, которое он совершил, имело отношение к его венценосному брату. От этого на душе было все еще не вполне уютно, но это можно будет искупить с восхождением Кира на царский престол. Мир был устроен не так уж сложно, как его представлял себе Оронт.
Битва с самого начала не заладилась. Арией с растущей тревогой наблюдал, как греки полубегом на скорости врезаются в сумбурное построение пехоты и конницы под командованием Тиссаферна. Было видно, как в обе стороны снуют посыльные, так что теплилась надежда, что это не какое-нибудь личное сведение счетов. Не успел Арией сделать у себя перестроение с целью прикрыть свой полностью оголившийся правый фланг, как из воинских рядов бурей понесся в расположение персов сам царевич, за которым едва поспевала его собственная стража.
Понятно, что истинный полководец при виде врага может менять свои планы – это даже необходимо, когда вдруг открывается, что рельеф местности имеет какие-то преимущества, неизвестные ранее. Война не для тугодумов, а для тех, чей острый ум прозревает любую возможность и успевает воспользоваться ею прежде, чем враг очухался от сна. Однако сейчас изначальный план действий коверкался на глазах, словно брошенный в огонь лоскут кожи, хотя еще едва успело взойти солнце.
Рассчитывавший на взаимодействие, умелые маневры и внезапные броски, Арией вдруг в одночасье оказался единственным командиром персидского центра, на которого взирала сотня тысяч человек, жизнь которых сейчас зависела от него одного. Он в мрачной неподвижности сидел на коне, в то время как силы царя подходили все ближе. Однако он сохранил строй и заполнил бреши, придвинув свой обновленный фланг ближе к воде, хотя ряды там теперь были не такие плотные. Вот уж этот демон Клеарх, оставил его полностью открытым и без всякого предупреждения! Разве так воюют? Теперь царево войско вполне может обжать с краев оба его фланга – а это, несомненно, конец.
Две силы сошлись в диком свирепом натиске – Арией и упомнить не мог такой битвы титанов, где, казалось, население целых городов озверело рубило и пронзало друг друга по длине потерявшего ровность строя, простершегося вдаль подобно бескрайнему берегу темного моря. Тучами взвивалась песчаная пыль. Небо прорезали судорожные зигзаги пущенных стрел и дротиков, которые метали друг в друга два напирающих друг на друга войска. Громовой стук, стон и скрежет напоминали дыхание исполинского зверя вместе с тем, как два войска ритмично накатывались и откатывались, напоминая два встречных прибоя. Сеча длилась уже невесть сколько, когда Арией заприметил движение штандартов с царскими орлами. Среди смешавшихся полков персов, где уже трудно было отличить чужого от своего, на пологий песчаный пригорок взъехал Артаксеркс. Рядом с ним, подняв голову на копье в царской руке, стоял и белозубо скалился кто-то из телохранителей. Его злобное торжество было видно уже на расстоянии.
Поняв, что происходит, Арией похолодел. Над рядами неприятеля несли голову Кира. Липкий мертвенный ужас сковал Ариея, но пыльное поле он оглядел обновленными глазами. С гибелью Кира силы под его командованием вдруг как будто измельчали. Греки уже потерялись из виду, так далеко и безвозвратно, словно их никогда и не было.
На секунду Арией закрыл глаза, мысленно жалея, что нет здесь Оронта с его полководческим чутьем, но эта молчаливая мольба лишь усиливала растерянность. С горьким сердцем он, открыв глаза, увидел, что бойня вокруг бушует с прежней силой. Кир мертв, и ничего хорошего на этом свете не остается.
– Трубить отступление! – слыша себя как со стороны, скомандовал он. – Отходить в боевом порядке к западу и югу. Царевич мертв. Чести на этом поле больше нет.
– Будет сделано, – отозвались его скороходы, бледные от ужаса.
Когда они поворачивались, он сварливо крикнул им вслед:
– И скажите, пусть не вздумают разбегаться! Царь тогда всех нас перебьет. Отходить, держа строй, и тогда, глядишь, завтрашний день мы еще застанем. А если побегут, мы все здесь же и поляжем. Довести до них, чтобы поняли.
Гонцы помчались, на бегу лавируя между рядами.
Арией продолжал безучастно смотреть, как царская армия крушит его полки. Все кончено. Остается лишь выживать, пока не отступятся боги.
С нарочито прямой спиной Арией повернул коня от передней кромки боя.
– Не торопиться, молодцы. Отходим со мной, головы держим высоко. Дело проиграно, но мы-то не сломлены.
Ближние ряды с облегчением отходили от рубежа с неприятелем, который восторженно вопил тем громче и победней, чем шире разносилась весть.
Часть 2
Неужели я сам не достиг еще подходящего возраста? Ведь если я предамся сегодня врагам, то вряд ли и вообще когда-нибудь достигну более зрелых лет.
Ксенофонт[36]
20
На равнине Кунакса у реки Евфрат в воздухе клубилась мелкая пыль, поднятая сотнями тысяч бегущих, скачущих, дерущихся и истекающих кровью в песчаную почву. Клеарх остановил каре эллинов, обнаружив, что некоторое время им уже никто не противостоит. Вначале показалось, это от того, что они прорубились через очередной персидский полк и вышли на открытую местность; при этом откуда-то слева доносились многоголосые людские крики – приглушенные расстоянием, они могли исходить с любой из сторон.
Впервые за этот день он потерял ощущение боя. И впервые в жизни пожалел, что у него нет лошади, с которой видно дальше людских голов, уже повернутых к нему за приказаниями в этом нежданном затишье. Битва вокруг по-прежнему продолжалась. Звук рогов доносился справа, что совсем уж странно. Вместе с тем на эллинов никто не наступал. Царские полки проходили далеко впереди, но к ним не сворачивали. Позади эллинов тянулась запыленная сцена побоища из убитых и умирающих, что еще недавно стояли у них на пути. Второго вызова они уже не бросят.
Клеарх скреб себе скулу, оглядывая местность в надежде на какое-нибудь прояснение прежде, чем ему придется сознаться своим людям, что он не может взять в толк суть происходящего. Они прорвали левое крыло персов, хотя, несомненно, кто-нибудь из их потрепанной конницы еще зализывает раны где-то неподалеку. Затем он повернул каре и двинулся поперек персидского войска к местоположению их царя, но вскоре они затерялись в людском море, так как приходилось обороняться от натиска со всех сторон. Так эллины, сражаясь, пробивались на протяжении нескольких часов, убив бессчетное число врагов. В какое-то мгновение Клеарху подумалось, что с ним по-прежнему все десять тысяч воинов, несмотря на погибших. Спартанцы сражались впереди дольше других, но при этом потеряли наименьшее число. От этого грудь распирала гордость. Каждого из них он знал лично, а потому оставлять полегших на поле для него было все равно что лишаться брата или сына. Своих сил они не переоценивали, а своих жизней не щадили. Надо будет упомянуть об этом Менону. А то вон идет снова с кислой миной, старый сатир.
– Каковы будут указания, архонт? – окликнул Проксен, находившийся справа.
Клеарх в ответ хотел рявкнуть, как если б они все еще находились в пылу сражения. Тем временем по бокам и впереди, едва завидев знамена и красные спартанские плащи, от них отдалялись темные квадраты персидских полков. Пыль местами висела завесой, и Клеарха простегнул зигзаг чуть ли не паники. Для воина, дерущегося за свою жизнь, терять ощущение поля боя не в диковинку; этому подвержены даже военачальники, стремящиеся во что бы то ни стало удержать строй своего войска. Но когда вокруг полчища самого грозного в мире врага, это ошибка, чреватая погибелью.
Клеарх заметил, как поверх своего фланга на что-то указывает Менон. Поджав челюсть, он с прищуром вгляделся, но в гуще пыли ничего не сумел разглядеть. Ощущение было такое, будто вокруг них вихрится сам хаос. Сердито крякнув, Клеарх понял: нужно остановиться и еще на раз взвесить положение.
– Арей да защитит нас, – прорычал он, вслед за чем повысил голос до трубного рева, которого от него и ожидали воины:
– Эллины! По счету «три» остановиться! Один, два, стой!
Спартанцы дружно, на месте топнули левой ногой и приставили к ней правую. Все ряды замерли навытяжку, а вокруг них кружились мелкие песчаные смерчи. Ветер теперь задувал с севера, припудривая лица едкой бледной пылью, от которой приходилось моргать. Песок поскрипывал на зубах, и воины тихо поругивались. Сама земля, казалось, ополчалась сейчас против них.
Клеарх напрягся, заслышав глухой стук копыт; появившиеся из завесы всадники были ему знакомы, во всяком случае, он не раз их видел. Хотя имен не припоминал. Оба участвовали в сражении: это было видно по следам крови – судя по всему, чужой. Благородный, который постарше, вид имел мрачный; зато молодой, сияя глазами, улыбался всеми зубами наружу, радостно-шалый от того, что он сегодня видел и творил. Такая повадка была Клеарху знакома; он и сам не прочь был улыбнуться юноше, обнаружившему, что война вызывает у него восторг.
– Не буду висеть у вас над душой, как будто выпрашиваю милостыню, – обратился он к этим двум конникам. – Спешивайтесь. Поведайте мне, что там происходит. Прошу извинить, что не припоминаю ваших имен.
– Я Ксенофонт из Афин, – сказал первый из них, спрыгивая и беря коня под уздцы. – А мой улыбчивый спутник – Геспий.
– Ну, как там битва? Царевич? А то во всей этой пылище гонцы меня совсем потеряли: не являлись уже целую вечность.
Клеарх поглядел на солнце, которое, побагровев, словно от выпитой крови, сползало к горизонту. В метаниях и битве минул весь день; брала свое усталость. Лишь ожидание в любую минуту нового броска держало их на ногах.
– Царевич Кир пал, – сообщил Ксенофонт, отводя глаза, чтобы не видеть на лице архонта отчаяния от надежд, что пошли прахом. – Брат завладел его головой и выставляет ее напоказ. Это было последнее, что я видел, прежде чем направиться к тебе. Ну а битва после этого… Ты, должно быть, догадываешься.
Лицо Клеарха не выдало всей глубины горя и стыда, нахлынувшего на него от этих слов. Все воинство эллинов сейчас нуждалось в его твердости. Весть уже расходилась по рядам, поэтому свои истинные чувства архонт скрыл и даже улыбнулся, хотя на вид при этом постарел на лет на десять.
– Да, сын мой, догадываюсь. А ты молодец, славно сегодня потрудился. Это важно.
– В самом деле? – переспросил Ксенофонт. В его голосе чувствовалась горечь, и архонт подбодрил его усталой улыбкой.
– А как же. Ты остался жив и завтра сможешь снова сражаться. А для меня это важно, так как лошадей у меня всего ничего.
Архонт огляделся, вновь различая на расстоянии темные квадраты движущихся полков – фигуры на доске игры, правил которой он более не понимал. От этой мысли судорогой дернуло желудок. Его соплеменники-эллины сейчас вдали от дома, окружены самым грозным войском мира во главе с богоподобным царем, имеющим все основания порезать их здесь на мелкие кусочки.
Клеарх издал язвительный смешок:
– Богам, как видно, в самом деле нравится нас испытывать?
Ксенофонт посмотрел на него с опасливой осторожностью, явно задаваясь вопросом, не сошел ли этот спартанец с ума.
– В дорогу, молодцы, – обратился к воинам Клеарх. – Мы на вражьей земле, окруженные со всех сторон неприятелем. В эту минуту нам остается единственно возвратиться к себе в лагерь. У меня там складной столик: не могу же я допустить, чтобы завтра он украсил какой-нибудь персидский шатер. Сейчас солнце садится прямо позади нас, значит, нас снова развернуло к востоку. Поэтому приказываю развернуться и ходко идти в лагерь. Если кто-нибудь будет вставать на пути, бросаться и уничтожать.
По всем рядам командиры эхом передали приказ, и построение развернулось на месте.
– Спартанцы, вперед! – рявкнул командно Клеарх.
Менон не преминул буркнуть что-то язвительное, что уже успело стать между ними чуть ли не ритуалом. Клеарх взял себе на заметку, если они оба выживут, дать ему по скуле или поставить кувшинчик вина – одно из двух. Кое-кто из людей Менона проводил выходящих вперед спартанцев скабрезными возгласами. Нет, наверное, все же по скуле.
Эллины к концу дня измотались. Это было видно по сбивчивому шагу; по тому, как копья волоклись по земле или на них опирались, как на пастушеские посохи. Лишь спартанцы держали свои копья острием вперед, готовые к броску. Потому Клеарх и выставил их вперед, несмотря на то что почти весь день они несли на себе основную тяжесть боя. По его оценке, уровень их подготовки был на порядок выше, чем у других. Это более всего ценится по окончании сражения, когда конечности людей тяжелеют, а ноги замедляются до ковыляния у тех, кто еще поутру ходил упругой поступью леопарда.
Плотным строем они шагали по неоглядному полю битвы, направляясь на запад. Тучи пыли по-прежнему клубились и росли вширь, скрывая врага из виду. Временами эллинам казалось, что они одни идут через огромную пустынную окрестность. Клеарх и Проксен высматривали персидские полки, что пришли на эту равнину вместе с Киром. Пересекая расположение, где нынче стоял Арией, они рассчитывали в любой момент его встретить. Но вокруг расстилался все тот же пустой однообразный простор.
По пути назад Клеарх мысленно вел счет шагам, хотя знал, что такие подсчеты при подвижном бое заведомо ненадежны. Он все еще не мог высчитать, где он в конце концов остановился, прежде чем повернуть обратно к лагерю. Там все еще оставалось свыше десяти тысяч беззащитных людей, ждущих их с надеждой. У многих из его людей среди них были друзья и возлюбленные, но ответственность лежала на архонте. Он не мог бросить их там на пагубу, поругание или рабство, хотя мысль об этом временами и проскальзывала.
Такова уж участь проигравших в битве. А Кир безусловно ее проиграл, если та весть правдива. Стиснув зубы, Клеарх отказывался даже представить тот вывих из победы в поражение, пока тот еще настолько свеж. Его эллины прошли толщу врага насквозь. Он сам не получил ни царапины (мечта любого командира, когда-либо обучавшего воинов: достичь такого превосходства во владении оружием, что на поле боя тебя невозможно остановить). Упустить победу при таком радостном стечении – нет судьбы более жестокой и горькой.
Думать об этом, несмотря на тихие увещевания внутреннего голоса, он был сейчас просто не в силах. Пока этим лучше поступиться и сосредоточиться на задачах, которые больше с руки младшему командиру. Он, так или иначе, возвратится в лагерь. Спасет тех, кто пришел вместе с войском, и только тогда задумается над ужасным положением своих воинов: многие сотни переходов от дома, окружение силами неприятеля.
На протяжении часа путь им никто не преграждал. Пыль вокруг начинала оседать, но и солнце уже садилось, грозя повергнуть мир во мрак. Те двое конников из Афин снарядили с десяток конных разведчиков. Все всадники из личной стражи царевича поисчезали, и, за исключением этой горстки, все греческое войско двигалось пешком.
Клеарх едва не скомандовал атаку, когда углядел впереди черные щиты и доспехи. Но это оказался лишь передовой рубеж нынешнего утра – точнее, его останки. Воины, пришедшие на равнину Кунаксы и еще встречавшие сегодняшний рассвет с гордостью и отвагой, теперь безглазо лежали в пыли, а кожа их успела подернуться желтизной и остыть. Осмотрительно, морщась и покачивая головами, грекам приходилось перебираться через ряды мертвых. Здесь, на этом рубеже, персидские полки царевича Кира впервые сошлись с несметным войском царя Артаксеркса. Мертвые были неразличимы; они лишь несли разные знамена и пришли на это поле, служа разным братьям. Теперь они лежали вместе, спутанные смертью так, что никто не мог бы отличить и сказать, кто здесь за кого бился и с чьим именем погибал.
Пара раненых все еще постанывала и сиплым прерывистым шепотом просила воды. У греков ее не было, а если бы и была, то своей драгоценной влаги они бы им не дали. Один из раненых попросил его убить, и его мольбу удовлетворил кто-то из коринфян, чиркнув ему ножом по горлу. Всем эллинам запомнится эта безмолвная часть перехода – не больше десяти стадиев, но через кучи и пригорки тел и их частей. Тут и там на песке валялись отрубленные кисти и пальцы. Один из воинов зачем-то подобрал руку, чем вызвал крайнее недовольство у своих товарищей; они с негодованием кричали на него, пока он ее не бросил. Многие подбирали упавшие ножи и шлемы – особенно те, кто потерял свои. Трофеи – обычная часть войны, но Клеарх был вынужден пригрозить расправой на месте, когда увидел, что некоторые, приостановившись, втихомолку сдергивают с рук мертвецов кольца и перстни.
Один из немногих отрадных моментов был, когда каре случайно наткнулось на группу персидских мародеров, занятых тем же обиранием мертвых. Персы вскинули головы, в ужасе поняв, что идущий к ним строй – это не их соплеменники, а враги-греки, вынырнувшие из пылевой завесы. Отдавать приказ Клеарху не понадобилось. Передний ряд спартанцев двинулся прямиком на них и оставил их с теми, кого они обчищали. Но было опасение, что примерно такая же сцена ждет их и в лагере, поэтому Клеарх поторопил своих людей шагать быстрее.
Сумерки уже сгущались, когда впереди наконец показались повозки и палатки. Лагерь располагался в полусотне стадиев от поля боя, и войско эллинов вернулось в него по своим же следам, проложенным в начале этого дня – казалось, вечность и трагедию назад.
Их позиция не осталась незамеченной, хотя новых вызовов не замечалось. У персов, в отличие от эллинов, лошадей было в достатке, и конники, не скрываясь, подъезжали, пересчитывая численность и оценивая оставшиеся у греков силы. Затем они ускакали, несомненно, для доклада своему хозяину, что неприятель все еще на поле. Клеарх поиграл желваками. Сделать с этим ничего было нельзя. Затем всадники появились снова, резво скача вокруг каре на расстоянии пары сотен шагов. Лучников и пращников они, похоже, не боялись. Было бы неплохо на них наброситься, но для пеших это пустое состязание на износ. Так что нужно вначале прийти в лагерь с его водой и съестными припасами, а также приободрить в нем тех, кого можно защитить. Остальное подождет.
При приближении к лагерю спартанец сглотнул ком в горле. Десять тысяч мужчин, женщин и детей – целый город в пустыне, где все ждут вестей о великой победе и новом царе. Но сбыться этому не суждено. Из-за отдаленности от поля боя воздух здесь был чище, но свет дня уже угасал. Направляясь к кострам и палаткам, Клеарх чувствовал неимоверное облегчение. Думать о царевиче было просто не по силам. Только не сейчас: боль еще чересчур свежа, и слишком велика потеря.
Вскинуть голову Клеарха заставил внезапный зов рогов. По холмам впереди его идущего строя скатывалась и рассыпалась по равнине персидская конница, вероятно, с той же мыслью, что и у него. Только они не знали, что золото Кира здесь отсутствует. Думали, что в лагере их ждут сокровища мятежного царевича. А всех молодых и годных можно будет взять в рабство. Остальным же уготована ужасная смерть.
Спартанцы в сумраке на ходу разминали ноющие ноги и прочнее сжимали копья. Вражеская конница поспеет в лагерь раньше их – но лететь туда нет крыльев, и даже бег с полной выкладкой может выжать перед схваткой все оставшиеся силы. Оставалось единственно припустить трусцой, ориентируясь на звенящие впереди крики.
На глазах у Клеарха те двое афинян повели за собой конных разведчиков и, выхватив мечи, погнали лошадей галопом через узкий ручей к палаткам лагеря.
– Ай, молодцы, – вполголоса похвалил их архонт, чувствуя, как отяжелели за день мышцы. Почитай, весь день прошел в переходах и схватках. Ну да это неважно. Остановить его может лишь смерть. А она, как известно, приходит за всеми.
– Копья на изготовку! Готовь щиты! – крикнул он своим спартанцам.
Пот тек градом, внутренний жар обжигал легкие. Эллины на бегу ответили нестройным ревом. Подбежав к крайним палаткам, они занимали проходы между ними и выходили в поле зрения врага. Персидские конники готовились к своей самой вожделенной забаве: разбою с разграблением беззащитного лагеря на плоской сухой земле. Себя они чувствовали охотниками и перекликались лихим волчьим воем. И тут меж палаток, преграждая проход, навстречу им выдвинулись красные плащи. Куда ни повернись, везде оказывались воины, умелыми проворными движениями секущие оголенные ноги, сметающие копьями растерянных седоков. Это была в самом деле резня, но не та, которой они ожидали.
Было слышно, как персидские сотники гаркают приказы, веля своим выходить из, как им теперь казалось, подстроенной засады. Обе силы приближались к лагерю с противоположных сторон; персидские конники сейчас отходили тем же путем, которым пришли. Золота они не нашли, но гнали перед собою стайки визжащих женщин и детей, пытаясь согнать их к своим основным силам. Пленники, в свою очередь, порскали прочь, едва завидев в этом хаосе малейшую прогалину. При этом они во весь голос взывали о помощи, и Клеарх спешно направил своих воинов через лагерь. Сколько там врага, он понятия не имел – вполне возможно, что и сотни тысяч. Вперед его гнал сам порыв атаки. Натиск был направлен против персов, которые по-прежнему пытались захватить побольше рабов и для этого разбивали толпу на мелкие группы. Многих женщин, пытающихся вырваться обратно к своим спасителям, они бесцеремонно прикалывали клинками. По мере того как сгущалась темнота, эта кровавая вакханалия с каждой минутой становилась все более сумбурной.
Клеарх обнаружил, что движется рядом с Проксеном – возможно, потому, что оба были примерно одного возраста, а те, кто помоложе, умчались вперед. Оба с багровыми лицами пыхтели, как кузнечные мехи. На ходу они бросили друг на друга взгляды, в которых смешивались боль и азарт. Едва держась на ногах, они, тем не менее, не могли остановиться и продолжали переть вперед.
Впереди Проксен заприметил двух молодых красавиц, которых выволакивала из шатра троица солдат в черном. Один из них был увешан найденными им золотыми украшениями и парой серебряных кувшинов. При виде двоих греков он сиганул на лошадь и ударил ей пятками в бока. По соседнему проходу между палатками пронеслось с полдесятка конных персов, на скаку крича о виденном ими богатстве. Клеарх истово ругнулся: сейчас они начнут стекаться сюда в надежде что-нибудь урвать. Прежде чем к ним прибыло подкрепление, он атаковал и отбил удар кинувшегося на него перса. В следующее мгновение тот, звонко вякнув с перерубленным предплечьем, был вынужден отпустить одну из женщин, которую держал за волосы.
Вторая унеслась в темноту, но эта стояла, тяжело дыша и сверкая глазами сквозь спутанные смоляные космы.
– Царевич Кир да вознаградит тебя за мое спасение, – порывисто выдохнула она.
Клеарх скорбно вздохнул, ощутив волну горького гнева, норовящего захлестнуть его с головой.
– Уже не вознаградит, – промолвил он.
Глаза женщины расширились, а дыхание стало мелким. Она отступила на шаг, а он машинально протянул к ней руку:
– Назови мне свое имя, красавица. Я Клеарх.
– Паллакис, – ответила она, вполоборота глядя, свободен ли проход. Было ясно, что сейчас она рванется бежать.
– Там везде персы, Паллакис, – сказал он ей. – Если ты убежишь к ним, хорошего обращения с собой не жди. Ты понимаешь меня? Я вернулся в лагерь, чтобы позаботиться обо всех вас. Ты можешь отправиться с нами.
Было видно, как она борется с желанием броситься прочь от кровавых клинков и кромешного ужаса, что окружал это место. Клеарху вспомнилось, что раньше он ее уже видел – на ней были одежды из кисеи, скрывающие и одновременно подчеркивающие ее формы. В отсутствие Кира на ней было простое белое платье с золотистой бахромой, до бедер и с золоченым поясом. Еще были сандалии с ремешками, но никаких украшений, кроме темной подводки вокруг глаз. Простая одежда была ей более к лицу – возможно, потому, что так она напоминала архонту женщин с его родины.
Люди Проксена и Менона по-прежнему врывались в каждую палатку, приканчивая всех персов, что укрывались там до ухода греков. То была жестокая кровавая работа со сдавленными криками и звуками повсеместной борьбы. Женщину била крупная дрожь.
– Ты спасешь меня, Клеарх? – спросила она, глядя на него горящими гипнотическими глазами.
Архонт прекрасно понимал, что эта женщина привычна к тонкому манипулированию. Но сейчас это был просто призыв, без всякой наигранности или заискивания. Может, именно поэтому она и была наложницей царевича. Что, впрочем, не делало ее призыв менее пронзительным.
– Я постараюсь, госпожа Паллакис, – склонил он голову.
– Вообще-то госпожой я не являюсь, – сбивчиво поправила она, – хотя я спутница…
Паллакис осеклась, не докончив фразы. Вдоль ряда палаток трусцой подбегал Менон. Лицо его не в силах было скрыть оценку женской красоты, равно как и раздражения при повороте к Клеарху.
– Извини, что отвлекаю, архонт. Но кое-кто из нас, если ты помнишь, сейчас занят защитой лагеря.
– А это военачальник Менон, – церемонно представил Клеарх. – Он из Фессалии, на севере Эллады. Говорят, там высоко ценят коз, если я понятно выражаюсь.
Менон открыл было рот, чтобы ответить, но тут к нему с сообщениями подбежали двое его людей. Те тоже заметили молодую красавицу, и Клеарх заметил, как Паллакис прикрывает себя наискось поднятой рукой, точно желая защититься от их взглядов. Ее тонкое белое платье такой защиты почти не давало. Приподняв подбородок, Клеарх расстегнул стягивающую плащ застежку и привычно-ловким движением обернул им фигуру женщины. Паллакис смерила его настороженным взглядом и запахнулась в плащ еще плотнее.
– Мне думается, спартанец, цена слишком высока, – тихо сказала она.
На ее лице можно было различить отчаяние от созерцания своей участи. Как наложница царевича она пользовалась всеми благами и расположением, получая все, чего захочет. И вот в секунду она всего этого лишилась. Со всех сторон ее окружали мужчины, из которых каждый был бы счастлив провести с ней часок-другой. Вопрос был в том, кого из них выбрать, чтобы он оберегал ее от остальных. Клеарх вздохнул, подумав о своих дочерях, и вновь обратил внимание, как на нее поглядывает Менон. Тот как будто почувствовал его неодобрение.
– А почему, собственно, на нее претендуешь ты? – спросил он запальчиво. – Или положение старшего дает тебе право забрать ее себе, а?
Клеарх подавил в себе спазм гнева. Горечь Менона могла казаться забавной или раздражительной, но они провели в сражении целый день, и силы были на исходе. Иногда выбор бывает довольно прост.
Не говоря ни слова, архонт подступил к Менону, чем поверг его в растерянность (тот уже снова собирался что-то сказать). Несмотря на то что слова еще не сорвались у Менона с губ, Клеарх отпихнул его на шаг грудью.
– Если хочешь, фессалиец, то можешь бросить мне вызов, – прорычал он. – А до этих пор будь добр исполнять свое дело. Собирай лагерных постояльцев и готовь своих людей в дорогу. Я не намерен ждать, пока нас здесь накроет еще кто-нибудь из врагов. Ты понял мой приказ? Ты можешь его выполнить? Если нет, то назови мне своего первого помощника и прикажи ему явиться сюда. Я хочу, чтобы он видел, что с тобою произойдет. И я не упущу случая преподать всем наглядный урок!
Последнее он сказал в нарастающем гневе, дав Менону ощутить всего лишь отголоски своей ярости насчет минувшего дня. В истинной своей силе волна ударит по всем, когда гонка поуляжется, только день пока еще не закончился, да и не до этого сейчас.
Менон ушел без единого слова, полоснув лишь взором Паллакис (дескать, мне еще есть что сказать). Она молча наблюдала, как спартанец сухо отдает приказы десятку своих подчиненных, а вокруг постепенно восстанавливается видимость спокойствия. Конницу персов отогнали, так что, по крайней мере, унялась та истошная крикотня. На смену ей пришли досконально знакомые звуки возни лагеря, готовящегося менять кочевье. Все проходы между палатками наполнились суетливым людом, который подгоняли греческие воины. Палатки в минуту становились холщовыми тюками и связками кольев. Спешно грузились повозки, однако через какое-то время Проксен дал команду большую их часть оставить: непонятно было, когда снова нагрянет персидская конница. Поднялся ропот: людей тычками и приказами заставляли выдвигаться, а их жизненные сокровища оставались защитой от набега. Это было несправедливо: одни семьи уносили с собой все, а у других не оставалось ничегошеньки, кроме собственных слез.
О спутнице царевича Клеарх будто забыл, хотя она стояла за его плечом, укутанная в его плащ. Паллакис тихо молилась за душу Кира, пустившуюся в свой небесный путь. Человек он был приличный, третья любовь в ее жизни. Что теперь будет с доставшимися ей от него драгоценностями? Позволят ли ей их оставить?
– Клеарх, я под твоей защитой? – спросила она.
Спартанец обернулся, видя в ее глазах боязнь.
– Да, – сдвинув брови, ответил он. – Если Менон или кто-то еще будут доставлять тебе беспокойство, скажи им, что ты служила царевичу, была его женщиной. С уходом Кира за его честь буду стоять я. Он был моим другом.
– А я… мне теперь… быть твоей? – ломким от растерянности голосом спросила она.
Клеарх, уже думавший отвернуться, вздохнул.
– Паллакис, нас здесь от силы десяток тысяч. Еще примерно столько же в лагере. А вокруг нас, на равнине и холмах, этих тысяч сотни – да что там сотни, их вообще не счесть. И все они преданы своему царю, который нам заклятый враг, ты это понимаешь? Человеку, который теперь досконально знает, что от самых Сард мы шли сюда затем, дабы лишить его престола и жизни.
– Ты думаешь, мы все умрем? – спросила она.
– Я думаю… – Увидев ее страх, он несколько сменил угол. – Царь Царей отнюдь не глуп. Он знает, что мы наемники. А потому, возможно, даже захочет перекупить наши услуги, отчего бы нет? Так что твое беспокойство, возможно, необоснованно. Я хотел сказать… Паллакис, у меня две дочери, обе близкие тебе по возрасту. А это, если ты верно меня понимаешь, меняет человека. Из юного глупца-повесы он превращается в умудренного жизнью мужа, который сходится со всеми, кого встречает. Кроме разве что Менона, как ты, наверное, уже успела заметить. Этого человека точит собственная злость. И потому он мне не может нравиться.
– Можно я пойду к себе в шатер, Клеарх? Мне нужно взглянуть, на месте ли еще мои серьги и ожерелья?
Тихим свистком архонт подозвал к себе спешащего мимо спартанца.
– Все брось и отправляйся за госпожой Паллакис, – приказал он. – Отвечаешь за нее жизнью.
Вторично возражать против приданной ей знатности она не стала, принимая ее как должное.
Клеарх проводил ее взглядом. Да, царевичу Киру вкус не изменял никогда. Восхитительная женщина. На зависть любой эллинке. Эти темные волосы, светлая нежная кожа… С досадливым рыком архонт мотнул головой, приводя в порядок мысли. Из родительского дома в ратное обучение его забрали в семь лет. К двенадцати он уже был вожаком волчьей стаи мальчишек. По одному плащу в год – это единственное, что им выдавали. Нередко, когда туника истлевала на теле, под плащом он ходил голышом и, бывало, месяцами не знал бани. Сейчас на плечах не хватало веса плаща, но было и легче, словно эта женщина сняла и унесла с собой некую толику боли, присущую этому дню.
Откуда-то из отдаления снова появился Проксен, близясь к стоящему в раздумье Клеарху. Спартанец отслеживал его приближение, а тот следил за архонтом; каждый оценивал силу, оставшуюся в соратнике. Ночная стычка была нешуточной. Наступившая темнота уберегла их своими объятиями. Хотя утро, бесспорно, вновь выявит врага, пришедшего по их души.
– Пока их конники от нас отвязались, – объявил Проксен. – А вот стрелы у наших лучников кончились, и добыть их негде. Выставить вовремя пращников у меня не получилось.
– Ну вот. Теперь Царь Царей знает, что мы в лагере. И точно знает, где нас искать перед восходом солнца. Так что, товарищ мой, не исключено, что завтра наш последний день.
– Кого это я слышу, Клеарха или голос Менона? – поднял кустоватые брови Проксен. – Я-то думал, спартанцы несокрушимы.
Клеарх хмыкнул.
– Конечно, ты прав. Нам нужно выйти нынче же. Они думают, что обратно мы двинемся той же дорогой, что пришли. И наверняка встанут с запада. Я бы на их месте так и поступил. А раз так, то нам остается север. Туда и направимся.
– Вот и хорошо, – кивнул Проксен. – Твой приказ: идти на север. А лагерный люд с нами, со всей водой и запасом еды, какие они могут унести. – Он немного помолчал. – Хотя Менон настаивает, чтобы мы их бросили. Говорит, они замедляют нам ход.
– И он прав, – рассудил Клеарх, – замедляют. Друг мой, я не вижу из этого выхода.
Проксен, на удивление, сжал ему плечо – жест, между ними несвойственный.
– День был скверный. Ты, когда поспишь, восстановишься. Трудности будут те же самые, но ты начнешь лучше им противостоять. И как раз с таким Клеархом, уверенным в себе полководцем, я и желаю разговаривать поутру. Сомнений нет, он будет полон здравых мыслей.
– Славный ты человек, – вымученно улыбнулся Клеарх.
21
Ночь тоже не обошлась без тревог. Дважды дробный гул табунного топота становился таким близким, что воины изготавливались к атаке, но потом он снова шел на спад. Огромные силы или вышли за ними на охоту, или замышляли окружить их в пустыне. Сложно было не представлять себе удушающую петлю, которая медленно затягивается под равнодушным ликом ползущей по небу луны.
За пределами прежнего лагеря Клеарху пришлось вспомнить, что вышедшие с войском мужчины, женщины и дети не могут шагать как солдаты. За то время, что он пытался проложить дистанцию между местом, где их точно увидели, и местом предстоящего ночлега, вслед за каре эллинов растянулся длиннющий хвост из людей. Многие из идущих были все еще оглушены тем, как немилосердно обернулась их судьба. Согбенно брели черные бесконечные вереницы – матери с детьми у бедра, согнутые под тяжестью поклажи мужчины. То был разброд, полный отрыв от всего, что их когда-то окружало.
Первый час пути Клеарх еще довольствовался посылкой к этой хвостатой людской комете своих воинов, которые поторапливали их ускорить шаг. Но в ответ слышались лишь измученно-сердитые голоса, а какая-то женщина, сварливо крича, попыталась всучить одному из спартанцев своего сынишку, чтобы тот его понес. Тогда Клеарх остановил всю группу и в темноте отдал новые приказы. Его люди, понимая ставки, не роптали. А уж Менон не преминул многократно повторить всем, кто его слушал, что это он советовал не брать с собой такую обузу. Им не нужны эти обреченные рабы. Чтобы появился хоть какой-то шанс, необходимо бросить их и отдалиться от персидского войска на наибольшее расстояние.
В тыл этой колонны Клеарх отрядил тысячу спартанцев и тысячу коринфян. Лагерным постояльцам теперь приходилось идти с дышащими им в спину греческими воинами, понуждающими их ступать резвей. Кое-кто из воинов изнывал от соблазна использовать для понукания копья, покалывая ими задних, как медлительный скот. Час-другой с переменным успехом это действовало, но затем от отчаяния люди озлобились и потеряли страх, требуя себе отдыха или смерти, тем более что дети у них были от усталости уже ни живы ни мертвы. Тогда архонт дал приказ о передышке, и люди повалились прямо там, где стояли. Превозмогая собственную усталость, он назначил караул из наиболее молодых. Своих спартанцев он пристроил на отдых, стараясь их по возможности не будить, чтобы к восходу солнца они хоть немного посвежели: так от них будет больше проку в бою. С зевком потирая глаза, он невольно вздрогнул, когда его за плечо тронула Паллакис. Она протягивала ему его плащ.
– Госпожа? – воскликнул архонт удивленно.
– Это твой плащ, полководец. Себе я нашла одеяло, когда была в шатре.
Он принял вещь с тайной благодарностью: свой добротный плащ, которого ему действительно не хватало.
– Надеюсь, ты взяла с собой только одеяло? Завтра я вычищу из лагеря все мало-мальски лишнее. Иначе дороги не осилит и половина: идти предстоит весь день. А то я тут видел одного, который плелся с конской упряжью на плече! Далеко ли они думают уйти со скарбом на спине?
– Половину повозок ты велел оставить, – напомнила женщина. – А люди теперь в страхе и отчаянии. Многие лишились вообще всего. Разве можно их винить?
– За то, что издохнут из-за любимого стула, который будут тащить через пустыню? Да, можно, – твердо кивнул он.
Она зашла сзади, явно с каким-то намерением, и Клеарх, крутнувшись, бдительно схватил ее за запястье.
– Ты чего?
– Я подумала… Кир, бывало, просил, чтобы я разминала ему шею. Ты утомлен, Клеарх. А нам ты нужен бодрый, с умом острее, чем у всех.
Он прокашлялся, смущенный тем, что схватил ее за руку.
– Да. Пожалуй, было бы неплохо. Благодарю.
Расстелив на песке плащ, он улегся, приподняв согнутые в локтях руки.
Паллакис опустилась рядом на колени и пальцами принялась массировать ему мышцы шеи и плеч. Клеарх удивился, насколько это больно. Ублажительница Кира, видимо, действительно знала в этом деле толк, или же мышцы во всем его теле были настолько натружены. Весь день прошел в сражении и многочасовых переходах… Сон оглушил спартанца еще прежде, чем он поймал себя на дреме. Он лежал, тихонько похрапывая, в то время как Паллакис задумчиво смотрела на него сверху вниз, поглаживая застарелые шрамы. Какой красивый мужчина! Возраст определить было трудно, хотя можно предположить, что лет под пятьдесят. Будь он лет на двадцать моложе, то, может, и вправду имело бы смысл попытаться вернуть к жизни огонек чувства.
Храп становился глубже и громче, и женщина направилась обратно, к себе под одеяло. Большинство лагерного люда лежало семейными группами или располагалось кучками вокруг повозок. В своем страхе они льнули друг к другу; было видно, как при проходе через становище за ее поступью тревожно следят людские глаза. У нее самой семьи, разумеется, не было. Все, чем она располагала, было утрачено в один-единственный день. Свернувшись калачиком на песчаной земле, одну руку она сунула себе под голову, а другой укрыла лицо, чтобы никто не слышал ее плача.
Пробудилась Паллакис толчком, в страхе. Было уже утро, а грубые голоса вокруг принадлежали грекам, поднимавшим лагерь на ноги. Она с зевком потянулась, а поднявшись, увидела гоплитов, бегущих трусцой на границе лагеря. Кто-то из них направлялся к холмам, в поисках высоты обзора. Другие – и их было больше – находились среди обитателей лагеря, направляя их в ту или иную сторону для справления нужды. Многие мочились прямо там же, где вставали, и воздух густел от едкого запаха – или же это был запах страха. Напряжение читалось на каждом изможденном лице, слышалось в надрывном плаче детей. Некоторые во вчерашней схватке лишились отцов, но в основном это была просто реакция на мрачные лица и витающий всюду дух нависшей расправы.
Лопат для рытья отхожих ям не было, и тысячи оставляли кучки выделений прямо там, где находились, – вид гнусный, а вонь такая, что сама мысль о скором снятии со стоянки была в радость. Люди на время превращались в безродных кочевников, до нападения царского войска или смерти от жажды в дороге. Вода сейчас была ценнее, чем мясо, так как гурт из овец, коз и ослов они все же гнали с собой. Некоторые из оставшихся повозок разламывались на дрова. Так что пища была, но рот мучительно пересыхал, и губы трескались.
Спустя непродолжительное время воины прокричали призыв идти или оставаться. У Паллакис вызвал невольную улыбку один молодой человек, согнувшийся под тюком поклажи, более пригодным для мула. Его жена шла налегке, но все же нашла время нахмуриться на наложницу царевича, когда та походя улыбнулась ее детишкам. Это было выражение, с которым Паллакс начинала сталкиваться все более часто. Смерть царевича будто позволяла кое-кому в лагере показывать, насколько они презирают женщину, согревавшую его ложе. Паллакис в ответ лишь поджимала губы и не выказывала им своего одиночества.
Клеарх свое дело знал, это было очевидно. Затерянная среди тысяч чужих ей людей, она видела, как греческие воины шагают сзади плотным строем, погоняя люд, будто скот, как и накануне. Пункта назначения обитателям лагеря никто не называл. Каждый последующий час обострял людские нужды, так что голоса взвивались в жалобно-сварливых стенаниях. Взошло солнце, безжалостно и неуклонно иссушая глотки. Даже самые страждущие могли единственно надтреснутыми голосами клянчить воды.
Ближе к полудню навстречу им попалась река. Ни бурдюка, ни кувшина у Паллакис не было, и она, просто встав на колени возле места, где вода точила глинистый берег, черпала и ненасытно пила, пригоршня за пригоршней, словно хотела напиться раз и навсегда. Но не успела она отойти от того места, как жажда глумливо начала напоминать о своем возвращении. Кожа женщины лоснилась испариной, а руки были в терракотовых пятнах засохшей грязи. Проводить пальцами по волосам больше не было возможности, и она просто завязала волосы в узел, как простую солому, забыв об их роскошной пышности, своем еще недавнем предмете гордости. Солнце безжалостно стегало зноем, но ход людского потока в какой-то момент застопорился. Впереди, где находилось воинство, проходило какое-то совещание.
Через людское сборище она пролезла вперед увидеть и послушать, что там происходит. Неудивительно, что она застала там Клеарха, а вокруг него греческих военачальников. Они взирали на спартанца как на спасителя, веря в его легенду. Паллакис взмолилась богам, чтобы у него получилось вывести их из этой преисподней. Стоя там, она вдруг заметила, что Клеарх смотрит прямиком на нее. Он приветственно поднял руку, так что кто-то обернулся поглядеть, кто там улучил его внимание. Паллакис не оглянулась, когда за своей спиной услышала змеистый шепот злословия. Защитника в толпе у нее не было.
Клеарха, среди прочих, слушал какой-то молодой человек с намотанными на руку поводьями. Из-за плеча к нему просовывала голову прекрасная лошадь, ища у него в сжатом кулаке лакомство. Несомненно, животное было так же голодно, как и все остальные. Поймав на себе взгляд молодого человека, Паллакис в ответ тоже улыбнулась. Лошади ей нравились. В каком-то смысле они олицетворяли свободу – во всяком случае, бо́льшую, чем ходьба пешком. Тот молодой человек улыбнулся открыто, и Паллакис заставила себя отвести взгляд, понимая, что здесь нужно соблюдать осторожность.
– Водой мы снабдились, пища тоже есть, – говорил Клеарх тем, кто стоял рядом. – В дороге, несомненно, будут попадаться и селения. Местность для перехода непростая, но мы ее осилим. Прибежища… вот с ними никак. Хотя я не вижу, чтобы надвигалась гроза. А если б и надвинулась, я бы только приветствовал: и отмыться под ней, и даже напиться можно вволю.
– Мы не можем оборонить такое скопище, – гнул свое Менон, не придавая значения, слышат его в толпе или нет. – Одни мы могли бы ускорить шаг и за неделю оторваться от персидского царя. А с десятком тысяч этих нахлебников ты обрекаешь нас на гибель.
Клеарх сделал к фессалийцу грозный шаг.
– Во время войны, – воскликнул он, – как подобает мне ответить человеку, подтачивающему моральный дух войска?
– Ты был избранным вождем царевича Кира, что лежит сейчас обезглавленный где-то на равнине, позади. Неужто боги распорядились, чтобы ты возглавлял нас вечно, Клеарх? Или это потому, что ты спартанец, царевичев любимец? Я считаю, нам следует избрать нового вождя. И выдвигаю для этого себя. С собой я возьму только самых быстрых и годных обитателей лагеря. Не ворчите на меня! – бросил он воинам, поднявшим недовольный ропот. – Клеарх дал нам выбор между тем, чтобы оставить здесь некоторых или принять смерть всем поголовно: старым и малым, женщинам и детям!
– Ты нас недооцениваешь, – возразил Клеарх. – Но если желаешь, то можно и устроить голосование. Если мое главенство вас не устраивает.
Менон мельком огляделся, итог этого голосования уже читая на разгневанных лицах лохагов.
– Ладно, ничего мне не надо, – усекся он. – Видно, вы пока не готовы меня услышать. И сетовать на что-то во время войны, как ты, спартанец, говоришь, я не буду. Продолжай разыгрывать из себя героя. Являй нам мудрость и рассудительность, которые уже привели нас вслед за безголовым царевичем в эту пустыню, окруженную врагами. Истинно говорю: ты нас всех изведешь.
Проксен, взвалив Менону на плечо свою лапищу, начал что-то рычать ему на ухо. Менон, с ругательством стряхнув его длань, пошагал от собрания прочь к реке, где начал сердито набирать в кожаную бутылку воду. Толпа молча перед ним расступалась. Клеарх проводил его взглядом, а затем повернулся к остальным с таким видом, словно Менон при нем не произносил ни слова.
– Судя по пергаменту, который я видел, река Запатас находится отсюда к северу в двух-трех днях пути. Холмы вон там, вдалеке, уже зеленые, а значит, там должна водиться и живность, которая всегда живет у воды. Поэтому охота нам обеспечена. Тягловый скот мы забьем на прокорм, бросим и оставшиеся повозки. Представляю, с какой легкостью наши молодцы будут сбивать удодов и дроф! Достаточно будет послать по их следу горстку умелых лучников: эти птицы летают недалеко, а утомляются быстрее нас. Так что будем устраивать пиры каждый день! – Он улыбнулся, хотя глаза оставались холодны. – А что важнее всего, река та быстрая. Очень хорошо будет оставить позади себя хотя бы одну реку с бурным течением. Не думаю, что персидский царь даст нам уйти просто так, без боя.
– Сколько же нужно идти, чтобы его земли остались позади? – задал вопрос Софенет.
В бою он получил ранение, и левая рука у него была сейчас примотана к груди. Изо всех командиров он, увы, наименее годился к переходу.
– Если он от нас отвяжется, то примерно семь сотен их парасангов. Можно попытаться выйти к Царской дороге.
– Где Артаксеркс будет лишь рад нас настичь, – пробурчал Софенет без желания затевать спор.
Клеарх смерил его тяжелым взглядом, после чего продолжил:
– Если двигаться на север, то персидскую державу можно пройти примерно за месяц, выйдя на необжитые земли. Горных племен и лесных разбойников я не боюсь. Они совсем не то, что персидское войско целиком. Пустыня не бесконечна, и там есть реки. Если вы согласитесь, чтобы я вас вел, то я направлюсь на север со всей возможной поспешностью. К концу пути мы исхудаем, но, думаю, вырвемся.
– Месяц пути – это для воинства, – уточнил Проксен. – А в лагере есть еще старики и дети. Как быстро получится продвигаться с ними?
– Ты заодно с Меноном? – сердито покосился на него архонт. – Готов оставить беззащитных на поругание и расправу визжащих ахеменидских орд? Ты никогда не наблюдал сцен разгрома? Или ты, Софенет? А вот мне доводилось. Я видел, как разграбляются и предаются огню целые города. И лично сам отдавал на это приказания.
Он твердо сомкнул губы и стоял, переводя дух. Наконец, медленно разжав кулаки, он выдавил на лице улыбку.
– Ну да ладно, прошлого не изменить. Мы можем лишь защитить этих людей, доверивших нам свои жизни. Надо будет выслать впереди себя тех немногих всадников, что у нас есть, чтобы они высматривали неприятеля. Будем уклоняться от столкновений так долго, насколько это возможно. Если они увидят, что мы стремимся покинуть их владения, то, может, отступятся и дадут нам уйти.
– Ты сам тому не веришь, – устало махнул здоровой рукой Софенет.
Клеарх качнул головой.
– Верно. Сразиться нам, скорее всего, хоть раз, но все же придется. У царя слишком уж много молодых дерзких военачальников – а также один старый, толстяк, – которые хотели бы прибить наши шкуры к стене. Однако я видел качество людей, которые стояли с нами. Вчера им не было равных, во всяком случае в персидских полках. Наш квадрат беспрепятственно прошел их хваленых Бессмертных. Мы их просто распотрошили. Теперь они будут с нами поучтивей. И, клянусь всеми богами, у них есть на то основания.
Звуки суматохи все заслышали одновременно и повернулись, словно стая охотничьих псов на запах. У Паллакис тревожно замерло сердце, когда стало слышно, как Клеарх отдает приказы уже совсем иным тоном. Это уже не было хрипловатое добродушие начальника к своим подчиненным. Железный голос полководца не допускал пререканий, и по его мановению воины стремглав разбегались по своим местам, выхватывая на ходу мечи. Чтобы все разглядеть, Паллакис встала на цыпочки, но точно так же повели себя и остальные, и она, не отличаясь особым ростом, видела перед собой лишь людские спины. Тот самый мужик, что еще недавно на нее хмурился, тайком положил ей сзади ладонь на бедро. Паллакис жестко ее сбила и, не оглядываясь, продвинулась в глубь толпы. Еще позавчера этот выродок не посмел бы к ней не только прикоснуться, но даже глянуть в ее сторону. Эта дерзость показывала, как низко пала ее звезда – настолько, что впору испугаться. Надо бы где-нибудь раздобыть нож. Может, одолжить у Клеарха его копис?
Проталкиваясь через людское скопище, она внутренне содрогалась от мысли, что сейчас на них обрушится вражье войско. Но вместо этого глаза увидели троих всадников, которые, умерив ход коней, приближались сейчас к строю греческих гоплитов, каменно вставшему на их пути. Слышать разговор не позволяло расстояние, но она увидела, как всадники раскрыли ладони наружу, как бы показывая, что при них нет оружия. Это что, мир? После всех ужасов там, на прежней стоянке, сердце отказывалось в это верить. Персы бывают добры лишь к тем, кто им люб. А с теми, кого они считают рабами или недругами, они, наоборот, невероятно жестоки. Все иноземцы не попадают ни в одну из их каст, а потому даже распоследний нищий Персеполя мог считать себя ее хозяином, да еще и возвышаться над любым греком. Неизвестно, понимал ли Клеарх, как устроена их сущность. На кого-то ее прежнее положение по-прежнему воздействовало, и они расступались, давая ей пройти вперед. Клеарх непринужденно вышел на площадку, скалясь улыбкой, как будто эти всадники не были смертельными врагами, еще не успевшими стряхнуть с себя пыль недавней битвы. При виде этого сердце Паллакис застывало в груди. Как, ну как могло оказаться, что ее царевич мертв? Почему он не восседает на отвоеванном троне во всей своей молодости и великолепии, обновляя по своим замыслам Персию? Сколько раз он возжигал ее своими мечтами, и вот все в одночасье оборвалось, а она осталась в одиночестве. Нос и горло Паллакис переполнялись слезами. И ей было все равно, что на нее смотрят и перешептываются.
Клеарх снизу вверх смотрел на Тиссаферна, который, подбоченясь, сидел на статном белом жеребце и ухмылялся, будто еще вчера они не пытались прикончить друг друга.
– Ты не поверишь, спартанец, но я даже рад видеть, что ты уцелел, – сказал он. – На тебе уже зажили рубцы от той порки? Я полагаю, что да.
– В чем причина твоего желания вывести меня из себя, Тиссаферн? – вопросом ответил Клеарх. – Я ведь могу захотеть убить тебя, воплотив чаяние по меньшей мере нескольких наших общих знакомых. Ты же не глупец. Или ты хочешь, чтобы я ударил тебя?
Тиссаферн перестал его задирать и лишь кривился улыбкой, довольный тем, что сидит так высоко над греками.
– Ты разговариваешь на языке царей, спартанец, но с варварским выговором. Известно ли тебе это? Как козопас или слуга. Видно, они тебя и обучали. А разговариваешь ты не с Тиссаферном, а с почетным старейшиной Тиссаферном. Царь Царей Артаксеркс, да будет над ним милость неба, вознаградил меня за то, что я раскрыл ему ваш злодейский замысел. Ты это, наверное, еще не понял? Я и есть тот, кто убедил Царя Царей собрать и поднять войско, чтобы в поле встретить изменников с запада. И это мое предостережение спасло трон его справедливого владельца, будь он стократ благословен. Возможно, он теперь пожалует мне дворец, после того как все благополучно завершилось в его пользу.
Клеарх потер подбородок, чувствуя ладонью колкость щетины. Придется, однако, отращивать бороду. Ближайшее время очереди к брадобреям здесь вряд ли предвидятся.
– Тиссаферн, – начал он. – Ты прибыл сюда взывать к перемирию. Но все, я вижу, хочешь разбудить во мне гнев. Если речь идет об интригах, то плетешь их ты. Лучше просто скажи то, что тебе было велено сказать. А решения о войне и мире оставь тем, кому по рангу их принимать. И кто в них смыслит.
Тиссаферн гневливо зарумянился и заерзал на замшевом чепраке.
– Хорошо же, спартанец. Лучше покончить со всем этим прямо сегодня. Я мог бы привести сюда сотню тысяч воинов, чтобы окружить вас и тучами послать стрелы в ваши глотки…
– Наверное, тебя прислали передать какое-то сообщение от царя? – перебил Клеарх, притомившись этим злопыхательством. Он бы испытал немалое удовольствие, если б толстяк подавился собственным языком или его хватил удар. Но если он готовится что-то произнести с такой неохотой, то значит, это действительно стоит выслушать.
С минуту Тиссаферн сидел в молчании, глядя перед собой с желчной неприязнью, и наконец заговорил с таким видом, будто сходящие с его губ слова имели неприятный привкус:
– Царь Артаксеркс не держит обиды на тех, кому платил его брат. Он понимает, что вина лежит на изменнике, злокозненном царевиче Кире. От греков же царь своими очами видел на поле проявление безупречного геройства. И он призывает греческих военачальников совместно обсудить, как лучше препроводить их домой без дальнейшей борьбы и кровопролития.
– Ну вот, – тихо произнес Клеарх. Мысли кружились. – Это уже ближе. Где у царя ставка, старейшина Тиссаферн?
Использование титула не укрылось от ревнивых ушей старика, однако это его не проняло.
– Войско здесь всюду вокруг, спартанец. Но где стоит мой царь, я тебе не скажу, во всяком случае, пока. Дай мне твой ответ, и я передам его ему. А вечером я возвращусь, чтобы тебя к нему препроводить.
– Я это принимаю, – с кивком произнес Клеарх.
– Приглашение относится ко всем греческим начальникам, – добавил Тиссаферн, через плечо Клеарха оглядывая ряды воинов и напряженно застывшую толпу.
– Одного или двух я хотел бы оставить, – оговорился Клеарх, думая сейчас о Меноне: как бы он чего не выкинул перед персидским венценосцем.
– Архонт Клеарх, по-твоему, я какой-нибудь кетмень с полей? Неискушенный в делах простачок? Мы провели дознание среди людей, что шли с вами от Сард. Огнем и каленым железом. Так что языки развязались у всех, и все секреты выболтаны. Нам известно, как Кир подпортил репутацию царя в Византии, выжав суммы, которых теперь уже не возвратить. Знаем до последней мерки зерна, сколько вы потребили провизии, сколько израсходовали денег и скольких вы глупо рассчитываете оберечь. Царь Царей пожелал видеть греческих военачальников, кои вчера нанесли такой урон его войску. – Перс расплылся медоточивой улыбкой. – По мне, так я бы лучше поубивал вас здесь, но я повинуюсь воле моего повелителя. Поэтому если ты не хочешь его уязвить, то явишься нынче в сопровождении Софенета Стимфальского, Менона Фессалийского, Проксена Беотийского, Ксения Аркадского[37], Сосиса Сиракузского, Пасия Мегарского[38]…
Клеант остановил его выставленной ладонью:
– Ладно, Тиссаферн. Я приду. А насчет остальных мы здесь обсудим.
– Кто тебя знает, – выразил сомнение Тиссаферн. – Вдруг ты откажешься? Возьмете и решите напасть на моего хозяина один, последний раз. Так что рассчитываю слышать твой ответ, спартанец. До нынешнего вечера.
Трое всадников вместе повернули назад, оставив Клеарха смотреть, как они уменьшаются до пятнышек на горизонте. Спартанец озадаченно ругнулся себе под нос, а Проксен, заслышав, усмехнулся.
– Ты думаешь, это ловушка? – спросил он.
– Откуда мне знать? – сокрушенно вздохнул архонт. – Может, и так. Честно сказать, я в растерянности. Я не доставил удовольствия Менону своим согласием, но правда в том, что я и впрямь не знаю, как мы сможем защитить этих людей в эдаком месте. Может, мне следовало уйти скорым шагом, оставив их всех.
– Нет, – твердо сказал на это Проксен. – Такому приказу я бы не подчинился. Мне невмочь было бы слышать плач этих детишек в мои последние минуты. Да ты бы их и сам не оставил.
– А Менон да, – буркнул Клеарх, озирая толпу. Там он снова увидел Паллакис, к которой невзначай прицепился взгляд.
– Ты не Менон, – сказал Проксен. – Ты лучше. Я пойду с тобой вечером. И если нас ждет засада, я первым делом срублю того жирного глупца.
– Опасность здесь присутствует.
Вместе с принятием решения напряженность с него спала.
– Хорошо, Проксен. Как там ни обернется, я буду стоять с тобой.
– А можно будет просто задать стрекача. Такую мысль я тоже не отвергаю.
Оба оглядели толпу, в которой были малые дети, старики со старухами, больные и немощные. Лагерь от самых Сард тащился на повозках. Если бежать, то эти люди не выдержат не то что дня, но и часа.
– Ты как думаешь, а вино на том обсуждении предвидится?
Клеарх заметно приободрился:
– Возможно, да.
22
Клеарх потер пальцем щеку в том месте, где она чесалась от пота. Ритуалов и распорядка настоящего лагеря ему вообще-то не хватало. Хотя сейчас, с непредсказуемо возникающими из сумрака персидскими всадниками, единственно здравым было отказаться от всего, что не приспособлено к езде или стремительному бегу. Оставшиеся волы тащились так медлительно, что даже ребенок мог легко обогнать их на муле; что уж тут говорить о царской коннице. Их бы приказать порубить на мясо, но его тоже нужно было нести. Тем не менее Клеарх тосковал по простым рядам костров для приготовления пищи. Ему недоставало палаток и слуг, которые бы ставили его удобство во главу угла. Все это как будто исчезло; слуг либо убили, либо утащили в рабство. Хорошо, если не последнее. С рабами персы обращались никудышно, и те долго не заживались. Сам архонт предпочитал спартанский быт и уклад, где рабы ценились и их нормально кормили. У Клеарха лично было четверо илотов, которые служили в его собственных рядах. Его они считали чуть ли не своим отцом – хотя, наверное, втихомолку кляли, когда он заставлял их упражняться или отправлял в длительные пробежки по холмам. Но рабы должны быть в форме. Чтобы таскать сундук и смотреть за спиной архонта, требуются терпение и выносливость.
В тот день он не бегал: мешал груз решения на плечах. Некоторые из отлучившихся из лагеря принесли с собой немного съестного. Другие ушли охотиться на дроф, и трое из них возвратились с победным видом, неся с собой упитанного олешка. Тут не обошлось без каверзы: на приготовление мяса не хватало дров. Одну из семей пришлось удерживать, когда на сожжение пошла их единственная повозка. Клеарх задумчиво смотрел на старика, который все еще не мог уняться и в гневе использовал не только язык, но и грубые жесты. «Боги капризны», – хотелось сказать ему, но сейчас он вряд ли внял бы этой истине. Интересно, выдавало ли это негодование что-то вздорное в характере эллинов? Такое, что они могли, потрясая кулаками, безоглядно клясть свою участь и самих богов, или же это было просто проявление глупости в некоторых из них.
Мысль не улучшала настроения, хотя толстый ломоть оленины, подрумяненный для военачальников, что готовились отправиться этим вечером к царю, несколько сгладил сумрачность духа. В предвкушении столь волшебной пищи желудок сладостно заныл.
Весть о походе быстро разнеслась по лагерю, так что все двенадцать старших командиров сошлись ее обсудить или высказать свое суждение. Несомненно, частично на этот сбор повлиял аромат жареной оленины, но и без того Клеарх приветствовал каждого с теплотой.
Менон явился последним, кислый и раздраженный. К тому времени солнце уже начинало садиться, а этот человек, по всей видимости, весь день ничего не ел. Менон подошел с явной неохотой, и этот его настрой подтвердился первыми же словами из его уст:
– Ты, должно быть, ждешь, что к тебе будут подходить на полусогнутых? Я, пожалуй, вижу, отчего ты так хорошо ладил с персидским царевичем, спартанец. В тебе такая же спесь. Может, мне тоже броситься тебе в ноги? Это бы потрафило твоей великости?
– Я думаю, Менон, ты должен остаться, – ответил ему Клеарх, игнорируя язвительный тон. Менон был мелочен и раздражителен, но его люди сражались хорошо. При всей своей неприязни к эллинам, стоящим на другой ступени общества, свое ремесло Менон бесспорно знал.
Менон налитым тяжестью взглядом обвел лицо Клеарха, а затем лица остальных. С Проксеном и Софенетом все ясно, они со спартанцем не разлей вода. Из остальных один или двое с ним втихую соглашаются, что архонт бывает заносчив, однако сейчас они все смотрели на него сплоченно, как будто он здесь лишний.
– Я военачальник с двадцатью годами на службе, – с вызовом заявил он. – Последнее, что я слышал, это что тебя отвергли эфоры твоей же Спарты. И ты нашел царевича, готового залить тебе глотку золотом. Но это не значит, что ты здесь главный, неважно, что думают все эти глупцы. А почему, кстати, они так думают – потому что так назначил Кир? Тогда, может, мы его сейчас спросим? Царевич Кир, где ты там? Отзовись! Вознеси голос, подними руку, если ты считаешь, что Клеарх должен нами повелевать! Или нет? Ты молчишь? В таком случае, спартанец, свою судьбу решу я сам. А также судьбу моих людей, которые на меня смотрят.
– Ядовитый ты аспид! – вмешался Проксен. – Клеарх, наоборот, дает тебе шанс уберечься. В случае если нас сегодня ждет измена. Неужто ты не понимаешь?
– Твой друг – большой мыслитель, – усмехнулся Менон, – как он сам о себе мнит. Интересно, что персы предложили ему на самом деле, когда пришли говорить от имени своего царя? Не могу не задаться вопросом, а не было ли это частью их уговора с архонтом Клеархом, о котором мы не ведаем? Сохраняй спокойствие, Проксен. Я и тебе не стал бы доверяться больше, чем требует нынешняя безысходность.
– Хорошо! – рявкнул внезапно Клеарх. – Идешь сегодня с нами. Возможно, хоть это избавит меня от твоего нытья. Проксен, а ты должен будешь остаться.
– Только не я, – тотчас ответил Проксен. – Я буду подле тебя.
Его тон не допускал возражений, и это снова дало Менону повод заговорить:
– Что бы вы ни затевали вместе, я это выясню. Так в чем дело? Должен ли Проксен переместить лагерь, пока нас здесь нет? Нет уж, Проксена я тоже желаю видеть около себя.
Клеарх через силу разжал правый кулак, между делом прикидывая, не сделать ли вперед два быстрых шага, оставив тело фессалийца холодеть на земле. Перспектива была заманчива, но он умерил себя так же, как когда ему было семь лет. Уроки, даваемые Спартой, были жестки, но именно они, как ничто иное, закаляли волю. А потому он через силу улыбнулся и неторопливо кивнул:
– Что ж, как скажешь. Мы вместе войдем в пещеру льва. И если он нас проглотит, то на губах у меня, Менон, будет твое имя.
– Говорить ты мастер, – пожал плечами Менон. – Но меня ты не проведешь. Это я могу тебе обещать.
Тиссаферн возвратился с наступлением вечера, когда багряное солнце пустыни спустилось вниз, к скудной поросли. Все двенадцать греческих военачальников, на вид свежие и отдохнувшие, уже ожидали. По негласным законам перемирия, с ними не было копий и щитов, но каждый оставил при себе короткий меч; что до Клеарха, то он предпочел подвешенный у поясницы копис.
Тысячи пришли их проводить и стояли сейчас в молчании. Тиссаферн насупленно покосился на это множество, где никто не выглядел поверженным или убоявшимся. Какой странный народ: проигрывая битвы, они как будто об этом не догадываются.
– Царь Царей повелел, чтобы ваши сподвижники во время вашего отсутствия оставались здесь, – шмыгнув носом, сообщил он. – Мой повелитель Артаксеркс изволил сказать, что перемирие действует, пока вы здесь, но не при движении туда или назад. Это понятно?
Клеарх какое-то время не отвечал. В полумраке глаза его казались неестественно, пронизывающе яркими.
– Понятно, – вымолвил он наконец. – Мир, если стоим на месте; война, если пошевельнемся.
Слова больше походили на угрозу, чем на согласие с требованием.
Тиссаферн, нервно отведя взгляд, дернул поводья.
Примерно через час хода – расстояние около тридцати стадиев – сгустилась темнота.
– Сколько еще, по-твоему, осталось? – спросил Проксен на греческом. – У меня уже ноги затекают.
– Откуда ж мне знать? – отозвался Клеарх. – Если затекают, то лучше всего лечиться бегом.
– А куда нам бежать? К тому же не забывайте, что я ранен, – вставил слово Софенет, указывая на свою перевязанную руку.
– Как про это забыть, если ты только об этом и талдычишь? – мрачно усмехнулся Менон, ожигая его взглядом.
– Как ни посмотри, а это всего лишь рана. От моей жены мне доставалось и похлеще, – добавил Проксен.
Неожиданно Софенет протолкнулся вперед, отчего его раненая рука нелепо дрыгнулась.
Тиссаферн в недоумении взирал, как дюжина греческих начальников припустила бегом, пихаясь локтями, как мальчишки на состязаниях. Какое-то время они неслись вперед, после чего сошли до темпа обычной пробежки. Слышались смех и шутливая перебранка.
Перс закатил глаза и, чтобы не отставать, направил коня рысью. Впереди, на отдалении, в ущелье между холмами, показались огни царского лагеря, о чем греки тотчас известили друг друга. В дальнейшем сопровождении они не нуждались. Между тем темп бега нарастал, и персы остались позади.
На себе Тиссаферн ощутил взгляды своих спутников – двоих насупленных молодых людей, прежде не имевших опыта общения с эллинами. Они взглянули на старейшину за каким-нибудь объяснением, но тот лишь сердито пожал плечами.
– Они безумцы, – буркнул он под их взглядами. – Кому по силам понимать таких людей?
Трое персов нагнали и опередили греков прежде, чем те добежали до расположения лагеря. Тиссаферн с раздражением ощущал, как от вечерней теплыни его бросает в пот. Греческие начальники скалились, глядя на персидских слуг, берущих под уздцы коней. Быть может, перед появлением к царской особе следовало переодеться, хотя приказ был возвращаться без промедления. Кто знает: может, Артаксеркс так рано его не ждет.
– Следовать за мной, – обратился он на придворном персидском, сопроводя свои слова жестом. Он знал, что кое-кто из них изъясняется на этом языке, но ему нравилось демонстрировать свое превосходство, понукая их, как детей или недоумков.
Греки сейчас держались плотной группой, а их шутливость угасла при виде строя смотрящих на них персидских солдат. По обе стороны прохода к лагерю персидские ряды застыли навытяжку; получалась целая улица из царского войска. К смятению Тиссаферна, Клеарх взял вбок и приблизился к здоровенному воину, стеклянно уставившемуся в пустоту. Вельможа в замешательстве смотрел, как грек одернул на нем тунику и сказал на ухо несколько слов, от которых рот у перса перекосился в улыбке, скрывшейся в смоляной бороде.
Такое действие позабавило остальных, и они принялись сбивчиво окликать грека на своем языке. Шествие вдоль прохода превратилось в подобие смотра, где царские воины собрались для одобрения эллинов. Тиссаферн поджал губы. Для него это были варвары и гости царя на этот вечер. Ему оставалось лишь натянуто улыбаться и взмахами пытаться руководить продвижением.
– А этот толстяк, по-твоему, разумеет на греческом? – полюбопытствовал Менон.
– Не он, так кто-нибудь все равно знает, – ответил Клеарх. – Так что не говори ничего, чего не хотел бы, чтобы они подслушали.
– Ты мудр, спартанец. Во многом ты напоминаешь мою мать.
– Мне кажется, я ее однажды встречал… – начал было Клеарх, но тут его прервал тягучий призыв труб впереди. Там занавесом раздернулся полог огромного шатра, и в окружающую темень хлынул свет.
Грекам, вошедшим в царский шатер, воздвигнутый в пустыне всего за один неполный день, трудно было воздержаться от изумления. Пол здесь был не из песка или утоптанной земли с наспех брошенным ковром, а напоминал полированный камень. Купол состоял из нескольких сводов, а воздух был маслянист от благовоний и ароматных воскурений. В такт игре каких-то струнных инструментов томно двигались полуобнаженные танцовщицы и мальчики с румянами и красочными узорами на коже. Вдоль стен тянулась цепь из сотен персидских солдат, напоминающих черных и белых жуков с лицами, рдеющими от жары и от возжигающих кровь снадобий. Сам воздух густел от смеси тепла пустыни и аромата втертых в кожу масел.
Двенадцать греков входили парами: впереди Клеарх и Менон, а сразу за ними Проксен с Софенетом. Менон не хотел стоять от спартанца по правую руку, но оказался там, когда с приоткрытым ртом заморгал в свете фонаря, играющего тысячами ярких язычков. Лампы висели на бронзовых штырях, стояли в каменных нишах, или же их держали в руках рабы, чьей единственной задачей было надлежащим образом давать освещение. Посередине шатра тянулся накрытый пиршественный стол с ножами, блюдами и чашами, все рядами расположенные на кроваво-красной скатерти. Над столом медленно вращался огромный, как жернов, светильник, волоча по кругу шлейф белых свечных огоньков. Вправо и влево перед эллинами тянулся стол, из-за которого на них взирали персидские начальники. Клеарх ощутил странную смесь эмоций, когда увидел среди них Ариея. Первой мыслью было облегчение лицезреть его живым, хотя напряженная улыбка и настороженность лица перса были достаточно красноречивы. Впрочем, стоит ли удивляться, что такой заправский вояка вновь снискал себе милость царя. Главное здесь в том, что ему удалось уцелеть.
Клеарх кивнул Ариею – большего тот едва ли заслуживал, – на что перс уклончиво уткнулся взглядом в пол. Архонт перевел взор на того, кто здесь во всех смыслах господствовал: на Царя Царей Артаксеркса. Богоподобный венценосец имел некоторое сходство с Киром, так что спутать его было невозможно, даже если бы его не обихаживали рабы, а пышностью нарядов он не напоминал драгоценный ковер. Сложения он был более плотного, чем описывал Кир, – явно воин, а не книгочей. На нем были свободные долгополые одеяния из какой-то легкой ткани, так что, несмотря на духоту шатра, он не выглядел взмокшим. Борода была намаслена и завита мелкими колечками. Из-под складок ткани проглядывал египетский нагрудник из золотистой бронзы, а за кушак был заткнут кинжал. Дремливая улыбка придавала его облику оттенок если не миролюбия, то во всяком случае незлобивости.
– Да будет над нами мир, – послышался чей-то голос, и Клеарх поневоле обернулся. Ему поклонился кто-то вроде высокопоставленного слуги. Странно было видеть и слышать человека в персидском облачении, который в такой дали от дома мог обращаться к нему на любимом родном языке Эллады.
Клеарх пытался не смотреть на различимые краем глаза фигуры, извивающиеся в сладострастном танце, хотя музыканты увлеченно щипали струны и постукивали в барабанчики. Здесь, в этом месте, в самом воздухе веяло опасностью, как от запаха крови, приглушенного пахучими благовониями. Это было место жары и хищных желаний, а не прохлады и покоя.
Клеарх приблизился к огромному столу, дивясь его размеру. Здесь он опустился на одно колено, почтительно склонив голову. Вместе с лохагами они обсуждали, как подобает приветствовать царя. Исходили из того, что им было известно о Кире. Сошлись на том, что Артаксеркс будет ждать, когда они расстелятся перед ним ниц, но Проксен заметил, что это выкажет их слабость, а такие, как царь, могут из-за этого, наоборот, взбелениться. Клеарх понимал, что это риск, особенно перед дворцовыми вельможами и царевыми наложницами. И сейчас, стоя в согбенной позе, он слышал разносящиеся по шатру шелест и перешептывание, вызванное не то изумлением, не то оживленностью.
– Я говорил, – зло прошептал за спиной Менон, – ты нас всех губишь.
Не поднимая головы, Клеарх тихо ответил:
– Хочешь – ложись сам, если думаешь, что тебя это спасет.
– Не меня, спартанец. И я такой же эллин, как ты. Даже лучше.
Клеарх встал и, улыбаясь царю, заговорил на персидском:
– Великий царь, мы пришли в этот шатер с мыслью о примирении. Я вижу, что ты пощадил полемарха Ариея, и благодарю тебя за твое милосердие. Мое имя – Клеарх, родом из Спарты. Для меня честь вести этих людей в дни мира и войны.
Он начал поочередно представлять Артаксерксу тех, кто стоял за ним. Те, кто не говорил на языке персов, при произнесении своих имен тем не менее становились на одно колено и кланялись. Царь все это время сидел неподвижно. Взгляд его был остекленелым, а щеки пунцовели, словно он по ходу вечера уже успел изрядно выпить. Архонт ждал, когда ему предложат сесть. По своему знакомству с Киром он знал, что персы к обычаю гостеприимства относятся очень серьезно. Если ему и его спутникам будет предложено сесть за царский стол, то они будут считаться гостями Артаксеркса. И после этого им простится даже некоторое нарушение манер и обычаев. Клеарх ждал, чувствуя, как с затылка на тунику стекает очередная струйка пота. Мимо приведенных в шатер лохагов прорвался Тиссаферн и простерся перед царем, после чего занял место на дальнем конце стола. Было видно, что без соизволения сесть он не осмеливается, но его появление несколько сгладило напряженность. Царь Царей медленно моргнул, словно возвращаясь взором из несусветных далей в эту юдоль маслянистой жары и благоухания.
– Приветствую тебя, сын Спарты Клеарх. Проси своих спутников садиться. Этим вечером все вы гости за моим столом.
Подспудное напряжение в шатре схлынуло: солдаты Персии услышали слова, означающие, что их не призовут для того, чтобы сразить этих дерзких греков. Клеарх тихо издал вздох облегчения. Сейчас он словно заново почувствовал на себе взгляды множества людей, которые с удовольствием увидели бы его бездыханным. Спартанцы для персов были самым заклятым врагом, но при этом непобежденным. Клеарх надеялся, что и он в Кунаксе добавил к этой легенде несколько строк, показав, что может разгуливать на поле боя куда угодно. Не пади Кир так быстро, то они, глядишь, еще бы и сокрушили персидское войско, хотя на то, чтобы всех персов перебить, понадобился бы, наверное, месяц. Впрочем, вряд ли это мнение из тех, которые нынче будут обсуждаться за этим столом.
Эллины заняли отведенные им места. Клеарх скрыл свою неловкость от того, как много у него за спиной незнакомцев и врагов. Он посмотрел царю в глаза.
Судя по ширине стола, с кописом через него не броситься. Это была одна из тех подробностей, которые, помнится, любил приводить Кир. Без сомнения, у создания этой штуки есть своя история, хотя как он смог очутиться на равнине посреди пустыни, оставалось загадкой. Удивление вызывало уже одно лишь количество рабов вокруг персидского царя. Царский стан был, пожалуй, в десяток раз крупнее, чем у эллинов, – прямо-таки целые Сарды, а то и Афины в движении. Гигантские столы, харчевни, монетный двор, среброделы и ткачи, резчики по слоновой кости и камню. За одну ночь они воздвигли в пустыне целый город, и все же по-прежнему оставался вопрос, удастся ли эллинам застичь следующий восход солнца.
Клеарх глубоко вздохнул и улыбнулся. Он положил руки перед собой на стол, с отрадой видя, что они не дрожат.
– Люди Греции, пьете ли вы за своих павших? – вопросил Артаксеркс.
Клеарх кивнул:
– Да, великий царь. Чтобы воздать им честь и ускорить путь в загробную обитель.
По властному взмаху царя слуги наполнили стоящие перед пирующими кубки. Менон следил за наполнением с мрачностью во взоре, но понимал, что оскорблять хозяина отказом никак нельзя. Царь поднялся на ноги, а вслед за ним все двенадцать греческих воинов встали и высоко подняли кубки. Напряжение возвратилось вместе с тем, как персидские солдаты положили руки на мечи, готовые выхватить их при первом же резком движении.
– Мой брат Кир был изменником и… глупцом. Но он был сыном моего отца. И да охранит его всевидящий, дав ему место в вечности. За моего брата Кира!
– За царевича Кира, – произнес Клеарх.
Слышно было, как к расплывчатому хору голосов присоединился голос Ариея. Все сели, внезапно почувствовав близкое, вновь ожившее дыхание опасности. Не замечал его словно один Артаксеркс. Он улыбкой встретил подачу исходящих паром блюд, оценивая их внешний вид. Клеарх положил себе на тарелку всего ничего с первого поднесенного блюда, от остального отказавшись. Проксен взял только похлебки с чем-то обжаренным в муке. Зато Менон нагрузил себе тарелку доверху, лишь пожав плечами под осуждающими взглядами товарищей.
Ели до тех пор, пока каждый несколько раз кряду не отказал слугам; Клеарх уже начал выказывать признаки нетерпения. Царь Царей рыгнул в кулак и допил очередной кубок. Спартанец тайком считал: их Артаксеркс осушил уже восемь.
– Что же мне с вами, греками, делать? – спросил он внезапно.
Тиссаферн поднял глаза, вытирая тарелку куском лепешки.
– Мы наемники, великий царь, – ответил Клеарх. – Воюем за плату. И единственное наше желание – это чтобы нам позволили отойти к Царской дороге, по которой мы и уйдем из вашей страны.
– Однако в Персию вы явились как захватчики, – заметил Атаксеркс.
Ощущение опасности вновь засквозило в шатре. Клеарх был рад, что не съел чересчур много и это не повлияло на расторопность мыслей. Чувствовалось, как угроза нарастает в напряженных движениях вооруженных людей, думающих, что их никто не замечает. Опасность была все более явственной, вызывая тоскливую обреченность. Они были окружены. И если царь хотел нанести им урон, то уйти из этого места у них не было ни малейшего шанса.
– Мы явились за золотом и серебром, великий царь. Твой брат Кир заплатил нам за поход деньги. По сути, мы ничем не отличаемся от шорников или плотников, только наше ремесло – меч. Со смертью нашего нанимателя надеемся уйти и мы. В победе или поражении мы не высматриваем никаких обид.
Артаксеркс хмыкнул.
– Здесь я вынужден вас разочаровать. У нас в Персии долгая память. Вы пришли в мои земли в поисках моей головы, моего трона. Вы пришли уничтожить все, что воплощалось во мне. И при этом надеетесь в конце просто уйти, дружески пожав мне на прощание руку! Полемарх Арией поведал мне правду о том, как его принудил к службе мой брат. Ну а поскольку он перс, мне было вполне достаточно унизить его, дав для забавы попользоваться им моим телохранителям.
Взглянув на Ариея, Клеарх увидел в его глазах все его горе и униженность.
Похоже, благорасположением он тут больше не пользовался.
Арией чуть заметно качнул головой из стороны в сторону, предостерегая. На его лице была жалость, и Клеарх почувствовал, как болезненно сжались мышцы живота.
– Но вы… – продолжал царь. – Воистину, как сказал мой почетный старейшина Тиссаферн, все вы, греки, глупые варвары… дикари. А трапеза уже закончилась. Понимаете ли вы это? Вы уже насытились, каждый из вас? Можете ли вы посетовать богам, что я относился к вам с презрением или нарушил свой обет гостеприимства к вам, моим гостям?
В шатре струной натянулась тишина. Даже извивающиеся плясуньи застыли, как статуи, и последние ноты музыки истаяли, будто обвиснув в воздухе. Сзади шею Клеарху обхватила мощная рука. Он выхватил копис и всадил его в локтевой сустав, отчего нападавший издал звонкий вопль ему на ухо. Однако схватить сидящих греков готовы были десятки солдат. Одному из них Проксен сломал об угол стола руку, и тот с криком упал. Менон, ругаясь на чем свет стоит, успел вскочить и сшибить кого-то кулаком, прежде чем сам оказался сбит. Стол шатался, норовя опрокинуться. Однако конец мог быть только один. В таком скученном месте греков подмяли и перекололи в считаные минуты.
Артаксеркс вновь поднялся на ноги, глядя вниз на своих павших врагов. Один или двое еще корчились в объятиях тех, кто их душил или закалывал. Он увидел, что глаза спартанца все еще светятся сознанием, хотя его лицо не уступало по красноте плащу.
– Как там теперь будут твои воины, грек? Без своих начальников? Заверяю тебя, что живыми с моей земли им не уйти. Преисполнись этим знанием, пока ты издыхаешь.
Ему показалось, что Клеарх силится что-то выговорить. Каково же было негодование царя, когда он разобрал, что спартанец, оказывается, сотрясается от смеха, хотя по груди у него пенисто струится кровь. Умер Клеарх прежде, чем Артаксеркс успел потребовать у него разъяснения.
23
Заслышав приближение всадников, стражники подняли лагерь сиплым воем боевых рогов. С персидским царем на расстоянии всего нескольких десятков стадиев реакция была мгновенной. Спартанцы и фессалийцы выкатывались из своих одеял, обнажая мечи в ответ на угрозу. Мрак ночи озарили факелы, освещая всадников. За ними строились воины с копьями и мечами. Завидев всего несколько десятков подъехавших, расходиться они не стали. Клеарха и старших командиров среди них не было, и некому было приказать разбредаться обратно по палаткам. Да они и не стали бы этого делать.
Двое сотников Проксена намеренно стояли впереди остальных, следя за тем, как подъезжают и останавливаются конные. Возле персов бежали рабы, держа факелы в вытянутых руках, чтобы горячее масло не капало на кожу.
Паллакис стояла за пределами света, не осмеливаясь подойти ближе. Она вновь узнала Тиссаферна, а рядом с ним Ариея с мрачным, горестно потухшим лицом. Этот перс был вроде как пленным, хотя ехал без оков. К стоящим у него на дороге сотникам обратился Тиссаферн, взывая к каждому, кто мог его слышать в темноте:
– К этому лагерю я прибываю в знак перемирия! У меня для всех вас скорбное известие, согласно которому к рассвету вы должны принять решение! Ваши начальники мертвы. Они прогневали царя Артаксеркса и были обезглавлены. Вам приказано сдаться. В ответ на это вас может ожидать некоторое снисхождение. Вы станете рабами, но большинству из вас сохранят жизнь. Если же вы с восходом солнца не сдадите свое оружие, вас будут отлавливать, как собак, и убивать одного за другим в назидание всем тем, кто ставит серебро над честью. Наемники вызывают у Царя Царей негодование. На решение вам отводится время до рассвета. Вам ясно ваше положение?
Последнее он адресовал паре сотников, которые по-персидски не знали ни слова. Чувствуя на себе его взгляд и требовательность тона, они оба замотали головами. Тиссаферн в отчаянии закатил глаза и махнул рукой Ариею, который вывел лошадь на шаг вперед и перевел речь вельможи на греческий для тех, кто слушал.
Паллакис закусила губу, чувствуя, как к горлу подкатывают слезы. Клеарх доверчиво отправился в гадючье гнездо, которым был шатер персидского царя. Утрата этого человека столь скоро после гибели Кира была так невыносима, что ей хотелось сесть, как ребенку, обхватив себя руками за колени, и раскачиваться, скорбно причитая. Как же теперь быть? Неужто придется в отчаянии сделаться рабыней какого-нибудь персидского солдата или вельможи? Родной Эллады ей отныне не видать. Она беззвучно заплакала. У нее на глазах Арией повторил послание, съежившись в тот момент, когда Тиссаферн властно возносил руку. Может, Арией и не пленник, но уже явно не тот удалой военачальник, каким она его видела.
Паллакис смотрела, как они поворачивают коней и как трепещут их факелы, далеко различимые в ночи на обратной дороге. Она вытерла слезы, чувствуя тыльной стороной ладони их жар. Краска на глазах, несомненно, потекла. Ночной воздух был холоден; Паллакис хотя и знала, что дрожит, но скрываться в темноте было как-то сподручней. Ночь вокруг шепталась тысячами приглушенных, вполголоса, быстрых разговоров, но она в них не участвовала. И мало-помалу в лагере снова воцарилась тишина.
За короткое время им выпало слишком уж много потрясений и неудач.
Особенно всех ошеломил последний удар: видеть выход своих военачальников, полных уверенности и надежды, и вот они уже безвозвратно исчезли. Это было поистине непереносимо. Звезды над головой продолжали свой кружной путь, и Паллакис подумалось, что нынче она вряд ли заснет. На то пошло, это ее последняя ночь свободы. Что произойдет с восходом солнца, она старалась не думать.
Ксенофонт наблюдал, как отъезжают Арией с Тиссаферном. Он стоял в затенении, всего в нескольких шагах от факелов, и был для них невидим. Услышать весть стянулась половина лагеря: когда на кону стояла их жизнь, греки становились любопытны. Новость о невозвращении Клеарха была подобна удару в грудь. Ксенофонт тихо выругался. Мысль о том, что кто-то мог одолеть спартанца, казалась невозможной. И все же она безошибочно угадывалась в ядовитом триумфе на лице Тиссаферна. Это был воистину змей, но такие, как он, нередко преуспевают, как не раз говорил Сократ.
Ксенофонт подошел к месту, где на песчанистой земле у него была расстелена простыня, на которой он спал, лежа на спине, со скрещенными на груди руками. Сейчас он подумывал лечь, но сон теперь вряд ли вернется. Какое-то время назад он поужинал остатками бедного вьючного животного, состоящего больше из костей, чем из мяса. Ковыряя щепочкой в зубах, он стоял и смотрел вверх, на небо зеленоватой ночи с туманными россыпями звезд.
Он крупно вздрогнул, когда над плечом послышался голос Геспия:
– Что ты думаешь делать?
– О Зевс! Ты ничего лучше не мог придумать, кроме как подползать ко мне в темени?
Геспий, едва различимый в слабом ночном свечении, пожал плечами. Ксенофонт сердито на него воззрился. Этого бывшего воровского заводилу из Афин он обучил верховой езде, и теперь тот постоянно обращался к нему за наставлениями, как будто у него, Ксенофонта, были ответы на все вопросы. Ксенофонт пожевал скушенный с большого пальца заусенец. Сказать, чтобы мыслей не было совсем, тоже нельзя. Но по-прежнему сбивала с толку весть о том, что нет теперь на свете Клеарха и Проксена, Софенета и Менона, как и остальных командиров. Некоторыми из них он восторгался, другие были для него чужими. Но то, что они все в одночасье смелись с доски, потрясало до основания.
С внезапно появившейся мыслью Ксенофонт пришел в движение. Геспий, помедлив всего секунду, неотвязно пошагал следом.
– Что там? Ты что-нибудь слышал? Что нам делать?
Ксенофонт остановился, переводя натруженное дыхание. Он повернулся к своему юному девятнадцатилетнему спутнику, закаленному своей трущобной жизнью и ненадежным пропитанием своих ранних лет. До сих пор оставалось загадкой, зачем Сократ порекомендовал ему в сопровождение именно Геспия. На большинство вызовов Геспий отвечал кулаками, а иногда камнями, зажатыми в кулаки. Спутник из него получался непростой, хотя, надо признать, обращение с лошадьми у него выходило на удивление ладным.
– Нужно поговорить с сотниками Проксена. Двое из них как раз стояли возле персов.
Больше он ничего не сказал, не желая впустую выбалтывать сумасбродный план, что сейчас полностью очертился в его голове. Такому, как Геспий, это показалось бы безумством. Ксенофонт направлялся туда, где на своих лошадях сидели Арией и Тиссаферн. Там все еще горел один глубоко всаженный в песок факел. Рядом стояли двое сотников, склонив головы в тревожном разговоре.
Ксенофонт подошел к ним, стараясь говорить спокойно, хотя взволнованный голос поначалу прозвучал как карканье:
– Друзья, будь у меня вино, я бы поднял чашу за наш последний вечер.
Двое воинов хмуро посмотрели в его сторону:
– Ты так думаешь?
– Персидский царь убил наших главных полководцев. То же самое уготовано и нам. Ночь на исходе. Когда взойдет солнце, мы увидим, как они придут, я не сомневаюсь. Просто меня удивляет… Хотя нет, уже слишком поздно.
– Слишком поздно что? – спросил младший из них, хватаясь, похоже, за любую соломинку.
– Если мы покорно отдадим себя в лапы царя, для нас все кончено. Это человек, который отсек голову своему родному брату. Так что же от такого деспота можно ожидать? Большинство из нас будет убито, остальных сделают рабами. Свой отчий дом никто из нас больше не увидит.
И при этом половина лагеря снова заснула! Я-то думал, что мы им так просто не дадимся. В конце концов, на поле сражения нас никто не разбивал. Наоборот, мы терпим жару, холод и изнеможение лучше любого перса, но они-то ожидают, что мы просто сдадим свои мечи и щиты, покорно подставив свои шеи под лезвия их клинков. Неужели мы поступим именно так?
Послушать Ксенофонта подошли еще несколько человек. Те два сотника с подозрением обернулись посмотреть, кто это.
– Ты думаешь, мы способны осилить врага, чье войско бесчисленно, как небесные тучи? Одни, без начальства? – спросил тот, который старше. – С десятком тысяч иждивенцев, которые сами нуждаются в защите? И запасом еды всего на несколько дней?
Было понятно, что насмешки в его тоне нет. Этот человек говорил без ехидства и без гнева, едва ли не с мольбой в голосе. Он действительно хотел, чтобы у Ксенофонта нашелся ответ на их вопиющие нужды, и ждал его.
Ксенофонт отвечал так, как учил его Сократ: обдумывая сказанное вслух, голосом ровным и обнадеживающим.
– Сломить наш строй на поле боя им не удавалось, – начал он. – Ни разу. И их численный перевес мало что значил. Однако у нас в распоряжении всего шесть лошадей – слишком мало. Так что в случае их нападения, даже если мы выстоим, потеснить их у нас не получится; не будет и настоящего урона. А они, если что, могут наслать конников порубить наших людей. Да, конница будет самой большой угрозой.
Он сделал паузу, чтобы оглядеться, и увидел с десяток лохагов, сошедшихся его послушать. Ксенофонту необходимо было донести смысл своих слов. Нет смысла в пустопорожних словесах ради звука собственного голоса или чтобы просто скоротать время. Однажды он спросил Сократа, как человек должен жить, и философ ответил: «Вдумчиво», подразумевая, что мысль – это то, что отделяет нас от немых животных.
– Каждый из вас воспитан Проксеном или Софенетом в победном духе. И, когда мы сформируем замысел, я с охотой последую за вами.
Я знаю, вы не останетесь здесь как агнцы и козлища, безропотно ждущие, когда враг заставит утихнуть ваши голоса. Мы эллины. Слова у нас идут рука об руку с действиями. А потому…
Он улыбнулся их вниманию, а еще тому, как его уверенность в себе начала воздействовать на них – так, что они уже стояли прямее. И неважно, что его желудок крутило от страха, по счастью, незаметного со стороны.
– Прежде чем двинуться в путь, мы должны найти среди своих тех, кто умело обращается с пращой или луком. Нужен какой-то способ сдерживания персидских всадников, иначе они будут скакать вокруг нас кругами и в течение всего дня пускать стрелы. В бою у них это не получалось, но если мы двинемся по открытой местности, они превратят нас в утыканный стрелами пень. Дайте же мне знать о своем согласии! Кивком выразите понимание! До восхода остались считаные часы, а нам уже нужно будет выдвинуться. К чему облегчать жизнь тем, кто под видом гостеприимства, усадив за свой стол, вероломно убил лучших из нас? Зачем давать этим клятвопреступникам все, чего они захотят? Нет уж, по краям строя надо выставить пращников. А уже после этого, как учил Клеарх, мы озаботимся пищей и кровом…
– Это безумие! Ты увидишь, что это приведет нас к гибели! – прервал Ксенофонта возглас кого-то незнакомого.
Остальные вокруг недовольно взроптали, называя этого человека по имени. Ксенофонт, призывая к тишине, поднял руку (к его радостному удивлению, это возымело действие).
– Аполлонид, стало быть? Возможно, друг мой, ты нас завтра возглавишь и поведешь. Как ты к этому отнесешься?
Даже в ущербном свете факела было видно, что человек зарделся и неуютно заерзал.
– Возглавлять никого я не напрашиваюсь. Но прежде всего я бы попросил персидского царя явить нам свою милость. Без его соизволения чувствовать себя в безопасности из нас не может никто. Мы здесь прозябаем в пустыне, окруженные его городами и полками его воинов. И без его дозволительной печати нам не сделать и шага.
Аполлонид, умолкнув, вызывающе поднял подбородок. За ними обоими с оторопелым удивлением наблюдал Геспий. Они хотели, чтобы кто-то их возглавил и нашел выход из неимоверного положения. Кто-нибудь, у кого б, по крайней мере, был знающий и уверенный вид. Ксенофонту словно плеснули питья, ожидая, чтобы он выпил его на спор. Но при этом еще и ждали решающего ответа. Геспий буквально слышал, как над ним сейчас посмеивается Сократ, но встряхнул головой, очищая ее от всех старых голосов. Возможно, Аполлонид сейчас высказывал общие страхи, но допускать такую точку зрения было просто нельзя. Ксенофонт хотя бы прозревал путь, по которому им следовало направиться. А этот человек уже на словах представлял собой преграду. Ксенофонт одним вздохом выдохнул весь свой гнев. Быть может, так изо дня в день чувствовал себя и Клеарх?
– Аполлонид. Ты был здесь, когда мы заключали перемирие с царем. Когда Клеарх, Проксен и все остальные по доброй воле, без щитов и копий, отправились в ставку неприятеля, поверив слову Артаксеркса. Теперь же я молюсь, чтобы они действительно были мертвы, а не подвергались пыткам и надругательствам со стороны наших врагов. Ну а ты хочешь, чтобы мы снова доверились слову того, кто его преступил и попрал? Или нам следует преклонить колена перед Тиссаферном, который предал царевича?
Оглядывая позы и лица стоящих впереди воинов, Ксенофонт понял, что его антагониста они не поддерживают. На Аполлонида они взирали тяжелыми осуждающими взглядами. От этого он сам невольно вспыхнул безудержным гневом. Подойдя к нему, Ксенофонт грозно отчеканил:
– Если таково твое желание, то ты не из нашего числа. И слабость твоя будет стоить жизни всем тем, кто пришел за нами в это место. И это, Аполлонид, делает тебя моим недругом – и более не эллином.
Пока тот что-то обидчиво бубнил, Ксенофонт повернулся к остальным.
– Выбор за вами, мои собратья. Я считаю, что этого человека следует отрешить от должности. Пускай волочит свой скарб куда глаза глядят, в то время как мы идем через пустыню.
– Да как ты смеешь так со мною разговаривать! – вскричал Аполлонид.
Он завозился, силясь выдернуть из ножен меч, но запястье ему перехватил кто-то из воинов, так что он натужно пыжился, но двинуть рукой не мог.
Один из спартанских начальников по имени Хрисоф протянул руку и тронул его за мочку уха, на что Аполлонид зло дернул головой.
– Гляньте, у него уши проколоты, как у лидийца, – усмехнулся он. – Я уж это заприметил.
– Лидиец? Да я чистый грек! – сиплым от натуги голосом выпалил Аполлонид.
Несмотря на его яростное, но тщетное сопротивление, с него сдернули пояс с мечом.
– Иди вон в пустыню, – кивком указал один из сотников. – Незачем мне прикрывать свою спину от изменников и пролаз.
Аполлонид в немом призыве обернулся к остальным, но был встречен неприкрытым гневом на лицах. На нем как будто сосредоточилось все отчаяние и боль от предательства, и проявлять к нему снисхождение никто не собирался. Ядовито поглядев на Ксенофонта, он повернулся и побрел в темноту.
Поднятые ему вслед факелы высветили еще больше солдатских лиц с глазами, отражающими огни. Каждый начальник полусотни, каждый сотник и лохаг в войске эллинов сошлись на этот разговор.
Они искали тех, кто способен повести людей за собой, и Ксенофонту вновь показалось, что он осушил чашу вина. Чувствовалось, что он оказался в нужном месте в нужный момент. Вокруг негромко переговаривалось множество голосов, но стоило ему возвысить свой, как они смолкли, обратившись в слух.
– Единственное, что мы знаем, это что наших командиров предали. И теперь двенадцать наших самых славных воинов уже не вернутся из стана персидского царя – бесчестного клятвопреступника. Но это все же еще не конец. Наша главная ответственность лежит перед теми, кто смотрит на нас: солдаты и обитатели лагеря. Наша задача – встретить врага веселостью и непоколебимой стойкостью. Пускай они увидят, что мы не пали духом! В конце концов, вы здесь командиры. И пусть враг увидит ту отвагу и мужество, за которые вы получали оплату выше, чем у других!
Он сделал паузу, чтобы они посмеялись и поворчали, что оплата была не такая уж и большая. Для солдата благое дело посетовать на то, что платят ему недостаточно хорошо.
– Персы выманили наших военачальников потому, что думали, мы не сможем без них сопротивляться, – продолжал Ксенофонт. – Но они не знают эллинов! Еще до восхода солнца мы должны избрать новых командиров из числа тех, кто пользуется у воинства уважением. В темноте люди впадают в уныние, теряют свой путь. И нашей задачей будет вселить надежду сызнова, чтобы вместо вопроса «что со мною будет?» люди спрашивали: «Что мне такое сделать?» Наша задача в восстановлении побудительных сил, которые наводят ужас на целые народы!
Рокот пронесся по людской толпе, распространяясь в темноте все дальше и дальше. За пределами кольца из факелов собрались еще тысячи людей из тех, кто пришел узнать свою судьбу. Там были и мужчины и женщины. Но обращаться к ним напрямую Ксенофонт не мог. Столкнув с холма камень, надо какое-то время бежать вдоль вершины, а не вниз по склону.
– Прежде мне доводилось видеть, – сказал он, – как ищущие спасения лишь собственной жизни в большинстве случаев ее лишаются. И наоборот, те, кто стремится с честью умереть, с окончанием битвы, как правило, остаются в живых. Я на самом деле видел, как они доживают до старости, становясь философами, и лишь вспоминают о своем боевом прошлом.
Он знал, что говорит словами человека, всю жизнь проведшего на воинской службе, хотя на самом деле за спиной у него была только Кунакса. Однако это была такая буча, что к прошедшим ее людям следовало относиться как к бывалым воинам, видевшим оракула и омывшимся кровью.
– Вот что нужно иметь в виду, если мы хотим увидеть и пережить день грядущий. – Он указал на восток, ориентируясь по Северной звезде[39]. – С рассветом мы должны снова стать стратегами и полками со своими лохагами, сотниками и железным порядком. Говорю вам во всей серьезности: нам понадобится дисциплина еще бо́льшая, чем была до этого. Приказы не могут оспариваться, когда против нас воюет целое царство. Мы должны быть десятью тысячами эллинов, десятью тысячами спартанских командиров. Персы никогда не смогут ни понять, ни перенять этого. И если мы сможем этого добиться, то мы снова увидим дом. Мы покинем пределы Персии и увидим родную Элладу.
Когда он умолк, тишина была такой же густой, как жар в воздухе.
Слышно было, как у себя на местах дышат и шевелятся люди, но никто из них больше не заговаривал о том, что следует попросить царской милости. А значит он, похоже, нашел слова, позволившие ему достучаться до них.
Из толпы командиров Проксена выделялся своим красным плащом спартанец Хрисоф. А еще у него за плечами было двадцать лет военной службы, и он был не из тех, кто уповает на церемонность или манеры.
Вместо этого он громко и уверенно прочистил горло.
– До этих минут, Ксенофонт, я знал тебя только как афинянина и всадника. Хотя мне было известно, что тебе доверяли царевич Кир и архонт Клеарх. Ты сейчас хорошо говорил. Благодарю. Думается мне, теперь командирам пора избрать новых военачальников, с тем чтобы к восходу мы с готовностью встретили персов.
Ксенофонт в ответ склонил голову. Командиры начали отходить, а он почувствовал себя в каком-то смысле брошенным. Всего несколько драгоценных мгновений он ощущал, что люди смотрят на него как на вожака. И он мог бы им стать, хотя неясно, было ли это качество присуще ему изначально или он познал его в своих беседах с Сократом. Ясно одно: новых командиров будут выбирать без его участия. Сейчас Ксенофонта донимала жажда, а еще он, оказывается, неведомо как нахватал в ходе боя синяков и шишек. На какое-то время он высоко вознесся на людском доверии и вере, если это не навеяно собственным воображением. Оставаться в стороне, в то время как истинные воины ушли назначать командиров, для него было сравнимо с тянущей книзу наплечной тяжестью.
Он вздрогнул, когда ощутил легкое прикосновение к своему плечу.
Резко обернувшись, Ксенофонт распахнул глаза на стоящую перед ним молодую женщину, еще державшую кончики пальцев в соприкосновении с его кожей.
– Как хорошо ты говорил, – жарко дыша раскрытыми губами, произнесла Паллакис голосом, едва слышным, как будто их здесь кто-то мог подслушивать. – Ты дал им надежду. Я видела это по тому, как они внимали.
Ксенофонт стиснул зубы и опустил голову. Она убрала руку, и он ощутил, что все еще чувствует то место, к которому она притронулась.
– Спасибо. Честно говоря, мне на секунду показалось, что…
Его прервал шум близящихся шагов. Он повернулся, сунув руку за ножом на случай, если это окажется тот изгнанный им человек. Но вместо этого он увидел близящегося Хрисофа, вслед за которым энергично шагали остальные командиры.
– Мы все обсудили, Ксенофонт, – сказал ему Хрисоф. – Среди нас есть спартанец, стимфалец, беотиец и человек из Аркадии. Так что мы нашли людей, готовых встать на место тех, кого убили враги.
Он приостановился, и Ксенофонт посмотрел на него в некотором замешательстве.
– А старшим мы избрали тебя. Ты будешь наш стратег.
Ксенофонт почувствовал, как по лицу медленно и непроизвольно расползается улыбка, хотя с учетом положения ему следовало смотреться серьезно и решительно. Видя это внутренне борение, Хрисоф усмехнулся.
– Рад видеть, что ты не возражаешь, стратег Ксенофонт.
Заметив рядом с ним Паллакис, спартанец слегка понизил голос. Какая необыкновенная женщина.
– Я… да… Э-э-э, – растерянно протянул Ксенофонт.
– Позволь пояснить. Мы видим в тебе знание того, что следует делать, – хотя при тебе не было никаких подсказчиков или советчиков. Вот что важно. Поэтому ждем от тебя приказаний. Ну а я прослежу, чтобы они неукоснительно выполнялись, когда ты соберешься с мыслями.
Вдалеке на горизонте уже проплавлялась розоватая полоска зари. Увидев это, Ксенофонт почувствовал, как сердце пришло в движение.
– День уже близится. Поднимать лагерь. От того, как мы встретим этот рассвет, зависит, выстоим мы или падем.
Хрисоф хотел было хлопнуть Ксенофонта по плечу, но одумался и вместо этого склонил голову.
– Слушаю, стратег.
– Хрисоф… А тот человек, по-твоему, действительно был лидийским лазутчиком?
– Аполлонид? Все может быть. Только он морочил бы голову до самого утра. Вот это я точно знаю.
Усмехнувшись, спартанец приветственно стукнул себе кулаком по нагруднику и побежал, поднося к губам сведенные ладони, чтобы прореветь по лагерю побудку.
24
– Оставшиеся возы сжечь. Наши перемещения должны быть быстрыми, а подводы и повозки тянутся, замедляя общий ход.
Отдавая приказ, Ксенофонт с отрадой заметил, что роптание в толпе было совсем незначительным; скорее вздохи, чем высказанные вслух возражения. Здесь все уже слышали об участи Клеарха, Проксена и других. Похоже, до людей наконец дошло, что на кону их жизнь и что солнце может взойти уже над их мертвыми телами. Греческие воины привычно прочесывали лагерь, высматривая из припрятанного что-нибудь излишне громоздкое. Все пошло на пищу огню, а последние бараны были пущены под нож, чтобы перед выходом получше накормить людей.
Когда первые лучи солнца легли на восточные холмы, все стояли уже собранные и полные решимости. О Ксенофонте до этого дня мало кто и слышал, но его признали спартанцы и люди Проксена, а это решало все. В его приказах не было расплывчатости, а многим уютней было снова чувствовать себя в рядах и смотреть, как догорают их пожитки, хотя некоторые и смахивали слезы от сочащегося жара костров.
Перед тем как лагерь тронулся в путь, появился отряд из тридцати всадников с незнакомым начальником во главе.
Ему навстречу вышли Ксенофонт и Хрисоф, тихо злорадствуя его явному смятению.
– Я Митридат. Сюда меня направил благородный старейшина Тиссаферн, принять у вас капитуляцию.
– Так ты, судя по речи, эллин? – возвел бровь Хрисоф. – Один из нас? И у нас одна кровь, одни боги? Однако ж ты, я вижу, на стороне персов. Как же так? Неужто ты служишь деспоту, что вероломно убил наших полководцев? Все это весьма странно, Митридат.
На щеках воина пятнами проступил румянец, но, несмотря на мнимую легковесность своего тона, спартанец смотрел на него не мигая, с неподвижностью змеи, готовой сделать бросок.
– Ты сдаешься, спартанец? – спросил Митридат надменно, хотя и с толикой растерянности. Он вскользь поглядел на персов, пустоглазо таращившихся по бокам от него.
Тиссаферн был проницателен. Без сомнения, кое-кто из них изъяснялся по-гречески настолько хорошо, что мог передать каждое слово этого разговора.
– Мы обдумали ваше предложение, – сказал Хрисоф, – и решили, что наш ответ будет отрицательным. Зато у нас есть для вас встречное предложение. Мы покинем земли царя, стараясь наносить в пути как можно меньший ущерб. Если же на нас нападут, то мы будем обороняться. Ты понимаешь, чем это чревато, предатель? Можешь передать эти слова своим хозяевам за холмом. Я думаю, что они там недалеко.
Щеки у Митридата зарумянились еще гуще, но он сделал над собой усилие и пожал плечами как можно непринужденней.
– Ты говоришь со мной, но твои слова есть слова мертвеца. Ибо вы…
– Скачи, Митридат, – потерял внезапно терпение Ксенофонт. – У нас впереди долгий путь. И тратить на тебя время мне больше недосуг.
Они с Хрисофом отошли от сидящего с разинутым ртом грека.
С проклятием Митридат натянул поводья и, развернув коня, помчался обратно той же дорогой, которой приехал. Только тогда Ксенофонт и Хрисоф обернулись посмотреть ему вслед.
– Нам нужно выходить, и быстрее, – заторопился Ксенофонт. – Отдавай приказ.
– Старшим военачальником избрали не меня, – напомнил ему Хрисоф.
– Но выбор-то был твой, спартанец. Скажи людям, чтобы двигались, от моего имени.
Хрисоф с почтительным наклоном головы поспешил прочь. По лагерю все еще шипели и плевались искрами костры, посылая в ясное небо чадные дымы. Вокруг разномастных неровных рядов лагерных обитателей уже выстроился квадрат гоплитов. Своих детишек обозники усадили себе на спину и плечи. Все это выглядело пародией на построение, но вид у людей был вполне решительным. Ксенофонт повернулся спиной ко всему, что лежало позади. Взявшийся невесть откуда Геспий подвел ему лошадь.
Ксенофонт поблагодарил его кивком.
Юноша, на котором было не меньше десятка ограблений на афинских рынках, в это время не особо мозолил глаза. Верховую езду, а также движение и боевые приемы в строю Геспий освоил в то время, когда мир вокруг него стремительно шел ко дну. Изрядную часть своей юности он оставил на поле битвы при Кунаксе.
Подавшись к своему главному начальнику, он совершенно серьезно спросил:
– А ты умеешь вести людей? Нет, правда, – допытывался Геспий шепотом. – Скажи мне, что ты знаешь, что нужно делать, Ксенофонт. Что для тебя это не какая-то игра.
Ксенофонт задумался. Он знал Сократа, знал Клеарха. Знал и царевича Персии, учась у них всех. Он сунул ступню в сцепленные руки своего помощника и, толкнувшись, уселся на конском чепраке. Ему довелось лицезреть отчаяние минувшей ночи. Перед лицом неминуемого поражения он просто поговорил с людьми. И задал вопросы, которые показали, что он ими уже узнан и признан. Он знал, что нужно заставлять их двигаться, чтобы у них никогда не появлялось шанса поразмыслить о шансах на свое выживание. В этот момент Ксенофонт понял, что ни с кем не может поделиться своими страхами.
– Ты ведь меня знаешь, Геспий, – промолвил он. – Вести за собой я, конечно же, могу.
Своими пристальными вишнево-карими глазами Геспий, казалось, взвешивал человека, который научил его столь многому, и отчаянно желал ему верить. Ксенофонт пристально посмотрел на него сверху вниз. После, казалось, вечности Геспий пошлепал по плечу лошадь и отступил назад.
Завидев, что за их диалогом наблюдает Хрисоф, Ксенофонт поднял руку в жесте, напоминающем приветствие, и опустил ее, отправляя всех в путь.
Сейчас позади них Тиссаферн и царь Персии выслушивают их отказ сдаться. Вспомнилось царское войско, похожее на темное море, над которым плывут, покачиваясь, бунчуки и знамена. В том, что ответ Царя Царей будет диким в своей жестокости, не приходилось сомневаться. Однако Ксенофонт по-прежнему был горд тем, что они не сдались безропотно в плен. До дома отсюда неимоверно далеко, но, по крайней мере, они вышли в путь и не исчезнут с этой земли без боя.
Они шли все утро и часть дня, когда прискакали четверо разведчиков и сообщили, что впереди примерно в сотне стадиев находится селение – окруженный глиняным забором участок возле ручья с посевами ячменя и пшеницы, несколькими деревьями и шестью головами тощего скота. В таких местах жизнь обычно едва теплится, а люди прозябают, выжимая из своего скудного надела все что можно. Тем не менее это означало поживу столь нужным съестным. Своему воинству Ксенофонт наказал никого не убивать и не брать рабов. Задача была максимально отдалиться от персидского войска, к тому же незачем никого настраивать против себя. Пища, однако, была жизненно важна, так что коз или овец придется угнать с собой для пополнения остатков своего мелкого стада.
Пока они шли, намереваясь достичь этого места до захода солнца, пошел слух, что сзади начинает близиться враг. Ксенофонт повернул коня и вместе с примкнувшим к нему Хрисофом поскакал назад, чтобы видеть все своими глазами. Прикрывая глаза от солнца, вместе они пристально смотрели на юг.
– Не так много, как я ожидал, – признался Хрисоф. – Сколько у них там, пара сотен лошадей? А на пеших при таком ходе наверняка нет тяжелых панцирей. Мои глаза не так остры, как когда-то. У них там что, копья?
– Луки, – мрачно поправил Ксенофонт. – Наверняка Митридат вернулся с лучниками и конницей, чтобы атаковать издалека. Пара сотен конников… и не больше четырехсот лучников.
– Должно быть, еще кто-то идет нам наперерез, – предположил Хрисоф. – Такой небольшой отряд может нас только замедлить.
– Мы и так медленно движемся, – покачав головой, заметил Ксенофонт. – Нам нужно добраться до селения раньше их. Скажи людям ускориться. С тыла выставим щиты. Веди своих спартанцев, Хрисоф. Мы не можем обогнать ни конницу, ни тех, кто, держась за хвосты коней, пешком бежит почти так же быстро. Но мы можем заставить их потрудиться, чтобы добраться до нас. Во всяком случае, целями для них мы будем непростыми.
Хрисоф побежал выполнять, выкрикивая приказы щитоносцам строиться с тыла. Едва заметив эллинов на пустынном просторе, персидские всадники бросили коней в галоп. Одни тащили за собой пеших, другие скакали в одиночку, неистовыми дугами метая дротики. Удары были большой силы, но щиты их выдерживали.
Ксенофонт оставался позади, наблюдая и раздумывая. Он тихо ругнулся, когда один из воинов получил ранение и его, оглушенного и окровавленного, отнесли вперед товарищи. Дротиков летело все больше. Некоторые из тех, что падали на землю, подхватывали эллины и кидали назад с безжалостной точностью.
Гораздо хуже обстояло с лучниками, едва те оказались в пределах досягаемости. Персы как будто знали, что критских лучников после битвы уцелело немного. Лучники царя шли широким рядом почти прогулочным шагом, натягивая тетивы и вразнобой пуская первые стрелы. Двигаться они могли с такой же скоростью, что и отступающий квадрат греков, а меткости им вполне хватало на нерасторопных животных, что тянулись впереди.
Видя, как Геспий ежится под стрелами, Ксенофонт осуждающе повернулся к нему:
– Перестань. Ты позоришь меня перед остальными.
– Верно. Прости, – спохватился юноша.
Он расправил спину и плечи, в то время как следом волками поспешали четыре сотни лучников, пуская в воздух залп за залпом. Диапазон попадания их стрел был почти максимальным, что, как ни странно, шло эллинам на пользу. На месте персов Ксенофонт скомандовал бы им сблизиться до ста шагов для большей кучности стрел. А с дистанции свыше двухсот эллины успевали различать их на подлете. Щитоносцам сзади это было почти в удовольствие: поднимая бронзовые диски щитов, они ловко отбивали стрелы в воздухе, состязаясь в удали между собой. При этом они посмеивались и перешучивались – до тех пор, пока одному из них стрела не угодила четко в шею. Остановиться и прихватить с собой тело не было никакой возможности.
Шутки стихли, а воины теперь обреченно за ним наблюдали, шаг за шагом отдаляясь от погибшего товарища. Персы же, близясь, наоборот, ликовали, и, дойдя, не замедлили на глазах у эллинов порубить труп на куски.
– Передай приказ: последним трем рядам по моему приказу атаковать, – велел Ксенофонт Геспию.
Вообще-то указания должен передавать особый посыльный, но, кроме Геспия, у Ксенофонта никого не было. В свое время он из главаря афинской банды сделал всадника. Теперь пора было сделать его солдатом.
– Передать? А как я могу? – вытаращился Геспий.
– Сыщи кого-нибудь из старших командиров, а лучше всего спартанца Хрисофа – по сути, он всех и ведет, но не принимает звания, – и повторишь мой приказ. Те сообщат сотникам, а они уже направят людей.
– А если они откажут? – спросил Геспий, видя, как лицо Ксенофонта дернулось от удивления.
– Мы на войне, Геспий, лицом к лицу с врагом. И если мои приказы отвергать в такое время, это грозит потерей их жизней. Но отказов не будет. Меня выбрали как раз с пониманием того, что прежде всего дисциплина для нас – это ключ к выживанию. Мы сейчас должны быть десятью тысячами спартанцев, или дома нам не видать. Понятно тебе?
– Понятно, – кивнул Геспий.
– Ну, так скачи, передавай приказ! И быстро. Селение, наверное, уже недалеко.
Сидя на коне, Ксенофонт через плечо следил за передвижением персов, пока не занемела шея – боль ослабла лишь тогда, когда он развернул в их сторону коня. Досадно, но они, кажется, взяли с собой хороший запас стрел. Первая надежда, что они скоро закончатся, не оправдалась: конница, по всей видимости, прихватила с собой запасные колчаны. А скорострельность не только не шла на спад, а еще и возрастала.
Ксенофонт видел, что три последних ряда наблюдают за ним, готовые к команде. Осознание того, что это спартанская часть войска, вселяло уверенность: эти будут выполнять приказ безо всяких пререканий и проволочек. Самые задние из гоплитов, отступая, прикрывались щитами, в то время как другие при ходьбе сдвинули их на плечи, как будто вовсе не были обложены врагами. На всех поблескивали бронзовые шлемы, так что держались они гордо, презирая идущую сзади угрозу. Вид у воинов был вполне свежий – во всяком случае, оставалось надеяться, что это так. Через какое-то время возвратился один из разведчиков и дал знать, что до селения осталось всего восемь стадиев.
Резким движением Ксенофонт указал рукой на вражеских лучников.
В ответ на это три задних ряда, внезапно развернувшись, бросились в атаку. Девятьсот человек, отпав от строя, понеслось по земной плоскости с удивительной скоростью. Персидские лучники, что отстояли на три сотни шагов, понимали, что в ближнем бою против бронированных гоплитов у них нет никаких шансов. Едва разобрав, что происходит, они порскнули, как зайцы.
Ксенофонт с нарастающим гневом наблюдал, как лучники, которые до этого донимали их часами, разбегаются кто куда. Было видно, как расстояние между атакующими рядами и остальной частью квадрата увеличивается со ста шагов до трехсот, затем до четырехсот, так что их фигуры становились зримо меньше, постепенно скрываясь в плывущих тучах пыли. Ксенофонт покачал головой.
– Рога, – приказал он, буркнув ругательство. Внезапной для персов резни, как он рассчитывал, не получалось. – Вернуть их.
С мрачным лицом он ждал, когда спартанцы остановят своих воинов. Они проделали это с явной неохотой. В конце концов они б, пожалуй, и настигли неприятеля, но для этого бы потребовалось изрядное расстояние, а обнажать тыл строя было нельзя. Гоплиты вернулись в дружном порядке, но не успели они присоединиться к основным силам, как сзади снова посыпались стрелы; троих ранило, и их пришлось унести в безопасное место внутри квадрата. Ксенофонт рычал от досады. Он мог точно видеть, куда следует направить конную атаку, чтобы раздавить этих жалящих шершней, но лошадей у эллинов не было.
Деревенская стена из глинобитных кирпичей едва превышала рост человека, но все же давала и тень, и прибежище. А что еще важнее, благодаря ей ни лучники, ни конники персов не могли продолжать свой натиск. Приблизившись лишку, они сами рисковали очутиться в пределах броска дротика, а то и внезапной вылазки. На пыльной земле возле селения персы в молчании пристроились на отдых, из осторожности не распуская строя. Там они пробыли довольно долго, но с первым же признаком сумерек по приказу своего начальства снялись и ушли прочь.
Эллины сидели на деревенской площади, переводя дух. Они бы не возражали против решительного приступа, но он не наступал. Солнце начинало клониться к западу, и по теням можно было видеть селян, скрытно убегающих через отдаленные поля.
К тем немногим, кто остался, греки, по приказу Ксенофонта, отнеслись благосклонно – отчасти потому, что это были всего-навсего полдюжины старух да увечный мальчик, неспособный убежать. Между тем, по обычаю войны, атака давала им право брать рабов и захватывать все, чего бы они ни пожелали; просто убогое селение было для этого неподходящим местом. Впрочем, здесь нашлись еда и вино, да еще и ячменя было достаточно для кормежки лошадей, так что эллины выставили караул и расположились на отдых.
Когда по небу растекся лилово-розовый закат, Ксенофонт разослал приказ о сборе сотников и лохагов. Хрисофа он знал, но с остальными еще только предстояло познакомиться. Оглядывая на деревенской площади лица командиров, он понял, что ему надо будет изучить все их сильные и слабые стороны, чтобы успешно ими пользоваться. Появление нового стратега все встретили кивками, и стало ясно, что его никто не обвиняет в бесполезном броске, случившемся сегодня по его приказу. Та атака ничего не дала, но зато продемонстрировала на будущее, кто есть кто. После глубокого вдоха Ксенофонт чуть подался вперед, желая, чтобы все его услышали и поняли.
– Собратья! Самое уязвимое наше место – это нехватка конницы и лучников. Сегодня у нас был бросок гоплитов, но они не смогли сблизиться с легко вооруженным противником при поддержке всадников. На сегодня нам повезло найти убежище, но каждый день на нас будут новые атаки, а защиты во время перехода у нас нет.
– Тогда каков же твой ответ? – спросил за всех Хрисоф.
Ксенофонт взглянул на него: тот улыбался. Этот спартанец иногда мог выводить из себя. Он настолько явно был естественным вожаком, что впору было удивляться, почему он решил передать пальму первенства ему. Возможно, потому, что такие же задатки Хрисоф усматривал и в нем; но когда он эдак ухмылялся, Ксенофонту казалось, что он просто забавляется.
– Я уже сказал: нам нужны пращники. Эта потребность сейчас важна как никогда. Я знаю, что среди нас есть родосцы[40]. Они славятся своим мастерским владением пращой. Есть такие, кто тоже ею неплохо владеет, и они могут и должны обучить остальных. Прежде чем мы завтра выдвинемся, нужно нарезать кожаные стропы для четырехсот человек и отвести на упражнения столько часов, сколько можно. По дальности они мало чем уступают персидскому луку, но не обязательно должны быть такими же точными. В конце концов, мы не собираемся ими атаковать. Их задача – заставить противника как следует подумать, прежде чем отважиться идти по нашему следу и убивать нас одного за другим. Выстрелы хороших пращников мы можем прятать в камнях, пущенных остальными.
На той площади росло оливковое дерево – широкое, древнее, с таким искривленным и скрюченным стволом, что ему вполне могла быть и тысяча лет. О него вытянутой рукой опирался человек, которого Ксенофонт не знал, – молодой, поджарый и ладный, с всклокоченной каштановой бородой. Сейчас он вышел вперед и, встав рядом с Ксенофонтом, повернулся лицом к остальным. Ксенофонт узнал в нем одного из тех, кто был выбран на замену убитым военачальникам. Не отшагнув в сторону, он ждал, когда тот заговорит.
– Я Филесий из Фессалии. Племянник Менона. И стою здесь вместо него.
Ксенофонт ощутил, как по телу расползается напряжение, словно покалывая кожу иголками. Решение о его назначении стратегом не проходило формального утверждения воинским советом. В то время когда враг буквально рыщет вокруг, они не могли себе позволить обсуждать и согласовывать каждое решение. Для них это, безусловно, означало бы скорую погибель.
– Некоторые из вас знают, что мой дядя временами бывал непрост, хотя, наверное, прав на свое мнение у него было больше, чем у большинства здесь сидящих. Нынче ночью кое-кто подходил ко мне со словами, что я должен встать во главе. Я говорю это сейчас открыто, потому что молчать не в моем характере. Положение, в котором мы находимся, мы сможем пережить, если будем делать ошибок меньше, чем персы, рвущиеся превратить нас в падаль. Ксенофонта сначала выбрали люди Проксена, но я принимаю его. Да и если б я этого не сделал, ничем хорошим это бы не кончилось – одними лишь спорами, препирательством да грызней между стаями. А между тем мы – одна кровь, одни традиции и одни верования. Поэтому я обращаюсь к тем, кто шепчется и подначивает: к вам я глух. Это все, что я хотел изначально сказать.
Молодой бородач подошел к дереву и снова о него оперся. Грудь его вздымалась, как от тяжелого дыхания, но это был, пожалуй, единственный признак напряжения.
Ксенофонт склонил голову, чувствуя разом удивление и облегченность.
– Благодарю тебя, Филесий. Тут есть… – Он секунду помолчал, собираясь с мыслями. – Старухи здесь говорят, что в половине дня пути отсюда протекает широкая река. Расстояние от селения примерно два парасанга, то есть шестьдесят или семьдесят стадиев. По их словам, где-то там, за рощицей старых оливковых деревьев, открывается неглубокий брод. Сегодня с темнотой я пошлю двоих человек, чтобы они поехали и нашли его. Бродить завтра по берегам у нас времени не будет. Наши пращники смогут какое-то время удерживать персидские силы, чтобы мы переправились. Ну а пока отдыхаем. Поешьте кто что может и попробуйте выспаться. Безопасности для нас здесь не больше, чем везде, – но и отряд персов, которых мы сегодня видели, страшится от нас ночной вылазки. В своей трусости они упятились назад, но мы проснемся раньше их и уже будем на пути к реке.
– А после этого? – спросил кто-то из сотников.
Лохаги Проксена, похоже, проявили к нему своеобразный интерес, подняв его на ноги. Ксенофонт намеренно ответил не сразу, но при этом не сводил с него глаз, пока выскочка не покраснел.
– А после я посмотрю, что будет дальше, – ответил он. – И сделаю то, что должно будет сделать.
Чтобы не затевать полемику, Ксенофонт отвернулся. В этот момент он увидел Геспия, и вчерашний разбойник-афинянин показался ему соратником с самым дружелюбным лицом на всей этой площади. Он непринужденно направился к нему, просто с целью пройтись. И только подойдя ближе, разглядел, что рядом с ним женщина – та самая, что перед рассветом подходила к нему.
– Госпожа, – поприветствовал Ксенофонт, слегка наклонив голову.
Паллакис в ответ опустилась на одно колено, отчего взгляду открылся низ ее шеи, откуда волосы уходили вверх в тугой узел.
– Благородный господин, – почтительно обратилась она. – Я хотела спросить… Вернее, обратиться с просьбой.
Ее ладонь сомкнулась в кулак, а Ксенофонт заинтригованно поднял брови. Спору нет, отчасти все это объяснялось ее красотой. Ни для кого не секрет, что для мужчин красивые женщины во всех смыслах притягательней, чем кто-либо. Правда в том, что красота извечно может просить о помощи с уверенностью в ответе. В короткий облегченный миг ему подумалось, насколько с разными мерками люди подходят друг к другу. Хотя опыту, тактике и насилию можно, так или иначе, научиться. А вот красота… Она реже, и с ней куда сложней.
– Суть моей просьбы, – говорила Паллакис, а глаза ее сверкали теплым, глубоким блеском, – в том, что… Кое-кто из мужчин видит, что у меня нет защиты. И они открыто настаивают, чтобы я их… посещала. Более чем одного. Однако я не блудница, господин. И сама мысль о том, чтобы мной грубо овладевали, мне несносна. Ну а поскольку за всех нас несет ответственность стратег, к нему я и обращаю свою просьбу.
Ксенофонт поглядел на Геспия; во взгляде юноши светилась неприкрытая влюбленность. Ответ напрашивался сам собой. Тем более что над стратегом проблемы довлели куда более насущные.
– Скажи им, что твой защитник афинянин Геспий, – сказал он ей. – Я уверен, что ради твоего расположения он будет охотно обламывать похотливые руки и прошибать головы, ничего при этом не требуя взамен.
Последнее Ксенофонт произнес с нарочитой вескостью, поглядев на Геспия, который густо зарделся.
Паллакис вновь опустилась перед стратегом на колени. Ему показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, хотя, возможно, это только показалось.
– Благодарю, господин, – произнесла она, когда он проходил мимо.
К выходу приготовились еще затемно. Селение обобрали подчистую, вяленое мясо и хлеб распределив в основном среди детей и раненых. Общую нужду это почти не исправляло. Большинство изнывало от голода, но спартанцы не жаловались, поэтому молчали и остальные, хотя в желудках урчало и саднило.
В путь вышли до света, направляясь в сторону реки и ориентируясь по звездам. Разведчики подтвердили, что до реки примерно два-три часа быстрого хода, так что солнце взошло, застав людей в дороге.
Со стороны задних рядов послышался предупредительный окрик. Ксенофонт, ругнувшись, пустил коня легким галопом вдоль квадрата. Навстречу ему показался Хрисоф, а также, к неудовольствию стратега, Филесий. Впрочем, за позицию, которую он занял накануне, им стоило восхититься. Той своей единственной речью Филесий почти наверняка предотвратил бунт, причем по самым благородным причинам. Ксенофонт склонил голову и поприветствовал его по имени, хотя взгляды у всех были сейчас прикованы к силе, что близилась за квадратом.
Похоже, истекшую ночь отряд Митридата провел без отдыха. Никак нельзя было отделаться от ощущения, что громада персидского войска по-прежнему идет следом – это чувствовалось по способности персов посылать вдогонку такие крупные отряды. Пожалуй, единственным облегчением было то, что персы продолжали недооценивать силы неприятеля и слали число воинства, недостаточное для его подавления. Сейчас взору представало около тысячи конных и четыре тысячи лучников – видимо, все, что царю удалось собрать за одну ночь. Без сомнения, они изрядно вымотались от долгого перехода, в то время как эллины за ночь успели неплохо отдохнуть.
Более прискорбным было то, что персы усвоили много нового в тактике и решили ее сменить. Греков они все еще опасались, но готовы были следовать за ними, как орава уличного отребья, пуляющая камни и палки. Это напоминало Ксенофонту о шайке обидчиков, что изводили его в Афинах, а он лишь казал им зубы, ярясь и намаливая всяческих бед.
Что до конницы, то у него ее не было вовсе. Шестеро верховых разведчиков против эдакой прорвы – курам на смех. Желчь в стратеге кипела, но персы, в принципе, не ошибались. Его квадрат был уязвим именно для такой осады.
– Нам предстоит все это вытерпеть, – хмуро вздохнул Филесий, озирая даль.
Без заслона из конницы им грозила медленная смерть, уносящая человека за человеком. Что до гоплитов, то они могли держаться против любой наступающей силы, но только в пешем строю. А тут еще пошел на спад темп хода лагерных обитателей. К такой скорости они были просто не приучены. С нарастанием зноя они с шага сбивались на ковыляние, а затем шатались и падали, моля о воде. Ход греческого квадрата это снижало вдвое.
– Менон лагерный люд хотел бросить, – заметил Ксенофонт, в упор глядя на Филесия. Они были примерно ровесники, и он был явно не новичок; не мальчик, тщащийся быть мужем. Он тоже пережил битву при Кунаксе и был таким же ветераном, что и Ксенофонт, а то и позаслуженней.
– Значит, он был неправ, – пожал плечами Филесий. – Я бы и врага не стал оставлять на растерзание этим шакалам, а не то что людей, которые смотрят на нас. И если ты об этом распорядишься, стратег, то твоему приказу я не подчинюсь.
Ксенофонт поджал губы в мнимом недовольстве. «Тебе нужны не друзья», – напомнил он себе. Не друзья, а те, кто без колебаний за ним последует. Он продолжил с таким видом, словно и не слышал слов Филесия:
– Отвести пращников в тыл. Спартанцы будут прикрывать их щитами. Будем надеяться, что они отыграют какое-то время.
Мысль о неумелых пращниках, вынужденных к тому же пятиться и пускать камни над головами своих, нагоняла тоску – но нужно было предпринять хоть что-нибудь, что удержало бы персов от чрезмерного сближения. При переходе вброд скорость, несомненно, замедлится еще сильней.
В это время враг сможет уничтожать их всех на выбор.
Стиснув зубы, Ксенофонт обдумывал, как все это осуществить. Сократ учил его доискиваться до сути вопроса – откидывать прочь все наносное, изгонять ложь свойственного людям самообольщения. И в конце, когда правда предстанет обнаженной, человек сможет действовать на основе уясненного. Да, безусловно, будут потеряны людские жизни – может статься, и его собственная. Но все же его выбрали вождем из-за того, что в него верили. Как верил и он сам.
– Собратья! – воскликнул он с нежданной резкостью. – Вот мои приказания.
25
Держа реку в поле зрения, персидские лучники приблизились на прицельное расстояние. Щиты и нагрудники спасали жизни многих эллинов, которых персы донимали, как мухи, кусающие лошадь. И все же стрелы время от времени попадали куда надо. Раненых передавали вперед, через головы впереди идущих, а там помещали на носилки и несли дальше. Кто-то сдавленно кричал от боли, но в основном те, кто ранен, болезненно морщась, лишь склоняли головы и продолжали упорно шагать дальше.
Брод был не больше двадцати шагов в поперечнике – русло с дном из застарелой гальки, которая под поступью первых рядов вспенилась в бурую грязь. Персы позади все смелели. Их лучники рванулись вперед, и воздух зашипел пущенными стрелами. Слышно было, как рявкнул приказ Филесий, и пращники наконец ответили всем, что у них было. В отличие от персов, им годились лишь гладкие камни. Они тысячами лежали вдоль реки, и греки закрутили пращами с поразительной скоростью: над каждым из них взвивалось размытое пятно, а после пуска пращник сразу же нагибался за новым зарядом.
Лучники в панике бросились врассыпную. От первых ударов ранено было не более десятка, но после состоявшегося знакомства с критскими пращниками при Кунаксе персы, пригибаясь, укладывались наземь. Далеко не все пущенные камни попадали в цель, но сам их цокот внушал персам страх, что им грозит сила куда большая, чем они предполагали. Начальники орали, чтобы они вставали и продолжали стрельбу, но повиновение было неохотным. Медленно, один за другим, лучники поднимались и тогда видели, как мало камней на самом деле было пущено и еще меньше их собратьев пострадало. Тогда они, злобно мрачнея лицами, снова потянулись к своим лукам.
В эти драгоценные мгновения греки с ревом перекатывали через реку. Когда последний из них достиг другого берега, усталые пращники вернулись в строй. Замыкающие гоплиты перестали держать щиты внавес и, закинув их на спину, поворачивались, переходя на бег трусцой. Сотни настороженно озирались, наблюдая, как персидская конница реагирует на их отход. Там происходила наряженная перекличка; фигурки всадников мечами и копьями указывали на отступающих. Возможно, лучники потерпели неудачу, но теперь всадники видели самое заманчивое: спины бегущего врага. Брод более не охранялся. Вожделенный момент настал.
В одно мгновение они кинули коней в галоп и ринулись в воду, взметая сеево брызг. И тут отступающие впереди них спартанцы дружно остановились и сделали разворот. На скаку персидские всадники заходились лихими воплями и вдруг оказались лицом к лицу с ровными, безмолвными рядами воинов в красных плащах, каменно стоящими без всяких признаков паники.
На спартанцев они напоролись в тот момент, когда те подняли щиты и опустили бронзовые шлемы несокрушимых, отборнейших воинов Эллады. Передние всадники стали осаживать лошадей, но их дикими криками, наседая сзади, подгоняли другие.
Три шеренги спартанцев атаковали вражеских всадников внаскок, со щитами наготове и копьями у пояса. Этот удачный пятачок для схватки Ксенофонт просчитал очень прозорливо. Его лучшие люди окружили персидскую конницу как раз в тот момент, когда она выбиралась из реки, и отсекли ей путь к отходу. Даже лучники ничем не могли ей помочь из риска побить своих, что сейчас сражались в этой давке. Стрелы все-таки жужжали и попадали в цель, но уже половине скомканной персидской конницы пришлось отступить, бросая в окровавленной воде лошадей и сотни своих соотечественников, обреченных на погибель.
Вскоре спартанцы отошли через реку, дружно и в хорошем темпе. Среди них были потери, но своих преследователей они превратили в месиво. Позади землю устилали сотни персов. Многие из них были изрублены с намеренной жестокостью, на страх остальным.
Наградой за риск эллинам достались лошади. Ксенофонт был в восторге, осматривая каждую новую и назначая их тем, кто умело ездит верхом.
Командовать ими он поставил Геспия.
– Это была внушительная победа, – во всеуслышание объявил Ксенофонт. – И такими уязвимыми перед врагом мы больше не предстанем.
Он оглянулся к реке, берег которой был усеян телами, а затем посмотрел вперед, туда, где в отдалении мутновато проглядывали холмы. Земли Персии простирались, казалось, на полмира, но Ксенофонт дал себе зарок, что эллины из них непременно выйдут.
При разъяренном неприятеле, все еще роящемся на другом берегу, Ксенофонт отдал приказ квадрату двигаться вперед. Наполнить водой бурдюки не было возможности: персидские лучники, разъяренные и униженные тем, как их одурачили, были бы этому только рады. Так что греки пошагали с пересохшими глотками, на зато целые, по земле, на которой уже проклевывалась зеленая растительность. Путь занял весь день, а когда сзади наконец показались оставшиеся персидские всадники, их было чем отвадить: для этого у эллинов теперь имелись и кони, и дротики.
К тому времени как солнце снова начало снижаться, утренняя встревоженность во всех уже улеглась. Теперь самыми насущными проблемами были голод и жажда, хотя место под ночлег на эту ночь вроде бы предвиделось. Разведчики сообщили о брошенном городе, до которого к исходу дня можно было добраться. Его стены вырисовывались на протяжении нескольких часов. Дойдя до него, люди и кони пробрались через древний пролом в стене, по россыпи битого камня. Их встретил сухой горячий запах пыльных улиц, без малейших признаков жизни. Для такого огромного пространства тишина была несвойственной, хотя по стенам тут и там шныряли длиннохвостые ящерицы, срываясь на бегу от страха перед таким обилием двуногих, бесцеремонно нарушающих долго царившее здесь молчание. Все, кто мог, группами разбрелись по всему городу на охоту за чем угодно. Одна такая группа натолкнулась на леопарда, который сильно изодрал одного из охотников, прежде чем сам был пронзен копьем. Другие добывали голубей, а в городе все это время стоял стук камней: это продолжали упражняться пращники, исполненные решимости сделаться угрозой, какой пока только притворялись.
На площади посреди города взгляду Ксенофонта предстала огромная пирамида, около шестидесяти шагов в высоту. Входа в нее нигде не было, равно как и объяснения самому ее существованию. Один из сотников подал ему найденный в дорожной пыли кусок стекла, похожий на выпуклый закругленный глаз рыбы. Внутри некоторых зданий там обнаружились кости, а еще бронзовые доспехи какого-то неведомого воина. Видимо когда-то, в незапамятной древности, город постигло бедствие, равное по силе гневу богов.
Возле реки эллины захватили нескольких пленных – всего с десяток, но их можно было допросить. Одного Ксенофонт для острастки приказал умертвить, а остальных на протяжении вечера допрашивал. В это время его воины раздавали женщинам и детям лагеря скудную пищу. Костры разжигались из дерева, настолько старого и сухого, что оно вспыхивало от одной лишь искры огнива. Запах жарящегося мяса наполнил рты голодной слюной. Вина не было, но в подвалах обнаружились глиняные кувшины, в которых оно когда-то содержалось, а также колодец с чистой водой. Смесь одного и другого оказалась не лишена приятности, и, по крайней мере, напоминала о вкусе винограда.
Один из пленников утверждал, что город назывался Лариса, а другой спорил, что это был Нимруд, некогда столица мидян. Все это приходилось переводить тем, кто знал оба языка, что замедляло выяснение. Ксенофонт прохаживался по гребню городских стен, а пленные бубнили о несметных царских силах внизу. Стратег пообещал им жизнь в обмен на все, что им известно. На кону стояло выживание, поэтому Ксенофонту было все равно, казнить пленных или миловать. Он сказал им об этом невозмутимо и ясно. А те, видя на пыльных камнях мертвое тело товарища, в его слова уверовали и трещали без умолку.
Заслышав вверху тихий свист, он, подняв голову, увидел Геспия и его подопечную, которые по боковым ступеням поднялись на площадку выше уровня стены. Ксенофонт мысленно вздохнул, хотя и улыбнулся этой паре. Стоит ли даже упоминать, что быть вождем означает так мало времени наедине с собой; но иначе не получается. Взять Сократа: старик явно наслаждался обществом других, смотрясь на фоне толпы ярче и живее. Что до Ксенофонта, то ему обыденные разговоры были в тягость. Он предпочитал серьезность цели, свой ум и силу используя на то, чтобы по мере поступления решать ту или иную задачу. Мелькнула мысль, не услать ли эту пару подальше. Но в очередной раз красота женщины заставила его повременить с решением. За долгие века своего существования этот город был местом смерти и жуткой, призрачной тишины. Так отчего бы не оживить его присутствием этой красавицы с вьющейся на ветру гривой распущенных черных кудрей?
– Я сама просила об этой встрече, Ксенофонт, – прямо сказала Паллакис.
– Вот как? – вымолвил Ксенофонт, взглянув на Геспия. У этого юного афинянина вид был такой же влюбленный, как у щенка. Ксенофонт сам удивился непроизвольному уколу ревности, когда Паллакис тронула молодого человека за руку. Возможно, внешне он этого не выдал, однако было подозрение, что Паллакис, вероятно, мастерица в чтении мужских душ.
Ксенофонт вздохнул.
– Госпожа, мне нужно…
Он спохватился прежде, чем повлечь обиду, но вспомнил дисциплину, которую видел в спартанцах. Он должен вести за собою людей. Если это означает конец уединения, то быть посему.
– Госпожа, для чего я могу быть нужен?
– Просто для чувства сближенности, славный полководец, – ответила она, глядя на него большими пушистыми глазами. – Люди напуганы… А напуганные мужчины и женщины – плохие попутчики во всем. Я хотела поговорить о наших шансах.
Ксенофонт, усмехнувшись, повел головой.
– Я был бы плохим стратегом, если б сказал, что они невысоки, ведь так? Но и будущее я предсказывать не берусь, даже как самый скромный оракул.
Его улыбка исчезла, когда в ее глазах он увидел напряжение. Ксенофонт заговорил более серьезно:
– Воли к борьбе мне не занимать. Могу поклясться в том, что буду ответственным за каждого мужчину, женщину и ребенка, что оказались со мною в этом месте. Это мои сограждане, Паллакис. На чужом поле, вдали от дома их, обреченных на смерть или рабство, не бросил и спас Клеарх. Не брошу и я, пока дышу и покуда во мне бьется сердце. – Он подождал, пока она кивнет, принимая его клятву. – Этого же я буду спрашивать со всех, кто с нами: что они могут дать. И с себя в том числе. Кроме того…
Ксенофонт посмотрел вдаль и напрягся так ощутимо, что и Геспий, и Паллакис повернулись туда, куда он сейчас неотрывно глядел, прикрывая брови рукой.
Вдалеке виднелся отряд персидского войска. Похоже, что царь Артаксеркс притомился ждать их сдачи или полагаться на небольшой отряд лучников для расправы с ними. Огромное количество полков надвигалось на заброшенный город – словно пятно на земле, словно буря в пустыне.
– Сколько же их там? – с завороженным ужасом спросила Паллакис.
– Кто ж знает? Восемьдесят, девяносто тысяч? Но и это, должно быть, не все.
– А может, царь вообще вернулся в свои дворцы, – неуверенно рассудил Геспий. – Ведь он, в конце концов, выиграл битву. И отбыл к себе домой, на пиры да парады.
Ксенофонт, как ни странно, с этим смутным доводом согласился.
– А что. Было бы неплохо. Если так, то это нам на руку. – От мысли, что следом ударила ему в голову, он невольно поморщился. – Если только он не ведет еще одно такое же войско с другой стороны города. Прошу тебя, Геспий: сбегай, погляди.
Человек, который когда-то издевался над ним на афинском рынке, без единого пререкания помчался к лестнице и исчез из виду. Ксенофонт чуть заметно улыбнулся. Ничто не вылепливает человека так, как это делает война, к добру или к худу.
В это мгновение до него дошло, что он впервые остался наедине с любимой женщиной царевича. Она как будто разглядела, что его мысли повернулись к личному, – даже когда он смотрел на придвижение к городу вражеских полчищ.
– Мой господин женат? – спросила она.
Ксенофонт покраснел и закашлялся.
– Прошу прощения… Нет. Не женат. Свою жизнь я посвятил политике в поддержку Спарты. В Афинах это было не… не очень популярным делом. И все возможности в то время прошли как-то мимо меня.
Он снова прищурился на неприятеля, убеждая себя, что к городу до наступления темноты войско персов не приблизится.
– Я пытался… найти способ жить лучше; лучше провести те немногие годы, что отведены нам богами. С этой целью я посвятил себя учениям великих наставников и ремеслам, таким как верховая езда и управление имуществом. В течение четырех лет я ни много ни мало был учеником у самого Сократа.
– Это имя мне незнакомо, – сказала она, обескураживая его. – Но это исследование о том, как жить лучше, – отсутствие жены в него тоже входило?
Паллакис казалась искренне удивленной. Он покраснел еще больше и натужно прокашлялся в кулак.
– Да… То есть нет. Я об этом подумаю, госпожа.
Стряхнув с себя странное настроение, он заговорил более уверенно:
– А пока мы должны изготовиться либо двигаться дальше, либо защищать этот мертвый город.
Он взял ее за руку, и она позволила ему повести себя по ступеням наверх.
На его взгляд, Паллакис ответила лучезарной улыбкой, заинтригованная вблизи себя мужчиной куда более интересным, чем она ожидала.
Нужно держаться умело и тонко, поддерживая его очевидный к ней интерес; это позволит защититься самой, а также поднять свое положение. Она даже не ожидала, что ощутит такой трепет, когда он взял ее ладонь. Как необычно. Восхищение у Паллакис вызывали такие, как Кир или Клеарх. Казалось, что они не терпят никаких сомнений в собственных силах. Однако влюбляться ее заставляли все же те мужчины, которые живут борением. Себя Паллакис знала весьма хорошо и, спускаясь на городскую площадь, призвала свой внутренний голос быть начеку.
Нужно вести себя умело и тонко. Ей хотелось быть нужной, это правда. При этом она чувствовала, что Ксенофонт отчаянно одинок и действительно очень в ней нуждается. Эта мысль кружила голову.
Спать Ксенофонт расположился на городской стене. В голове шумело, а желудок стягивало голодными спазмами, но при общей скудости вокруг сетовать на голод было недостойно. Вечером по лагерю разошлось последнее из того, что было добыто охотниками. Ноздри ухватывали запах мяса, что жарилось на кострах из древней деревянной утвари, сухой, как завывающие вокруг города ветры пустыни. С места ночлега виднелись и персидские костры, россыпью мерцающих звездочек растянутые в бархатной ночи.
Чтобы унять голодное урчание желудка, Ксенофонт вжимал себе в живот кулак. Порции мяса раздавались прежде всего воинам, а затем детям, у которых сил держаться одной водой и воздухом от природы меньше. После этого другим, по логике, доставалось остальное, но это была уже лишь похлебка, хотя и делалось все возможное, чтобы наполнить ею как можно больше пустующих желудков.
В это время послышалось шарканье шагов по ступеням, над которыми колебался желтоватым огоньком светильник. Ксенофонт поднялся с подстилки, раздраженный тем, что его беспокоят даже в такие укромные часы. Со смутным разочарованием он узнал спартанца Хрисофа. В одной руке он нес дымящуюся миску, а в другой, вместе со светильником, узкогорлый кувшин.
– Ты ничего не ел, стратег, – сказал он негромко.
– А ты? – спросил Ксенофонт.
– Я спартанец, – с пожатием плеч ответил тот, как будто это все объясняло.
Ксенофонт, приподняв бровь, ждал, не спеша принимать ни кувшин, ни миску. Хрисоф нехотя вздохнул.
– Когда я был еще мальчишкой, мы никогда не ели досыта. Чувство сытости я помню, пожалуй, лишь дважды в жизни, и оба раза на царском пиру. Понятное дело, нас поощряли подворовывать хлеб, только у меня это как-то не получалось. Мне думается…
– Вас прямо-таки заставляли воровать? – слегка удивленно спросил Ксенофонт.
– Как я уже сказал, нас плохо кормили. И если нам удавалось обхитрить поваров и умыкнуть лишний кусок, это никогда не наказывалось. Иное дело, если ты на этом попадался – тогда тебя наказывали, но только за это, а не за то, что украл. У нас считается, что голод заставляет мальчика прытче соображать, а сытость, наоборот, делает его тугодумом. По всей видимости, так оно и есть.
– Но сейчас-то ты голоден?
– Пожалуй. Но мы противимся своей плоти. Плоть – это жир и нерасторопное мясо, норовящие подмять нас под себя. Своего рода медлительная лошадь, которая не понимает, почему она такая нерасторопная. Пойми меня правильно. Есть нужно, потому что завтра надо быть начеку. Хотя за определенной гранью голод – это жизнь.
– Нужно, но что-то не хочется. А впрочем, можно и поесть, но только если эту трапезу со мной разделишь ты. Это приказ, Хрисоф.
Спартанец посмотрел на миску, которую держал в руке, и облизнулся, наслаждаясь ароматом бобов и мяса в густой похлебке. По его приглашающему жесту Ксенофонт принял миску и кувшин, аккуратно их поставил и сел, скрестив ноги, собираясь приступить к трапезе.
Хрисоф из-за пазухи достал лепешку и разломил ее надвое, одну половину протянув Ксенофонту. Каждый стал зачерпывать ею густое хлёбово и медленно пережевывать, не выдавая спешки в стремлении насытиться. Ксенофонт намеренно сдерживал себя, не уступая спартанцу, хотя тело едва ли не криком взывало о пище.
– В этом месте мы оставаться не можем, – произнес в конце концов Ксенофонт. – Если они нас окружат, мы обречены. Будь добр передать это, когда спустишься вниз. На сборы час, от силы два. Нам нужно держаться впереди наших преследователей.
– Это будет нелегко, – подумав, рассудил Хрисоф. – У нас теперь и тяглового скота не осталось. Детей, если что, придется нести на руках.
– Пусть этот труд возьмут на себя мужчины и женщины, и несут каждого ребенка по очереди. Если мы из-за них замедлимся, сзади нас начнут выгрызать. Мы не сможем разом защищать людей и держать натиск персов.
– Ты уверен? – переспросил Хрисоф.
– Уверен, – ответил Ксенофонт. – Ты хотел, спартанец, чтобы я вас вел. Так что не сомневайся в моих приказах сейчас. Наша цель – покинуть земли царя Артаксеркса. И не нужно бросать ему вызов там, где он неоспоримо сильней. Все, что остается, это держаться впереди их войска.
– У них теперь есть конница, в большом количестве. А у нас, сколько… пара сотен лошадей? Вряд ли этого достаточно.
– Достаточно, чтобы прикрыть тыл, – сказал Ксенофонт. Он знал, что спартанец – опытный воин. И пускай не по душе все эти сомнения и подначки, но в них есть смысл; стоит лишь вспомнить, как Сократ в свое время десятки раз переспрашивал и уточнял, что такое любовь.
Хрисоф между тем начал загибать пальцы:
– Мы медлительны. У нас слишком мало пращников, поэтому мы уязвимы на расстоянии. Наша тактика основана на неуклонном отступлении…
– Так они, глядишь, осмелеют, – признал Ксенофонт. – Будут неотступно преследовать и кусать нас за пятки. Эх, чего бы я только не отдал за личную стражу царевича! Те шестьсот всадников могли бы охотиться и осаживать их целый месяц. А без них…
Он замолчал, созерцая огненные точки, мерцающие вдали.
– Даже такое полчище боится ночной атаки. Мы у них славны своими выпадами. – Хрисоф мрачно усмехнулся. – Они напрягаются, когда мы вблизи.
– Если это так, то каждый свой день мы будем начинать с форой, – сказал Ксенофонт. – А если они разобьют лагерь ближе, то надо будет рискнуть сделать вылазку и разогнать их лошадей.
– Духоподъемный шаг, – с ухмылкой отметил Хрисоф. Хотя вид у спартанца был мрачный, Ксенофонт уловил его настроение.
– Как ты думаешь, мы сумеем уйти?
Ответа не было так долго, что Ксенофонту подумалось, не задремал ли он.
– То, что думаю я, значения не имеет, – произнес спартанец в конце концов. – Мы движемся от места к месту, от реки к реке. Четыре ли, пять тысяч стадиев – расстояние не такое уж большое. Но на всей его протяженности они будут пытаться нас измотать и загрызть, как собаки преследуют оленя. Добьемся мы своего или умрем, это не меняет задачи и того, что мы должны делать для ее исполнения. Так что я отправлюсь с легким сердцем. Мои люди со мною рядом, а враги позади. Так что день будет славный.
К удивлению Ксенофонта, Хрисоф похлопал его по плечу, после чего встал и потянулся.
– Постарайся заснуть, стратег. Завтра спозаранку ты нам понадобишься.
– Я приду и вас разбужу, – сказал Ксенофонт, не столько видя, сколько чувствуя в темноте улыбку спартанца, который поступью направился к ступеням лестницы.
Спартанцы на площади, собираясь к походу, были все друг с другом знакомы. Они здоровались с друзьями и привычно обменивались фразами насчет предстоящего долгого дня и странного города вокруг них. Ночь выдалась достаточно теплой для ночевки под открытым небом, без риска провести ее с пауками и скорпионами в заброшенных строениях. Перед дорогой одни деловито мочились, другие хлебали из бурдюков, хотя жажда оставалась для всех острым вопросом. В мерклом небе по-прежнему белела луна, когда весь люд – каре войска снаружи, а неуемная сердцевина обозников внутри него – покинул город, зябко подрагивая от предутренней прохлады. Кое-кто оглядывался, боясь услышать жадный вой или услышать стук копыт мчащейся вражьей конницы, но ничто не нарушало дремливого безмолвия ночи.
К тому времени как солнце наконец взошло, они были уже в сотне стадиев от города и шли набранным темпом. Ксенофонт дал приказ Геспию обеспечить разведчиков как позади, так и впереди строя. Наличие лошадей снабдило их глазами и руками в сравнении с тем, как им прежде приходилось нащупывать путь чуть ли не вслепую. Между тем персов пока нигде не было, и голод заставил эллинов сделать остановку возле двух селений. Там, в загоне, на вытоптанной земле оказались козы, а в запасниках фисташки и миндаль, которые селяне готовили к продаже. Селяне безропотно смотрели, как забирают их добро, но зато не были убиты или угнаны в рабство. Насчет последнего Ксенофонту пришлось дать отдельный приказ: им едва хватало сил стеречь и кормить своих; не хватало еще обременять себя дополнительной обузой.
Конные разведчики принеслись к середине дня – время достаточное, чтобы заполнить каждую емкость водой и даже усадить самых маленьких детей на две запряженных мулами повозки, которые снова появились в распоряжении у лагеря. Под безутешными взглядами хозяев строй двинулся дальше.
Персидская конница стала видна ближе к вечеру. Выступивший на отдалении ряд всадников наблюдал за продвижением квадрата, а дюжие всадники с явной угрозой выставляли вверх мечи и топорики. Царя среди них видно не было, не было и его приближенных. Что отрадно, рядом не шли полки пехоты. В одиночку конница сломать строй не могла, будучи бессильна против копий. Закрадывалась даже надежда, что царь просто приказал своему воинству проводить незваных гостей с его земель.
В ту ночь им не давали спать всадники, разъезжавшие верхом недалеко от лагеря. Эллины нашли небольшую речушку и перешли ее вброд, встав на дальней стороне, но никакого шанса на отдых не было, когда в темноте раздавались гиканье и крики. Геспий рвался выехать навстречу и пустить кому-нибудь кровь, но Ксенофонт не разрешил. Нужно было беречь лошадей, которых и так немного. Сон был не так важен, как защита, пусть хотя бы временная.
Звезды свершали над лагерем свой вековечный оборот, когда остерегающе загудели рога. С бессвязными криками в лагерь влетели разведчики, вопя хватать оружие. Ксенофонт встал, чеша под мышкой, где застарелый пот превратился в сыпь.
Усталость накрыла его неожиданно глубоким сном, но зевок спросонья умер, не родясь, стоило ему поднять глаза. В сероватых предрассветных сумерках безмолвными рядами надвигалось темное море солдат, всего-то в нескольких сотнях шагов от того места, где он стоял. Они близились, наплывая вместе с последним вздохом тьмы. Едва свет зазолотился, как впереди этой темной массы стал виден Тиссаферн, блистая на своем белом коне.
Сердце неистово заколотилось. Перс в издевательском приветствии коснулся рукой нагрудника. Дружно взревев, вражеские ряды рванулись вперед.
26
Ксенофонт выругался, когда пот ожег рану – по щеке вскользь чиркнула стрела, но кровь все шла и шла. И всякий раз, когда он смахивал пот, задетый шрам снова вскрывался.
Тиссаферн бросил на греков все свое войско, пытаясь одним ударом положить погоне конец. Он действительно подобрался близко, почти вплотную. С первого же момента свирепость натиска была налицо: при броске персы наткнулись на женщину, бежавшую в этот момент по полю вслед за своей вопящей дочуркой, и в секунду мать с девочкой канули у них под ногами.
Еще не успевшее сомкнуться каре эллинов качнулось навстречу врагу, тем не менее оставив позади себя около сотни беззащитных людей. Персидская конница набросилась на них, словно волки на отбившихся от стада овец. Это были женщины, мужчины, дети – все, до кого можно дотянуться. Персы, которые чересчур увлеклись, оказались опрокинуты гоплитами, закрывавшими сейчас брешь в строю, однако для пойманных это было слабым утешением. Большинство из них оказалось тотчас перебито, а те, кто остался жив, умоляюще вопили, перекинутые поперек чепраков хохочущими персидскими всадниками.
Квадрат наконец сомкнулся, и эллины двинулись вперед, в ярости от застигшей их врасплох атаки. Ксенофонт чувствовал на себе гневные взгляды, а сам при этом хотел разделаться с Геспием за несвоевременное оповещение. Он подозвал его к себе. Вид у помощника был сейчас упрямым и мрачным – примерно таким, каким он помнил его на афинских улицах.
– Где ты был? – спросил Ксенофонт как мог невозмутимо, отчасти потому, что ответственность за случившееся лежала на нем, как бы к этому ни относился сам юноша. Нельзя было винить неопытного предводителя шайки за то, что тот не отследил всего должным образом.
– Я оставил разведчиков в часе от лагеря, – ответил Геспий, понурив голову. Судя по прерывистости голоса, он был близок к слезам, но недюжинным усилием воли взял себя в руки.
– Я отправился с ними, а потом… поехал обратно в лагерь. Прости.
Ксенофонт смотрел на Геспия. Этот юноша не умел ни читать, ни даже писать свое имя. Верховой езде он обучился за время похода на восток Персии. Если он и допустил ошибку, то вина в ней лежала на том, кто оставил его одного, без должного совета.
– Расскажи мне, что произошло, – велел Ксенофонт.
Геспий потупился, не в силах смотреть ему в глаза.
– Их, должно быть, подкарауливали конные с лучниками. – Он досадливым взмахом рассек воздух. – Несколько ребят сумели оторваться, но мы потеряли очень многих. Они налетели прямо-таки бурей. Я все еще мчался обратно к лагерю. А когда смог выкрикнуть тревогу, они уже висели почти у нас на плечах. Прости, Ксенофонт.
Он умолк, готовый к любой возможной каре.
– Мне не следовало оставлять тебя без более опытного наставника, – сказал Ксенофонт. – Так что это моя ошибка, понимаешь? И винить тебя за мой просчет нет смысла. – Он говорил с наигранной бодростью, как будто дело было уже забыто. – А назавтра в ночь тебе нужно будет расставить разведчиков парами, но всегда в пределах досягаемости друг от друга. Если одного всадника или пару срубят, остальные на всем скаку возвращаются в лагерь. И всегда быть друг у друга на виду, Геспий. Вот урок, который нужно извлечь из случившегося.
– Мне жаль, – сокрушенно повторил юноша.
Ксенофонт непонимающе посмотрел на него.
– Перестань казниться. Просто извлеки урок. В этой мелкой стычке они одержали верх, и это подняло им настроение. Но удача всегда переменчива! Как далеко мы уже продвинулись? Для нас единственно важное – оставаться впереди них.
Не успел он это сказать, как вновь тревожно закричали те, кто с тыла наблюдал за персами. Стон страха донесся из открытого центра квадрата – звук, которого от лагерников прежде не слышалось. Ксенофонт сжал челюсти, злясь на себя, но также и на врага, что никак не оставлял их в покое.
Проезжая обратно вдоль фланга своего воинства, он увидел скопление персидской конницы, скачущей легким галопом, будто на параде. Эллинов они миновали на расстоянии семисот или восьмисот шагов – недосягаемо для стрелы или копья. На скаку персы оборачивались, оглядываясь на врага; при этом они вырвались вперед идущего квадрата, используя преимущество своей подвижности.
В этот момент к Ксенофонту приблизился Хрисоф. Вид у него был бодрый, и дышал он не натруженно, несмотря на тяжелый кожаный панцирь с бронзовыми пластинами.
– Будут ли новые указания, стратег? – осведомился Хрисоф.
Ход мыслей спартанца постепенно становился ясней. В отличие от Клеарха, он был не так прямолинеен и действовал исподволь.
– Пока нет, – ответил Ксенофонт. – Какие у тебя мысли насчет тех всадников?
– Я думаю, они устроят впереди засаду, – предположил Хрисоф (для этого он, скорее всего, на фланг и пришел). – Подыщут место, где дорога сужается, возможно, в холмах. Навалят деревьев или накатят камней – все, что подвернется под руку, чтобы удержать нас в одном месте. А те, что сзади, одновременно нападут. Лично я поступил бы так.
– Обойти нас я им помешать не могу, – сказал Ксенофонт. – Как и рассеять тех, кто нас еще преследует. Если мы остановимся и предложим бой, они могут таким же ходом отступить. А если согласятся принять наш вызов, то лагерный люд сделается уязвимым. Такое вот двойственное у нас положение.
Сказав это, Ксенофонт моргнул, внезапно ощутив тоскливую безнадежность.
Но чувствуя на себе людские взгляды, он слегка качнул головой, отметая всяческие страхи. Командир должен выглядеть уверенно и твердо даже для таких опытных воинов, как Хрисоф. Нужно быть выше сомнений и слабости.
– И все же вступать с этими персами в бой нам нежелательно. Мы показали, что на поле они нам не чета. Мучить их дальше просто зазорно. Истинная наша цель – благополучно покинуть пределы их страны. Вот чего я хочу добиться, Хрисоф. Если они попробуют напасть на нас с возвышенности, то мы пройдем с поднятыми над головой щитами. Если атакуют пешим порядком, мы будем рубить их, пока они не выдохнутся. При необходимости придется сражаться, но победа для нас настанет, когда перед нами откроется Эвксинский понт[41]. Там, на севере, вдоль побережья, расположены эллинские города. И когда мы до них доберемся, то окажемся, считай, дома. А там уж до родины будет рукой подать.
Хрисоф на ходу склонил голову.
– Понятно, стратег: действовать сообразно обстоятельствам.
Он ухмыльнулся с мальчишеским озорством, и в этот миг Ксенофонт почувствовал, как и с него самого спадает чопорная личина полководца. Он высказал вслух все затруднения, что могут ждать впереди, и тогда стало понятно, что они не настолько уж и непреодолимы. Впервые за весь этот день Ксенофонт ощутил себя приободренно.
– Продолжать в том же духе, – кивнул он.
Они прошли сотню стадиев до реки, где через поток был перекинут деревянный мост. Ксенофонт отдал приказ держать обе его стороны до тех пор, пока не закончится набор воды. Спартанцы стояли со щитами и копьями, готовые отразить любое внезапное нападение, а лагерный люд тем временем наполнял каждый кувшин и бурдюк. Хотя пустыни были уже позади, жизнь в этих местах по-прежнему существовала от реки до реки.
Все это время в некотором отдалении на лошади сидел Тиссаферн, грозно растопорщившись посредине ряда бородатых персидских всадников, поедающих очами неприятеля с таким видом, будто они волки, а эллины не более чем олешки, пришедшие на водопой. Такая мысль вызывала у Ксенофонта улыбку. Его люди были воинами, которым нет равных, что было доказано при Кунаксе. И это горькое снадобье против персидской самоуверенности было, пожалуй, единственным, что сохраняло им жизнь.
Тиссаферн дал своим людям позволение приближаться и угрожать своим видом тем, кто ждал очереди перехода, но стычки и тем более затяжного боя не намечалось. Никто не осмеливался задирать красные плащи спартанцев, что сидели за разговорами или с ленцой поглядывали на неприятеля. Некоторые из греков купались и плескались на мелководье, с хохотом взбивая ворохи брызг. Другие пели или декламировали друг другу стихи, собравшись для этого небольшими кружками. Разумеется, они знали, что такие сцены приводят наблюдающего за ними врага в ярость, но Ксенофонт обнаружил, что и его собственное настроение улучшается от беззаботности его народа. Почему они должны в страхе опускать свой взор даже перед таким скопищем недругов? Спору нет, спартанцы надменно дерзили, но это была надменность заслуженная и выстраданная.
Даже без конницы персидские полки растягивались на всю местность – десятки тысяч людей. Тиссаферн будто почувствовал, что греки наполнили свои последние тыквы и меха: движение в персидских рядах оживилось; солдаты подстегивали себя пением и призывами, распаляя друг друга. Некоторые из них успели придвинуться на расстояние броска копья.
Ксенофонт тихо выругался при виде темных стрелок, чертящих в воздухе плавную дугу. Через сотников он отдал тихий приказ поскорей завершить переправу.
Персы возбуждались все сильней, и вот уже две группы без предупреждения побежали вперед. Первые резко остановились перед частоколом копий, понимая, что дальше не пройти. Чувствовалось, что спартанцы строя не нарушат, а потому персы просто топтались с разноголосым ревом, злобно тыча оружием в воздух.
На другом фланге из гущи персидских полков вырвалась пара всадников и лихо поскакала, пригибаясь к шеям коней; с их высоты они с огромной силой метнули дротики. Оба угодили меж щитов и сшибли с ног двоих, на что конники торжествующе взвыли, подняв руки к небу и взывая к своим товарищам, что сзади.
Один из коринфян выступил из строя и в три быстрых шага пустил длинное копье. Оно четко пронзило одного из всадников, сбив его с коня. Спустя мгновение он лежал навзничь без всяких признаков жизни и шума. Теперь смеялись и глумились уже греки, а остальные все это время пробирались по мосту. С каждым новым шагом персы придвигались все ближе, задние суматошно подталкивали передних. Ксенофонт взъехал на мост верхом вместе с последними рядами своих спартанцев, спиной к лучникам и воинам в панцирях, которые с рычанием заполоняли всю землю по ту сторону моста. До другого конца он добрался, когда переправа превратилась уже в лихорадочную спешку.
Персидские начальники потеряли всякую управу, которая у них была.
Их передние ряды ринулись на мост, потрясая мечами, в то время как последние эллины отступали назад, выставив перед собой щиты и копья.
На их долю приходились сотни неистовых ударов железных мечей, рубящих и режущих золотистую бронзу; не давая ответа, спартанцы отходили.
Ксенофонт высоко поднял кулак, глядя, как мост торопливо заполняется множеством персов. Вслед за резким взмахом ладони стратега весь пролет моста с треском рухнул, грянувшись в бурные воды. За те часы, что длилась переправа, первоначальные опоры были вырублены, а на их место вставлены одиночные бревна. По знаку Ксенофонта нескольких резких ударов оказалось достаточно, чтобы их выбить. Тогда мост рухнул под собственной тяжестью, увлекая с собою воинство, спешащее по нему в полном вооружении.
Ксенофонт отвернулся от панического ужаса, царящего на мосту, и посмотрел на Тиссаферна, который по-прежнему взирал с другого берега. Царский вельможа ответил тучей стрел, посланных по его гневному мановению. Оказывается, он втайне подослал лучников, но потерянный мост смазал эффект. Тем не менее стрелы взмыли в воздух, и все эллины спешно нырнули под щиты, на которые с хлестким стуком обрушился железный дождь.
Сам Ксенофонт сидел, расправив плечи, уповая на удачу, что до этого времени ему сопутствовала. Отправляться через мост среди первых Тиссаферн не рискнул – а зря. Так или иначе, судьба дня была решена. Теперь персам приходилось искать другой брод, растягиваясь вдоль реки.
Ксенофонт прищурился на покатые отроги холмов, что мутно проступали впереди. К северу земля становилась зеленее и не так враждебна к жизни. Заранее было понятно, что там ждет засада, но эту тревожную мысль можно было отложить на другой день.
– Радуйтесь! – перекрывая шум, крикнул он своим соплеменникам. – Все ближе тот час, когда мы наконец от них отделаемся!
Ксенофонт заставил себя улыбнуться, намеренно показывая уверенность, которой на самом деле не чувствовал. Было видно, что многие из обитателей лагеря прихрамывают и бредут кое-как. Сандалии у многих протерлись насквозь, а то и вовсе распались, так что людям приходилось обматывать стопы кусками ткани. Вода теперь – хвала Посейдону – была, но еды оставалось в обрез. Ксенофонт смотрел вперед, словно в поисках более радужных перспектив. Он не мог выдавать свою разочарованность и страх насчет того, что им всем в горах уготовил Тиссаферн.
В течение дня безостановочный путь пролегал по все более отрадному своей жизненностью пейзажу. Накормить двадцать тысяч голодных ртов было чем-то несбыточным, однако те, кто умел стрелять из лука и пращи, разошлись во все стороны попытать счастья и обратно возвращались с тем, что смогли добыть. Эти люди становились глазами и ушами греческого войска по мере того, как земля начинала переходить в предгорья. Ксенофонт научился не обращать внимания на голодное урчание в животе, как вдруг на его глазах охотники притащили целую дюжину оленей – часть небольшого стада, которое удалось залучить в лощину между холмами. Животные в основном вырвались своими диковиной высоты скачками, но часть удалось изловить и убить. Для кого-то это была первая за весь день пища, но она же означала и надежду.
С каждым часом перехода открывались все новые хребты и каньоны, через которые солнце отбрасывало длинные тени. Для поиска другого пути Ксенофонт выслал Геспия с остальными всадниками, однако всюду тропки упирались в отвесные склоны, и лишь один большой проход вел через горы. Нетрудно было догадаться, где будет устроена засада, но и избежать ее, получается, было нельзя. Идти предстояло на север.
Лагерь разбили в подобии сада с вековыми яблонями, что цеплялись за жизнь в неглубокой долине. Дорога тянулась впереди, окутанная сумраком. До первого света продолжать по ней путь никому не хотелось. Обитатели лагеря обламывали со старых деревьев сучья и собирали сухостой, который можно было найти. Драгоценную оленину охотники передали женщинам, которые знали, как разделать мясо и приготовить отдельно все внутренности. Десятки других искали на окрестных холмах свежую зелень и травы, которые так или иначе годились в пищу. К тому же при приготовлении можно было рассчитывать снять пробу. К съестному охотники присовокупили также фазана, нескольких куропаток и тощего старого козла, который вслепую убегал до тех пор, пока его не свалил наземь какой-то мальчишка. Их нужда насытиться была поважней, чем у бывших козлиных хозяев, хотя на шее у него все еще болтался недоуздок. Животное разделали спартанским кописом и положили жарить поверх костра на круглом щите, вокруг которого толпились дети, голодными глазами глядя, как шипят и сочно брызжутся куски мяса.
Вина не было, но зато вода была чиста и холодна, так что настроение в лагере посветлело. Ксенофонт поговорил с командирами о предстоящем дне, но не зная, какой именно способ нападения будет избран, они могли лишь строить догадки. В каком-то смысле это было заделом хорошего настроения Ксенофонта, когда он укладывался спать, глядя на звезды. Он проникался верой в смекалистость своего народа.
Они не любят торопиться, это правда. И у них есть пагубная склонность спорить во время кризиса – но когда решение принято, они действуют с умом и уверенностью. Впору ими гордиться.
То, что он спал, Ксенофонт понял лишь тогда, когда, вздрогнув, проснулся от прикосновения. Открыв глаза, на земле возле себя он увидел Паллакис, завернутую в свое одеяло. Он сел в темноте, чувствуя, как вокруг доверчиво спят тысячи людей, вверивших ему свою жизнь.
– Госпоже нужен еще один защитник? – спросил он спросонья. – Неужели Геспий не справляется?
Слышно было, как она поворачивается к нему в темноте, так близко, что на лице чувствовалось ее дыхание.
– Жизнь не исчерпывается одной безопасностью, – быстрым шепотом произнесла она.
– Верно. Я понимаю, госпожа была наложницей царевича Кира, – заметил он. Чувствовалось, как она в темноте чутко напряглась. – А затем по меньшей мере раз я ее видел в обществе Клеарха. Теперь она здесь, возле меня, хотя я дал Геспию задание за ней присматривать.
– Дал, а затем его же и услал, – сказала она с внезапной неуверенностью.
Ксенофонт тайком поморщился, чувствуя неловкость момента.
– Потому что он мой конюший, Паллакис. Он командует разведчиками, и я отсылаю его почти каждую ночь… Постой. Тебе не угрожали?
Она резко села и, встав на колени, начала скатывать одеяло.
– Нет. Геспий среди мужчин пользуется уважением. Они знают, что я под его защитой. Я думала… Прошу прощения.
Ксенофонт почувствовал, как лицо у него вспыхнуло, но заговорил прежде, чем она успела исчезнуть в ночи:
– Оставайся здесь, по крайней мере, сейчас. До рассвета уже недолго.
Темная фигура рядом с ним замерла, неотрывно глядя на него.
Затем она снова пристроилась рядом. Он лежал довольно долго, в настороженном бодрствовании.
Пробудившись утром, женщину рядом с собой Ксенофонт не застал. Мелькнула растерянная мысль, не являлась ли она ему во сне. Впрочем, мысль о ней он тут же оставил, когда появился Геспий с его конем, уже напоенным и с проверенной упряжью. Все лошади у них выглядели исхудалыми, хотя теперь в горах они могли, по крайней мере, щипать траву, которой раньше нигде не было. В отличие от людей долго обходиться без нормальной кормежки кони не могут, что одинаково беспокоило и Геспия, и Ксенофонта. Без конных разведчиков им сейчас было просто не выжить.
Передавая начальнику поводья и помогая сесть на коня, Геспий казался угрюмым. Он подал пояс с мечом, застегивая который, Ксенофонт мельком подумал, не обмолвиться ли ему о нынешнем ночном визите. Эту женщину он Геспию не обещал, да оно было и не в его власти. При этом он видел, что молодой человек в нее влюблен, и не хватало еще из-за нее каких-то размолвок с подчиненным. Поэтому Ксенофонт предпочел промолчать. От Паллакис надо будет держаться подальше, и глядишь, все эти недомолвки рассосутся сами собой.
Персы обозначились непосредственно перед тем, как лагерь начал сниматься с места. Тиссаферна можно было по-своему поблагодарить: своим появлением он подгонял излишне нерасторопных лагерников становиться в походный порядок. Предпочтительный квадрат в квадрате выстроить было нельзя: для каре из двадцати тысяч проход в горах был слишком узок. И Ксенофонт, несмотря на тяжелые сомнения, дал согласие Хрисофу на колонну. Спартанец вел себя так, словно он неоспоримый заместитель стратега, и никто этого, в сущности, не оспаривал. Прочие выбранные военачальники как будто довольствовались командованием своими отрядами и главное руководство поверяли ему. Интересно, сколько еще ошибок придется совершить, прежде чем такое положение изменится.
Спартанцы настояли на том, чтобы через скалы идти во главе колонны. Ксенофонт приказал всему строю держать щиты наготове на случай, если перевал уже занят персами. На коне он ехал в мучительных переживаниях, что что-то может пойти не так, что он упустил что-то жизненно важное. Люди равнялись на него, а он чувствовал всю тяжесть своей ответственности, которая лишь усугублялась полнотой вверенной ему власти, до этого даже неведомой. Те его незначительные полномочия в Афинах не шли ни в какое сравнение с ведением войска через горы.
Сзади наседали персы, тут же заполняя оставляемое греками пространство.
Этим утром тыл защищали стимфальцы вместе с пращниками и той частью конных, которая за счет своего размещения могла наиболее эффективно сдерживать натиск неприятеля. Шеи у этих людей ныли от постоянного оглядывания, но иначе было никак нельзя.
Впереди на отдалении послышался крик, заслышав который, Ксенофонт рысцой поехал вперед вдоль фланга, из-за чего солдаты и лагерники вынуждены были сместиться вбок. Дорога здесь была не больше шестидесяти шагов в поперечнике – широченный проезд для кого угодно, кроме войска. Скалы впереди были расколоты так, что резко вздымались по обе стороны дороги – и там, по бокам зеленой горы, находились персидские силы, поджидающие эллинов. Теперь было понятно, почему Тиссаферн так налегал сзади. Персы знали, что их люди близко, и пытались затиснуть неприятеля глубже в проход.
Впереди Ксенофонт был единственным всадником. Прищурившись, он посмотрел вдаль и медленно улыбнулся сам себе.
Спартанцы упрямо шли вперед, готовые сдерживать шквал, вне сомнения, для них приготовленный. Сейчас это могло быть что угодно, от камней и кипящего масла до стрел, обмакнутых в нечистоты. Спартанцы начали готовить свои щиты, но Ксенофонт покачал головой:
– Хрисоф. Персы свою позицию проворонили. То место они выбрали из соображений, что оно широкое и плоское, но глянь выше – там сверху еще одна площадка. До которой мы можем добраться.
– Они нас увидят, – заметил Хрисоф, не из возражения, а больше из занимающегося восторга.
– Ну так отправимся не шагом, а бегом, – сказал Ксенофонт. – Дай мне шесть сотен своих, самых годных. Мы взбежим на ту гору и ринемся на них сверху, как они намеревались поступить с нами.
Поводьями он повернул коня с дороги на мшистый склон утеса, уходящий вверх. Позади Хрисоф выкрикивал быстрые приказы. Шестьсот человек отделились от строя и подошли в распоряжение двоих командиров. Судя по виду, предстоящий вызов был им в удовольствие.
– Воины! – обратился к ним Ксенофонт. – Помните: вы терпите эти лишения ради тех, кого спасаете. А еще ради того, чтобы снова увидеть родную Элладу. Вы сражаетесь за свою честь – и за то, чтобы вновь обнять своих жен и детей. Не отставайте, и вы скинете тех персов с этой горки!
– Тебе-то хорошо, ты на лошади, – пробурчал вдруг один из воинов. – А я тащусь с этим щитом.
Ксенофонт вперился в него; хорошее настроение улетучилось. С нарочитой обстоятельностью он спешился и подошел ближе. Его конь, опустив голову, начал щипать пучки травы.
Ксенофонт остановился перед тем, кто сказал эти слова.
– Ну так оставайся здесь, – сказал он и, вырвав у воина щит, понесся вверх по склону. Следом за ним, качнувшись, устремились остальные. Они неслись во весь дух вверх, в то время как внизу другие воины хватали камни и бросали их в отступника. Их ярость была понятна.
Ксенофонт бежал и скакал с камня на камень до тех пор, пока не покраснел и не запыхался, но все же добрался до горного гребня вместе со всеми остальными. Там он поднял щит, словно трофей, и те, кто был внизу, шумно приветствовали это зрелище. Персы, делавшие расчет на свою засаду, уже покинули свои позиции и спускались вниз по другой тропе, как только им стало ясно, что преимущество утрачено. Победные крики эллинов эхом разносились по горам, достигнув ушей Тиссаферна в те минуты, когда его полки пробирались через долину. Он остановил своих людей, не желая преследовать врага в месте, где рельеф сводил на нет численное превосходство. Отряд Ксенофонта спустился вниз и вновь слился с основной силой, после чего движение по перевалу продолжилось в сторону равнин, что открывались за ним.
27
Равнинные земли по ту сторону гор были защищены от ветров и имели гораздо больше признаков присутствия человека. Вдали серебрилась широкая река, а взгляду открывались селения и угодья, обнесенные каменными изгородями. Люди радостно указывали на дымы очагов и стадо пасущихся коз. Многие плакали от облегчения при виде местности, подразумевающей наличие пищи и воды, да еще и без признаков грозящего погоней врага.
Ксенофонт призвал к себе Геспия, чтобы подготовить конный разъезд разведчиков. Молодой афинянин был сумрачен и скуп на слова, хотя выполнять приказы поехал с безоговорочной четкостью. Глядя ему вслед, Ксенофонт сам ощутил некоторую гневливость, хотя в целом отношения у них складывались более-менее приемлемо. Друзьями они не были и в Афинах, а у стратега есть хлопоты и поважней. Едва отдалился Геспий, как подошел Хрисоф с новым лохагом Филесием.
– Спасибо, что быстро пришли, – на ходу, с высоты коня поблагодарил их Ксенофонт. – Я тут думал составить отдельный отряд из наших отборных воинов. Если нас продолжат преследовать по перевалам и переправам, то нам необходим отряд замыкающих с самыми длинными копьями, а к ним лучшие пращники и некоторое число оставшихся критских лучников.
– Мысль хорошая, – сдержанно кивнул Хрисоф. – Я отберу шесть отдельных сотен и назначу им командиров. Работа будет осуществляться по большей части безвозмездно, а потому сомневаюсь, что многие вызовутся на такую неблагодарную должность добровольно. Могу предложить…
– Можешь не предлагать спартанцев, если я правильно тебя понял, – перебил Ксенофонт. – Они со своими неоспоримыми качествами лучше пригождаются в первых рядах, что ты и сам мне говорил уже множество раз.
– Хорошо, стратег, – склонил голову Хрисоф. – Хотя пришел я из-за того, что с тобой желал перемолвиться Филесий.
Ксенофонт взглянул на новоявленного лохага и неохотно кивнул. Прежде он уже слышал обращение Филесия к лагерю; тогда он проявил понимание. Но все равно его повторное явление особого доверия не вызывало.
– Понятно. Ну а пока идет разговор, Хрисоф: ты отвечаешь за вход в эти селения. Возьмешь в них съестные припасы, которые найдешь, всех вьючных животных, гурты овец и коз, а также все возможные повозки, которыми мы сможем воспользоваться. Еще нам нужны котлы и новые бурдюки, для замены прохудившимся. Более того, нам нужна и обувь – люди проходили босыми уже всю весну и лето. Им ли ковылять босиком через всю Персию, когда в спину дышит вражье войско! Понял ли ты меня?
Хрисоф опустился на одно колено, и Ксенофонт без остановки поехал дальше. С расстояния он на него оглянулся, но тот уже спешил прочь, скликая нужных ему младших командиров.
Филесий некоторое время смотрел вслед уходящему спартанцу, после чего прокашлялся. Он был не в восторге от того, что обращаться к стратегу ему приходится на уровне лодыжек, но спешиваться афинянин, похоже, не собирался.
– Ты хотел говорить со мной? – напомнил Ксенофонт.
– Да… хотел. Как можно заметить, мы пересекли черту гор, и теперь не наблюдается никакого преследования со стороны Тиссаферна и уж подавно самого царя. Мне пришло в голову – хотя я раньше ни во что это не вмешивался – что, возможно, пришло время обсудить, как лучше уводить воинство от врага.
– Не только воинство, но и жителей лагеря, – со значением сказал Ксенофонт.
– Да, конечно, и жителей тоже. Сейчас непосредственная угроза стала меньше, по крайней мере, на данный момент. Ты же знаешь, что моим дядей был Менон, а я под его началом прослужил около четырнадцати лет. В то время как у тебя, я понимаю, – он сжал челюсти, поиграв желваками, – опыт чуть более скромный.
– Гораздо более, – воскликнул Ксенофонт. – Хотя замечу, что своим заместителем твой дядя тебя не назначил. Ты же, как представилась возможность, не замедлил ею воспользоваться, и его люди тебя приняли. Это был смелый шаг – а у меня не было возможности поблагодарить тебя за поддержку. Я благодарен, Филесий. Без таких, как ты, мы б и не выжили, а не то что добрались до этой равнины. Без твоей смелости и дисциплины мы не увидим дома. Я в этом убежден. Без абсолютного подчинения – во все времена – как людей, которыми распоряжаешься ты, так и тех, кто командует другими, – мы погибнем на просторах персидской державы, так и не отведав снова вина и олив родной Эллады. И не испытать нам более наслаждения от пьес Еврипида, не слышать разговоров на афинской агоре. А что еще хуже – если мы потерпим здесь неудачу, то наш народ предаст нас забвению.
Он говорил, как сквозь дымку, облекая свои слова в мечту и удивляя обоих насыщенностью окрыляющего чувства. Филесий крупно моргнул, растерянно собираясь с мыслями.
– Я видел в Афинах его «Медею». Присутствовал сам Еврипид, и весь театр встал, чтобы его почтить. Это было… ошеломительно. Когдя я уходил, у меня словно груз спал с плеч, впервые за долгие годы.
Филесий подумал было вернуть разговор в прежнее практическое русло, но решил этого не делать. В сущности, быть вожаком его никогда не тянуло. Его дядя тоже это понимал, хотя кое-кто из сотников подталкивал его вперед. Филесий натянуто улыбнулся.
– Хорошо, стратег, – сказал он, склонив голову. – Боги да помогут тебе благополучно доставить нас домой.
– Это все, о чем я прошу небеса, – кивнул в ответ Ксенофонт.
Пустив коня рысью, он двинулся дальше. Солнце садилось за горы, отбрасывая на поля огромные черные тени. С вечерним холодом тело начинала пробирать дрожь. Вот уж и жатва прошла, урожай с наделов собран. Тем лучше для эллинов, будет чем поживиться в здешних амбарах. А год движется, и времена вместе с ним. Словно в ответ на эти мысли последовал порыв пронизывающего ветра. Ксенофонт плотней запахнулся в плащ.
Что бы ни случилось и как бы ни складывалось, они должны продолжать движение. В чем большая и неоспоримая заслуга Клеарха.
– Когда мы снова встретимся, спартанец, – пробормотал он, как молитву, – и ты спросишь меня, что было содеяно после твоей смерти, мне нечего будет стыдиться. Это я тебе обещаю. Я верну их на родину.
Он знал, что Филесий добивается большего веса, во всяком случае, своего участия в приказах. Ксенофонт чуть заметно качнул головой.
Это его люди. А он афинский аристократ, который обрел свою истинную цель. И не отступится от нее ни перед кем.
Наутро Хрисоф послал добытчиков обобрать фруктовые сады, а также найти более удаленные наделы земледельцев. Но они оказались не готовы к тысячам персов, пешком и на лошадях хлынувших с другой горной дороги в одном устремлении: отсечь греков от их основных сил. Обитатели лагеря бросали одеяла, полные плодов, и стремглав бежали назад, в то время как Хрисоф выслал им встречно шестьдесят ближайших спартанцев. Греки были застигнуты врасплох, и стычка разворачивалась на бегу – больше похожая на уличные беспорядки в Афинах, где каждая из сторон стремится как можно сильней навалять проявившему слабость противнику.
Персы упоенно рубили всех, кто только подворачивался – с оружием или без, – и мчались дальше, вместо того чтобы сформировать боевой порядок. В этом расплеснутом вареве безумия погибли десятки греков, прежде чем Ксенофонт прислал им в поддержку основной квадрат. Вид наступающих шеренг остудил пыл персов, что бежали впереди строя, и они отошли, пополняя собой утратившие стройность ряды. Позади них оставались лежать тела вперемешку с потоптанными яблоками, сливами и фигами.
Видя перед собой основные силы, персы отступили еще раз, используя для маневра большое количество лошадей. Глаза Ксенофонта были прикованы к сидящему верхом толстому белому кокону; впрочем, Тиссаферна на этом расстоянии оставалось лишь беспомощно проклинать. Месть Ксенофонта, если б таковая состоялась, состояла бы в упоительном, неспешном приближении к этому жирному персидскому вельможе, который бы потом остался лежать, глядя в небо застывшими в глупом недоумении глазами.
Обчистка селений шла гораздо быстрее после того, как они решили, что за ними никто не наблюдает. Ксенофонт сейчас ругал и винил себя в том, что не выставил более многочисленного караула, хотя виноват был не только он. Рыча от досады, клял себя и мятущийся по лагерю Хрисоф. Они оба недопустимо ослабили бдительность во враждебном месте, с неприятелем, по-прежнему рыщущим вокруг в поисках малейшей оплошности эллинов.
Что еще хуже, путь им теперь преграждала река. Перевал через горы вывел их на северо-восток, и дальше нужно было переправляться через водную преграду – а как идти, если дна ее нельзя нащупать, даже сунув в воду копье? Допросы захваченных сельских жителей тоже не утешали. В стане эллинов поселилось беспокойство после того, как выяснилось, что с одной стороны их сковывают горы, а с другой поток, который невозможно перейти. Кто-то предложил надувать овечьи пузыри и плыть на них, но при неусыпно бдящем Тиссаферне и его конных лучниках эта затея была обречена.
На юге лежал Вавилон, открывая возврат в сердце Персии, западный путь упирался в те же горы. Река преграждала восток, и, по словам селян, там находилась Экбатана – летняя резиденция персидских царей, укрепленная не хуже любой крепости. Ксенофонт собрал всех своих командиров на сельской площади, а вокруг лагеря встали ряды гоплитов.
– По словам здешних селян, к северу отсюда тянется горный хребет, длиною в месяцы пути что на восток, что на запад. Если мы сможем через него пройти, путь приведет нас в Армению. Оттуда можно будет отправиться на северо-запад, пока навстречу не попадутся греческие поселения вдоль Эвксинского понта. На каком это отдалении от гор, я не знаю, но мы их в любом случае не минуем. Наш путь точно пройдет через них. – Он помолчал, подбирая слова. – Говорят, что племена, обитающие в тех горах, невыразимо дикие, и их великое множество. Зовутся они кардухи. Сельский староста именует их не иначе как духами мщения. И что в этой попытке нам не уцелеть.
– Эта речь, стратег, не такая вдохновляющая, как ты, возможно, полагаешь, – заметил Хрисоф, вызвав этим смешки. – Тот староста, видимо, думал нас припугнуть, но какой нам еще остается выбор, кроме противостояния этим самым кардухам в горах? Пока нам все удавалось, и мы вот даже пришли сюда. Но вечной стойкостью, похоже, обладают только боги.
Ксенофонт поднял руку, и Хрисоф тотчас умолк. Уж что спартанец умел, так это подчиняться приказам.
– Река непреодолима и по глубине своей, и по ширине. А персидская конница наверняка посечет нас при переправе. Поэтому я все же считаю, что надо будет пойти на север – это самый быстрый способ покинуть пределы Персии.
Он оглядел лица эллинов, и какая-то часть в нем возрадовалась. При всех своих бородах и мускулистости, при превосходстве некоторых в возрасте, они были не просто невольными попутчиками, но братьями и сестрами, сыновьями его и дочерьми.
– Говорят, персы боятся этих кардухов. А потому есть все шансы, что они не осмелятся гнаться за нами по пятам через перевал. И мы наконец-то сможем оставить их позади.
Ксенофонт сделал паузу, понимая, что враг, нагоняющий страх на персов, вряд ли может оказаться слаще и для них самих.
– Если у кого-то есть соображения достойней, высказывайте их сейчас. Иначе я прикажу идти на север по равнине и далее через вершины гор. Соберите все одеяла и плащи, какие только можете найти. Они нам весьма понадобятся.
Все то время, что эллины обсуждали его слова, он сидел молча, зная, что выводы они сделают те же, что и он. Ксенофонт не упомянул им рассказанной стариком истории о персидском войске, что прошло через эти места восемь лет назад. По его словам, оно насчитывало сто двадцать тысяч воинов, а направлялось в горы брать твердыни кардухов. И ни один из того войска не вернулся. Оставалось надеяться, что этот древний, поросший словно болотным мхом старик просто выдумывал байки на страх всем чужеземным захватчикам.
Один глаз на его лице, похожем на скорлупу грецкого ореха, таращился и глядел недвижно, потому что был с бельмом, а в беззубом рту проглядывал всего один бурый клык. Если в рассказе старосты присутствовала хоть толика правды, то вполне вероятно, что Ксенофонт совершал главную ошибку в своей жизни – но и она не влияла на сделанный им единственный выбор.
За деревенской площадью построились остальные греки. Сборище из двадцати тысяч мужчин, женщин и детей казалось довольно внушительным, но в сопоставлении с расстояниями, которые им предстояло одолеть, оно ужималось несказанно. С трех сторон Ксенофонт выставил колонны шириной по сорок человек, с восемью сотнями спартанцев впереди. Почти столько же народа находилось внутри строя, хотя они больше походили на оборванных паломников, пришедших к какому-нибудь оракулу или в святилище за исцелением.
По крайней мере, сносное питание в течение этих двух дней улучшило их настрой и состояние. За обиранием селений Хрисоф следил с тщанием и приказ выполнял неукоснительно. Тем, кто оставался, зимой неминуемо грозил голод, но эта проблема была теперь скорее для Тиссаферна, чем для Ксенофонта. Если бы его людям после Кунаксы дали уйти с миром, то и к встречным селениям они были бы не так суровы. Он мысленно приостановился, осознав, что представил эти двадцать тысяч своим народом. Эти люди уповали, что он сбережет их жизни, и в этот миг он понял, что охотно умрет, пытаясь это сделать. В Афинах он, помнится, все искал цель, да так ее и не нашел. Сейчас Ксенофонт со смешком встряхнул головой, задаваясь вопросом, будет ли у него когда-нибудь шанс описать это свое откровение Сократу.
К тому времени как командиры закончили обсуждать предстоящую дорогу, солнце уже приблизилось к полудню, а собранные на площади подавали признаки нетерпения. С трубным зовом рогов все привычно нашли свои места, ориентируясь по лицам тех, кто их окружает. Самые сильные несли на плечах завернутое в тряпье мясо, связки кур и бурдюки. Еще многие тащили связки зимних плащей и одеял из шерсти – все, чем сумели обзавестись. Мальчишки гнали стадо коз, цокая языками и подхлестывая их с боков длинными прутьями.
Ксенофонт выехал вперед, как только Геспий с разведчиками умчались галопом вперед. Сразу после этого, словно масло из треснутого горшка, из лощин и проходов начало изливаться персидское войско, зловеще наблюдая, но не делая никаких попыток напасть. Греки были в относительной безопасности, пока продвигались между селениями. Постройки и улицы здесь лишали преследователей их преимущества. Хотя на равнине все наверняка начнет разворачиваться по-иному. Сельский староста сказал, что переход этот многодневный, сто парасангов или даже больше. Опять же оставалось уповать, что это все сказано для острастки, с целью подточить моральный дух обидчиков.
– Мы идем на север! – крикнул Ксенофонт тем, кто шел за ним, чувствуя, как сердце переполняется гордостью. Это его народ. Его семья.
Едва селения остались за спиной, как персидские полки пошли на сближение, но правда состояла в том, что с каждым дневным переходом весь греческий квадрат, и внутри и снаружи, становился все тверже и прочней. Кожа и мышцы закалялись своей натруженностью, а те, кто в центре, постепенно обретали волчий вид тех, кто напористо шагал вокруг них. Конечно же, в эллинах не оставалось мягкости. Она выгорела, пока они шли через пустыню.
Тиссаферн слал небольшие группы, которые бежали поодаль, постепенно сближая дистанцию и посылая в глубь идущих колючие стрелы. Но стоило им приблизиться для прицельного удара, как им в свою очередь начинали грозить пращники, заметно поднаторевшие в пускании камней.
Персидские всадники представляли угрозу куда бо́льшую. Подлетая плотными группами, они метали копья или дротики, в то время как замыкающие, подняв щиты, как могли под ударами, продолжали движение. В тот первый день эллинам поодиночке, парами и тройками был нанесен изрядный урон. Вечером в лагере они недосчитались шестидесяти воинов.
Несложно было представить, что такое же медленное истекание кровью ждет их на всем пути в горы, пока их не станет так мало, что уже сложно будет защищаться, и тогда их окончательно перебьют. Настроение во время стоянки было мрачным; люди тяжело переводили дух, перемогая боль.
Солнце коснулось горизонта, когда персы повернули коней назад, к своим полкам. По-прежнему вызывал удивление тот страх ночной атаки, из-за которого они отодвигались от лагеря греков на большое расстояние. По словам Геспия, пешком отследившего место их становища, они отошли на полсотни стадиев, и только там рискнули стреножить своих лошадей.
Ксенофонт видел, как Тиссаферн перед тем, как развернуть лошадь, поднимает руку чуть ли не в приветствии. Свет постепенно угасал. Вельможа благодарил богов за удачу, ниспосланную ему нынче в виде урона врагу. Более решительный полководец мог бы давить с удвоенной силой и не смягчаться, а уж тем более не отступать, пока неприятель не окажется окончательно повержен.
При мысли о шестидесяти воинах, бессмысленно потерянных за этот день, Ксенофонт оскалил зубы во внезапной ярости. Это слишком, непозволительно много. Он знал: многие солдаты были за то, чтобы остановиться и завязать бой. Гордыня заставила бы Тиссаферна принять этот вызов, и тогда эллины, возможно, перебили бы половину его войска, прежде чем остальное бы рассеялось. Мысль заманчивая, но только на первый поверхностный взгляд. Если лишиться хотя бы четверти гоплитов, то оставшихся может не хватить для защиты остальных. А это чревато полным поражением. Он поспорил об этом со своими лохагами, и те неохотно с ним согласились. Он был стратегом, которого они сами поставили командовать собой. И пока он справляется, его приказы – это кремень.
Следующие две недели они выходили в путь еще затемно, когда вращение звезд показывало, что близится рассвет. Весь захваченный скот был забит и сожран до последнего кусочка; на исходе было и зерно. Припасов остро не хватало, и снова поднял голову голод, грызя всех изнутри безмолвным зверем. Затем ушли последние остатки, так что вставать и пускаться в дорогу приходилось на одной лишь холодной воде.
После себя они оставляли горы собственных фекалий – в подарок персам (единственное утешение для заросших, немытых, провонявших потом людей). Грязь при переходах въедалась в кожу, а мирное справление нужды поутру приходилось теперь повторять и среди дня. Трудней всего приходилось женщинам, но места для скромности здесь уже не оставалось. Мужчины вокруг из деликатности сначала отворачивались, но через какое-то время опорожнение стало настолько обычным делом, что на него перестали обращать внимание.
По мере приближения к горам все холодней становились ночи. Однажды, всем на удивление, за ночь выпал снег, и люди проснулись, покрытые им, дрожащие и занемелые. В лагере начали завязываться драки – из-за крепкого словца, а то и вовсе на ровном месте. Голод привносил в лагерь немеркнущий, кипящий гнев. Каждое утро люди отправлялись в путь со стонами, разминая мышцы и тоскливо сетуя. Только спартанцы приходили в движение так, будто им это ничего не стоило. Они отрастили длинные бороды, а космы свисали им прямо на спину, поверх плащей. При этом они как ни в чем не бывало улыбались и полоскали рты талой водой, ухмыляясь потрескавшимися губами.
Каждый день вдалеке появлялись персы, настигая идущих с неумолимой жестокой скоростью, и усеивали своим скопищем тот участок земли, который оставили эллины. Это означало, что утренняя передышка закончилась и враг подошел достаточно близко, чтобы пускать стрелы и метать дротики. После тревожного ожидания для греков это было чуть ли не облегчением. Они грузным шагом припускали по равнине, глядя, как нестерпимо медленно близятся горы, и оставляя позади павших. Вечерами они тянули жребий, кому завтра выпадет честь быть в числе замыкающих, ну а те, кто весь день выживал под немолчным обстрелом, к концу дня не могли даже разговаривать, раздавленные гневливым страхом.
На восемнадцатый день они шли, как призраки, через пустыню. Охотники выезжали с пращами и копьями, из жизненных припасов имея при себе только воду. Глаза их были красны от постоянного вглядывания вдаль. Горы изводили эллинов целую вечность, словно паря на горизонте. Однако в то утро они были уже заметно ближе, хотя не более приветливы, чем всегда. Скальные выступы были люто остры, вздымаясь из земли, словно кинжалы, а не пологие склоны. Снежные мантии покоились на горних пиках, которые, казалось, надменно отступали при всякой попытке не то что приблизиться, а даже взглянуть на них.
Тиссаферн скомандовал атаку, когда в отрогах наметился путь выхода в горы. Из передних рядов уже просматривалась первая долина, в которую успели, насколько хватило смелости, углубиться разведчики Геспия. Но, похоже, персы не хотели отпускать эллинов без лишнего кровопролития. Их полки сзади тоже смотрелись весьма потрепанно: три с лишним тысячи стадиев неотступного преследования измотали их, а враг все держался.
Персы привычно выстраивались широкой линией, приблизившись настолько, что слышны были команды их начальников. Тогда Ксенофонт махнул рукой Хрисофу, и с тыла сквозь квадрат вышли спартанцы. Той прежней, слегка показной мускулистости в них уже не было. Длинными стали бороды, а мышцы уподобились тугим канатам – на вид озлобленные варвары, но обученные куда лучше любого персидского полка. Они источали грозную уверенность, хотя от задувающего с гор льдистого ветра зубы у них постукивали. Стоило персам двинуться вперед, как складки красных плащей заколыхались. Между тем лагерные обитатели, за спиной которых открылись горы, ушли в проход, оставив в строю только гоплитов. Белые зубы блеснули вместе с обнаженными мечами и поднятыми копьями.
В тот день щита у Хрисофа не было. В правой руке он сжимал меч – короткий, не длиннее предплечья. В левой был копис. Взвешивая тяжесть обоих, он хищно ухмыльнулся подступающему врагу.
– А ну, Лакедемон! – рявкнул он своим рядам. – Все вперед! Это ваш единственный шанс, сыны блуда! Славная сцена, после которой мы уйдем отсюда уже надолго. Запоминайте, чтоб было потом что рассказать детям!
Персы начали колебаться, как только завидели красные плащи своих стародавних недругов. Начальники понукали солдат криком, а кое-кто еще и тыкал нерешительных острыми палками, какими гонят скот.
Впереди завиднелись золотистые диски из бронзы, а также блесткие шлемы и поножи из того же зазубренного металла. Спартанцы словно состояли из багрянца и золота, причем сейчас они в кои веки не отступали, а шли вперед с вселяющей тревогу поспешностью.
Ряды сошлись, и спартанцы врезались в жалившего их врага. Невзирая на боль и усталость, они сейчас напоминали озорников-мальчишек, которым наконец-то дали потоптать осиное гнездо. В лихом и гневном исступлении они игнорировали ушибы и порезы, при этом рубя и коля где копьем, где мечом и даже щитом, после чего пускали в ход кописы, быстрыми ударами отсекая ими пальцы, руки и смертными ранами дырявя вражьи тела.
Под таким натиском персы подались вспять, но Тиссаферн узрел для себя шанс и выслал полки в обхват спартанских флангов, где проще было срезать более усталых людей, из которых некоторые едва держались на ногах. Их крики страха и мучения донеслись до Хрисофа, который сейчас вовсю орудовал на переднем крае. Он отчаянно выругался, напрягаясь, чтобы видеть. Его спартанцы способны были сладить и с десятикратным перевесом, но Тиссаферн через всю империю привел с собой восемьдесят или девяносто тысяч. Такую силу греки одолеть не могли, а могли лишь как следует поистрепать.
– Спартанцы, отступаем в боевом порядке! Держать фланги и отходить. Мертвых уносим с собой. Подумайте, сколько семей будет плакать и стенать при мысли о нас.
Он усмехнулся, слыша вокруг себя озорной смех даже при отходе. Люди снова поднимали щиты и подбирали брошенные копья, так что вскоре строй спартанцев вновь щетинился остриями, непроницаемый для вражеских всадников, хотя разъяренные персы выкрикивали на их головы проклятия и сулили месть.
Тиссаферн опасался, что его войско окажется утянуто слишком далеко в горы. Он был наслышан о племенах, что населяли эти горные вершины. Персидская держава прибрала под свое крыло целые царства, от Вавилона до Мидии. Однако эти скалы так и остались изолированные и непокорные. Он смотрел, как греки отступают, оставляя за собой навалы из измятых, как тряпки, трупов и обрывков плоти. Отступая в горы, ненавистный квадрат, казалось, специально хотел посильней и пообидней напакостить.
Повинуясь безотчетному порыву, он в прощальном жесте поднял руку. К нему с лошади обернулся какой-то греческий начальник, Тиссаферну незнакомый. Он в ответ тоже поднял руку и затрусил на лошади прочь, к скалам.
Тиссаферн покачал головой. Он-то думал, что они сдадутся, когда на пиру будет убита их верхушка. Заверял царя Артаксеркса, что без своих вожаков они окажутся беспомощны. Но они, гляди-ка, выбрали себе других и как-то выжили. Странный народ. Оставалось лишь гадать, что с ними сделают кардухи.
Он повернулся к своему заместителю Митридату.
– Не хочешь отправиться с ними? – спросил он язвительно.
Грек покачал головой.
– Ни за какие почести, мой господин. К счастью, мы их больше не увидим.
– Я тоже так подумал. Вернувшись к царю, да увековечат и сохранят боги его царство, я доложу, что они уничтожены. Это верное описание, не так ли?
Грек почтительно склонил голову.
– Самое верное и глубокомысленное, господин почетный старейшина. Они даже не знают, что они все мертвы. Ты спровадил их к кардухам, и в этом твой неоспоримый успех. Поздравляю, мой господин.
Тиссаферн улыбнулся и убрал маленький клинок, который еще держал в ладони. Последние из греков ушли в ущелье и исчезли, словно их и не бывало. Эти вершины поглотят их всех.
Ему вдруг подумалось о находчивости греков.
Он уже не один раз считал их положение безвыходным, но они всякий раз находили из него выход, проявляя невиданную изворотливость и живучесть.
– У нас еще остались голуби? – осведомился он.
– Разумеется, мой господин, – кивнул Митридат.
28
Холод усиливался с каждым стадием, по мере того как сужалась ведущая вверх тропа. Колонны гоплитов двигались со щитами наготове, копья используя как посохи при перебирании с камня на камень. Сверху в высоту, к окутанным туманом вершинам, уходили крутобокие утесы. Геспия Ксенофонт оставил позади, смотреть, не прилетит ли что-нибудь вроде последнего удара в спину от Тиссаферна, хотя было что-то финальное в том, как вельможный перс воздел руку, прежде чем исчезнуть из виду.
Спустя недолгое время равнины сделались воспоминанием. Люди помогали друг другу перебираться через валуны, непрерывно дрожа от холода, который, казалось, пробирал до костей. Ксенофонт быстро понял, что взять с собой в горы коня не сможет, и со вздохом спешился.
Животное хорошо ему послужило, а потому трудно было поставить его под молот. Убить лошадь – дело не из легких, но нужда была велика. Один из коринфян сказал, что в прошлой жизни был мясником. Ксенофонт взял поводья и отказался отвести взгляд, когда тот тяжело хрястнул коня молотом по лбу, отчего животное осело и грузно рухнуло, вывалив язык. Вокруг сгрудились люди, прикладывая руки к теплой туше, как будто это давало им возможность претендовать на кусочек мяса.
– Отойдите все, – рыкнул на них Ксенофонт. – Голод лишает вас рассудка. У нас есть дюжина лошадей. Мы остановимся здесь и примем пищу… – Он огляделся, но дерева для костров в этом месте было мало. Выше в камнях за трещины цеплялось несколько чахлых деревьев – явно недостаточно на жарку мяса для голодной толпы.
Он покачал головой:
– Мы понесем мясо дальше, пока не разыщем хворост и место, где можно будет держать оборону.
Обещание, похоже, их устроило, хотя они и следили волчьими глазами, как мясник отхватывает от ребер животного большие куски и полосы.
Тропа вела вглубь, пока они не пришли к большой развилке. Одна сторона, должно быть, была козьей тропкой – тонкая, буквально белая полоска, исчезающая за поворотом. Другая была скорее горным обвалом, чем тропой; серые камни подернуты мхом – впечатление такое, что ближайшую тысячу лет здесь никто не проходил и не проезжал. Ксенофонт вышел вперед, хотя, по правде говоря, угадыватель пути из него был не лучше того чумазого мальчишки, что какое-то время шагал рядом с ним. Но все равно от него ждали решения, и он без колебаний отдал приказ: лезть по обвалу, чтобы подняться выше. Едва он заговорил, как тот мальчонка широко ему улыбнулся.
– Как тебя звать, сынок?
– Адрий.
– Ты согласен, Адрий? – спросил его Ксенофонт.
Ребенок размашисто кивнул, отчего Ксенофонт тоже улыбнулся и взъерошил ему волосы.
Через некоторое время объявилась мать мальчика и не без труда подняла сынишку на руки.
– Прости, господин. Его отец погиб в бою. А он все продолжает искать его среди мужчин. Постоянно ходит-бродит, дергает за рукава и спрашивает, не видали ли они его. Надеюсь, он тебе не сильно помешал.
– Вовсе нет. Адрий даже одобрил путь, которым мы должны двинуться. Правда, Адрий? Славный парень. – Женщина удивленно моргнула, а Ксенофонт обнаружил, что настроение заметно улучшилось.
Последовал час упорных и изрядных усилий. Мужчины и женщины карабкались наверх, протягивая для помощи друг другу руки. У некоторых это получалось с трудом, в то время как другие сигали с выступа на выступ с ловкостью горных коз. Все время они пытались остерегаться нападения, хотя было просто невозможно держать наготове копье и при этом карабкаться по предательски зыбкому, оползающему под ногами сланцу.
Ксенофонт заприметил, как к нему подбирается Геспий. Судя по напряженно-угрюмому выражению лица, расставание с лошадьми далось ему тяжело.
– Ты дал приказ забить мою лошадь? – зловеще спросил он, когда приблизился.
Это походило на вызов, и Ксенофонт не замедлил с ответом:
– Да, я. Они не могут карабкаться по скалам.
Геспий впился в него взглядом, но всего лишь на мгновение. Он понимал, что улицы Афин и то, что их окружает здесь, вовсе не одно и то же. И, по его опыту, Ксенофонт сделал единственно возможный выбор.
– Спартанцы разделывают их, как овец, – сокрушенно посетовал он. – У этих истуканов нет души.
– Они не подвержены страстям, – поправил Ксенофонт. – А это совсем иное.
– Как ты решил, каким путем идти?
– Я выбрал тот, что ведет наверх. Для того чтобы перебраться через горы, надо будет взобраться на самую высоту. Если там есть перевал, то он где-то вблизи вершин.
Геспий остановился, переводя дыхание, и посмотрел вниз вдоль склона.
Всякий раз, когда они это делали, оторопь брала, как высоко они успели взойти. Люди быстро приноровились делать частые, но недолгие привалы. Так получалось совершать подъем более быстро, нежели длительными усилиями до изнеможения.
Вся тропа сзади и внизу была заполнена густым людским потоком, пробивающим себе путь по рыхлым непрочным камням. Эти люди были заметно истощены, но сдаваться отнюдь не собирались. Ксенофонт смотрел на них с гордостью, что не укрылось от Геспия.
– Ты же знаешь, благодарности от них тебе не будет, – сказал он. – Я вижу, ты смотришь на них, как будто ты им родной отец. Но в конце концов, думается мне, они разобьют твое сердце.
Удивительно, что эта тирада исходила из уст человека, который в свое время нещадно обчищал театральных зрителей.
Ксенофонт с прищуром откинул голову, словно желая получше разглядеть своего афинянина.
– А ты вдумчивый человек, Геспий, хотя умело это скрываешь. Правда в том, что нам сильно повезет, если мы снова увидим свой дом. И если мы выживем, то сомнительно, что кто-то из нас останется прежним. Ты слишком малого ожидаешь от своих соплеменников. А я вот уверен, что они нас еще удивят. Как ты успел удивить меня.
Было видно, как Геспий вспыхнул от удовольствия, услышав о себе такой похвальный отзыв. Оба повернулись, чтобы продолжить путь.
Неожиданно где-то в вышине, в туманной дымке, послышались странные выклики, больше похожи на резкие крики чаек или обезьян, чем на то, что способна издавать человеческая глотка. Звук, нарастая, эхом разносился по выступам и кряжам, пока не заполонил, казалось, весь воздух. Тысячи эллинов на тропе замерли и стояли, уставясь вверх, словно дети в своем страхе перед неизведанным. Геспий с Ксенофонтом переглянулись в мрачном предположении.
– Они знают, что мы здесь, – тихо уронил Ксенофонт.
Склон первой горы вел вниз, в укромную долину, где находилось около трех десятков жилищ. Все они были брошены, но там нашлась еда и, что не менее приятно, вино в воткнутых в землю глиняных чанах. Между тем улюлюканье продолжалось и в темноте, отчего многие из людей воздержались от излишних возлияний: как бы потом не сказалось на точности движений. Всем хотелось одного: поскорей оставить эти горы позади и выйти из них по ту сторону на равнину. Запалив факелы, с наступлением сумерек эллины двинулись в обход села, но быстро поняли, что огонь навлекает стрелы и камни из пращей, пущенные без предупреждения откуда-то сверху. В этом деле кардухи оказались весьма искусны: трое эллинов погибли, пока стало ясно, что факелы здесь превращают человека в живую мишень.
Те, кто спал снаружи, остались бодрствовать, но тем не менее до рассвета оказались убиты еще двое гоплитов. Впрочем, наибольшую тревогу вызывали звездами мерцающие вдалеке, высоко на склонах, костры – несомненно, знаки к созыву всех родов и племен кардухов. Ксенфонт не мог стряхнуть с себя глухой страх, сжимающий внутренности подобно голоду или холоду. Однако в укрытии одного из домов, возле теплого очага, дрожь постепенно улеглась. Пища оказалась лучше, чем он помнил с самого выхода в обратный путь; глаза защипало от невольных слез, когда взгляд упал на свежий хлеб и солоноватое масло, которое к тому же не было прогорклым. Ну а когда в руках оказалась чаша красного вина, молодого и не подкисшего, блаженство показалось и вовсе сказочным.
Утром Ксенофонт с горсткой воинов дошел до конца долины. Дальше открывались горы, на крутых склонах которых в высоте различалось движение крохотных фигурок. Сложно было сказать, спускаются ли они вниз, чтобы атаковать, или готовят засаду. Ксенофонт провел рукой по основанию восходящего в туман каменного уступа, раздумывая, не затаился ли уже там, наверху, кто-то с сердцем, пылающим ненавистью к захватчикам. Вокруг долины вновь начались пересвист и улюлюканье, хотя расстояние из-за переменчивого эха определить было сложно.
– Надо будет при первой же стычке захватить себе проводников, – как мог невозмутимо сказал Ксенофонт. – В этих горах слишком уж много закоулков, можно блуждать целый год.
– Верно подмечено, – согласился Хрисоф. – Ты возглавишь перед или тыл? На такой местности, я полагаю, впереди должны пойти мои спартанцы. Чем-то напоминает взгорья нашей родины. А я, можно сказать, истосковался по ристалищам моей юности.
Непонятно, шутил ли сейчас лохаг или нет. Впрочем, Ксенофонт уже привык ему доверять.
– Я возглавлю тыл. На мне будут наши внешние разведчики и бегуны между нами – сегодня, в отсутствие лошадей, им придется попотеть. Слишком далеко не отходите, чтобы нам не разделиться.
Хрисоф склонил голову, ничуть не смущенный тем, что совет исходит от менее опытного человека. Он успел проникнуться к афинянину за то, что тот радеет за жизни воинов. Таких военачальников Хрисоф ставил не в пример выше тех, кто бросается на каждый вызов без минуты на размышление.
– Я думаю, эта каменная расселина сегодня послужит и еще одной цели, – продолжал Ксенофонт, проводя рукой по камню. – Через нее враз могут идти по двое и по трое. Так вот, не мешало бы проверить их всех на вес и припрятанное добро. Мы должны быть легкими и быстрыми, а не отягощенными всякой рухлядью.
Спартанец от этой мысли осклабился и призвал весь лагерь пройти сквозь каменную прореху, под бдительным оком Ксенофонта. Через какое-то время перед стратегом потянулась нескончаемая вереница – люди проходили в каменную горловину, расставаясь со всем припрятанным добром, которое складывалось кучей возле тропы.
Открывались поразительные вещи. До этого Ксенофонт и не представлял, сколько всякой всячины таскают с собой в походе воины и лагерные обыватели в качестве подобранной в пути добычи. Здесь были громоздкие седла и непонятая утварь, слишком древняя, чтобы быть полезной, а еще мешки с солью и травами, рулоны тканей и дубленые кожи.
Один человек нес дверь, при этом утверждая, что она исправно служит ему, как щит воину (Ксенофонт позволил ее оставить). Оказалось, его греки держали при себе тысячи тяжелых предметов, в том числе орудий труда и поводьев коней, которых у них больше не было. С этими Ксенофонт был безжалостен, игнорируя все сетования и доводы.
Получается, лагерь больше напоминал афинский рынок, чем изможденную армию, пробивающуюся через горы. Несмотря на роптание, куча росла и росла, постепенно обретая сходство с курганом (вот же удивятся кардухи, наткнувшись на такую находку). Мысль предать все это огню Ксенофонт отверг: пусть лучше послужит подношением богам.
Он также позволил воинам оставить при себе рабов, которыми они каким-то образом обзавелись за время странствия. Многие в пути заводили любовников и любовниц, и было бы жестоко бросать их на потребу диким племенам горцев. Тем не менее в лагере вскрылось наличие неимоверного количества чужеземных рабов. Немудрено, что при таком их изобилии эллины испытывали голод. Казалось, здесь кормится добрая половина Персии. К той поре как мимо прошел последний, Ксенофонт пребывал в тихом бешенстве.
Геспий шагал в хвосте рядом с Паллакис, косвенным образом претендуя на их с ней близость. Ксенофонт чувствовал, как по нему скользнул ее пытливо-насмешливый взгляд, и настроение у него испортилось еще больше. Он ее вроде бы отверг, но в глубине души некой своей частью надеялся, что она будет по нему тосковать. Но оказалось, что это не так. Словно в доказательство его подозрений, Паллакис потянулась к шее молодого человека и коснулась ее жестом, намекающим на близость, отчего Ксенофонт невольно стиснул зубы. Ему и в голову не приходило, что она могла показывать это намеренно, в назидание и для его же блага.
К тому времени как через горловину прошло уже все греческое воинство, выйдя на более широкий склон, веса на людях действительно поубавилось. Некоторые с тоской оглядывались назад, на груду ценностей, но Ксенофонт был тверд. Оказывается, он и в самом деле пользовался расположением людей. В запальчивости он пошел в тыл колонны, нетерпеливыми жестами торопя ее начать движение.
На всей тропе гоплиты поднимали щиты и готовили копья, надвигая на отросшие непослушные волосы шлемы. Внезапно клекот улюлюканья наверху стих. Все резко подняли головы вверх, туда, где курился предоблачный туман. За это время все привыкли к этому звуку настолько, что его отсутствие пугало едва ли не сильнее; словно сами горы угрюмо взирали на эллинов сверху.
Ксенофонт почувствовал дрожь.
Впереди Хрисоф почти сразу подвергся нападению: кардухи, пробираясь по тропкам над головами спартанцев, во множестве обрушивали на них камни. Кучно сыпались и стрелы: горцы были неплохими стрелками. Хрисоф на это ответил тем, что в темпе послал на близлежащие холмы самых молодых и расторопных. Едва навстречу попадалась ведущая кверху тропинка, как по ней на всей скорости устремлялась сотня. Основная тактика кардухов выявилась быстро: отбегать, уклоняясь от схватки и сигая налегке с козлиной прытью по горным выступам, так что неприятелю оставалось, тяжко переводя дух, таращиться вниз на отвесные склоны, отчего идет кругом голова.
То была жестокая игра, но кардухи знали в ней толк. Группами по пять-десять человек они возникали на каком-нибудь карнизе и дружно пускали с него стрелы в щиты и доспехи. Удачное попадание ранило или убивало хотя бы одного врага. Не успевал Хрисоф ответить на вызов, как они снова срывались с места, ловко увертываясь от настигающих их спартанцев. При этом они куражливо улюлюкали.
Это приводило в бешенство, хотя в сущности потерь было мало, пока эллины держали строй и использовали щиты. Здесь помогало само построение: один щит в колонне мог прикрыть двоих, а то и троих, идущих рядом. Это наслоение защиты коверкало все усилия горцев, наверняка вызывая у них лютую досаду. Без щитов и дисциплины спартанцев, обеспечивающей сплоченность действий, стычка превратилась бы в расправу.
В тылу Ксенофонт заметил более крупную силу, возникшую в поле зрения, когда он смещался по пройме долины вбок. Там подпрыгивала и грозилась примерно сотня кардухов с лицами, перемазанными не то сажей, не то кровью. Они были мучительно близки и готовы наброситься или же отбежать; однако задачей Ксенофонта было поддерживать Хрисофа, и стронуться с места он не мог. Ксенофонт приказал сомкнуть на всем фланге щиты, по которым тут же напористо застучали камни и стрелы. Основная тяжесть удара приходилась на Филесия, стоящего чуть впереди с фессалийцами и симфалийцами – прочными, опытными воинами, которые незыблемо держались. Ксенофонт постепенно настраивался на предстоящую схватку, как вдруг впереди резко сменился ритм.
Без всякого предупреждения Хрисоф и весь перед колонны оторвались от лагеря и ринулись к какой-то незримой цели впереди. Ксенофонт остался сзади, недоумевая, что происходит, а также где ему теперь нужно находиться. Яростно выругавшись, он подозвал к себе Филесия.
Фессалиец выглядел бледным, но решительным, отсалютовав прижатой к груди рукой.
– Нам нужно захватить кого-то из них! – прокричал Ксенофонт поверх шума строя и грохота камней, по-прежнему доносящегося слева. Филесий открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент стрела прямо в голову сразила гоплита, что находился в заднем ряду и едва выглянул из-за щита. Он упал, не успев даже вскрикнуть, а Ксенофонт с Филесием уставились на его поверженное тело, оставшееся позади.
– Торчать здесь мы не можем, – настойчиво сказал Ксенофонт. – Филесий, раздобудь мне проводника. Эти люди знают здесь горы как свои пять пальцев. Они так и будут бегать вокруг кругами, пока у нас не появятся глаза. Устрой для них засаду. Соблазни их – женщинами или кем-то из раненых.
Филесий усмехнулся, и вскоре вперед вывели двух молодых женщин, которые шли с явной неохотой. Одну из них сопровождал гоплит – по-видимому, ее любовник, – который громко жаловался, пока не увидел, что приказ исходит от самого стратега. Но и тогда молодой воин ревниво наблюдал, как те две выбегают за линию щитов, якобы вырвавшись из плена.
Стукотня стрел тут же прекратилась. Женщины, способные к деторождению, у варваров никогда не оставалась незамеченными. Восемь кардухов без колебаний ринулись хватать визжащих женщин, пока тех не заграбастали обратно. И тут же сами оказались окружены греческим строем, лопнувшим у них на глазах.
Всех восьмерых кардухов, выбежавших вперед, похватали и умыкнули обратно в строй. Четверых, что пытались вырваться, прирезали, оставив тела валяться позади. Остальных накрепко связали и забрали в колонну, где их нельзя было ни вытащить, ни убить. Тут же снова загремели камни, но колонна неостановимо двинулась дальше. Впереди ускорили шаг лагерные обитатели в попытке воссоединиться с силами Хрисофа, резко оторвавшимися из-за своего броска.
Ксенофонт резко обернулся к Филесию:
– Пусть кто-нибудь, знающий персидский, допросит этих кардухов. Чем скорее мы узнаем, где находимся, тем лучше.
Было видно, как лагерники уныло влекутся туда, где тропа делала изгиб. Они были отчаянно уязвимы, а кардухи, несомненно, сейчас подкрадывались к ним со всех сторон. Без понукания эти люди через какое-то время в ужасе остановились. Ксенофонту оставалось лишь проклинать Хрисофа за то, что тот погнался за призраками и бросил основной строй. Он принял решение, хотя сердце сейчас буквально выскакивало из груди.
– Прибавить ход, вдвое! Собраться вокруг лагерных как можно плотней. Вокруг враг! Щиты и копья к отражению атаки! Никто не останавливается, пока не увидит наш авангард. Никто!
Наверху виднелись цепочки лучников, которые сейчас пробирались в их сторону по уступам, едва способным удерживать их на отвесных стенах утесов. Стрелы и камни со свистом рассекали воздух, но под защитой щитов вполне можно было продвигаться ускоренным шагом. На ходу, перебираясь через камни и проталкиваясь через расселины, эллины временами слышали вскрики боли: кардухам все же удавалось попадать в живую плоть, а не только в дерево и бронзу.
Ксенофонт подгонял их на протяжении еще десятка стадиев, хотя все уже хватали ртом неутоляющий, уже слишком разреженный воздух. Как ни усердствовали эллины в подъеме, им все никак не удавалось набрать высоту, на которой прекратился бы каменный град сверху.
И вот впереди показались задние ряды тех пяти тысяч во главе с Хрисофом, сгорбленным, как жук или черепаха. Сверху воины укрывались щитами.
Ксенофонт почувствовал, что вскипает, но по-спартански сдержался, внушая себе, что без веской причины Хрисоф без защиты бы их не оставил.
Спартанец не замедлил выбраться стратегу навстречу, в то время как задняя половина колонны вновь сомкнулась с передней. Облегчение было неописуемым. Порознь они рисковали оказаться рассеченными, а это верный путь к разгрому и погибели.
Извиняясь, Хрисоф припал на одно колено – жест не менее красноречивый, чем слова.
– Куда ты так заспешил? – спросил Ксенофонт, уповая, что не ошибся в этом человеке и не дал ему чрезмерных полномочий.
– Я сожалею. Послать гонца не было времени. Посмотри туда, и тебе станет ясно, что заставило меня бежать.
Ксенофонт вгляделся в ту сторону, куда указывала рука Хрисофа. Сейчас они дошли до той точки, откуда спартанцы ринулись в атаку. Отсюда виднелся проход через холмы, сужающийся до узкого ущелья, – там их ждало копошащееся множество горцев.
Хрисоф все не поднимался с колена.
– Я увидел, как они стекаются по склонам, и понял, что им нужно оказаться там раньше нас. Я не знал, да и не знаю, почему это так для них важно, но сбегались они туда во всю прыть. И тогда я вышел из подчинения, думая остановить их. Прошу прощения, стратег. Виноват.
– Встань, Хрисоф. Ты меня успокоил. А то уж мне подумалось, что тебе затмило разум. Обзавелся ли ты проводниками? У меня их четверо, могу пару одолжить тебе. Может, вокруг этого перевала есть какой-то обход. Что-то не очень хочется ломиться через него напрямую.
Поднявшись, спартанец протянул руку, которую Ксенофонт неожиданно для себя пожал. В дальнейших изъяснениях не было смысла.
– Я тут тоже прихватил нескольких, – сказал Хрисоф. – Надо их допросить. Вокруг гор часто бывают небольшие тропки, достаточные для коз и пастухов. Именно так нас одолели в Фермопилах персы. Вот бы здесь найти такую.
Ксенофонт окликнул стоящего невдалеке Филесия:
– Приведи ко мне тех проклятых кардухов – а с ними кого-нибудь, кто говорит по-персидски.
Оставалось лишь надеяться, что эти полудикие люди понимают язык державы, иначе от них вообще никакого толку.
Среди своих людей Филесий нашел одного, кто разумел по-персидски достаточно, чтобы задавать простые вопросы. Для большей наглядности того, насколько серьезно положение, Филесий приказал своим фессалийцам до беспамятства избить двух кардухов и лишь после этого обратился к оставшейся паре с вопросом, есть ли через горы другой путь.
Одним из тех двоих был пожилой горец лет за сорок, обветренный и вместе с тем бледный настолько, будто никогда в этих местах не видел солнца. Он божился, что единственный проход – это как раз через то ущелье. А в свидетели призывал Заратуштру[42] и Ахурамазду, заверяя, что говорит только правду. Было заметно, как глаза второго от таких страшных клятв испуганно расширяются.
– Увести его, – распорядился Ксенофонт. – Освободить в целости, вместе с двумя другими. От них мне нет больше пользы.
Он улыбнулся последнему, который был примерно одного с ним возраста, при этом цепко за ним наблюдая.
– Скажи ему, что мы знаем: его друг лгал, хотя и непонятно почему, – сказал он переводчику. – А также что мы можем быть милосердными или очень жестокими. Какими именно, выбирать ему.
Греческий воин незамысловато перевел его слова; молодой кардух прикусил губу, размышляя.
Через некоторое время из него вдруг хлынул поток слов куда более быстрый, чем поспевал переводчик.
– Он говорит… Старый не хотел говорить нам о тропе через горы, потому что в той стороне дом его дочери, но… тропа и вправду есть, узкая, в обход перевала, что впереди нас. Только он просит убить старого, потому что если его отпустить, он все расскажет старейшинам… что молодой нам помог, и тогда участь его решена.
Ксенофонт подал знак, и отпущенного было пленника тут же умертвили. Молодой при виде этого осклабился в явном облегчении.
– Он говорит… старый был другом его отца, и теперь он рад… видеть старого мертвым.
На такую реакцию стратег озадаченно моргнул.
– Ладно. Покажи нам, где начинается та тропа, – велел он.
29
Ксенофонт собрал отряд из добровольцев, самых проворных и способных к делу – две тысячи воинов с четырьмя командирами во главе. Им он объяснил задачу и скорость, которая для этого требовалась. Воины выслушивали стратега с ухмылками, предпочитая карабкаться по карнизам, чем плестись вместе с остальными.
– Этот перевал, видно, и в самом деле важен, коли они собрались такой силой его оборонять, – сказал Ксенофонт. – Нас ждет удача, товарищи мои и собратья. Ступайте и не медлите.
Не успел он договорить, как во влажном небе над долиной серой завесой навис туман, из которого пошел дождь. Все моментально промокли, потупив головы под монотонно шумящими пенистыми струями. Ксенофонт тихо выругался. Дождь значительно все осложнял. Клочья тумана, тяжело и медлительно курясь, с каждой секундой сползали все ниже, заволакивая горные пики над головой, и даже перевал теперь смотрелся мутновато-горбатой толщей на более ярком фоне неба.
– Смотрите за проводником. Мы будем наготове, – напутствовал их Ксенофонт.
На его глазах две тысячи самых молодых и ладных припустили трусцой. Они уходили по долине, а впереди них со связанными за спиной руками бежал пленный кардух. Через дно расселины он вел их туда, где в густом папоротнике петляла звериная тропа. На вид она никуда не вела и терялась где-то среди камней. На самом же деле снизу она не просматривалась, так что без проводника они вряд ли бы ее нашли. Душу грело мелкое злорадство, что пленники Хрисофа ничего подобного не сообщили.
Какое-то время делать было больше нечего. Дождь все лил, а люди все так же бесприютно под ним дрожали. Не видя солнца, сложно было сказать, какое сейчас время суток, хотя, наверное, уже близился вечер. Приняв быстрое решение, Ксенофонт приказал колонне слаженно идти вперед, чтобы стерегущие перевал кардухи думали, что враг по-прежнему наступает.
В это время Ксенофонт приказал людям сделать привал.
Ни стрел, ни камней со склонов пока не сыпалось – может, потому, что горцы тоже намокли под дождем? Лучники горько сетовали, что отсыревшая под дождем тетива при стрельбе совсем не то. А может, слыша поступь двух тысяч греков, они чувствовали, что на них охотятся. Как бы то ни было, это помогало поднять настроение, несмотря на дождь. День уже определенно начинал угасать. Эллинов ждала промозглая ночь на вершинах.
Оставалось лишь надеться, что к утру туман рассеется и можно будет видеть удивление кардухов.
По дну долины растекались ручейки, отчего не оставалось даже сухого места. Из лагерного люда многие разбились на пары и небольшие группки, припадая друг к другу спинами с целью хоть немного обогреться. Но и подобная взаимопомощь мало чем помогала в эту отчаянную ночь.
После того как окончательно угас свет дня, возле Ксенофонта присела Паллакис. Для этого она провела ладонью по широкому плоскому камню и опустилась на него, скрестив голени и подтянув к себе ноги в попытке немного согреться. На ней было одеяло, уже темное от влаги. При этом зубы у женщины постукивали, и Ксенофонт пожалел, что не может предоставить ей убежища. Греки и холод меж собой не уживались.
– Ты выглядишь как полузахлебнувшаяся птица, – сказал он с улыбкой.
Густые кудри на голове Паллакис размякли и приставали к лицу длинными мокрыми щупальцами. Намокшие плечи поникли.
– Ею себя и ощущаю, – сказала она. – Мы что, остаемся здесь на ночь?
– Да, пока не сумеем расчистить перевал.
– А если не сумеем?
– Тогда есть еще один путь, хотя он сложней. Так или иначе, но завтра мы двинемся.
В эти минуты ночь вокруг казалась вечностью. Ксенофонт почувствовал, что тоже дрожит. Зубы тихо постукивали, а руки были белыми и мелко тряслись.
– Ты мерзнешь, Ксенофонт! – воскликнула она. – Сядь рядом со мной. Одеяло мое сыро, но это лучше, чем вообще ничего.
– А где твой Геспий? – не шевельнувшись, спросил Ксенофонт.
Она напряглась, а на глади кожи между глазами прорезалась двойная морщинка.
– Я не его, Ксенофонт.
– Но и не моя, – ответил он быстрее, чем думал или чувствовал, – я это знаю.
Она долго молчала, пристально глядя на него.
– Я… Какое-то время думала, что ты этого хочешь. Но затем увидела, что ты одержим всем тем, что тебе нужно осуществить для нашего сбережения. Я поняла, Ксенофонт. Ты говоришь сейчас, что хочешь моего прихода к тебе? Хочешь держать меня на своем ложе? Не играй со мною в игры, Ксенофонт. Говори или молчи. Проси или обходись без этого.
Он сглотнул, не сводя с нее глаз. Высказать это ему было необходимо. И все же это было безумием. Они сидели во враждебных горах, с мизером еды и врагами повсюду. Он понимал, что хочет видимости любви, но все же не реальности. Он хотел этого обмена томными взглядами с красавицей, которая не занимает слишком много времени. В его жизни не было места для неспешных разговоров, смеха и песен. Все, чего он хотел, можно было заполучить в мгновение ока – и хотя он тосковал по ней, он понимал, что этого будет недостаточно.
Ее дни не были заполнены событиями и решениями. Он сам не мог служить отвлечением для Паллакис. А если отвлекать его станет она, они все погибли. Он попытался как-то упорядочить свои мысли. Вокруг них нависала тишина, и Ксенофонт осознал, что не отвечает слишком долго.
– Ах вот вы где! – послышался голос Геспия, щелестящего по камням.
Молодой человек держал теплое одеяло и без лишних слов накинул его женщине на плечи. То, как на ней задержались его руки, лишний раз свидетельствовало о его к ней притязаниях.
Ксенофонт знал: Геспий прекрасно понимает, что что-то прервал. Каждый взгляд впитывал в себя румянец ее зардевшихся щек или напряженность во взгляде, которую Ксенофонт вынужден был смаргивать. Геспий тоже покраснел, а его движения были угловаты.
– Там есть чуток еды, – сообщил он. – Вяленое мясо, отваренное на травах. Чашка вина. Не сказать, что вкусно, но все лучше, чем голодать. Ты пойдешь, пока там еще осталось?
Он обратился с этим вопросом к Паллакис, и та гибко поднялась, плотнее запахиваясь в принесенное сухое одеяло. Прежде чем отвернуться, она еще раз поглядела на Ксенофонта. Его взгляд был уткнут в землю под ногами. На лице женщины мелькнуло раздражение, едва ли не ярость.
Поджав губы, она ухватила Геспия под руку, чем изрядно его удивила. Холмы внизу тонули во мраке. Греки дремали и дрожали у себя в одеялах, вновь и вновь просыпаясь от сочащейся по коже холодной воды.
Дождь прекратился, и туман над головой стал светлее, отчего лучше стали проглядывать горные кряжи. Ксенофонт поднял арьергард, в то время как Хрисоф собрал на переднем плане спартанцев, готовясь ко всему, что может произойти. Все были голодны, но зато теперь в избытке имелась чистая холодная вода, так что люди хоть и промокли, зато поизбавились от дурного запаха. При подъеме многие распарились настолько, что в сыром предутреннем воздухе от них шел пар.
Воинство кардухов начало продвигаться по перевалу. Рядов у них не было, а потому стороннему взгляду все это казалось взволнованно клубящимся роем пчел. Небо за ними светлело, придавая кардухам сходство со скачущими черными мурашами, но настолько многочисленными, что закрывали собой весь проход. Эллины образовали перед ними строй, чтобы те видели перед собой угрозу. Ксенофонт приказал колонне выставить перед собой щиты и идти вперед, а затем снова ее остановил. Черный рой кардухов выжидательно застыл; замерли и эллины в каких-нибудь двухстах шагах от узкого участка, загороженного враждебной силой.
Ксенофонт возблагодарил богов, когда наверху призывно зазвучали рога – приглушенно, но бодря душу своим хрипом. Он беспокоился, что те две тысячи, посланные им, затерялись во тьме среди вершин. Ночь у них прошла в гибельном безмолвии и дрожи под льдистыми струями дождя и еще в меньшей защищенности, чем у тех, что остались внизу. Тем не менее с первым светом они поползли на врага, и уже за это были достойны благословения.
Было заметно, как кардухи оцепенели. Войну среди вершин они знали не понаслышке, и то, что на них надвигаются сверху, вселяло в них ужас. Когда его люди с ревом устремились вниз по склону, Хрисоф приказал спартанцам вдвое ускорить ход. Те громогласно завели свою песнь смерти, слова которой, набрав грудью воздух, подхватил и стратег. Кое-кто из эллинов удивленно на него посмотрел.
Кардухи открыли перевал, разбегаясь, как крысы, под ликующий рев двух тысяч, что все еще стекались с флангов. Тайная тропа провела их непосредственно вокруг перевала, так что они сбегали уже в долину снаружи. Все, что оставалось делать колонне, это продвигаться в боевом порядке, отбивая с боков сучья деревьев. Кардухи исчезли, и хотя за спиной снова послышалось улюлюканье, это был звук скорее гневливой досады, чем вызова.
При проходе через перевал сквозь низкие облака пробилось солнце, пролегая по земле золотыми остриями. Отсюда внизу виднелись скопления жилищ, отар и козьих стад. Рот невольно наполнился слюной при мысли о жареном мясе. Долина была неширокой, но своей зеленостью являла доподлинный оазис, скрытое от глаз сердце здешних гор. По всей видимости, это было самое плодородное место на всем хребте. Ксенофонт огляделся, с улыбкой ища глазами Паллакис. Но ее видно не было; она шла где-то впереди, рука об руку с Геспием.
Назавтра среди дня в дом, который занял Ксенофонт, привели пожилого кардуха. Он был покрыт синяками от побоев, нанесенных часовыми эллинов, к которым он посмел приблизиться; однако ради того, чтобы быть услышанным, он стойко терпел унижение, опустив голову и лишь протягивая часовым свои пустые ладони. Ксенофонт позвал молодого воина, который показал грекам обходной путь вокруг перевала. Тот подошел к соплеменнику и с ухмылкой отвесил ему оплеуху. Ксенофонт приказал ему отойти.
Старый кардух что-то залопотал, на что воин ткнул его черенком копья и с пренебрежением перевел:
– Он просит, чтобы вы не жгли здешних жилищ. Говорит, что его люди хотят лишь, чтобы их оставили, но он лжет. Старика прислали сюда потому, что его жизнь не представляет ценности. Его можно и убить, от этого ничего не изменится.
Костлявый старик завозился и попытался пнуть молодого человека до того, как тот перевел его слова на греческий.
– О чем он? Что он говорит? – спросил Ксенофонт.
Молодой человек пожал плечами, что-то пробормотав на своем языке, на что старик прошипел ему что-то злобное.
– Мы воюем ради победы. Правил здесь нет. Если этот старый дурень здесь, то я бы на твоем месте проверил караулы и убедился, целы ли они. А то воинов у нас много.
Старик заговорил снова, не давая Ксенофонту дослушать переводчика. Чужой язык он, похоже, не воспринимал и говорил поверх него, упрямо доводя свою мысль. Ксенофонт требовательно поднял руку и ущипнул себя за переносицу. Он хорошо поел, а душу грело обилие запасов, которые эти селяне скопили на долгую зиму.
– Скажи ему вот что. Все, чего мы хотим, это пройти и уйти восвояси. Я не буду жечь их жилищ, если он вернет мне мертвых для погребения и воздаяния богам. Скажи ему это и ничего не добавляй.
Кардухский воин упрямо подчинился. Делал он это неохотно, но старик в конце приложил руку к сердцу и поклонился. Ксенофонт усталым жестом услал обоих прочь. Когда караульные их увели, он решил пройтись по границам лагеря проверить, на месте ли часовые и целы ли они. Кардухам он не доверял.
Той ночью на краю кардухского села появились тела греков. Караульные подняли тревогу, когда увидели вкрадчивые подвижные тени, но, подбежав с факелами, нашли лишь трупы знакомых им людей, разложенные на земле рядком. Эллины приняли их с почтением, как братьев. Никто в ту ночь не спал, вознося над павшими молитвы.
Женщины из лагеря омыли и помазали тела, затем снова одели их. Раны были зашиты, а бороды смазаны маслом. Оружия убитых кардухи не вернули, наверняка поделив его между своими друзьями и союзниками. Эллинам оставалось лишь выкопать одну большую могилу и опустить тела в ее черные недра. Это скорбное зрелище в воспаленном свете факелов сопровождалось завыванием женщин. Поймут ли кардухи священность этого действа или разроют могилу в тот же час, как эллины уйдут? Эту мысль пришлось отложить; больше поделать ничего было нельзя. Тела были помещены с достоинством, под молитвы и плач, после чего земля была как следует утрамбована.
Солнце взошло над построением, покидающим долину уверенным шагом. Домов эллины жечь не стали, не взяли никого и в рабство, однако прихватили с собой все, что годилось в пищу, включая стадо коз и овец, которое погнали прямо посреди идущих. Снова была сформирована строгая колонна, а дух у людей был теперь заметно выше.
Первые жалящие выпады начались еще до того, как над кряжами показалось солнце. Кардухи сотнями прокрадывались сверху и пускали камни с такой высоты, что даже небольшая булыга могла сбить человека. Между тем горцы скатывали со склонов здоровенные валуны, и те, подпрыгивая, нещадно разили нерасторопных и тех, кому отскочить мешало построение. Хорошо хоть, что эти камни было хотя бы видно. В течение дня туман поднимался и рассеивался, пока под хладным зимним солнцем не воссияли самые высокие вершины. Резко похолодало, но жар схватки согревал.
Ксенофонт и Хрисоф выработали в дороге тактику. Если кардухи ударяли в перед колонны, Ксенофонт посылал людей с тыла по боковым тропинкам, искать высоту, на которой засели обидчики. Кардухи очень не любили бросать насиженное место под ударом сбоку, тем более что бежать подчас было некуда. Если же удару подвергался Ксенофонт, то на это отзывался Хрисоф, посылая назад и вверх для поддержки своих спартанцев.
То был жестокий и тяжелый труд, а к концу зимнего дня люди измучились и приуныли. Кардухи выбрали для обороны одну из вершин – скорей всего, потому, что иным путем выхода оттуда не было. Хрустя снегом под ногами, они вызвали греков на бой. Вышло так, что им не повезло: к ним нагрянула полусотня спартанцев. Снег они щедро забрызгали багрянцем, а головы кардухов метали в тех, кто лез соплеменникам на выручку.
С наступлением сумерек кровавая жатва возросла. Мелькнула мысль, не предложат ли горцы еще одну сделку с возвратом павших, но в залоге у эллинов теперь не было домов, и горцы от Ксенофонта ничего не хотели. Небо ночью прояснилось, а лагерь сковал жуткий холод. Оставалось лишь гадать, сколько они еще смогут продержаться – и сколько стадиев он и его люди преодолели за этот долгий день.
Ксенофонт закрыл глаза в молчаливой молитве.
Сон был о том, как он рвет цепи – тяжкие железные оковы, что спадали к его ногам. Утром Ксенофонт разыскал Хрисофа, чтобы рассказать ему об этом.
Сновидение могло быть добрым предзнаменованием, посланием от богов. Он и проснулся в настроении заметно лучшем, чем у него было с входом в горы. Сон явно имел к этому касательство.
Поведав о нем спартанцу, он заметил, как на лицо Хрисофа вернулась прежняя, подзабытая уже улыбка. Видеть это было отрадно. За время в пути у них сложилась дружба, даром что они большей частью находились порознь, на разных краях колонны. Людям очень нужны бывают минуты тепла и смеха; без них человек начинает увядать. Паллакис Ксенофонта, похоже, избегала, что сказывалось и на присутствии рядом Геспия. Для общения оставался только Хрисоф, который выглядел изможденным и худым. Нечесаная борода спартанца свалялась, и в ней теперь проглядывал клок седины.
– Сон хороший, – одобрил Хрисоф. – Я о нем расскажу нашим. Может даже, нам следует принести в жертву коз, которых мы гоним с собой.
Он ждал позволения, и Ксенофонт решил:
– Их кровь мы в жертву принесем, но мясо возьмем с собой. Теперь уж идти, наверное, недолго.
Нападения в течение следующих двух дней были разрозненными. Стрелы летели из расселин в окружающих горах, обычно по высокой дуге, и довольно легко ловились щитом. Однако наутро второго дня такой оказался убит спартанец: стрела пронзила ему бок так, что он закашлялся кровью и сел, не в силах подняться. Земли для того, чтобы его закопать, не было; нечем было разбить и каменистый грунт, поэтому над воином возвели пирамидку из плоских камней и оставили в этом своеобразном склепе.
Среди ночи сбежал молодой кардухский воин, захваченный накануне, – он либо разорвал путы зубами, либо перетер их, пока Ксенофонт спал.
Сразу вспомнился сон об опавших оковах, но не хотелось думать, что это о предстоящем побеге пленника.
На третье утро после долины – седьмое после того, как эллины вошли в горы – они по тропе приблизились к расселине, которая по крутому склону осыпи сходила вниз, к обширной равнине. С этой высоты взгляду открывался целый дневной переход.
Примерно в пяти стадиях от горных отрогов серела широкая река.
А за ней, на золотисто-зеленой равнине, в ожидании стояло войско. Вдоль равнины лагерем располагалась конница, и в воздухе, словно нити дождя, вились сизоватые дымки. На низких покатых холмах поблескивали квадраты пехоты. Они искали места на возвышенности, но их было мало, и потому квадраты льнули к вершинам склонов, словно острова в океане.
Хрисоф при виде последнего перехода позвал вперед Ксенофонта. Невзирая на ждущих за рекой врагов, оба схватили друг друга за плечи и облегченно рассмеялись. Горы оставались позади.
– Я удивляюсь сатрапу, что ждет нас там зимой, – зло усмехнулся Хрисоф, озирая из-под руки даль. – Должно быть, он в большом долгу перед персами, раз мерзнет там неотлучно.
Ксенофонт, как мог, скрывал удрученность. Во сне он сбросил оковы, а наяву надеялся, что все битвы и кровопролитие остались позади, в горах. После всего того, что ему пришлось вынести, мысль о новой битве была поистине изнурительной. Но кем бы ни был тот враг, каким бы долгом или обещаниями ни был связан с Персией, он ждал их и стоял на их пути.
– Чтобы вернуться домой, нам нужно перебраться через ту реку, – промолвил он.
– Ты изыщешь способ, – сказал Хрисоф без тени шутливости или насмешки. – Тебе не привыкать.
30
В сосредоточенной тишине греческая колонна заскользила вниз по склону, удлиняя шаги на зыбучей осыпи. Кое-кто из лагерного люда неловко опрокидывался, но гоплиты, рассредоточившись, шли с прежней ровностью, осмотрительно делая шаг за шагом. Те, кто сзади, на случай нападения шли с еще большей осторожностью, но и их постепенно разбирала пьянящая эйфория. Горы оставались позади. Они живы. Люди начинали переходить с шага на скачки, все быстрее и быстрее. Воздух, и тот на вкус был слаще, чем промозглые туманы гор. Они смеялись и в восторге окликали друг друга, чувствуя все более теплое дыхание земли внизу. Скалы кардухов оставались позади кремневыми клинками, во всех смыслах.
Ксенофонт курсировал взад и вперед по флангам, увещевая людей собраться и двигаться ровным строем. Ему сейчас очень не хватало лошади. Все воины были когда-то мальчишками, смотрящими снизу на своих отцов. Нельзя ли вызывать в них подчинение, просто веля держать головы вверх в расчете, что у них пробудятся воспоминания детства? Было не так-то легко командовать большими группами людей на уровне их собственных глаз.
Снова появилось пространство для того, чтобы выстроить внутренний квадрат в пределах внешнего. Для людей было поистине утешением видеть вокруг себя прежние ряды, хотя много знакомых лиц в них отсутствовало. Сотни полегли в горах, а с десяток женщин были умыкнуты горцами в стычках, где их, вопящих, утаскивали прочь. Те, кто сейчас стоял на тех местах, выжили, но при этом не были свободны от воспоминаний, которые теперь будут преследовать их всю жизнь.
Ксенофонт ощутил, что состарился лет на десять. Он с глухой яростью поглядел на войско, что при виде него начало пробуждаться на другом берегу. Он не знал, чье оно, равно как и зачем пришло на эту равнину. Он был зол на эту рать, потому что она стояла у него на пути – а он устал от тех, кто осмеливался на этом пути вставать.
Терпеливо ждал приказаний Хрисоф, за спиной которого аккуратными прямоугольниками выстроились спартанцы. После всего перенесенного они смотрелись неухоженно. Дело было не столько в растрепанных бородах и толстых косах, сколько в ощущении того, что они измотаны и что даже их прочности близится предел. От этой мысли веяло тревогой. Ксенофонт полагался на их выносливость превыше всех остальных, посылал их первыми туда, где опасней и труднее всего. И тем не менее они были всего лишь людьми. Длинные красные плащи просвечивали дырьями и прорехами; хлопали рваниной там, где ткань была раскромсана или оторвана для перевязки ран. У многих спартанцев на груди, бедре или руке виднелись красные повязки, побуревшие от запекшейся крови. Вперемешку с ними стояли рабы-илоты, которые молча несли щиты и копья. Вместе они были доподлинной элитой, и Ксенофонт отдавал себе отчет, что, если б не пролитая ими кровь, он бы до этого места ни за что не добрался.
Они взирали на него без гневливости, в ожидании приказаний. В свою очередь, и он бестрепетно встречался с ними взглядом. Они играли свою роль безукоризненно, но справлялся с нею и он. Ксенофонт посмотрел через реку туда, где все еще собирались полки пехотинцев, приходящие в неистовство от близкого присутствия врага. Их было примерно в три-четыре раза больше, чем эллинских гоплитов, тысяч тридцать или около того – огромное, казалось бы, войско, но не для тех, кто стоял при Кунаксе. С учетом всего этого Ксенофонт указал на ту сторону и пожал плечами.
– Кто эти глупцы, смеющие противостоять нам? – отчеканил он гневно звенящим голосом. – Нам, кто беспрепятственно пронзал войско персидского царя! Кто прошел через горы кардухов и остался жив! Видно, подлец Тиссаферн еще не успел слопать всех своих почтовых птиц. Эти люди за рекой, видать, никогда еще не видели эллинов. Они понятия не имеют, что значит противостоять нам! – Он ощерился хищной ухмылкой. – Представляю себе их личины, когда они это поймут!
Даже сумрачные спартанцы отреагировали на это, представив себе трусливое смятение врага. В жизни они имели мало удовольствий, но это, безусловно, было одним из них.
Позади рядов Хрисофа в ожидании стояло большое каре эллинов.
Они тоже выглядели потрепанными и худыми, изношенными до самых сухожилий. Слишком уж долго они испытывали нехватку еды и слишком много дней у них проходило в битве за жизнь. Острия их клинков были притуплены, и многие из них уже и не помнили, когда мылись. И все же им сейчас от гордости распирало грудь, а их несломленная воля гудела струной.
Ксенофонт пристально оглядел реку. В это место привел их он. Для него это было тяжким бременем, но он не променял бы его на шанс выпить нынче вина в Афинах и заснуть в собственной постели.
– Идем со мной к реке, – позвал он Хрисофа. – Возьми с собой горстку гоплитов с самыми длинными копьями и нескольких щитоносцев, чтобы их прикрывать. Мы отыщем брод и покажем этим приспешникам персидского царя, кто мы такие.
Вместе с ним к берегу реки подошел небольшой отряд. Отсюда можно было рассмотреть знамена – незнакомые глазу, они сонно колыхались на ветерке по ту сторону. На воинах были плащи с пластинами, как у персов, но символы на флагах нельзя было разобрать, и сами они смотрелись как-то мельче. При виде такого сонмища сложно было не впасть в уныние, но Ксенофонт заставил себя разгуливать берегу непринужденно, как будто не видел никакой угрозы.
Река оказалась гораздо шире, чем он предполагал: до другого берега было не меньше сотни шагов. Быстрым было струистое течение, придающее живым переливам воды прихотливые формы. На той стороне наглый враг, видимо, решил проверить порог стрельбы и выслал вперед группу лучников – всего около тридцати, – которые, подойдя как можно ближе к урезу воды, натянули свои луки. Ксенофонт был вынужден укрыться за двумя бронзовыми щитами спартанцев, стараясь не реагировать на шипение и глухой стук железных стрел, нацеленных на убийство.
В промежутках между залпами гоплиты опускали в воду свои копья, но ни одного места, подходящего для переправы, не обнаруживалось. Длинные древки из раза в раз исчезали в бурной воде вместе с держащими их руками. Когда один из копейщиков, зашипев, с ругательством выдернул из себя стрелу, эллины отошли за порог стрельбы. Ксенофонт чувствовал, что на него выжидательно смотрит Хрисоф. Толком не зная, как действовать дальше, он растерянно поднимал брови. Судя по всему, неприятель знал эту реку не лучше эллинов. Войско проделало свой долгий путь по призыву персидских хозяев, но точно так же не знало, где здесь могут быть броды. А без места для переправы ответить на вызов Ксенофонт в любом случае не мог.
Возвращаясь к ждущим эллинам, Ксенофонт чувствовал себя несколько подавленно. При таком раскладе поиск придется продолжить. С высоты перевала, покуда хватало глаз, он не замечал ни одного моста. Им придется разыскивать место, где у реки есть отмель или какой-нибудь древний выступ камня или гравия, служащий препятствием водному потоку. Наименее привлекательной была перспектива ночлега на этой голой равнине.
Ветер набирал силу, все настойчивей теребя волосы и складки одежды. Однако самой насущной для греков была потребность в пище.
– Можно послать обратно в предгорья охотничьи отряды за дичью или хотя бы за птичьими яйцами, – вторя его мыслям, неуверенно сказал Хрисоф.
Ксенофонт уже смотрел за пределы своего каре в сторону серовато-зеленых круч, что извергли их сюда. Его внимание привлекло какое-то движение на горных склонах, и он прищурился, после чего покачал головой.
– Не думаю, что нам это позволят, – сказал он, указывая пальцем.
Примерно в том месте, где эллины сошли с гор, в небывалом количестве собрались кардухи. Счет шел на тысячи дикарей-горцев, потрясающих над собой копьями и луками. До слуха доносилось все то же зловещее улюлюканье, сглаженное сейчас расстоянием и ветром.
– Ах вон оно что. Ни туда ни сюда, – усмехнулся Хрисоф. – Ну так устроим себе на один день привал. Доедим остатки съестного, допьем вино. Подлечим и заштопаем раны. Пусть те, у кого жар, и те, кто на носилках, немного отлежатся. А кардухи пускай себе воют среди гор, как демоны зимы. – Спартанец передернул плечами, перемогая какое-то мимолетное воспоминание. – Мы же тем временем будем отдыхать и набираться сил.
– А я тем временем взову к Афине, чтобы она указала нам путь, – сказал Ксенофонт.
При имени богини Хрисоф почтительно склонил голову.
– Мы чтим ее. Воительница, хозяйка и войны, и мудрости. Ну а как иначе? Она, между прочим, богиня вполне спартанская. Может, это она и послала тебе сон о павших оковах?
Ксенофонт улыбнулся, припоминая.
– А что? Может, и да. Это дало мне надежду в те минуты, когда я был близок к отчаянию.
Хрисоф приостановился с удивленным лицом.
– Близок к отчаянию? По тебе этого совсем не было видно.
Ксенофонт отвел глаза.
– Скажем так: я рад, что мы выбрались из тех треклятых гор. У меня ощущение, будто мы пересекли страну мертвых и снова вышли под солнце жизни. Ты понимаешь?
– Как не понять, – углубленно посмотрел Хрисоф. – Но все же мы ее прошли.
Рядом не было никого, кто мог бы слышать этот их разговор. Остальные воины ушли вперед, и два военачальника неторопливо шагали вместе, наслаждаясь минутами покоя.
– Я… Для меня большая честь вести на бой спартанцев, – вытеснил Ксенофонт неловко.
– Еще бы, – хмыкнул Хрисоф. Через мгновение, о чем-то подумав, он поморщился и нехотя произнес:
– Я тут видел твоего юного друга, Геспия. Он шел рука об руку с наложницей царевича Кира… как ее там?
– Паллакис, – тихо отозвался Ксенофонт. Внезапная сорванность голоса не укрылась от Хрисофа.
– Хочешь, я скажу паре молодцов его остеречь? Уж если она и чья-то, то прежде всего твоя.
Ксенофонт, недвижно уставясь в землю, покачал на ходу головой.
– Не надо. Неволить ее я не буду. Она или придет ко мне сама, или не придет совсем.
Он открыл было рот, чтобы вести диспут сам с собой, но одумался.
– Они выглядели ну очень дружелюбно, – сказал Хрисоф.
Ксенофонт резко повернулся к спартанцу, на что тот рассмеялся.
– Извини, я над тобой просто подтруниваю.
– А я думал, спартанцы не смеются, – ответил Ксенофонт резко, не желая видеть в этом шутку.
– Кто тебе сказал? Если б мы не смеялись, хотя бы над любовью и войной, этот мир был бы полон печали. Я однажды видел, как на человека набросился леопард. Прошло с десяток лет, а память о физиономии того олуха до сих пор меня веселит.
В ту ночь Ксенофонт спал беспокойно, просыпаясь раз пять или шесть, так что к рассвету можно было сделать вывод, что вряд ли спал вообще. Зато после семи дней среди горных вершин он блаженно наблюдал солнечный восход над равниной. Река сияла золотистой лентой, и даже персидские вассалы, призванные ему помешать, казалось, проникались этим великолепием. В таких моментах, судя по всему, и раскрывается сам смысл человеческой жизни. Он больше, чем радость; он скорее чувство дивного благоговения. Надо бы ухватить эту мысль, чтобы когда-нибудь потом живописать ее Сократу. Вообще сколько всего накопилось для рассказов старому негодяю! Пожалуй, главным среди всего этого было желание поблагодарить философа за предложение уехать. Афины в мыслях Ксенофонта как-то скисли и свернулись, и он даже не мог упомнить когда. После Кунаксы, после долгого пути эллинов через Персию он мог наконец понять, сколь мелкими были все его прежние заботы. Теперь он снова мог обрести покой и откинуть в сторону злость, поедом снедавшую его прежде.
– Утро доброе, стратег, – поприветствовал Хрисоф. – У меня тут двое юных молодцов. Думаю, тебе не мешает услышать, что они сообщат.
Ксенофонт подавил зевок, протирая глаза и чувствуя себя немытым и щетинистым. Ему было все так же двадцать шесть, но при виде спартанских юношей он почувствовал себя старше. Из одежды на них почти ничего не было, кроме сандалий. На одном препоясанный веревкой плащ перекинут через плечо и застегнут у горла. Широкий пояс с мечом висел на нем набедренной повязкой. Второй был почти наг, но, судя по виду, его это совершенно не заботило. При этом вид у него был необычайно здоровый.
– Приветствую вас, – почесывая подбородок, сказал юношам Ксенофонт. – Я тут любовался рассветом. Выкладывайте, что у вас.
– Мы с братом вечером искали на растопку хворост, – начал один. – Шли час или два, примерно тридцать стадиев вниз по реке. Уже темнело, когда мы на том берегу заприметили старика и женщину. Они там в камнях прятали что-то завернутое в одежду – нам показалось, что-то из еды. Вот мы и решили, а не переплыть ли нам туда? Ну и…
Брат взволнованно его перебил:
– Мы зажали в зубах ножи и пошли, думая заплыть, но вода за всю дорогу не поднялась у нас выше пояса! К той поре как мы выбрались на тот берег, старик с женщиной ушли. А мы вернулись.
– Вас заметили? – живо подавшись к ним, спросил Ксенофонт. – Вы трогали ту одежду?
Краем глаза он заметил, как Хрисоф улыбается его порыву, но оставил это без внимания.
Оба брата в ответ покачали головами. Ксенофонт восторженно сжал кулаки.
– Значит, вы оба заслужили мою благодарность, ребята.
– Молодцы, – одобрительно кивнул им Хрисоф. – А теперь идите и займитесь своей оснасткой. Не думаю, что мы сегодня будем прохлаждаться.
Ксенофонт улыбнулся.
– У меня есть план, Хрисоф.
– Еще б у тебя его не было.
Памятный последний прием пищи колонну лишь ослабил. На побудку лагерного люда потребовалось лишнее время, а солнце между тем споро поднималось в небосвод, делая все более заметным переход двадцати тысяч по берегу реки туда, куда указывали братья, идущие теперь во главе колонны как разведчики. Брод оказался не так уж далеко – каких-нибудь полтора десятка стадиев – однако истинная опасность крылась в самой переправе. По пояс в воде, борясь с сильным течением, эллины становились чудовищно уязвимы. В истории Эллады не одно, даже крупное, воинство оказывалось полностью уничтожено, будучи застигнутым на переправе вброд.
С другого берега за их продвижением наблюдал неприятель. В его ответе на этот маневр сквозила нерешительность. Отряды конницы двинулись заслонять греков вдоль берега, в то время как полки пехоты по-прежнему топтались на взгорьях и возвышенностях, предпочитая оставаться на классически выгодных позициях, чем рисковать на одном поле с врагом.
Позади в своих горах проснулись и кардухи. Они копошились на высоких гребнях, чутко за всем наблюдая. Идя в хвосте колонны, Ксенофонт не спускал с них глаз. Его представление об этих племенах было все еще смутным; просчитывать их действия не представлялось возможным.
Как только эллины сместились в сторону, кардухи начали спускаться по рыхлым склонам, чего раньше делать не осмеливались. Притормаживая и прыгая, они добрались почти до самой равнины. Нападать они, похоже, не намеревались, но при удачном стечении обстоятельств вполне могли наброситься на греков, как волки на весенних ягнят. Получив обидную трепку в своих горах, они все еще чувствовали себя уязвленно и жаждали отомстить.
– Эллины, изготовиться! – призвал Ксенофонт.
Командиры знали о его намерениях и одобряли их. Переправа была местом слишком узким и ненадежным, чтобы пытаться лобовым ударом пробить здесь брешь в большом, хорошо вооруженном вражеском войске. Более того, греки были теперь слабей, чем раньше, – факт, отрицать который больше не имело смысла. Чтобы набрать свою прежнюю боевую форму, им нужно было отдыхать и отъедаться с месяц, а то и больше.
На противоположном берегу мелькали тысячи всадников. Взад и вперед сновали гонцы, раздавался нервный лай приказаний, выдавая во враге растерянность и тревогу, что где-то рядом может находиться место переправы. Ксенофонт из-под ладони пытался вглубь разглядеть остальные неприятельские силы. Вероятно, они считали этот маневр коварной уловкой. Не исключено, что Тиссаферн упредил их остерегаться коварства греков. Обнажив в оскале зубы, стратег прокричал:
– Передние! Сотники и командиры полусотен! По моей команде… Вперед!
Его голос стегнул как бичом, и первые ряды с Хрисофом ринулись в воду, вздымая фонтаны сверкающих на солнце хрустальных брызг.
В то же мгновение вторая половина гоплитов, что в тылу, развернулась спиной и пустилась бегом вдоль берега. Они мчались азартно, как на состязаниях, толкаясь и перекрикиваясь, так что эффект был поразителен: лавина бегущих греков. На месте, согласно его приказу, остались только лагерные. Некоторые из них на случай нападения были вооружены мечами и копьями. Это решение далось непросто, но Ксенофонт на него пошел: нет войска, которое могло бы маневрировать на поле с десятком тысяч безоружных, которых надо одновременно защищать. До этого Ксенофонт горячо помолился Афине, чтобы та оберегла лагерный люд, в то время как он сам бежал, как мальчишка, хохоча над неожиданностью своего маневра.
На другом берегу этот внезапный разворот и забег пяти тысяч греков вызвали вспышку хаоса. Начальники конницы углядели подвох, который можно упредить только скоростью, их единственным веским преимуществом. Поэтому половина всадников, заслонявших переправу, галопом помчалась на перехват людей Ксенофонта, крича своим быть начеку. Полки лучников, подошедшие к броду, были остановлены и трусцой потянулись назад, снимая на ходу стрелы с натянутых было луков.
Греки с Ксенофонтом явно направлялись к еще одному броду, выше по реке. Беспрепятственно через него перебравшись, они могли атаковать с двух сторон. В темных рядах, противостоящих Ксенофонту, царили смятение и хаос. Полки, что уже двигались, сталкивались с другими, у которых был приказ стоять вдоль берегов, и люди в них опрокидывались под натиском своих, а начальники выкрикивали противоречивые приказы.
Ксенофонт дышал ровно. Он был подтянут, но худ. Почему-то, наблюдая за вызванным им разбродом в стане врага, он испытывал ощущение, что может бежать без устали весь день. Уловка удалась. На самом деле второго брода не существовало.
– А теперь пошумите! Поднимите все мечи и копья! – воззвал он к своим командирам.
Оказалось, что пять тысяч эллинов реветь умеют очень даже сносно. При желании они могли бы сотрясти хоть небеса. На бегу Ксенофонт прикидывал, что грань здесь весьма тонкая. В итоге ему предстоит вернуться к изначальной точке и лишь оттуда перейти через реку. Вместе с тем нельзя было утомлять людей чересчур большими расстояниями. Рано или поздно ему придется вернуться по своим следам к броду, который нашли те два брата-спартанца. Задачей было отвлечь врага от отряда Хрисофа. К тому времени спартанцы должны будут уже переправиться. Ксенофонту трудно было не позлорадствовать при мысли о первом и, видимо, последнем знакомстве врага с этими воинами.
– Изготовиться! – рявкнул он им. – Разогреться мы разогрелись. Теперь пора разгуляться там, за речкой. Сейчас возвращаемся обратно к месту переправы.
Ряды отозвались глумливым смехом. Люди были на высоте от хаоса, вызванного ими на другом берегу реки.
Заметив краем глаза движение, Ксенофонт тихо выругался. Уловка была им нужна для того, чтобы сбить с толку врага и благополучно пересечь реку. Однако не учтено было то, как поведут себя кардухи, наблюдавшие за маневром с высоты. А они, как он и опасался, углядели, что он разделил свои силы. Узрев эту слабость, они лавиной посыпались вниз по склону, вне себя от возможности поквитаться. Ксенофонт набрал полную грудь воздуха:
– Эллины, по моей команде остановиться!.. Стой!
Все дружно застыли; при виде стекающих по склону кардухов всякий смех прекратился.
– Воины! Сыны Коринфа и Фессалии, Родоса и Аркадии, Стимфала и Крита! Стройтесь плотней! Слушайте своих командиров и помните: с кардухами мы уже встречались на их склонах. Теперь они встречают нас на равнине. Они еще никогда не видели нашего боевого строя, не ведали наших копий и коротких мечей! Так пусть же подходят со всем своим алчным скулежом и тявканьем. Мы перебьем их, как диких псов, – участь, которой они заслуживают!
Последняя фраза утонула в дружном реве. С потаенной радостью Ксенофонт увидел, как некоторые из кардухов дрогнули в замешательстве. Вдали от холмов, что были им домом, они ощутили вокруг себя бесприютную пустоту равнины. Готовясь встретить их необузданный бросок, греки сомкнули строй – навык для них такой же естественный, как дыхание. Ощущение присутствия впереди и по бокам от себя боевых товарищей внушало спокойствие; идеальное состояние перед схваткой.
– Где мой щит? – спросил Ксенофонт.
Трусцой подбежал один из спартанских илотов со щитом на спине и с низким поклоном протянул его стратегу. Видимо, этот человек состоял при ком-то из командиров. Ксенофонт с облегчением поблагодарил его, как благодарят свободных, после чего просунул левую руку в одну кожаную петлю и крепко ухватился ладонью за другую. Щит ощущался буквально частью руки, и он взмахнул им в воздухе с радостным предвкушением.
– Спокойствие, эллины! – крикнул он поверх голов. – Еще есть время. Делаем шестьдесят шагов и останавливаемся. Копья на изготовку!
Глазам кардухов, по всей видимости, открывалась литая глыба из пяти тысяч греков – не плоть, а почти сплошной металл – с рекой за их спинами. По команде Ксенофонта они слегка накренились вперед (момент, когда стратегу подумалось о лучниках, что сейчас, вероятно, собирались на другом берегу). Это слитное движение, казалось, отняло некую часть дикарского неистовства у тех, кто сейчас собирался на них напуститься. Кардухи видели перед собой громадного шевелящегося зверя – черепаху из бронзы, сулящую верную смерть. Среди эллинов не было лагерного люда, который нуждался в защите. Они были худы, грязны и измучены, но к кардухам их преполняла лютая ненависть.
Две или три тысячи горцев напоролись на эллинский строй, словно град на каменную стену, и оказались посечены по всей его протяженности. Кардухи с воплями напрыгивали, но против дисциплины сплошного ряда щитоносцев оказывались бессильны. Ксенофонт с благоговейным ликованием наблюдал, как откатываются уцелевшие. Те, кто сзади, сбавляли ход при виде этой неприступной глыбы и обилия крови, проливаемой таким числом их соплеменников.
– Шестьдесят шагов вперед! – рявкнул Ксенофонт. – Пошли!
Ряды толчком пришли в движение, и кардухи, уворачиваясь, отпрянули, словно раненые собаки, все еще свирепые, но напуганные. Все больше их отступало вверх по склону, отчего пронизывало желание броситься за ними вслед. Сдержав в себе этот позыв, Ксенофонт наблюдал, как тысяча, а то и более горцев остановились на склонах, опираясь о копья, как о посохи, и оттуда наблюдали за греками в бессильной злобе. К повторному броску они, похоже, не стремились. Ксенофонт восторженно покачал головой.
– Теперь они нас знают! – выкрикнул он. Эллины в ответ торжествующе взревели, и им эхом откликнулись горы. – Больше они не сунутся, а если посмеют, у нас есть на них укорот. Ну а сейчас идем вспять вдоль реки, назад к броду. Со всей возможной быстротой.
Некоторые из воинов застонали, вызвав у стратега смех.
– Как? Вы же сейчас отдохнули! Неужели этого мало? Пора размяться еще разок, иначе все лавры за победу достанутся нашим спартанским братьям на том берегу!
В ответ послышались одобрительные возгласы, и строй снова пришел в движение.
Кардухи сзади больше не улюлюкали.
Было уже около полудня, когда пять тысяч Ксенофонта, пыльные и довольные собой, вернулись к переправе. Их радостно встретил лагерный люд, кучками собираясь вокруг и похлопывая воинов по плечам и спинам.
Всюду чувствовалось осязаемое облегчение. В самом деле, без прикрытия защитников, разбежавшихся в двух направлениях, эти люди остались впервые со времен Кунаксы.
Здесь Ксенофонт узнал, что спартанцы перебрались на ту сторону без особых трудностей, очистив берег от всех, кому хватило безрассудства им противостоять. Тут и там землю устилали павшие знамена. Глядя через реку, Ксенофонт по наваленным грудам из тел видел прорубленную Хрисофом дорогу. Оставалось гадать, куда делся сам спартанец со своими воинами. Изначально ему вменялось закрепиться на переправе и ждать, пока через реку перейдут остальные силы и население лагеря. Кроме того, у врага была конница в таком количестве, какого пешим не одолеть.
Входя в холодный поток, Ксенофонт зябко вздрогнул и нагнулся за пригоршней воды, которую отпил, и отер ею лицо. Исчезновение Хрисофа вызывало тревогу. Пришлось напомнить себе, что он этому спартанцу доверяет – особенно после кардухских гор. Если Хрисоф решился покинуть участок переправы, значит, на это была веская причина.
Дюжина гоплитов встала вдоль брода живыми вехами. Жестами и возгласами подбадривая лагерных обитателей, они звали их перейти через поток, вместе с тем бдительно высматривая любое появление всадников или лучников. Пять тысяч Ксенофонта спешно перебрались первыми, закрепившись на другой стороне, в то время как остальной люд, оскальзываясь, шатко брел и вяло пособлял друг другу.
Ксенофонт оставался в реке, даром что ноги каменели от холода. Задерживаться на броде он не думал, но его, проходя мимо, все благодарили люди – сотни их, – причем с такой сердечностью, что от похвал и студеной воды цепенело нутро и шла кругом голова. Но иного выбора не было. Когда люди наконец выбрались на берег, он снова построил вокруг них гоплитов. Без спартанцев Хрисофа квадрат смотрелся разреженно, но Ксенофонт повел его вверх от реки, впервые оглядывая равнину с этого покоренного берега.
На гребнях невысоких холмов там недвижно застыли полки персидских вассалов, неподалеку от того места, где собрал свой квадрат Ксенофонт. Кое-кого из пехотинцев он заприметил еще с того берега. Отойдя на возвышенность, они решили за нее держаться, невзирая ни на какие уловки и игры, на которые оказались так горазды греки. А по округлому склону холма в их сторону всходил небольшой плотный квадрат воинов, которых Ксенофонт сразу узнал и при виде которых сердце его преисполнилось гордостью и тревогой.
Подобно ползущему жуку, невзначай обнажившему свой панцирь, спартанцы вдруг взблеснули золотом. Весь их отряд дружно поднял щиты против черного дождя дротиков и стрел, летящих навесом. Это была война в своем доподлинном виде, и Ксенофонт тотчас направил свой строй Хрисофу на подмогу.
Враг не знал, что многие из шагающих в нем не обучены владению оружием, зато внешне придавали ему солидности. Эта мысль вызывала улыбку и снимала усталость.
На ходу Ксенофонт подметил, что равнина смотрится куда пустыннее, чем прежде. Огромное число конницы, казалось, исчезло. Брошенные знамена валялись по берегу в таком обилии, что их вряд ли могли нарубить даже спартанцы. Похоже было на то, что враг покинул поле боя. От нахлынувшей, пока еще робкой, надежды замерло сердце. Те, кто остался, представляли собой разрозненные острова на холмах и гребнях. Позиции враг занимал неплохие, но при таком количестве бежавших они выглядели оторванно друг от друга.
Вот спартанцы достигли гребня холма и стали прожиматься сквозь врага, словно гусеница, постепенно, жевок за жевком, поедающая лист. По склонам холма со всех сторон начали осыпаться мелкие черные фигурки – ни дать ни взять встревоженные мураши, в которых тычет палочкой ребенок. Это солдаты неприятеля убирались подальше от золотистых щитов и красных плащей.
Зимний день был недолог, и вот уже солнце стало не более чем смазанным рыжеватым штрихом на горизонте. Через какое-то время Хрисоф сошел с покоренного холма, неся с собой всю поклажу побежденного войска, брошенную в суматохе бегства. От пленных он узнал, что с поля бежал армянский сатрап Тирибаз, друг детства персидского царя. Дружба, которая обернулась целым состоянием. Наряду с прочим Хрисоф притащил сундук, доверху набитый серебряными монетами – оплата всех наемников, которых собрал под свое начало Тирибаз.
– Большинство утекло, но те, что на холме, остались, – рассказал Хрисоф. – Вот я и решил глянуть, что их там держит, в то время как все остальные разбегаются.
– Прозорливое решение, – со смехом сказал Ксенофонт, прощая спартанцу ослушание. Хрисоф с облегчением склонил голову. Он уж думал, стратег устроит ему разнос за то, что он в очередной раз ослушался.
Тем вечером Ксенофонт собрал вкруг себя командиров содвинуть кубки с раздобытым вином. Лагерь сатрапа Тирибаза оказался набит едой и питьем. Эллины на радостях устроили пир, а на равнине развели кострище из копий и луков, потрескивающих в огне, словно раскаты сухого смеха.
31
За два дня они отдалились от гор на двести пятьдесят стадиев – щадящий темп, годный для лагерных обитателей. После отдыха в верховьях Тигра был проделан еще один отрезок пути, на этот раз в пятьсот стадиев, к берегам своенравного Телебоя. За все это время эллинам не встретилось ни одного солдата, зато попадались селения и небольшие города; миновали даже дворец, принадлежащий Тирибазу. Самого сатрапа в округе не оказалось, но в память о встрече с ним греки как следует пограбили его казну. Дорогой не забывали разживаться повозками и мулами, а при случае и рабами. Через непродолжительное время возы были уже основательно загружены. Ксенофонт всей этой поживе не препятствовал. Временами навстречу попадались храмы и святилища чужеземных богов, где паломники веками оставляли свои подношения.
Эти подношения греки, уходя, тоже прибирали к рукам. По мере углубления на север зима становилась все ощутимей. Путь день за днем буднично пролегал через подернутые туманом пейзажи, радующие глаз разнообразием – от темных возделанных полей до рощ и виноградников, тянущихся опрятными рядами по склонам холмов. За долгую дорогу в стане эллинов завязывались дружеские связи и любовные отношения; было сыграно с десяток свадеб. Прочность таких браков вызывала сомнения, но пары были счастливы, что на короткий миг согревало всех душевным теплом и весельем.
Что до остальных, то тяготы перемещения по свету измотали их до истощения. Лица мужчин поросли клочковатыми бородами, до которых им уже не было дела. Мылись они, когда и как могли, но когда сбрасывали с себя лохмотья, то под ними открывались мощи, где можно было пересчитать каждую кость. Даже всей найденной еды им не хватало, чтобы насытиться.
На длинном отрезке в пятьсот стадиев и четыре дня пути по пескам Ксенофонт обнаружил, что идет рядом с Паллакис и Геспием. Они шли бок о бок, напоминая своим видом любовную пару (хотя трудно сказать наверняка). Ксенофонт сотни раз чувствовал на себе ее направленный из толпы жгучий взгляд. Ему хотелось, чтобы она дождалась, дотерпела до того дня, когда у него над душой не будут висеть двадцать тысяч душ. На то пошло, ведь это он сказал Геспию ее оберегать! Тогда он в каком-то смысле был сильнее, отвлекаемый всеми теми, кто в нем нуждался. Идя по стелющемуся впереди монотонному простору, он невольно украдкой на нее поглядывал, внушая себе, что смотрит на нее не чаще, чем на любую другую женщину. При этом возникало ощущение, что она все это знает, все чувствует. Женщины своим подспудным чутьем частенько догадываются, когда мужчины оказываются очарованы их красотой, но намеренно не подают виду. Иногда он язвил над собой, представляя, как будет смеяться Сократ, когда услышит от него об этом. «Все мужчины глупы в любви», – говорил он. Именно по этой причине на свете и существует вино.
Из раздумий Ксенофонта вырвал отдаленный шум впереди. Под слабым зимним солнцем он прищурился туда, куда ушли разведчики, посланные им поглядеть со склона, каким путем лучше идти. На расстоянии полутора сотен шагов они выглядели мелкими фигурками, но их вид заставил сердце тревожно екнуть. Они подпрыгивали и размахивали руками. Что там впереди: неужто нападение? Ксенофонт оглянулся, в очередной раз увидев, как измучились и обносились его люди. Они шли уже так долго, что походили не на войско, а на стаю каких-нибудь изгоев-кочевников. Он начал готовить распоряжения, разыскивая глазами Хрисофа, и в это время увидел, как часть людей, что спереди, бегом устремилась вперед, куда их зачем-то подзывали разведчики. Они тоже зашлись криками и замахали руками.
– Таласса! Таласса! – вопили они.
«Море!» Море. Ксенофонт сбросил с плеч суму и вместе с сотнями других побежал на гребень холма. Между тем крики впереди становились все громче и неистовей. Море. Они грезили о нем еще с пустыни. Там, впереди, их ждали эллинские поселения, эллинские города, и, прежде всего, эллинские корабли, способные унести их куда угодно. Мужчины и женщины падали на колени и сотрясались в рыданиях, неловко укрывая руками лица. Это были бурные, безудержные слезы облегчения.
Ксенофонт стоял, ошеломленный, в то время как мужчины и женщины стискивали его в объятиях, исступленно благодаря за все, что он для них сделал; за то, что спас им жизнь. Он чувствовал, как лицо ему обжигают слезы, свои и чужие, и, как мог, их отирал, стараясь сохранять хоть малую толику спокойствия.
– Эй, живо! Ведите его к стратегу! – послышались возбужденные голоса, и, обернувшись, Ксенофонт увидел перед собой мальчонку-пастуха, которого подтащили к нему. Он действительно походил на грека, а когда заговорил, Ксенофонт вскрикнул от восторга, и этот крик разнесся по лучащейся улыбками толпе.
– Я свободный эллин, сын Ликоса, – выставив перед собой ногу, запальчиво сказал мальчуган. – И ты не можешь взять меня в неволю.
Ксенофонт мотнул головой.
– Заверяю, никто не собирается брать в неволю ни тебя, ни твоих коз. Поведай-ка мне лучше об Элладе. Есть ли какие-то вести из Афин? Нас там не было больше года. Как они там, стоят?
Мальчик оглядел сборище диковатых оборванцев, глазеющих на него, как на какое-нибудь чудо.
– Стоят, чего им сделается. А оратор Полиэм предан смерти, как и Сократ. Совет отстроил порушенную спартанцами городскую стену и отремонтировал храмы в Акрополе. Так что мы здесь не какие-нибудь отсталые! Мы такие же эллины, как ты. Один из тысячи городов, и стены у нас не хуже, чем в какой-нибудь Аркадии или Фессалии.
Мальчуган сиял от гордости, показывая свое знание, но это выражение сползло с его лица, стоило ему увидеть распахнутые глаза Ксенофонта и восковую бледность, проступившую на его щеках.
– Я чем-то тебя… обидел, господин?
– Нет, мальчик. Ты сказал, что Сократ предан смерти?
– А ты что, не слышал? О, громкий был суд. Его обвинили в том, что он не чтит богов – и что молодые афиняне предпочитают слушать его речи, а не работать. Ему предложили изгнание или молчание, а старый дуралей возьми и выбери смерть! Ему разрешили принять яд. Совсем иное дело Полиэм, как мне рассказывал отец. Он…
Ксенофонт отвернулся от болтливого выродка и вслепую побрел сквозь толпу. На какое-то время горе полностью опустошило его, изгнав из головы все мысли. Он прошел такой долгий путь, познал столько нового. И если нет теперь Сократа, чтобы его выслушать…
Он чувствовал, что плачет, и на этот раз не пытался скрыть слез. Сел обессиленно на камень, подальше от радостной толпы, напрочь от нее обособившись.
Спустя какое-то время рядом послышались тихие шаги, и тогда он отнял руки от глаз и приподнял голову, что лежала у него на скрещенных руках.
Он думал увидеть Хрисофа, а это неожиданно оказалась Паллакис. Ксенофонт смотрел на нее снизу вверх покрасневшими воспаленными глазами.
– А ты его так и не узнала, – с горестным упреком уронил Ксенофонт. – Это был великий человек, поистине редкостный. Хотя вряд ли он записывал что-то из сказанного. Ты можешь себе представить? Ну что такое устное слово? Через столетие его уже и не вспомнят. Статуй Сократа тоже нет. Люди даже не узнают, что он когда-то жил на свете.
– Но написать о том, что помнишь, сможешь ты. Почему бы нет? – робко предположила Паллакис. – Мне отчего-то кажется, что он бы тебе это доверил. Я ведь вижу, ты его действительно любил.
Она присела рядом, а Ксенофонт едва переборол безотчетный порыв припасть к ней и уткнуться лицом ей в плечо. Но он все-таки совладал с собой, почувствовав, что сила воли постепенно возвращается. Эта женщина не принадлежала ему, хотя, гляди-ка, подошла. Возможно, дело все же не столь безнадежно.
– Что ты теперь будешь делать? – спросила Паллакис. – У нас есть серебро и золото. Ты раздашь его по людям? Или…
От неожиданно пришедшей мысли он моргнул. Горе пока можно запрятать поглубже, а заняться им как-нибудь потом. Хвалу Сократу следует воздать вином и письменным словом – Ксенофонт себе в этом поклялся, – но сейчас можно и нужно сделать нечто большее.
Он с внезапной энергичностью потер лицо ладонями и, резко встав, возвратился к группе. Хрисоф встретил его откровенно сочувственным взглядом, но Ксенофонт лишь поморщился и отозвал его в сторону от остальных.
– Лохаги и сотники, ко мне! – скомандовал он поверх голов. – Полемархи, полусотники, все! Геспий, и ты изволь тоже.
Все собрались довольно быстро, и он впереди всех пошагал вдоль склона холма, пока не подошел к оливковому дереву, клонящемуся кроной к песчаной почве. Оно наверняка проросло из семени, занесенного сюда из невесть какой дали, отстоящей, может, на полсвета.
Ксенофонт похлопал по шершавому стволу, окрыляясь на мысль.
– Друзья мои, собратья! Посмотрите: это дерево пришло сюда явно издалека – прилетело семечком да и пустило корни. Как и эллины, что обосновались на этом побережье до нас, мы, может статься, являем собою семя будущего города. Гляньте на всех тех, кого мы привели сюда, в это место! Здесь среди нас и воины, и мужи, и женщины, и дети, и невольники. Есть у нас и золото с серебром, и люди, сведущие в разных ремеслах. Есть всё, что нам нужно для основания города Эллады прямо здесь, на этой земле. Вдумайтесь. Неужто после того, что мы с вами пережили, мы безвестно рассеемся на все четыре стороны? Сказать по правде, я к вам прирос сердцем – и к вам, и ко всем остальным. Причем крепче, чем сам о том подозревал. Неужели хоть один из вас чувствует себя иначе, чем я? Если же мы возвратимся по домам, то нас ждет старая жизнь и прежние постылые заботы. Так отчего бы нам не стать семенем для нового полиса? Стать новым племенем, новым народом. Из того, что мы здесь решим, наши дети смогут унаследовать город. Да что там город – царство на этой земле! Разве нет? До этих пор нашей единственной заботой было выжить и дойти досюда. До этого места. И вот теперь, когда мы здесь и знаем, что нам это по силам, почему бы нам не заняться строительством? Двадцать тысяч людей – сила достаточная, чтобы возвести стены и жилища в долине у реки.
Он глубоко и пристально поглядел на Хрисофа:
– Мы можем стать еще одной Спартой, еще одними Фивами. Если мы выберем идущую к побережью реку, мы можем стать еще одними Афинами. Быть может, мы отправимся туда на кораблях, которые сделаем сами.
– Если мы решим остаться, ты поведешь нас? – тихо спросил Хрисоф.
Ксенофонт ответил твердым взглядом.
– Если вы этого захотите, если вы меня примете, то да. Это было бы честью и высшей целью моей жизни. Я думал, она состоит в том, чтобы привести вас в безопасное место, но, возможно, это было лишь начало.
Хрисоф кивнул.
– Надо будет спросить у остальных, – сказал он. – Ты понимаешь: такое решение без обсуждения принято быть не может.
– Да. Безусловно.
Ксенофонт умолк, глядя поверх песка туда, где, переливаясь мерцанием, синело море. Душу саднила мысль: кем он будет, вновь оказавшись в Афинах? Нет, не стратегом, который спас их всех. А снова неизвестным, популярным не более, чем был прежде. А уж без Сократа город, родной ему по рождению, и вовсе переставал быть его домом.
– Прошу тебя, Хрисоф, выбирайте тщательно. Наверняка это единственная возможность, когда нам дано что-либо сделать. Мы все эллины, друг мой. И только нам уготовано все это решить.
Здесь, на этом месте, они оставались три дня. Три дня на горизонте длинной яркой лентой синело море, а Ксенофонт ждал, пока будет вынесено решение. На все вопросы, которые ему задавались, он отвечал без утайки, со всей возможной честностью. В конце концов с ответом к нему прислали самого Хрисофа. Видя близящуюся фигуру спартанца, Ксенофонт несказанно волновался, не зная, какого исхода ожидать.
Тело было до звонкости легким и нервным, а ноги все в иголках, как будто не его. Хрисоф, приблизившись, возложил длань на плечо афинянину, благополучно приведшему их сюда через преисподнюю враждебной державы.
– Прости меня, Ксенофонт, – сказал он с доброй, от сердца идущей печалью. – Мы просто хотим по домам.
В подреберье кольнуло остро, как от ножа, от внезапной боли на глаза навернулись слезы. Ксенофонт склонил голову и сухо прокашлялся, ловя себя на том, что дрожит.
– Разумеется, я… Хорошо, друг мой. Вы там поделите меж собой серебро и золото. Должно хватить на всех, во всяком случае, люди не будут голодать, пока не обустроятся.
– Разве ты будешь не с нами? – спросил Хрисоф.
Его глаза были темны от горя, а Ксенофонт понял, что это их последняя встреча. Он покачал головой.
– Нет, наверное. Я унаследовал немного земли на Пелопоннесе, недалеко от Спарты. Там есть управляющий, который для меня разводил лошадей. После такого долгого моего отсутствия он наверняка считает там себя хозяином… Нет, Хрисоф, я не останусь. Прощаться я, извини, не умею. До места доберусь сам. Возможно, со временем ты меня там найдешь и принесешь с собой фляжку вина. Я был бы рад.
Хрисоф взял его руку и крепко сжал.
– Вот тебе мое слово, стратег, – рыкнул он. – И моя благодарность. Мы с тобой еще увидимся, обещаю. Тогда и поднимем чашу за все, что у нас тут было. И за отсутствующих друзей.
– Мы это сделали, спартанец, – улыбнулся Ксенофонт сквозь горячие слезы. На этом прощание закончилось. Молча хлопнув Хрисофа по плечу, он налегке стал спускаться по холму в сторону моря.
Историческая справка
Заглавие книги Ксенофонта «Анабасис» (в серии «Penguin Classics» издана под названием «Персидский поход») переводится примерно как «Восхождение». Это история восстания царевича Кира против своего венценосного брата Артаксеркса. В ней повествуется о походе собранного Киром войска, о битве при Кунаксе, которую он проиграл, и об ужасной ситуации, в которой затем оказались греческие наемники, – вдали от дома, окруженные врагами, но настолько боеспособные, что уничтожить их было не так-то легко. События происходили спустя восемьдесят лет после Фермопил и около семидесяти до Александра Македонского.
Персия. В 490 году до н. э. царь Дарий вторгся в Грецию и был разбит при Марафоне. На этом он не успокоился и начал собирать войско для нового вторжения, но умер, и тогда дело отца продолжил его сын Ксеркс, нагрянувший в страну эллинов с суши и с моря. Он был тем самым властителем, против которого в Фермопилах встали спартанцы во главе с царем Леонидом. Персам тогда фактически удалось добраться до Афин и поджечь их, но афинский флот выиграл против них важное морское сражение, тем самым связав Ксерксу руки. Царь бежал домой, оставив воевать со спартанцами своего военачальника Мардония. Сильно уступая в численности, греки тем не менее разгромили врага, а Ксеркс в 465 году до н. э. был убит собственным телохранителем. Царем стал его сын Артаксеркс, которому хватило благоразумия оставить греков в покое и наслаждаться мирным царствованием до самой своей смерти (ок. 424 г. до н. э.).
У Артаксеркса было трое сыновей. На престол взошел старший, но уже через две недели оказался убит средним, а с ним, в свою очередь, расправился младший – Дарий II. У Дария сыновей было двое – Артаксеркс и Кир, с которых и начинается наше повествование.
Греция. Здесь господствовать над «тысячей городов» стала Спарта, одержав победу над Афинами и поставив там властвовать спартанский совет, известный как Тридцать тиранов. Молодой Ксенофонт был афинским аристократом, который спартанцев почитал больше, чем своих земляков-спорщиков, умевших превратить в диспут даже такую будничную тему, как выбор между ужином и посещением театра. Ксенофонт действительно был учеником Сократа, но, в отличие от его более именитого последователя Платона, интересовался не столько эфемерными идеями или мыслями о совершенствовании общества, сколько практическим применением философии. Ксенофонт был одним из тех афинян, кто пытался жить благой жизнью, опираясь на силу воли, хотел знать, как правильно жить. Спартанскую дисциплину и самопожертвование он считал достойными восхищения, а потому извечно разрывался между культурными полюсами двух греческих полисов.
О мерах расстояния. В ту далекую эпоху персы, как правило, использовали слово «парасанг», толкуя эту меру как единицу времени, однако в греческих текстах она ошибочно фигурировала и как мера дистанции. В современной трактовке это звучало бы как «в часе пути». Геродот приравнивал парасанг примерно к тридцати стадиям (5,6–6 км). В древности существовала еще и такая мера, как статмос – тоже довольно расплывчатая, но примерно равная длине дневного перехода, то есть 29–32 километрам. В своем пути на восток Кир, согласно хроникам, вел свое воинство маршем по 35–38 километров в день (около семи часов в дороге, включая остановки). Это темп, эквивалентный темпу римских легионов – неплохая ходимость под палящим зноем. Интересно сравнивать это с расстояниями, отмеченными Ксенофонтом, когда гоплитов сопровождали примкнувшие. Двадцать пять километров в день звучит более реалистично. Понятно, что войску нужно останавливаться у каждого водоема для пополнения запасов воды.
События в Киликии с царицей Эпиаксой – когда она привезла казну отрезанному от царского снабжения Киру, да еще и провела с ним ночь – эпизод прелюбопытный. Жаль, что у нас о нем нет дополнительных сведений, а Ксенофонт, получается, их единственный источник. По его описанию, царевич устроил для Эпиаксы потешный бой, в итоге которого персидская часть войска была обращена эллинами в бегство. Упоминается и более продолжительная встреча в Тарсе, где присутствовал муж Эпиаксы, царь Киликии Сиеннесий (Тарс более примечателен как место, где примерно через столетие родился Савл, ставший потом апостолом Павлом).
Трудность с подробными историческими хрониками состоит в том, что их невозможно вместить в канву романа. Ксенофонт, к примеру, мог тремя строками описать взятие холма; мне же на это потребовалась бы как минимум глава. Ради деталей, которые не вошли в мой роман, стоит прочитать «Анабасис»: труд Ксенофонта откроет многое любому читателю, интересующемуся, как мыслили и действовали древние греки. Это творение заслужило прожить две с лишним тысячи лет. Читая «Сокровенное сказание монголов»[43], я уяснил: одна фундаментальная книга может оказаться дверью в целый мир.
Численность воинов Кира Ксенофонт оценивает в сто тысяч, а силы Артаксеркса в 1,2 миллиона с двумя сотнями серпоносных колесниц и шеститысячной конницей. Теперь уже не узнать, насколько эти цифры правдивы, но я осмелился назвать число более скромное – около шестисот тысяч человек (хотя и оно настолько огромно, что орды Чингисхана в сравнении с ним кажутся чем-то несолидным). Войско персов возглавляли четверо военачальников: Аброком, Тиссаферн, Гобрий и Арбак. Кроме Тиссаферна, из них я никого описывать не стал, опасаясь запутать читателя излишним обилием незнакомых имен. Моя задача, в конце концов, рассказывать историю, а не вести летопись. Как говорил Э. Л. Доктороу[44]: «Историк расскажет вам, что происходило. Романист – как оно ощущалось». Моим намерением, безусловно, было сделать и то, и это.
Насчет воинского мятежа, успешно погашенного Клеархом, Ксенофонт писал весьма подробно. Волнение вспыхнуло примерно тогда, когда колонна на марше обнаружила, с кем ей на самом деле предстоит столкнуться, – тема, обычно известная военачальникам, но не простым солдатам. Клеарх перед ними прослезился и проявил недюжинный актерский талант. Он заявил, что они вынудили его изменить царевичу, но он их все равно не бросит.
В исторической прозе писателю свойственно искать психологический подтекст, поэтому посылка архонтом гонца к Киру с призывом не беспокоиться звучит как намек на истинно дружеское чувство. Спартанец спорил и убеждал воинов вернуться на сторону царевича, взывая к их чувствам и долгу, а под конец к тому же посулил каждому половинную надбавку, что и решило дело.
Битва при Кунаксе известна по единственному источнику – описанию Ксенофонта, ее очевидца. Изложение событий включает и его упоминание о себе самом в третьем лице, где он обменивается несколькими фразами с царевичем Киром перед началом битвы. Мы не можем знать, имела ли та сцена место в действительности или же это просто был прием, чтобы ввести себя в канву повествования.
Царевич Кир послал вперед греков, но они увязли в людской массе, с которой столкнулись. Тиссаферн убедил царя Артаксеркса собрать неисчислимое войско – так что, возможно, замысел Кира уже изначально был обречен. Трудно сказать. Безусловно, царевичам или царям всегда выпадает шанс остановить на лету стрелу. Возможно, главное чудо биографий вождей, лично принимавших участие в битвах – вроде Цезаря и Чингисхана, – состоит в том, что их всякий раз успешно выносило из стольких стычек со смертью.
Кир полагал, что сражение можно выиграть одним ударом. Со своей личной охраной он поскакал наперерез близящемуся войску – то, что теперь может показаться полной дичью. Он добрался до своего брата и даже смог ранить его, но сам оказался поражен брошенным копьем. Заманчиво полагать, что это была прекрасная, до срока оборвавшаяся жизнь; один из тех моментов в истории, когда династия могла достичь нового величия, но эта попытка досадно сорвалась. Прошло не так уж много лет, прежде чем гробницы Ахеменидов разграбило войско Александра Македонского. Быть может, к царству Кира завоеватель отнесся бы с бо́льшим уважением.
Ксенофонт описал, как голова царевича была вздета на копье и напоказ провезена в доказательство того, что он мертв. Тем, что за этим последовало, лишний раз демонстрируются огромные размеры поля боя. Царь Артаксеркс довольно долго разъезжал со своим жутким трофеем. Между тем Клеарх и греки все еще не знали, что Кир пал. Они продолжали прорубаться сквозь противника и даже думали, что победили. Но постепенно в обе стороны проникла весть об истинном положении дел – и греки внезапно поняли, что попали в непоправимую беду. Армию персов, воевавших за царевича Кира, отвел возглавлявший ее Арией. В сущности, это была разумная попытка остаться в живых, которая, однако, оставила десять тысяч греческих союзников полностью открытыми и уязвимыми для удара. Лишь небывалая стойкость, мужество и отточенное мастерство этих воинов сохранили им жизнь. Напоминая спартанцев царя Леонида при Фермопилах, они смогли пройти через вражеские формирования невредимыми. Персы просто не шли с ними ни в какое сравнение ни в тактике, ни в вооружении, ни в дисциплине. Все это приводило к фантастическим ситуациям, когда греки, будучи в вопиющем меньшинстве, тем не менее успешно пробивались и шли, куда им заблагорассудится.
Вторая часть книги начинается с экстраординарной ситуации. Греки собрались у себя в лагере, составляя в совокупности десять тысяч пехотинцев и столько же обозного люда. От родины их отделяло свыше полутора тысяч километров, и все это без всякой поддержки, пищи и воды. Я выпустил из повествования спор, когда персы приказали грекам сложить оружие. Те в ответ сказали, что они либо союзники, и в таком случае они более ценны с оружием, либо враги, и тогда оружие им еще нужней. В любом случае они бы его не сложили. Это всего лишь один пример греческой логики и упрямства – характерной черты их общества тех времен. Но я включил диалог, где грекам сказали, что их движение будет означать войну, а если они будут оставаться на месте, то перемирие. В ответ они повторили условия таким образом, что они прозвучали угрозой. Доблесть этих отборных воинов так и сверкает сквозь толщу двадцати пяти веков.
Последний месяц Клеарха перед его гибелью в возрасте около пятидесяти лет я решил ужать. Переговоры, которые он в те дни вел с Тиссаферном, шли трудно и медлительно, иногда с многодневными простоями. Кое-кто из греков уговаривал Клеарха совершить прорыв, но архонт отказывался. Он остро осознавал, что у него нет конницы, на которую можно было бы опереться – а у персидского царя огромное количество всадников, да еще и колесницы; иными словами, сила, с которой не совладать.
Вероломство Тиссаферна я описал как скоротечный акт, хотя в действительности после Кунаксы он блуждал вслед за греками еще много дней, позволяя им заходить в селения и брать себе пищу – но не рабов. Однажды греки даже прошли мимо части персидского войска, держащего путь к полю уже состоявшегося сражения. Между тем взаимная подозрительность у обеих сторон все возрастала. Все это время Клеарх проявлял себя как замечательный лидер людей, что за ним следовали. Буду рад, если мне удалось здесь передать хотя бы частицу той духовной силы, которую он источал.
И вот Тиссаферн уговорил Клеарха разделить совместную трапезу, взяв с собой пятерых стратегов, два десятка лохагов и пару сотен солдат, чтобы отнести затем в лагерь дары в виде провизии. Внутри гостевого шатра все они оказались схвачены и убиты. Вырваться удалось лишь одному раненому, который сумел добраться до лагеря и раскрыть предательство. Греки схватились за оружие, но им навстречу прибыл Арией с конным отрядом, потребовав сдаться. В ночи нависла угроза кровопролития. При этом греки оказались фактически обезглавлены – кто же их теперь поведет?
Имя спартанца, который помог Ксенофонту в поистине судьбоносный момент, я поменял. Он значится как Хирисоф, но мне показалось, Хрисоф благозвучней. Выбор, возможно, и тривиальный, но сознательный. Человеком он был неординарным, судя по тому, что именно он руководил толпой, признавшей над собой лидерство Ксенофонта. Возможно, что общим командованием занимался как раз Хирисоф, но Ксенофонт формулировал ключевые решения. Именно ему принадлежала идея создать квадрат внутри квадрата. Именно он усматривал в нехватке конницы главную тактическую уязвимость. В общем, Ксенофонт был человеком, знавшим и умевшим осуществлять руководство во время кризиса. В результате с убийством греческих военачальников не был уничтожен боевой дух греков. Заслышав весть о гибели Клеарха и тех, кто был с ним, люди избрали себе новых лидеров, а персам перестали доверять окончательно.
История о том, как Ксенофонт взбежал со своими людьми на гору, чтобы избежать засады, взята из первоисточника. В то время как стратег призывал воинов героическими словами, некто по имени Сотерид сказал: «Мы не в одинаковых условиях, Ксенофонт, ведь ты скачешь на коне, а мне очень тяжело нести свой щит»[45]. Тогда Ксенофонт в ярости выхватил щит у него и побежал с ним, а воины забросали отступника камнями[46].
От персидских преследователей измотанные боями греки избавились лишь тогда, когда вошли в горы кардухов. История об огромном персидском войске, якобы пропавшем в тех горах без следа, исходит от самого Ксенофонта, но проверить это теперь уже не представляется возможным. В истории это вообще первое упоминание о тамошних племенах. Вполне вероятно, что кардухи являются предками современных курдов северного Ирака, Ирана и Сирии. Ксенофонт живописует уклад их деревень, животноводства и земледелия, а также суровые нравы воинственных горцев, хозяйничавших в тех местах. Переход через горы занял семь долгих дней. Ксенофонт повествует об упорных боях за каждый кряж и перевал, а также о том, с какой стойкостью и смекалкой греки преодолевали эти препятствия.
Бой за речную переправу стал преддверием мучительного зимнего странствия через западную Армению. Грекам пришлось пережить и затяжные вьюги, и обморожения конечностей, и снежную слепоту. Люди гибли каждую ночь и шли на последнем издыхании, одолеваемые не врагом, а куда более жестоким, вездесущим и неотступным холодом, до этого им неведомым. Совет Ксенофонта бороться со снежной слепотой, держа перед глазами что-нибудь черное, просто гениален. Ксенофонт описывает воинов, которые садились в снег и не желали двигаться дальше, и их оставляли умирать. Некоторые просили, чтобы их убили. Только угроза идущей сзади вражеской силы побуждала их к действию.
В день им приходилось преодолевать по двадцать пять километров, а всего их оказалось более трехсот. И вот тут следует едва ли не самая знаменитая сцена во всем творении Ксенофонта: посланные вперед разведчики вдруг видят морское побережье, вдоль которого, насколько им известно, расположены греческие поселения. И эти люди исступленно кричат: «Тхалатта! Тхалатта!» («Море! Море!»). В этом слове ударение стоит на первом слоге. Хотя Ксенофонт записал его по-афински – «тхалатта», – я предпочел поставить другой, более известный диалектный вариант: «Таласса»[47]. Греки плясали и обнимали друг друга со слезами на глазах. Им наконец открылась дорога домой.
В хронике Ксенофонта путешествие здесь не заканчивается, а продолжается по землям причерноморского племени макронов, где эллины сталкиваются с местными воинами. После этого они доходят до Трапезунда – греческого города, где с месяц отдыхают и устраивают состязания по борьбе, кулачному бою и бегу на короткую и длинную дистанции.
В Трапезунде греки сели на боевые корабли и занялись пиратским промыслом, рассчитывая покинуть побережье с максимальной добычей. Доля Ксенофонта позволила ему купить имение на дороге из Спарты в Олимпию[48], где он и написал бо́льшую часть этой истории.
То, что было после встречи греков с морем, я намеренно опустил, так как повествование пошло бы по нисходящей. Однако идею Ксенофонта об основании города оставил – как и тот факт, что после всего совместно пережитого греки отклонили его предложение. Вполне правдивое завершение такого необычайного события – героического исхода десяти тысяч эллинов из Персии.
