Дело закрыто бесплатное чтение
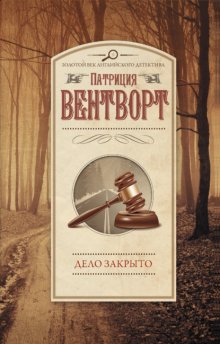
Patricia Wentworth
The Case Is Closed
© Patricia Wentworth, 1937
© Перевод. Е. Федотова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Глава 1
Сидя в вагоне набирающего скорость поезда, Хилари Кэрью с горечью думала о Генри. Это он виноват, что она села не в тот поезд, – здесь нет никаких сомнений. Ведь если бы ей не пришлось наблюдать, как он гордо вышагивает по платформе со столь свойственным ему видом человека, заплатившего за интересующую его вещь и желающего немедленно убедиться в том, что ее качество соответствует его ожиданиям, она не утратила бы самообладания и не спряталась бы в первый попавшийся вагон. Вагон был третьего класса в составе, подошедшем к платформе, находящейся справа. Теперь стало очевидно: ей нужно было сесть в поезд, стоявший с другой стороны перрона. Вместо пригородной электрички, следующей в Уинсли-гроув со всеми остановками и прибывающей на станцию Миртл-терис-20 как раз в то время, когда тетушка Эммелин садится пить чай с пирожными, она очутилась в междугороднем поезде, который продолжал набирать скорость и, казалось, собирался следовать без остановок еще несколько часов.
Хилари посмотрела в окно и увидела лицо Генри. Стоял ужасный, сырой и туманный, день. Генри тоже уставился на нее из тумана. Нет, было бы неправильно считать, что он уставился на нее, так как на это способен лишь человек, утративший самообладание, а о Генри такого не скажешь. Он смотрел так, будто видел перед собой ползущего черного таракана или жутко надоедливого ребенка. Разумеется, гораздо лучше, если бы он вышел из себя, но уж таков Генри. Сама Хилари обладала совершенно другим нравом, благодаря которому сразу же оказывалась в самом центре событий. Она покраснела от злости, вспомнив о ссоре – незабываемой ссоре и разрыве помолвки – и об отвратительном спокойствии, с которым вел себя Генри. Он смотрел на нее точно так же, как и сейчас на станции. Самодовольство – вот каково основное качество характера Генри, чертовское самодовольство. Если бы он просто попросил ее отказаться от прогулок с Бэзилом, она бы, скорее всего, согласилась. Но он приказал ей сделать это, попутно сообщив о различных подробностях жизни Бэзила, которые его совершенно не касались, и это, разумеется, вывело ее из себя.
Но по-настоящему ее приводила в ярость мысль о том, что Генри оказался прав: после ссоры, когда она все же начала встречаться с Бэзилом, она это поняла, но, к счастью, их отношения не зашли слишком далеко. Правда, к тому времени она уже высказала Генри все, что думала о нем и его собственнических замашках, а в завершение швырнула ему в лицо обручальное кольцо. Хуже не придумаешь.
Если бы в тот момент он рассердился, они могли бы еще уладить ссору, попытавшись понять друг друга и помирившись в порыве взаимной нежности. Но он сохранял спокойствие, ледяное спокойствие, когда она сообщила ему о разрыве помолвки! Неожиданно на ум Хилари пришли неприличные строки. В ней жил настоящий бесенок, который всегда был готов сочинять бессмысленные стишки в самые неподходящие моменты. Из-за него она оказалась в ужасно неловкой ситуации, продекламировав в шестилетнем возрасте четверостишие, посвященное ныне покойной тетушке Арабелле:
- У тетушки Арабеллы очень длинный нос,
- Но никто не знает,
- Почему он рос,
- Став длинным и острым, как шип алых роз.
Она не слишком-то любила тетушку Арабеллу, а после этих стихов и тетушка Арабелла перестала питать нежные чувства к своей племяннице.
Теперь бесенок нашептывал ей такие строки:
- Если бы Генри умел сердиться,
- Вам бы совсем не пришлось расходиться.
И это была правда.
Помолвка была разорвана месяц назад.
Очень трудно продолжать сердиться по прошествии целого месяца. Хилари легко могла вспылить, но не была мстительной и злопамятной. Уже спустя две недели она задумалась о том, что Генри пора бы написать ей письмо с извинениями. Через три недели она стала сама ходить за почтой. А в последние несколько дней мысли о холодном и безрадостном будущем без Генри начали терзать ее душу. Неудивительно, что любая мелочь сейчас могла вывести ее из себя.
А затем воображение сыграло с ней поистине злую шутку. Глаза Генри, смотревшие на нее из тумана и проникавшие в душу, утратили презрительное и высокомерное выражение. Они изменились, засветившись радостью и любовью. Но они никогда больше не будут так смотреть на нее, никогда. О, Генри! Она почувствовала, будто кто-то вонзил ей нож в сердце. Такая сильная боль. Только что она сердилась на Генри и вот теперь чувствовала себя слабой и беззащитной. Гнев исчез, оставив место холодному неприятному осадку в душе. В глазах предательски защипало. «Ты ведь не собираешься расплакаться в вагоне поезда?»
Она закрыла глаза и отвернулась от окна. Лучше туда больше не смотреть. Туман способен на самые подлые шутки, он может напомнить о твоем одиночестве, о том, чего вовсе не следует вспоминать. Нельзя поддаваться на эти дурацкие уловки, прежде всего нужно выяснить, куда направляется этот ужасный поезд и когда будет следующая остановка.
Кроме нее, в купе находились еще два человека. Они занимали внутренние угловые сиденья и интересовали ее не больше, чем пара дорожных чемоданов. Обернувшись, она увидела, что один из пассажиров, мужчина, открыл раздвижную дверь, чтобы выйти в коридор. Как только он исчез из виду, сидевшая напротив него женщина сразу же пересела к ней на скамью и, немного наклонившись вперед, стала внимательно рассматривать Хилари. Это была пожилая женщина, и Хилари показалось, что у нее весьма болезненный вид. Она была в черной фетровой шляпе и сером пальто с темным меховым воротником – аккуратная неприметная одежда почтенной женщины, переставшей беспокоиться о своей внешности, но сохранившей стремление к опрятности благодаря привычке и воспитанию. Под темными полями шляпы ее волосы, лицо и глаза имели одинаковый сероватый оттенок.
Хилари сказала:
– Я села не в тот поезд. Это звучит довольно глупо, но не могли бы вы сообщить мне, куда он идет, – я не имею об этом ни малейшего представления.
– Ледлингтон, – ответила женщина, – первая остановка Ледлингтон. – А затем добавила прерывающимся голосом: – О, мисс, я сразу же вас узнала. Слава богу, он не догадался! Но он вернется с минуты на минуту, он ни за что бы не ушел, если бы узнал вас. О, мисс!
Хилари ощутила нечто среднее между жалостью и отвращением. Она никогда раньше не встречала эту женщину. Или встречала? Она не знала. Она подумала, что, возможно, видела ее, но никак не могла вспомнить, где именно. Нет, это ерунда, она не знакома с этой женщиной; должно быть, эта несчастная сошла с ума. Ей захотелось, чтобы мужчина поскорее вернулся; ведь если перед ней действительно сумасшедшая, то Хилари оказалась отрезана от выхода, так как женщина сидела между ней и коридором.
– Боюсь… – начала она тихим вежливым голосом, однако женщина сразу же прервала ее, вновь подавшись вперед:
– О, мисс, вы меня не знаете, я заметила, как вы смотрели на меня. Но я узнала вас, как только вы вошли в купе, и я молилась о том, чтобы мне выпал случай поговорить с вами.
Кисти ее рук в черных лайковых перчатках были сжаты. Кожа туго обтягивала суставы, но кончики необычайно длинных пальцев оставались разогнуты. Пальцы нервно подергивались, сгибаясь и разгибаясь. Их непрестанное движение вызывало у Хилари настоящий ужас. Ей казалось, все тело женщины напряжено от боли.
Она тихо произнесла:
– Пожалуйста…
Голос женщины стал тихим и безучастным. Покашливая и запинаясь от волнения, она настойчиво продолжила:
– Я видела вас в суде, когда слушалось дело. Вы сопровождали миссис Грей. Я спросила, кто вы, и мне сказали, что вы ее двоюродная сестра, мисс Кэрью, а затем вспомнила: я уже слышала о вас, мисс Хилари Кэрью.
Страх прошел, но вместо него Хилари ощутила волну ярости. Неужели не достаточно испытаний выпало на ее долю во время кошмарного судебного процесса над Джеффри Греем? Эта женщина была одной из зевак, привлеченных его страданиями и мучениями Мэрион. И эта отвратительная женщина решила, что напоминание об их предыдущей встрече поможет ей удовлетворить любопытство, вынюхивая и задавая нескромные вопросы. Да как она смеет?
Она даже не подозревала, как сильно побледнела и как засверкали ее глаза, но женщина вдруг разжала свои скрюченные пальцы и умоляюще подняла руки вверх, будто стремясь остановить взрыв негодования.
– О, мисс, не нужно! О, ради бога, не смотрите на меня так!
Хилари встала. Ей нужно перейти в другое купе. Если эта женщина и не сумасшедшая, то наверняка истеричка. Ей совершенно не хотелось проходить мимо нее, но это в любом случае гораздо лучше, чем стать участницей неприятной сцены.
Но как только она взялась за ручку раздвижной двери, женщина цепко схватила ее за юбку.
– О, мисс, я всего лишь хотела спросить вас о миссис Грей. Я подумала, что вы знаете.
Хилари вновь посмотрела на женщину. Взгляд прозрачных бесцветных глаз был устремлен ей в лицо. Рука, державшая подол юбки, тряслась так, что Хилари чувствовала эту дрожь. Она испытывала непреодолимое желание убежать. Но здесь скрывалось нечто большее, чем просто любопытство. Хотя ей было всего двадцать два, она знала, как выглядят люди, попавшие в беду, она поняла это во время суда над Джеффри Греем. Эта женщина была в беде. Опустив руку, она спросила:
– Что вы хотите знать о миссис Грей?
Моментально разжав пальцы, женщина опять села на скамью. Сделав над собой невероятное усилие, она постаралась придать своему голосу более спокойное, будничное выражение.
– Мне лишь хотелось узнать, как она. Как она держится. Не ради любопытства, мисс. Наверняка она помнит меня, а я все время думаю о ней. О господи, как часто по ночам я не могу уснуть при мысли о ней!
Чувство самоконтроля опять было утеряно. Дрожа и всхлипывая, она снова наклонилась вперед.
– О, мисс, если бы вы только знали!
Хилари опустилась на сиденье. Если эта бедняжка хотела узнать о том, как дела у Мэрион, она не видела причины отказать ей в этой просьбе. У этой женщины такой болезненный вид. Несомненно, она страдает от сильного душевного расстройства.
Очень мягко она произнесла:
– Простите, что я рассердилась. Мне показалось, вы одна из тех, кто любит поглазеть на чужие несчастья, но если вы знали Мэрион, это совершенно меняет дело. Она… она держалась чертовски храбро.
– Мне было нелегко видеть ее такой, поверьте, мисс. В последний день мне стало совсем тяжело, по-настоящему тяжело. И я попыталась встретиться с ней. Мисс, я говорю чистую правду, я действительно хотела с ней увидеться. Я ускользнула от него, чтобы найти возможность встретиться с ней где-нибудь поблизости, там, где она находилась, но мне не разрешили, мне сказали, что она никого не хочет видеть, она отдыхает.
Внезапно она замолчала, застыв на мгновение с полуоткрытым ртом и почти не дыша. Затем произнесла шепотом, едва шевеля губами: «Если бы она только встретилась со мной». Она подняла свои прозрачные испуганные глаза на Хилари и снова быстро залепетала, дрожа от ужаса:
– Мы не встретились. Отдыхает – вот что мне сказали. А потом он вернулся, и у меня больше не было такой возможности, он об этом позаботился.
Хилари не поняла ни слова из сказанного, но у нее вдруг возникло ощущение – она не случайно оказалась в этом поезде. С той же мягкостью в голосе, что и прежде, она спросила:
– Вы скажете мне свое имя? Миссис Грей будет рада узнать, что вы осведомлялись о ее самочувствии.
Одной рукой в черной перчатке женщина схватилась за голову.
– Я забыла, вы меня не знаете. Это потому, что я позволила себе увлечься. Мне не следовало так вести себя, но когда я вас увидела, то не смогла удержаться. Я всегда питала симпатию к миссис Грей, и мне давно хотелось узнать, как у нее дела, и о ребенке тоже. С ним все в порядке, не так ли?
Хилари опустила голову. Бедная Мэрион и ее так и не выживший ребенок.
– Нет, – ответила она. – Она потеряла ребенка. Роды начались слишком рано, и ребенок погиб.
Руки в перчатках снова напряженно сомкнулись.
– Я не знала. Рядом не было никого, кто мог бы мне сказать.
– Вы так и не сказали своего имени.
– Нет, – ответила она и быстро вздохнула. – Ах, он сейчас вернется! О, мисс… мистер Джеффри… есть ли от него какие-нибудь известия?
– С ним все в порядке, – ответила Хилари. – Он пишет нам, когда у него появляется такая возможность. Она навещала его сегодня. Я узнаю подробности после возвращения домой.
Отвечая на этот вопрос, Хилари отвела взгляд и прекратила свои попытки вспомнить имя женщины. Ее глаза заблестели, а сердце наполнилось такой болью, что в нем не осталось места для других вопросов и переживаний. Джеффри получил пожизненный срок, и сегодня Мэрион снова пришлось пройти через эту ужасную процедуру посещения, которая раз за разом лишает ее остатков силы и мужества… Она этого не вынесет. Джеффри, всегда такой жизнерадостный, и Мэрион, которая любит его, но по-прежнему вынуждена жить среди тех, кто считает его убийцей, которого нужно запрятать подальше от людей… Что толку говорить себе: «Я этого не вынесу», – если все продолжается и будет продолжаться, и здесь уже ничего нельзя сделать, как бы тебе этого ни хотелось?
Открыв раздвижную дверь, из коридора вошел мужчина. Хилари поднялась, и он посторонился, чтобы дать ей выйти. Она прошла как можно дальше по коридору и встала у окна, молча глядя на проносившиеся мимо деревья, поля и изгороди.
Глава 2
– Ты выглядишь ужасно уставшей, – сказала Хилари.
– Неужели? – ответила Мэрион Грей тоном, в котором сквозило безразличие.
– Да-да, и замерзшей. Суп сегодня очень вкусный, честное слово. Он был похож на желе, пока я не разогрела его, но если ты не съешь его прямо сейчас, он быстро остынет, а теплая еда становится отвратительной на вкус.
Голос Хилари был мягким, но настойчивым.
Дрожа, Мэрион сделала один или два глотка, а затем отложила ложку. Она как будто на мгновение очнулась от своих раздумий, а потом погрузилась в них снова. Мэрион не успела раздеться – на ней по-прежнему было коричневое твидовое пальто, составлявшее часть ее приданого, и коричневый шерстяной берет, связанный тетушкой Эммелин. Несмотря на довольно потрепанный вид, пальто не портило впечатление от высокой, изящной фигуры Мэрион. Она была очень, даже слишком худой, но если бы от нее остались только кожа и кости, она все равно не утратила бы своей привлекательности и изящества. Темные, влажные от тумана волосы, сдвинутый назад берет и взгляд серых глаз, затянутых дымкой печали и усталости, придавали ее облику исключительность, подчеркивавшую ее красоту.
– Доедай суп, дорогая, – сказала Хилари.
Мэрион сделала еще несколько глотков. Суп согрел ее. Закончив есть, она откинулась назад. Хилари была добрым человеком, в ожидании сестры она растопила камин, приготовила горячий суп и омлет. Мэрион съела омлет, так как надо поддерживать силы, и, кроме того, Хилари очень старалась, поэтому огорчать ее отказом не хотелось.
– Вода нагрелась, дорогая. Ты можешь принять горячую ванну и поспать, если хочешь.
– Чуть позже, – ответила Мэрион. Забравшись в кресло с ситцевой обивкой, она молча смотрела на крошечные, едва мигающие языки пламени.
Хилари мыла посуду, суетясь в гостиной и в маленькой кухоньке. Яркие ситцевые занавески закрывали окна. На каминной полке поблескивал ряд китайских фарфоровых птичек – голубая, зеленая, желтая, коричневая и розовая с большим клювом, которую Джефф называл Софи. У них у всех были имена. Джефф всегда давал имя каждой вещи, которую покупал. Его последняя машина называлась Самюэль, а среди птичек были Октавий, Леонора, Эрменгард, София и Эразм.
Хилари вернулась в комнату с подносом.
– Выпьешь чаю сейчас или позже, когда пойдешь спать?
Мэрион вздрогнула, будто очнувшись.
– Позже. Ты столько для меня делаешь.
Хилари облегченно вздохнула. Это значит, Мэрион приходит в себя. Очень трудно бывало достучаться до нее, пока она находилась в состоянии глубокого горя и отчаяния. Можно было только ходить вокруг на цыпочках, ободряя ее, готовя еду и оказывая всевозможную поддержку. Но если ей станет лучше, она сможет разговаривать, а это пойдет ей только на пользу. Щеки Хилари немного порозовели, а в глазах заблестели искры надежды. Она принадлежала к тем людям, чье выражение лица постоянно менялось. Еще минуту назад она выглядела бледной и несчастной замухрышкой с глазами одинокого ребенка, который изо всех сил старается быть храбрым и хорошо себя вести. Она ответила:
– Мне нравится этим заниматься, ведь ты это знаешь.
Мэрион улыбнулась.
– А как ты сама? Навещала тетушку Эммелин?
– Нет, не смогла. Я уже поехала, но так и не добралась до нее. Дорогая, я такая дурочка. Села не в тот поезд, а это оказался экспресс, и мне удалось выйти лишь в Ледлингтоне. А потом я потратила несколько часов, чтобы вернуться, и не рискнула снова отправиться в Уинсли-гроув, боясь, что не успею домой к твоему возвращению.
– Милое дитя, – произнесла Мэрион, снова погрузившись в свои мысли. И добавила: – Тетушка Эммелин будет сердиться.
– Я позвоню ей.
Хилари уселась на коврик перед камином, обхватив руками колени. У нее были короткие каштановые волосы с непослушными кудряшками. Ее фигура выглядела по-детски легкой и худощавой. Руки, обнимавшие колени, – маленькие, но сильные и умелые. Алые губы – изогнутой формы и слегка припухлые. Смуглая кожа, маленький, как у ребенка, нос и яркие глаза, цвет которых сложно определить. Когда она казалась взволнованной, счастливой или рассерженной, смуглая кожа приобретала розоватый оттенок. У нее был красивый голос и изящный поворот головы. Милый ребенок с отзывчивым сердцем и горячим нравом. Она бы позволила убить себя ради Мэрион Грей, а к Джеффри относилась как к брату, хотя у нее никогда не было братьев. Она решила отвлечь Мэрион от грустных мыслей с помощью беседы.
– В поезде со мной случилась неприятная история. Сначала я подумала, что столкнулась с сумасшедшей истеричкой, но потом выяснилось – она твоя знакомая, дорогая.
Мэрион улыбнулась, и Хилари возликовала. Ей становится лучше, на самом деле лучше. Она продолжила рассказ о своем удивительном приключении, стараясь сделать его как можно более захватывающим.
– Знаешь, я ведь оказалась в этом поезде, потому что столкнулась с Генри…
– Ах, – сказала Мэрион.
Хилари энергично кивнула.
– Он выглядел так, будто в нем одиннадцать футов росту и он слишком занят, чтобы снизойти до беседы. Уверена, он недавно виделся со своей матерью, и она говорила с ним о том, какой угрозы ему удалось избежать и как она была права, с самого начала утверждая, что я неподходящая для него партия и никогда не смогла бы стать для него такой же женой, какой она была для его отца.
Мэрион неодобрительно покачала головой. Хилари изменила выражение лица и поспешно продолжила:
– При мысли о том, что миссис Каннингем могла бы стать моей свекровью, у меня мурашки бегут по спине. Слава богу, я свободна! Уверена, это мой ангел-хранитель устроил нашу ссору, чтобы спасти меня.
Мэрион вновь покачала головой:
– Не думаю, будто Генри хотел, чтобы ты стала похожа на его мать.
Хилари сильно покраснела и вздернула подбородок.
– Не хотел? – ответила она. – Что значит «не хотел»? Между нами совершенно ничего нет, все кончено, и мне абсолютно безразлично, чего он хотел или не хотел. А ты сбиваешь меня с толку и не даешь рассказать о том забавном приключении, которое случилось со мной в поезде. Единственная причина, по которой я вообще упомянула о Генри, – это мой открытый и непосредственный характер, благодаря которому я решила объяснить тебе, почему ошиблась поездом и не заметила этого, пока он не отошел от перрона. А потом выяснилось, что поезд, в который я села, – междугородний, и я почувствовала себя совершеннейшей дурочкой. Но когда я спросила женщину, сидевшую в углу купе, куда он направляется, она сначала назвала Ледлингтон, а потом, всплеснув руками, сказала, что узнала меня в ту самую минуту, как я вошла в купе.
– Кто же она?
– Дорогая, я не знаю. Но возможно, ты догадаешься, поскольку она спрашивала, как у тебя дела. Я сначала решила, что ею движет простое любопытство, так как она сказала, что видела меня с тобой в суде – наверно, в тот день, когда у тетушки Эммелин сдали нервы; это был единственный раз, когда я там оказалась. Разумеется, сначала я вспылила и встала, чтобы выйти и пересесть в другое купе, – такие негодяи выводят меня из себя, – но потом поняла: ею руководили совсем другие чувства.
– Как? – Голос Мэрион звучал напряженно.
– Она схватила меня за юбку, и я почувствовала, как она дрожит. Она выглядела несчастной и отчаявшейся. В ней не было ни капли злорадства. Она сказала, что лишь хотела узнать, как ты поживаешь, поскольку ты ей всегда нравилась, ну и тому подобное.
Хилари довольно поздно поняла, что было бы лучше в своем рассказе сосредоточиться на встрече с Генри. Вот уже во второй раз ей удалось добиться желаемого результата. Она не рассчитывала рассказом о случившемся вывести Мэрион из состояния апатии, но теперь ей пришлось продолжить, так как Мэрион во что бы то ни стало захотела выяснить имя той женщины.
– Не знаю, дорогая; я же тебе сказала, что незнакома с ней. Мне действительно показалось, что она слегка не в себе, ее речь была весьма необычной. Ее сопровождал мужчина. Он вышел в коридор почти сразу же, как я вошла в купе, после встречи с Генри, ты понимаешь. И она очень странно о нем отзывалась, благодарила Бога, что он ушел, так как ей нужно было обязательно поговорить со мной. Она очень волновалась, сжимала руки и хваталась за воротник, будто ей становилось тяжело дышать.
– Как она выглядела? – негромко спросила Мэрион. Она положила голову на руки, и ее длинные пальцы закрыли глаза.
– Ну, она похожа на миссис Тидмарш. Помнишь, она приходит к тетушке Эммелин, когда у Элизы выходной. Не совсем, конечно, но какое-то сходство между ними есть: этот болезненный вид и внешняя респектабельность. И она все время называла меня «мисс». Я знаю, миссис Тидмарш употребляет это обращение дважды в каждом предложении, и мне кажется, эта бедняжка делает точно так же.
– Средних лет?
– Примерно. Помнишь миссис Тидмарш, ее невозможно представить ребенком или молодой девушкой. Она такая же, как и ее одежда: никогда не снашивается, – поэтому сложно вообразить, что когда-то она была новой.
– Я думаю, это не важно, – сказала Мэрион. Помолчав, она добавила: – И что же она хотела узнать?
– О тебе. Как ты. Все ли у тебя в порядке. А… а еще про Джеффа. – Хилари остановилась. – Мэрион, она сообщила мне одну очень странную вещь. Не знаю, должна ли я…
– Да, расскажи мне.
Хилари взглянула на нее с сомнением. Худшее, что бывает, когда садишься не в тот поезд, – это никогда не знаешь, куда он тебя привезет.
– Знаешь, я думаю, она на самом деле слегка не в себе. Она говорила, что пыталась встретиться с тобой во время судебного процесса. Ей удалось ускользнуть от него, чтобы поговорить с тобой, но когда она пришла, ей не позволили войти. А потом она сказала что-то вроде: «Если бы я только встретилась с ней». Почти шепотом, я не расслышала толком, так как она была сильно взволнована и дрожала, но мне показалось именно это. Нет, вот как было. «Мне не удалось встретиться с ней», – а потом: «Если бы у меня получилось», – или что-то в этом роде. Она была очень возбуждена, поэтому я ни в чем не уверена.
Голос Хилари стал прерывистым и приглушенным. Происходило нечто странное. И это было связано с Мэрион, которая не двигалась и продолжала молчать. Она сидела, закрыв лицо руками, и исходившее от нее ощущение нереальности наполняло комнату.
Хилари терпела сколько могла. Наконец она разомкнула руки и положила их на колени Мэрион, и в этот самый момент та встала и подошла к окну. Там стоял дубовый сундук, заменявший диван, на нем были беспорядочно набросаны зеленые и голубые подушки. Скинув их на пол, Мэрион открыла сундук и вернулась, держа в руках фотоальбом. Не говоря ни слова, она села в кресло и стала перелистывать страницы.
Вскоре она нашла то, что искала, и протянула альбом Хилари, чтобы та взглянула. На одной из страниц был снимок, сделанный в саду. Розовая арка, клумба лилий с выгнутыми лепестками, чайный столик, люди пьют чай. Улыбающаяся Мэрион и пожилой мужчина с пышными усами.
Хилари никогда не встречалась с Джеймсом Эвертоном, но каждая черточка его лица была ей до боли знакома. Его фото печаталось во всех английских газетах год назад, когда Джеффри Грея арестовали за его убийство.
Джеффри не было на фотографии, так как он выступал в роли фотографа, и, конечно, именно ему так счастливо улыбалась Мэрион. Но там был еще один персонаж, женщина, наклонившаяся над чайным столиком с подносом пшеничных лепешек. Она смотрела в объектив фотоаппарата вместе с Мэрион, держа поднос в правой руке, и выглядела так, будто кто-то говорил с ней или окликнул ее по имени.
Задыхаясь от волнения, Хилари произнесла:
– Да, это она!
Глава 3
Наступила пауза. Хилари смотрела на фотографию, а Мэрион смотрела на Хилари с едва заметной горькой усмешкой.
– Это миссис Мерсер, – произнесла она, – экономка Джеймса.
Она снова взяла альбом и, не закрывая, положила себе на колени.
– Джеффри мог бы избежать приговора, если бы не она. Ее свидетельские показания оказались решающими. Знаешь, она плакала на протяжении всего допроса, и, конечно, это произвело сильное впечатление на присяжных. Если бы она выглядела так, будто ею руководит чувство мести или гнева, это не повредило бы Джеффу, но когда, рыдая, поклялась, что слышала его ссору с Джеймсом насчет завещания, она фактически вынесла ему приговор. Если и была хоть малейшая вероятность убедить присяжных в том, что он всего лишь нашел Джеймса мертвым, она уничтожила ее.
Голос Мэрион задрожал от волнения. Минуту спустя она с удивлением добавила:
– Она всегда мне казалась очень доброй женщиной. От нее я получила рецепт этих пшеничных лепешек. Я думала, что нравлюсь ей.
Хилари присела на корточки.
– Она и мне сказала, что ты всегда ей нравилась.
– Тогда почему она так поступила с нами? Почему? Я чувствовала себя обманутой дурочкой, пытаясь хоть на секунду вообразить причину, побудившую ее это сделать.
– Вот именно, почему? – сказала Хилари.
– Она лгала. Но почему она лгала? Она с симпатией относилась к Джеффу. Во время допроса она выглядела так, будто находилась под пыткой. Именно поэтому ее выступление произвело такое ужасающее впечатление. Но зачем она вообще свидетельствовала против него? Вот чего я не могу понять, вот какой вопрос мучает меня. Джеймс был уже мертв, когда туда пришел Джефф. Мы столько раз говорили об этом. Джеймс позвонил ему в восемь вечера. Мы закончили обедать, и он сразу же отправился к нему – ах, ты слышала это уже миллион раз, но главное, что это правда. Джеймс действительно звонил ему. И он действительно отправился в Патни, как и утверждал во время допроса. Он был там. Повесив трубку, он сказал: «Джеймс немедленно хочет меня видеть. Похоже, он сильно встревожен». Он поцеловал меня и сбежал вниз по лестнице. А когда добрался туда, Джеймс был уже мертв – лежал на письменном столе, а рядом с ним валялся пистолет. И Джефф поднял его. Ах, зачем он это сделал! Он сказал, что не осознавал происходящего, и понял все, только когда пистолет оказался в его руке. Он вошел со стороны сада и не видел никого, кроме Джеймса, а Джеймс был мертв, рядом лежал пистолет, и он поднял его. А затем в дверь постучал мистер Мерсер, но дверь оказалась заперта. Хилари, кто закрыл ее? Она была заперта изнутри, и ключ торчал в замке, но на ключе и на дверной ручке обнаружили только отпечатки пальцев Джеффа, поскольку он подошел и попытался открыть дверь, когда постучал мистер Мерсер. Он повернул ключ, чтобы впустить его, а там стояли мистер и миссис Мерсер, и мистер Мерсер воскликнул: «О господи, мистер Джефф! Что вы наделали!»
– Не надо, – произнесла Хилари. – Не нужно вновь переживать это, дорогая, это ничего не изменит.
– Ты думаешь, я бы сидела здесь и говорила все это, если бы могла сделать хоть что-нибудь еще? – Голос Мэрион звучал тихо и вымученно. – Мистер Мерсер сказал, что он ничего не слышал, кроме звука лопнувшей шины или выхлопа от мотоцикла, как ему показалось, за минуту до случившегося. В буфетной он чистил хрусталь и серебро. И это подтвердилось: кругом были разложены чистящие средства, следы которых нашли у него на руках. А миссис Мерсер была наверху, готовила постель для Джеймса, и она сказала, что, когда проходила через гостиную, слышала, как в кабинете кто-то громко кричал. Она подошла к двери, чтобы послушать, так как испугалась, а потом поклялась, что это Джеффри ругался с Джеймсом. И она заявила, будто, услышав выстрел, закричала и побежала за мистером Мерсером.
Мэрион встала, и фотоальбом упал к ногам Хилари. Резким, но изящным движением Мэрион отодвинула назад кресло и начала ходить по комнате. Она так побледнела, что Хилари испугалась. Выражение усталости сменилось гримасой непрекращающейся боли.
– Я повторяла себе это снова, снова и снова. Я рассказывала это так часто, что могу сделать это и во сне, но ничего невозможно изменить. Ничто уже не поможет. Все было ясно уже в суде, простая формальность, всего лишь слова. Жизнь Джеффа загубили слезы и клятвы этой женщины и отсутствие какой-либо причины, мотива – иного мотива для убийства Джеймса. Только у Джеффа был мотив, если предположить, что он потерял голову и сделал это в припадке ярости, когда Джеймс сообщил ему о новом завещании, в котором Джефф не упоминался. Хилари, он не делал этого, не делал! Клянусь, что не делал! Они много раз говорили о его вспыльчивости, но я уверена: он не виноват! Джеймс воспитал его и считал своим наследником, он не имел права так поступать. Он не имел права приглашать его в свой офис и обещать сделать своим партнером, а потом как ни в чем не бывало отказаться от своих слов. Но Джефф и пальцем бы его не тронул, я в этом уверена. Он даже ударить его не смог бы, не то что застрелить.
Она замедлила шаг и остановилась у окна спиной к комнате, замолчав на мгновение. Потом добавила:
– Это невозможно. Разве только в кошмарном сне. Но этот кошмар длится уже очень долго, и я чувствую, что начинаю понемногу и сама верить в это.
– Нет! – сказала Хилари, всхлипнув.
Мэрион повернулась.
– Почему Джеймс уничтожил свое завещание и сделал новое? Почему он оставил все Берти Эвертону? Он никогда и слова-то доброго о нем не сказал, он ведь так любил Джеффа. Они были вместе за день до случившегося. Между ними не происходило никаких ссор, ничего такого. А на следующий день он уничтожил свое завещание, сделал новое, а в восемь часов позвал Джеффа, и Джефф нашел его мертвым.
– Не думай об этом, – сказала Хилари.
– Но мне ничего больше не остается. Боюсь, я сойду с ума от этих мыслей.
Хилари была сильно взволнована. Она почти год жила вместе с Мэрион, но никогда, никогда, никогда прежде Мэрион не обсуждала происшедшее. Она хранила эту ужасную тайну в глубине своего сердца, не забывая о ней даже во сне, но никогда, никогда, никогда не заводила разговор на эту тему.
Однако Хилари не оставалась безучастной; ее обуревали собственные мысли и догадки по поводу случившегося. Она была уверена, что, если Мэрион заговорит об этом, раскроет свое сердце, избавится от страхов и прислушается к советам Хилари, они вместе смогут докопаться до какого-нибудь факта, которому до сих пор никто не придавал особого значения, но который способен пролить свет на ситуацию.
– Нет-нет, дорогая, послушай. Мэрион, пожалуйста. Ты не думаешь, что кто-то подделал завещание?
Мэрион остановилась у сундука, повернувшись вполоборота к Хилари. Она попыталась засмеяться, но смех получился похожим на рыдание.
– Ах, Хилари, ты настоящий ребенок! Неужели ты полагаешь, что об этом никто не задумывался? Неужели ты считаешь, что полиция не рассматривала все возможные варианты? Он был в банке, и его новое завещание засвидетельствовано управляющим и одним из клерков.
– Почему? – спросила Хилари. – Почему он не попросил об этом Мерсеров? Обычно человек не ходит в банк, чтобы подписать свое завещание.
– Не знаю, – устало ответила Мэрион. – Но он сделал это. Мерсеры не могли поставить свою подпись, так как сами находились в числе наследников. Джеймс послал за своим адвокатом и уничтожил старое завещание в его присутствии. Затем попросил его составить новое, и они вместе отправились в банк, где Джеймс подписал все документы.
– А где находился Берти Эвертон? – спросила Хилари.
– В Эдинбурге. Он уехал ночным поездом.
– Значит, он был здесь накануне?
– О да, он ездил в Патни, видел Джеймса и даже обедал с ним. Но это ничего не меняет, а только подтверждает, что он сделал или сказал нечто такое, что заставило Джеймса изменить свое мнение и завещание. Джеймс никогда не любил Берти, но за эти полтора часа произошло какое-то событие, которое повлияло на Джеймса, и он решил оставить ему все вплоть до последнего пенни. В старом завещании мне полагалась тысяча фунтов, но он вычеркнул и этот пункт. Брат Берти, Фрэнк, он всегда находился у Джеймса на содержании и не умеет зарабатывать себе на жизнь, тоже оказался вычеркнутым из списка наследников. А в старом завещании ему предусматривалось пожизненное пособие. Он, конечно, непутевый человек, перекатиполе, но такой же племянник Джеймса, как Берти или Джефф, и Джеймс всегда говорил, что позаботится о нем. Джеймс считал его дурачком, но не испытывал к нему такой неприязни, как к Берти. Он ненавидел Берти, но оставил ему все свое состояние.
Хилари уперлась руками в пол.
– Почему он ненавидел его? Что не так с Берти?
Мэрион пожала плечами:
– Ничего. Вот это и раздражало Джеймса. Он частенько говаривал, что Берти не сделал ни одного полезного дела в жизни, да и не пытался даже. Знаешь, у него есть немного денег, и он просто плывет по течению: собирает китайский фарфор, играет на фортепиано, ходит на танцы с девушками и мило беседует с их матерями и тетушками. И он никогда не принимает участия в мужских беседах. А когда Джеймс услышал, что он вышивает чехлы на кресла из гарнитура Людовика XV, которые ему посчастливилось купить по случаю, честно говоря, мы с Джеффом думали, его хватит удар.
– Мэрион, откуда тебе известно, что этот Берти действительно находился в Шотландии, когда умер Джеймс?
– Он уехал ночным поездом. Остановился в гостинице «Шотландия» в Эдинбурге. Он приезжал к Джеймсу, никто не знает зачем, встретился с ним и уехал обратно. Официант подтвердил, что он завтракал и обедал в гостинице, после обеда пожаловался на неработающую кнопку вызова в его номере, а в четыре часа осведомлялся о важном телефонном звонке, которого ждал.
Она подняла руку и уронила ее на крышку сундука.
– Как видишь, он не мог оказаться в Патни. Джеймс был убит в четверть девятого. И потом… Берти… если бы ты знала его…
– А что насчет другого, – спросила Хилари, – Фрэнка, этого перекатиполя и недотепы?
– Боюсь, он тоже не подходит, – ответила Мэрион. – Фрэнк был в Глазго. У него самое надежное алиби, поскольку как раз около шести часов он получил причитающееся ему пособие. Джеймс каждую неделю передавал ему деньги через своего адвоката в Глазго, так как Фрэнк понятия не имеет о бережливости, о какой бы сумме ни шла речь. Он позвонил и договорился о встрече в шесть вечера, чтобы забрать пособие, и покинул адвокатскую контору в четверть седьмого. Поэтому он просто не мог убить Джеймса. Было бы гораздо легче, если бы оказалось, что это его рук дело, но все не так.
– Кто же совершил убийство? – спросила Хилари, продолжая размышлять вслух.
Мэрион замолчала. Услышав вопрос Хилари, она будто окаменела. Жизнь невозможна без дыхания, а дыхание предполагает какое-то движение. Казалось, Мэрион перестала дышать. Наступила долгая, страшная минута, когда Хилари показалось, что у нее остановилось дыхание. Она смотрела на Мэрион расширившимися, полными ужаса глазами, и тут ей стало ясно: Мэрион не уверена, она не уверена в Джеффе. Она очень любила его, но не была убеждена, что это не он убил Джеймса Эвертона. Эта мысль поразила Хилари; она не знала, что сказать и как себя вести дальше. Она вновь оперлась на руки и почувствовала, как они онемели.
Мэрион вышла из оцепенения. Она резко повернулась, неожиданно утратив самоконтроль, который давал ей силы на протяжении этого года борьбы и испытаний, и ответила:
– Я не знаю, никто не знает и не узнает. Нам просто нужно жить дальше, день за днем, но мы все равно никогда не узнаем. Мне двадцать пять, а Джеффу двадцать восемь. Возможно, нам придется так жить ближайшие лет пятьдесят. Пятьдесят лет.
Ее голос сорвался, перейдя на зловещий шепот.
Хилари вскочила, подняв свои онемевшие руки.
– Мэрион, дорогая, не надо! Это же не на всю жизнь: ты же знаешь, его отпустят.
– Двадцать пять лет, – сдавленно произнесла Мэрион. – Двадцать пять лет или чуть меньше, за примерное поведение. Хорошо, пусть двадцать лет, двадцать лет. Ты не представляешь, что стало с ним за этот год. Лучше бы его приговорили к смертной казни. Они ведь убивают его, медленно, понемногу каждый день, и он погибнет задолго до того, как пройдут эти двадцать лет. Не останется ничего из того, что я знала и любила. Останется только тело по имени Джеффри Грей, тело его не умрет. Он сильный – говорят, он ведет здоровый образ жизни, поэтому его тело все выдержит. Но мой Джеффри погибает, сейчас, в эту самую минуту, пока мы разговариваем.
– Мэрион!
Мэрион оттолкнула ее.
– Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда иду туда, я думаю: «Сегодня я достучусь до него, на самом деле достучусь, несмотря ни на что; в этот раз у меня все получится. Нам не помешают тюремщики, мы не будем ни на что обращать внимание, мы просто снова будем вместе, только это имеет значение». Но когда я прихожу туда, – на ее лице появилось отчаяние, – у нас не получается быть вместе. Я не могу сесть рядом с ним, не могу к нему прикоснуться. Они не разрешают мне дотронуться до него, поцеловать. Если бы я могла обнять его, он услышал бы меня. Но он избегает меня, отдаляется, и я ничего не могу с этим поделать.
Она схватилась за спинку кресла и оперлась на него, содрогаясь от рыданий.
– Подумай, каким он вернется через двадцать лет? Почти мертвецом! Что можно сделать для мертвеца? Он практически утратит вкус к жизни к тому времени. А какой стану я? Возможно, моя душа тоже погибнет.
– Мэрион, Мэрион, прошу тебя.
Мэрион вся дрожала.
– Нет, нет никакой надежды, не правда ли? Нужно просто жить дальше. Если бы мой ребенок не умер…
Она замолчала, выпрямившись и закрыв лицо руками.
– Теперь у меня никогда не будет детей. Они убивают Джеффа, и они убили моих детей. О господи, почему, почему это случилось с нами? Ведь мы были так счастливы!
Глава 4
Хилари проснулась от какого-то странного ощущения и услышала, как часы в гостиной пробили полночь. Она не хотела засыпать, не убедившись, что Мэрион уже спит, но позволила сну одолеть ее и теперь злилась на это. Ей казалось, она убежала, скрылась в своих снах, оставив Мэрион бодрствовать наедине со своими невзгодами. Но похоже, Мэрион тоже легла спать.
Хилари выскользнула из постели и босиком направилась в ванную комнату. Окна спальни Мэрион и ванной выходили на одну и ту же сторону. Ухватившись за вешалку для полотенец левой рукой, а правым боком высунувшись из окна ванной комнаты, правой рукой можно дотянуться до подоконника в комнате Мэрион. А если при этом еще вытянуть шею и прислушаться, можно понять, заснула Мэрион или нет. Хилари делала это сотни раз, и Мэрион ни о чем не догадывалась. Тяжелая занавеска скрывала от нее кровать. И она столько раз слышала, как Мэрион вздыхает и плачет, но так и не осмелилась пойти к ней. Вместо этого она проводила ночь без сна, опасаясь за Мэрион и раздумывая о несчастье, которое произошло с ней и Джеффри.
Но сегодня Мэрион спала. Только ее тихое, едва слышное дыхание нарушало тишину комнаты.
Хилари соскочила с окна ловким акробатическим движением, отработанным за время долгой практики. Легкий вздох облегчения вырвался у нее из груди, когда она снова нырнула в свою постель и уютно свернулась калачиком под одеялом. Наконец-то она могла заснуть с чистой совестью.
Еще в детстве она придумала для себя идеальный способ быстро засыпать. В своем воображении она представляла, будто в мире есть страна снов и страна бодрствования. Страну снов окружает высокая стена. Туда невозможно попасть, если только тебе не посчастливится обнаружить в стене потайную дверь, но ты никогда не знаешь, что именно скрывается за этой дверью, поэтому каждое путешествие в страну снов – настоящее приключение. Конечно, иногда за дверью оказывается всего лишь пустая и неинтересная комната. Порой, как в случае с бедняжкой Мэрион, вообще не получается найти дверь, и ты продолжаешь плестись вдоль стены, с каждым шагом чувствуя нарастающую внутри усталость. У Хилари так бывало редко. Двери распахивались перед ней еще до того, как она успевала нащупать щеколду.
Но сегодня ей никак не удавалось заснуть. Она замерзла, пока выглядывала из окна ванной комнаты, поэтому с головой укуталась в одеяло. Но вдруг ее охватывал жар, и она сбрасывала его с себя. Подушка оказывалась то слишком высокой, то слишком низкой, то чересчур мягкой, то чересчур жесткой.
А потом в голове у нее стали снова и снова прокручиваться мысли, как на патефонной пластинке. Будто кто-то включил музыку в соседней комнате, достаточно громкую, чтобы она могла свести человека с ума. Но при этом совершенно невозможно было распознать мелодию, как ни старайся. Снова, снова и снова проигрывала Хилари у себя в памяти эту запись, снова, снова и снова. Она не видела в этом никакого смысла. Разрозненные обрывки информации, дошедшие до нее после убийства Эвертона и ареста Джеффри Грея, не складывались в целостную картину, и поэтому от них не было никакого проку. Нельзя обнаружить смысл в бессмыслице; ей было безразлично, что думали окружающие. Глупо даже предполагать, что Джефф застрелил своего дядю.
Хилари в сотый раз взбила подушку и пообещала себе, что не сдвинется с места, пока не досчитает до ста, но задолго до того, как она приблизилась к своей цели, в носу у нее опять защекотало, волосы попали в ухо, а рука затекла и онемела. Она сбросила одеяло и вылезла из постели. Это бесполезно, лучше ей подняться и заняться чем-нибудь полезным. Неожиданно в голову пришла мысль, что ей стоит пойти в гостиную, найти папку с материалами судебного процесса и внимательно изучить их. Ей было известно, где она лежит – на дне дубового сундука. Мэрион спала, впереди – длинная ночь, и у нее достаточно времени, чтобы прочитать все от начала до конца. Она хотела ознакомиться с протоколами дознания, так как пропустила его из-за поездки в Тироль с кузиной Генри, знакомства с ним и помолвки, которая оказалась такой недолговечной.
Она надела халат и тапочки и крадучись добралась до гостиной. Включив свет, она вытащила папку с бумагами. Устроившись в большом кресле, она стала читать дело Эвертона.
Джеймса Эвертона застрелили примерно между восемью и восемью двадцатью вечера во вторник, 16 июля. Он был еще жив в восемь часов, когда звонил по телефону Джеффри Грею, но уже двадцать минут спустя его нашли мертвым, как раз в тот момент, когда Джеффри открыл дверь, а супруги Мерсер ворвались в кабинет. Миссис Мерсер утверждала, что за минуту до этого она слышала звук выстрела. Находясь под присягой, она сообщила:
– Я была наверху и готовила постель для мистера Эвертона. Проходя через гостиную, я услышала в кабинете голоса. Похоже, там ссорились. Я не знала, кто может находиться в кабинете вместе с мистером Эвертоном, поэтому испугалась и подошла к двери, чтобы послушать. Я узнала голос мистера Джеффри Грея и вернулась обратно в гостиную, решив, что если там мистер Джеффри, то беспокоиться не о чем. Затем я услышала звук выстрела. Я закричала, и на мой крик из буфетной прибежал мистер Мерсер, который чистил там серебро. Он попытался открыть дверь, но она оказалась заперта. А когда мистер Джеффри открыл нам ее, у него в руке был пистолет, а мистер Эвертон лежал мертвый на своем письменном столе.
Коронер спросил, слышала ли она, что именно говорил мистер Грей, когда узнала его голос, но миссис Мерсер сильно разволновалась и ответила, что лучше ей будет умолчать об этом. Ее предупредили об обязанности отвечать на все вопросы, и тогда она расплакалась и сказала, что это было связано с завещанием.
Коронер. Скажите, что именно вы слышали?
Миссис Мерсер (рыдая). Я не могу рассказать больше, чем знаю.
Коронер. Никто и не требует этого от вас. Я хочу, чтобы вы сказали только то, что действительно слышали.
Миссис Мерсер. Ничего особенного, о чем можно было бы говорить. Только их голоса и что-то о завещании.
Коронер. Что-то о завещании, но вы не знаете, что именно?
Миссис Мерсер (истерично рыдая). Нет, сэр.
Коронер. Дайте свидетельнице стакан воды. Итак, миссис Мерсер, вы утверждаете, что услышали голоса в кабинете и решили, будто там происходит ссора. Вы сказали, что узнали голос мистера Джеффри Грея. Вы уверены? Это действительно был голос мистера Грея?
Миссис Мерсер. Ах, сэр, сэр, я не хочу наговаривать на мистера Джеффри.
Коронер. Вы уверены, что это был его голос?
Миссис Мерсер (вновь рыдая). О да, сэр. Ах, сэр, не знаю, как я не упала в обморок, выстрел был таким громким. Я закричала, и мистер Мерсер прибежал из буфетной.
Показания миссис Мерсер имели решающее значение, особенно после того, как их подтвердил Альфред Мерсер, слышавший звук выстрела и крик жены. Он попытался открыть дверь, но она была заперта, а когда мистер Грей впустил их, у него в руке был пистолет, а тело мистера Эвертона лежало на письменном столе.
Коронер. Вы узнаете этот пистолет?
Мерсер. Да, сэр.
Коронер. Вы видели его раньше?
Мерсер. Да, сэр, он принадлежит мистеру Грею.
Сердце Хилари затрепетало от гнева. Как могло случиться, что все обстоятельства разом сложились против невиновного человека? Какие чувства должен был испытывать Джефф, сидя там и слушая эту мерзкую, страшную клевету? Сначала он думал, что никто не усомнится в его невиновности, но потом вдруг понял: все вокруг считают его убийцей. Он видел, как люди смотрят на него с выражением ужаса на лицах, веря, будто он застрелил собственного дядю во время отвратительной ссоры из-за денег.
На мгновение Хилари ощутила ужас. Это не могло быть правдой. Даже если все люди в мире верят в обратное, Хилари ни за что не откажется от своего убеждения. Супруги Мерсер лгали. Почему? Какой у них мог быть мотив? Они имели хорошую работу и достойную оплату. Зачем им убивать своего хозяина? Но это казалось единственной правдоподобной версией. Если они оклеветали Джеффри, значит, сделали это, чтобы отвести подозрения от себя. Но у них не было мотива. Совершенно никакого мотива. Их обязанности не выглядели обременительными, и они ничего не выигрывали. Новое завещание Джеймса Эвертона, подписанное утром в день его смерти, лишний раз подтверждало это предположение. Им причиталось такое же наследство, как и в старом завещании: десять фунтов на человека за каждый год службы. Они проработали у Джеймса около двух лет, так что вторые десять фунтов им еще были не положены. Какой человек откажется от хорошей работы и заманчивых перспектив, совершив умышленное убийство ради двадцати фунтов на двоих с женой?
Хилари задумалась об этом… А если это правда? Деньги и комфорт – это еще не все. Ими могли руководить скрытые мотивы: ревность, ненависть и чувство мести, – а в этом случае собственная безопасность и личная выгода отходят на второй план. Но все-таки должен существовать какой-то мотив. Его наверняка искали, должны были искать, но не нашли. Хилари решила еще раз проверить эту возможность.
Она прочитала показания Джеффри, и ее сердце наполнилось болью. Дядя позвонил ему в восемь вечера. Другие люди, дававшие свидетельские показания, говорили «покойный» или «мистер Эвертон», но Джеффри сказал «мой дядя». На протяжении всего допроса он так и говорил: «мой дядя». «Мой дядя позвонил в восемь вечера и сказал: «Это ты, Джеффри? Я хочу, чтобы ты немедленно приехал, немедленно, мой мальчик». Он казался сильно расстроенным».
Коронер. Он был рассержен?
Джеффри Грей. Нет, не на меня, я не знаю. Он казался взволнованным, но это никак не было связано со мной, иначе он не назвал бы меня «мой мальчик». Я спросил: «Что-нибудь случилось?» И он ответил: «Я не могу говорить об этом по телефону. Я хочу, чтобы ты приехал как можно скорее». И повесил трубку.
Коронер. Вы поехали к нему?
Джеффри Грей. Сразу же. Дорога до его дома занимает у меня около четверти часа. На полпути я сел в автобус, который останавливается в четверти мили от его ворот.
Коронер. Мистер и миссис Мерсер сказали, что вы не звонили во входную дверь. Они утверждают, парадная дверь была заперта. Стало быть, вы воспользовались другим путем?
Джеффри Грей. Был теплый вечер, и я знал, что дверь дядиного кабинета должна быть открыта, – это стеклянная дверь, которая ведет в сад. Я всегда ходил через сад, если дядя был дома, а я хотел с ним увидеться.
Коронер. Вы часто навещали дядю?
Джеффри Грей. Постоянно.
Коронер. Вы жили вместе с ним на Солуэй-Лодж до своей женитьбы?
Джеффри Грей. Да.
Коронер. Я должен спросить вас, мистер Грей, можно ли назвать ваши отношения с дядей искренней и сердечной привязанностью?
В этот момент лицо свидетеля исказила гримаса страдания. Он тихо произнес: «Это была искренняя и нежная привязанность».
Коронер. Между вами не было ссор?
Джеффри Грей. Нет, никогда.
Коронер. Тогда как вы объясните, что он уничтожил свое завещание, в котором вы были главным наследником, и написал новое, где ваше имя отсутствует?
Джеффри Грей. Я не могу этого объяснить.
Коронер. Вы знаете, что он написал новое завещание утром 16 июля?
Джеффри Грей. Сейчас знаю, но тогда не знал.
Коронер. Вы не знали об этом, когда отправились на встречу с дядей?
Джеффри Грей. Нет.
Коронер. И не знали о том, что он уничтожил завещание, в котором оставлял свое имущество вам? Вы под присягой, мистер Грей. Вы по-прежнему заявляете, что ничего не знали об изменении завещания?
Джеффри Грей. Не имел ни малейшего понятия.
Коронер. Он не сказал вам об этом по телефону?
Джеффри Грей. Нет.
Коронер. Или после того как прибыли в Патни?
Джеффри Грей. Когда я приехал в Патни, он был уже мертв.
Коронер. Вы сказали, что приехали в Солуэй-Лодж в двадцать минут девятого.
Джеффри Грей. Да, примерно в это время. Я не смотрел на часы.
Коронер. Дом расположен на участке земли площадью два акра, и к нему ведет короткая подъездная дорога, не так ли?
Джеффри Грей. Да.
Коронер. Расскажите, как вы добрались до дома?
Джеффри Грей. Я воспользовался подъездной дорогой, которая ведет к парадному входу, но не подходил к двери. Я свернул направо и обогнул дом. Кабинет находится в заднем крыле, а его стеклянная дверь выходит в сад. Дверь оказалась открыта настежь, как я и ожидал.
Коронер. Занавески были задернуты?
Джеффри Грей. Нет. Было светло, был замечательный теплый день.
Коронер. Продолжайте, мистер Грей. Вы вошли в кабинет…
Джеффри Грей. Я вошел. Я думал, дядя выйдет мне навстречу. Я даже не сразу заметил его. В комнате было гораздо темнее, чем снаружи. Я споткнулся обо что-то и увидел пистолет на полу у моих ног. Я поднял его, не задумываясь о том, что делаю. А потом увидел своего дядю.
Коронер. Сначала вы сказали, что было светло, а теперь утверждаете: в комнате царил полумрак. Поясните свои слова.
Джеффри Грей. Я не говорил, что в комнате было темно, я сказал, там оказалось темнее, чем снаружи. На улице было светло, и яркое солнце слепило мне глаза, когда я шел к дому.
Коронер. Продолжайте, мистер Грей. Вы увидели мистера Эвертона…
Джеффри Грей. Он лежал на письменном столе. Я решил, что он потерял сознание. Потом я подошел ближе и понял, что он мертв. Я прикоснулся к нему, он действительно был мертв. Тогда я услышал крик, и кто-то попытался открыть дверь. Она оказалась заперта изнутри на ключ. Я открыл ее. Там была чета Мерсер. Они решили, что это я убил дядю.
Коронер. Пистолет по-прежнему был у вас в руке?
Джеффри Грей. Да, я совершенно о нем забыл.
Коронер. Это тот пистолет?
Джеффри Грей. Да.
Коронер. Мы установили, он принадлежит вам. Вы хотите что-нибудь добавить по этому поводу?
Джеффри Грей. Он принадлежит мне, но я уже год его не видел. Я оставил его в Солуэй-Лодж, когда женился. Там осталось много моих вещей. Мы снимали квартиру, и там недостаточно места, чтобы загромождать ее ненужными вещами.
Коронер. Скажите, зачем вам был нужен пистолет?
Джеффри Грей. Дядя подарил мне его около двух лет назад. Я собирался в отпуск в Восточную Европу. Ходили слухи, будто там орудуют бандиты, поэтому он хотел, чтобы я взял с собой пистолет. Я так ни разу и не воспользовался им.
Коронер. Вы хороший стрелок?
Джеффри Грей. Я прекрасный стрелок.
Коронер. По мишеням?
Джеффри Грей. По мишеням.
Коронер. Вы можете поразить человека, находящегося в противоположном конце комнаты?
Джеффри Грей. Никогда не пытался.
Коронер. Мистер Грей, когда шли по дороге, а затем обходили дом, вы встретили кого-нибудь?
Джеффри Грей. Нет.
Коронер. Вы слышали звук выстрела?
Джеффри Грей. Нет.
Коронер. Вы ничего не видели и не слышали по дороге к кабинету?
Джеффри Грей. Ничего.
Почему он никого не видел и ничего не слышал на пути к дому в этот прекрасный теплый вечер? Убийца должен был находиться совсем рядом. Почему Джефф не столкнулся с ним или хотя бы не увидел, как тот убегал с места преступления?.. Почему? Потому что убийца заранее позаботился, чтобы Джефф не встретился с ним. Потому что он знал о приходе Джеффа. Потому что он знал о звонке Джеймса Эвертона Джеффу и о том, что через четверть часа тот будет в Солуэй-Лодж. У убийцы было четверть часа, чтобы застрелить Джеймса Эвертона и замести все следы. Разумеется, Джефф ничего не слышал и ни с кем не встретился, так как убийца сделал все, чтобы этого не произошло. Но Мерсеры должны были слышать выстрел задолго до того, как миссис Мерсер спустилась вниз и закричала в гостиной, а мистер Мерсер прибежал из буфетной, где чистил серебро. Мэрион сказала, что он действительно его чистил – на его ладонях оставалось чистящее средство. Но он был в буфетной, а миссис Мерсер не кричала до тех пор, пока Джефф не оказался в кабинете с пистолетом в руке.
В бумагах было много технических подробностей, связанных с описанием оружия. Пуля, убившая Джеймса Эвертона, определенно была выпущена из этого пистолета. На нем найдены отпечатки пальцев Джеффа. Но это естественно. Ведь он поднял его, не так ли? Но на нем не нашли других отпечатков. Отпечатки пальцев кого-либо еще отсутствовали. Значит, это не могло быть самоубийством. Даже если бы Джефф не оказался таким неуклюжим, споткнувшись о вещественное доказательство, лежавшее под окном. Она вспомнила, об этом не раз упоминалось во время процесса, стеклянная дверь находилась на расстоянии восьми или девяти футов от письменного стола, а Джеймс Эвертон умер мгновенно. Так что самоубийство полностью исключалось.
Хилари глубоко вздохнула.
Должно быть, Мерсеры солгали – видимо, им пришлось выбирать между своей жизнью и жизнью Джеффа. Но присяжные им поверили и на дознании, и на суде.
Она прочитала показания Мэрион… Ничего, только несколько вопросов и ответов. Но у Хилари сжалось сердце, когда она представила себе Мэрион, принимающую присягу и отвечающую на вопросы. Они с Джеффом были так безудержно, невообразимо счастливы. Это счастье, как яркий свет, сопровождало их везде, куда бы они ни направились. Их любовь делала счастливыми всех, кто находился рядом с ними. И в этом темном переполненном зале суда этот свет вдруг погас навсегда. Был жаркий солнечный день, газеты сообщили, что в ближайшие дни по-прежнему будет жарко, но в этом ужасном, битком набитом людьми зале Мэрион и Джеффри чувствовали: свет их счастья исчез безвозвратно.
Коронер. Вы были дома, когда ваш муж ответил на телефонный звонок вечером 16 июля?
Мэрион Грей. Да.
Коронер. Вы заметили, в котором часу это было?
Мэрион Грей. Да, часы как раз били восемь вечера. Он подождал, пока бой часов замолкнет, и лишь затем снял трубку.
Коронер. Что вы слышали?
Мэрион Грей. Я слышала, как мистер Эвертон попросил моего мужа приехать в Солуэй-Лодж.
Коронер. Вы хотите сказать, что непосредственно слышали, как мистер Эвертон обратился к вашему мужу с этой просьбой?
Мэрион Грей. О да, я слышала его совершенно отчетливо. Он хотел, чтобы муж немедленно приехал к нему. Он повторил это: «Немедленно, мой мальчик». Когда муж спросил, что произошло, он ответил: «Я не могу говорить об этом по телефону. Я хочу, чтобы ты приехал как можно быстрее». Потом муж повесил трубку и сказал: «Это Джеймс. Он хочет, чтобы я немедленно приехал к нему». А я ответила: «Знаю, я слышала это». Муж сказал: «Он кажется сильно расстроенным. Ума не приложу почему».
После этого ее спросили о пистолете. Она сказала, что никогда раньше не видела его.
Коронер. Вы никогда раньше не видели его у своего мужа?
Мэрион Грей. Нет.
Коронер. Как долго вы женаты?
Мэрион Грей. Год и неделю.
Коронер. И за это время вы ни разу не видели пистолет?
Мэрион Грей. Нет.
Коронер. Вы живете в квартире на Модслей-роуд?
Мэрион Грей. Да.
Коронер. Вы живете там со дня своего замужества?
Мэрион Грей. Да.
Коронер. Это небольшая квартира?
Мэрион Грей. Да, довольно маленькая, четыре комнаты.
Коронер. Если бы пистолет хранился там, вы бы его увидели?
Мэрион Грей. Если бы он был там, я бы наверняка его заметила.
Коронер. В квартире есть запертые шкафы или ящики?
Мэрион Грей. Нет.
Коронер. И вы ни разу не видели пистолет?
Мэрион Грей. Я никогда не видела его прежде, нигде.
После этого коронер отпустил ее.
Хилари перевернула страницу.
Глава 5
Показания Берти Эвертона
Коронер. Ваше имя Бертрам Эвертон?
Бертрам Эвертон. Да, разумеется.
Коронер. Вы приходитесь племянником покойному?
Бертрам Эвертон. О да.
Коронер. Когда вы видели его в последний раз?
Бертрам Эвертон. Что ж, я обедал с ним накануне, как раз перед тем, как это произошло. Удивительно, не правда ли, ведь мы с ним виделись довольно редко. Но так уж случилось.
Коронер. Вы хотите сказать, что были в плохих отношениях с дядей?
Бертрам Эвертон. Не думаю, что это можно назвать плохими отношениями. Мы просто предпочитали встречаться пореже, вот и все.
Коронер. Вы ссорились с дядей?
Бертрам Эвертон. Что вы! Я никогда не ссорюсь с людьми.
Коронер. Возможно, у вас были разногласия?
Бертрам Эвертон. Ну, в том, что касается образа жизни. Дядя был деловым человеком. Серьезным и трудолюбивым деловым человеком. А я собираю китайские безделушки. Мы с ним совершенно не сходились во взглядах.
Коронер. Но вы обедали с ним вечером в понедельник, 15 июля?
Бертрам Эвертон. Да, я уже говорил об этом.
Коронер. Вы были в Шотландии?
Бертрам Эвертон. В Эдинбурге.
Коронер. Вы приехали из Шотландии только для того, чтобы пообедать с дядей, хотя ваши отношения нельзя назвать дружескими?
Бертрам Эвертон. Это преувеличение. Все было не совсем так.
Коронер. Тогда, может быть, вы расскажете, как все было на самом деле, мистер Эвертон?
Бертрам Эвертон. Дело вот в чем. Я собираю китайские безделушки и когда попадаю в такое место, как Эдинбург, то стараюсь найти что-нибудь стоящее. Это не всегда получается, но иногда мне сопутствует удача и удается что-то отыскать, хотя никогда не знаешь, где это произойдет. Ну, вы понимаете? Так вот, я ничего не нашел для себя, но знаю парня, который собирает керамические кувшинчики, его зовут Уайт.
Коронер. Это важно, мистер Эвертон?
Бертрам Эвертон. Ну, я бы так не сказал, но вы ведь задали мне вопрос, не так ли?
Коронер. Расскажите нам покороче, почему вы приехали из Эдинбурга, чтобы встретиться с дядей.
Бертрам Эвертон. Я и говорил об этом. На самом деле я приехал не для того, чтобы повидаться с дядей. Я приехал к этому парню, который собирает кувшинчики. Я уже говорил вам, что его зовут Уайт? Видите ли, я совершенно случайно натолкнулся на набор кувшинчиков в стиле Тоби, на которых изображены все генералы времен мировой войны, понимаете? Это уникальный набор, единственный в своем роде, очень занимательный – разумеется, если вы интересуетесь такими вещами, не так ли? А чудак, которому они принадлежат, хочет продать их Историческому музею. Так вот я решил предложить ему более высокую цену и приехал, чтобы встретиться с ним. Вот такие дела.
Коронер. Вы с ним встретились?
Бертрам Эвертон. Увы, нет, знаете ли. Как раз в этот день он улетел в Париж, поэтому я позвонил дяде Джеймсу и предложил пообедать вместе.
Коронер. Вы сказали, что были совершенно разными людьми. Что заставило вас предложить ему совместный обед?
Бертрам Эвертон. Ну я же остался у разбитого корыта, как говорится. Бесплатный обед, милая семейная беседа и все такое, знаете ли.
Коронер. Вы хотели обсудить какой-нибудь конкретный вопрос с покойным?
Бертрам Эвертон. Да, речь шла о пособии для моего брата, знаете ли. Он ведь выплачивал ему пособие, но брат сказал мне, что ему было бы гораздо легче, если бы дядя немного увеличил размер пособия. И я согласился поговорить с дядей. Что ж, мне представилась такая возможность, если вы понимаете.
Коронер. Итак, вы обедали с дядей. Вы обсуждали с ним вопрос об увеличении пособия для вашего брата?
Бертрам Эвертон. Ну, я не думаю, что это можно назвать обсуждением. Я сказал: «В отношении пособия старины Фрэнка, дядя Джеймс…» Но он прервал меня, заметив: «Неужели мы снова будем поднимать этот вопрос?»
Коронер. Это имеет какое-то отношение к вопросу об изменении завещания?
Бертрам Эвертон. Можно сказать, и так; он начал ругаться на бедного старину Фрэнка, знаете ли, сказал, что ему нужно поторопиться и найти себе работу, поскольку, если с ним что-нибудь случится – я имею в виду с дядей, – бедный старина Фрэнк окажется без гроша в кармане. Потому как он – я имею в виду дядя – собирается изменить завещание, исключив из него всех подхалимов и лицемеров, которые хотят воспользоваться его добротой. Но он докажет им, что они ошибаются, и это произойдет в ближайшие двадцать четыре часа. Что ж, эти слова застали меня врасплох, знаете ли, и я ответил: «Успокойся, дядя! Даже злейший враг бедного старины Фрэнка не смог бы обвинить его в лицемерии». Он недовольно посмотрел на меня и ответил: «Я не имел в виду твоего брата Фрэнка».
Коронер. То есть он подтвердил вам, что собирается изменить завещание?
Бертрам Эвертон. Что ж, похоже на то, не так ли?
Коронер. Он сказал вам, что собирается изменить завещание в вашу пользу?
Свидетель замялся в нерешительности.
Коронер. Я настоятельно прошу вас ответить на этот вопрос.
Бертрам Эвертон. Ну ведь это так неловко, отвечать на подобные вопросы, не так ли?
Коронер. Боюсь, мне придется повторить свой вопрос. Дядя сказал вам, что собирается изменить завещание в вашу пользу?
Бертрам Эвертон. Ну, не совсем так, знаете ли.
Коронер. Что именно он сказал?
Бертрам Эвертон. Что ж, если вы настаиваете… Он сказал: если ему приходится выбирать между лицемером и дураком, он предпочитает дурака, знаете ли.
(Смех в зале.)
Коронер. Вы отнесли его слова на свой счет?
Бертрам Эвертон. Но ведь именно об этом он и говорил, не так ли?
Коронер. Вы подумали, его слова говорят о намерении изменить завещание в вашу пользу?
Бертрам Эвертон. Ну, я не думал, что он это сделает, знаете ли. Я решил, он поругался с Джеффри.
Коронер. Он сказал вам об этом?
Бертрам Эвертон. Нет, у меня просто сложилось такое впечатление, если вы понимаете.
Щеки Хилари вспыхнули от гнева. Если бы суд был организован надлежащим образом, ему бы никогда не позволили заявлять подобные вещи. В коронерском суде запрещено высказывать свои предположения, а этот дурачок Берти решил, что Джеффри поругался со своим дядей. За все время дознания не нашли ни одного подтверждения этой ссоры, но вся общественность была уверена, что она действительно произошла. Они прочитали показания Берти Эвертона во время дознания и поверили в ссору Джеффри Грея со своим дядей из-за того, что тот уличил его в чем-то порочащем и именно поэтому решил изменить завещание. А присяжные, которые впоследствии признали Джеффри Грея виновным в убийстве своего дяди, и были представителями этой самой общественности. Как только какая-нибудь мысль становится частью коллективного сознания, практически невозможно избавиться от ее влияния. Ничем не обоснованное предположение Берти Эвертона о ссоре между дядей и племянником в итоге привело к вынесению обвинительного приговора.
Хилари перевернула страницу. Лежавшие перед ней материалы частично были представлены газетными статьями, а частично – расшифровкой стенографических записей. Открыв следующую страницу, она увидела фотографию Берти Эвертона – «Мистер Бертрам Эвертон покидает здание суда». Конечно, она встречалась с ним однажды во время следствия, но воспоминания об этих днях казались ей настоящим кошмаром. Хилари смотрела во все глаза, но так и не смогла разглядеть ничего особенного. Не высокий и не низкий. Неправильные черты лица и длинные волосы. Фотография получилась довольно смазанной, и, уж конечно, ни один фотограф не может передать всю палитру красок. Она вдруг вспомнила, что у Берти Эвертона рыжие волосы. У него была шапка густых волос, которые на самом деле выглядели довольно длинными.
Она продолжила чтение его показаний.
Он сказал, что сел в десятичасовой экспресс из Эдинбурга, прибывавший на вокзал Кингс-Кросс в половине шестого вечера 15 июля. После обеда с Джеймсом Эвертоном он уехал на поезде, уходившем от Кингс-Кросс в 01.05, и в 09.36 16 июля сошел на вокзале в Эдинбурге. Оттуда он сразу же направился в гостиницу «Шотландия», где заказал поздний завтрак, а потом решил вздремнуть. Он долго объяснял, что не может спать в поезде. Поев в гостинице в половине второго, он написал два письма: одно – брату, а другое – мистеру Уайту, которого упоминал в связи с набором кувшинчиков Тоби. В это же время он пожаловался администрации гостиницы на неработающий звонок в номере. Сразу после четырех отправился на прогулку, а по пути поинтересовался, не было ли для него оставлено сообщений. Он ожидал звонка от продавца кувшинчиков. Вернувшись в гостиницу, сразу же направился в номер. Он чувствовал себя усталым, ему нездоровилось. Он решил не ходить в столовую, поскольку не был голоден. Вместо этого заказал себе в номер немного печенья. Съев одно или два и хлебнув пару глотков из своей фляги, он лег спать. Он не знал, в котором часу это было, – возможно, около восьми. Он не смотрел на часы. Ему сильно нездоровилось. Больше всего ему хотелось лечь спать. Следующее, что он помнит, – это как утром горничная принесла ему чай, он просил разбудить его в девять. На вопрос, чем он занимался во время прогулки, сказал, что не помнит. Немного побродил по окрестностям, пропустил пару стаканчиков.
На этом заканчивались показания Берти Эвертона.
На следующей странице оказалось отпечатанное заявление Анни Робертсон, горничной гостиницы «Шотландия». Осталось непонятно, приобщили его к материалам дознания или нет. Это было просто заявление.
Анни Робертсон подтверждала, что мистер Бертрам Эвертон поселился в гостинице за три или четыре дня до 16 июля. Возможно, 11 или 12 июля или же 13 июля. Она не знала точно, но об этом можно узнать у регистратора. Он проживал в номере 35. Она помнит вторник, 16 июля. Действительно, мистер Эвертон жаловался на звонок в своей комнате. Он сказал, звонок не работает, хотя затем выяснилось, что с ним все в порядке. Она пообещала понаблюдать за звонком, так как мистер Эвертон утверждал, будто он то работает, то не работает. Мистер Эвертон пожаловался на звонок около трех часов дня. В это время он писал письма. В тот же вечер, примерно в половине восьмого, он позвонил, и она ответила. Мистер Эвертон попросил принести печенье. Он сказал, что плохо себя чувствует и собирается лечь спать пораньше. Она принесла ему печенье и решила, что его нездоровье связано с большим количеством выпитого алкоголя. На следующий день, в среду, 17 июля, в девять утра она принесла ему чай. Казалось, мистеру Эвертону стало лучше, и он выглядел как обычно.
Хилари дважды прочитала это заявление. Затем она вновь пролистала показания Берти Эвертона. Он вышел из гостиницы около четырех часов дня, а вернулся в половине девятого вечера. Он мог вылететь в Кройдон, чтобы добраться в Патни к восьми часам, – по крайней мере ей хотелось так думать. Но тогда он не смог бы оказаться в своей комнате в гостинице «Шотландия», заказывать печенье и жаловаться на плохое самочувствие в половине девятого вечера. Джеймс Эвертон был жив и разговаривал с Джеффом в восемь часов. Кто бы ни застрелил его, это не мог быть его племянник Берти, который заказывал печенье в Эдинбурге в половине девятого.
Хилари с сожалением отбросила свои подозрения в отношении Берти. Он так хорошо подошел бы на роль убийцы, но совершенно очевидно, что это невозможно.
Другой племянник, Фрэнк Эвертон, не участвовал в дознании. Слова Мэрион о том, что он заходил за своим еженедельным пособием в Глазго в промежутке между пятью сорока пятью и шестью пятнадцатью вечера 16 июля, полностью подтверждались другим напечатанным заявлением. Мистер Роберт Джонстон из фирмы «Джонстон, Джонстон и Маккандлиш» заявил, что беседовал с мистером Фрэнсисом Эвертоном, который ему хорошо знаком, между пятью сорока пятью и шестью пятнадцатью во вторник, 16 июля, во время передачи ему суммы в размере двух фунтов стерлингов десяти шиллингов, о чем у него имеется подписанная мистером Эвертоном квитанция.
Долой Фрэнка Эвертона. От его кандидатуры Хилари отказалась с еще большим сожалением. Недотепа, перекатиполе, паршивая овца в семье, но определенно не наш мистер Убийца. Даже если бы у него был собственный аэроплан – а откуда у такого человека может взяться собственный аэроплан? – он не смог бы этого сделать. Ему понадобился бы частный аэродром, нет, два частных аэродрома – по одному в каждом пункте назначения. Она представила себе, как эта белая ворона плюхается в аэроплан прямо у порога фирмы «Джонстон, Джонстон и Маккандлиш», проносится над оживленными улицами Глазго, прибывает в Патни, приземляется на заднем дворе поместья Джеймса Эвертона – и все это не привлекая к себе ни малейшего внимания. Эта идея казалась очень соблазнительной, но была похожа больше на историю из «Тысяча и одной ночи», сказку о десятом календаре или другую невероятную фантазию. Для отмены судебного приговора этого было явно недостаточно.
Все снова указывало на Мерсеров. Если Джефф говорил правду, значит, Мерсеры лгали. Разумеется, Джефф говорил правду. Она верила ему всем сердцем. Если он сказал, что Джеймс Эвертон был мертв, когда он вошел в кабинет в восемь двадцать, значит, тот действительно был мертв, а рассказ миссис Мерсер о ссоре и пистолетном выстреле оказывался ложью. Она не могла слышать, как Джефф ссорился со своим дядей, а тем более звук выстрела в тот самый момент, когда, по ее словам, она его услышала, если к приходу Джеффа мистер Эвертон уже был убит. Нет, миссис Мерсер говорила неправду. Вот почему она все время задыхалась и выглядела такой напуганной в поезде. Ее мучили угрызения совести, и эти душевные страдания не прекратятся, так как она причинила боль Джеффу и Мэрион.
Но зачем она это сделала?
Это очевидно. Мистер Мерсер застрелил своего хозяина, и она лгала, чтобы спасти ему жизнь. Это грех с ее стороны, но грех вполне объяснимый. Она лгала, чтобы спасти мужа, и ради его спасения оклеветала Джеффри.
Разумеется, так оно и было. Хилари подумала, что миссис Мерсер не следовало так выставлять напоказ свои чувства. Муки совести сыграли с ней злую шутку. Как можно верить показаниям женщины, которая не перестает душераздирающе рыдать во время допроса? Теперь все ясно: Альфред Мерсер застрелил Джеймса Эвертона, а миссис Мерсер солгала, чтобы обеспечить ему алиби.
Хилари перевернула следующую страницу, и перед ней оказались показания миссис Томпсон. Она совсем забыла о миссис Томпсон. Прекрасное, неопровержимое алиби было не только у Берти и Фрэнка Эвертонов, оно также оказалось и у супругов Мерсер. Миссис Томпсон сняла с них все подозрения. В папке имелась ее фотография, буквально живое воплощение миссис Гранди[1] – такая же внушительная, важная и основательная, как британская Конституция. Она служила экономкой в соседнем доме, у сэра Джона Блейкни, в течение двадцати пяти лет. Мерсеры пригласили ее пообедать вместе, так как сэр Джон был в отъезде. Она находилась на кухне с половины восьмого до того момента, когда Джеймса нашли убитым. Все это время мистер Мерсер оставался в буфетной, чистил серебро и занимался другими делами в кухне рядом с ней и миссис Мерсер. Это был старинный дом, в котором буфетная соединялась с кухней. Она поклялась, что мистер Мерсер не входил в жилую часть дома до тех пор, пока не услышал крик жены. Тогда он выбежал из кухни узнать, что случилось, а она последовала за ним в гостиную, где увидела распахнутую дверь кабинета, рыдающую миссис Мерсер и мистера Грея с пистолетом в руке.
Коронер. Вы слышали выстрел?
Миссис Томпсон. Нет, сэр, я очень плохо слышу, сэр.
Коронер. Вы слышали, как закричала миссис Мерсер?
Миссис Томпсон. Нет, сэр, я не слышала ничего такого – нас ведь разделяло две двери.
Коронер. Между кухней и гостиной две двери?
Миссис Томпсон. Да, сэр.
Коронер. Миссис Мерсер была с вами на кухне?
Миссис Томпсон. Да, сэр.
Коронер. Она говорит, что пошла наверх приготовить постель для мистера Эвертона. Сколько времени прошло с того момента, когда она поднялась наверх, до того, когда она позвала на помощь?
Миссис Томпсон. Я бы сказала, что около пяти минут, сэр, не больше.
Коронер. Мне необходимо уточнить один вопрос. Альфред Мерсер присутствует в зале суда? Я бы хотел вызвать его повторно.
Повторный допрос Альфреда Мерсера.
Коронер. В предыдущих своих показаниях вы забыли сказать, в котором часу обедал мистер Эвертон. Так в котором часу он обедал?
Мистер Мерсер. От восьми до половины девятого, сэр.
Коронер. Вы хотите сказать, что это время не было строго установленным?
Мистер Мерсер. Да, сэр. Если погода оказывалась хорошей, он любил посидеть в саду.
Коронер. Состоялся ли обед в вечер убийства?
Мистер Мерсер. Нет, сэр. Он приказал подать на стол в половине девятого.
Коронер. Я хотел бы вызвать повторно миссис Мерсер.
Повторный допрос миссис Мерсер.
Коронер. Правда ли, что 16 июля мистер Эвертон просил подать обед в половине девятого?
Миссис Мерсер. Да, сэр.
Коронер. Вы исполняете обязанности кухарки?
Миссис Мерсер. Да, сэр.
Коронер. Обед должен был начаться в половине девятого, но в восемь пятнадцать вы поднялись наверх, чтобы подготовить ему постель. Вы не находите это странным?
Миссис Мерсер. Да, сэр. На обед подавались только холодные блюда, сэр.
Коронер. Вы хотите сказать, что вам не нужно было ничего готовить?
Миссис Мерсер. Нет, сэр. Все было готово и подано в столовую, кроме пудинга, который я поставила на лед.
Коронер. Ясно. Спасибо, миссис Мерсер, теперь все понятно. Так, миссис Томпсон, давайте продолжим. Вы поклялись, что Альфред Мерсер оставался на кухне и в буфетной с половины восьмого до восьми двадцати, то есть до того момента, когда раздался крик о помощи?
Миссис Томпсон. Да, сэр.
Коронер. Вот план дома. Из ваших показаний известно: в буфетной есть только одна дверь, которая ведет на кухню. Мне также сообщили, что окно в буфетной закрыто решеткой, поэтому через него нельзя вылезти наружу. Вы клянетесь, что не покидали кухню с половины восьмого до восьми двадцати?
Миссис Томпсон. Да, сэр.
Коронер. Вы клянетесь, что Альфред Мерсер не выходил через кухню на протяжении этого времени?
Миссис Томпсон. Он заходил на кухню, сэр. Я ведь плохо слышу, и ему пришлось подойти поближе, чтобы я смогла расслышать его слова. Но он никуда не выходил, разве что обратно в буфетную.
Коронер. Значит, вы разговаривали?
Миссис Томпсон. Да, сэр.
Коронер. А миссис Мерсер тоже была там все это время, пока не поднялась наверх, чтобы приготовить постель?
Миссис Томпсон. Думаю, что один раз она выходила в гостиную, сэр.
Коронер. В котором часу это было?
Миссис Томпсон. Где-то около восьми, сэр.
Коронер. Как долго она отсутствовала?
Миссис Томпсон. Несколько минут, сэр.
Коронер. Она вела себя как обычно?
Миссис Томпсон. Нет, сэр, я бы так не сказала. Бедняжка сильно страдала от зубной боли. Об этом мы и говорили с мистером Мерсером. Он пожаловался, что не может заставить ее пойти к дантисту. «Что толку, – сказал он, – страдать и плакать от боли, вместо того чтобы пойти и удалить больной зуб?»
Коронер. Понятно. А миссис Мерсер плакала от боли?
Миссис Томпсон. Все время, бедняжка.
На этом допрос миссис Томпсон был завершен.
Глава 6
Затем следовали показания врачей и полиции, а также информация о завещании. Медицинское свидетельство гласило: Джеймс Эвертон умер мгновенно. Пуля вошла в левый висок. Полицейский хирург прибыл без четверти девять. По его мнению, мистер Эвертон не смог бы двигаться после того, как в него была выпущена пуля. И разумеется, он не мог уронить или бросить пистолет туда, где он лежал согласно показаниям мистера Грея. После выстрела он упал на стол и мгновенно умер. Выстрел был произведен с расстояния в один ярд или немного больше. Все это наряду с отсутствием отпечатков пальцев Джеймса Эвертона на пистолете исключало возможность самоубийства. Всегда сложно определить точное время убийства, но были все основания считать, что в восемь вечера он еще находился в здравии.
Коронер. Он мог умереть за сорок пять минут или за час до того, как вы впервые увидели тело?
– Это возможно.
Коронер. Не более?
– Я бы сказал, нет, но точное время смерти установить довольно сложно.
Коронер. Он мог быть жив в восемь двадцать?
– О да.
Здесь было много таких показаний. В конце концов Хилари решила, что медицинские данные не противоречат всему заявленному в отношении времени убийства. По мнению полицейского хирурга, Джеймса Эвертона могли застрелить в восемь двадцать, когда Мерсеры, по их словам, услышали выстрел, или в любое другое время между восемью, когда он звонил по телефону Джеффри, и восемью двадцатью. Полицейские утверждали, что, когда они приехали, парадная дверь оказалась заперта на засов, а окна первого этажа закрыты на защелки, за исключением окон в столовой, распахнутых в верхней части. Эти огромные окна с тяжелыми рамами открыть было непросто.
Во время повторного допроса миссис Томпсон показала, что ни мистер, ни миссис Мерсер не приближались к окнам и дверям после того, как мистера Эвертона нашли мертвым. Мистер Мерсер вошел в кабинет и, убедившись, что мистер Эвертон мертв, направился к телефону, но мистер Грей выхватил у него трубку и сам позвонил в полицию. Миссис Мерсер продолжала «отчаянно рыдать», присев на нижнюю ступень лестницы. Миссис Томпсон была уверена: никто не подходил к дверям и окнам.
Коронер обратился к присяжным, и по его словам стало очевидно, что это Джеффри застрелил своего дядю.
– Речь идет о семье, похожей на сотни других зажиточных семей. Мистер Джеймс Эвертон был общественным бухгалтером, единственным учредителем давно основанного предприятия. Его племянник, мистер Джеффри Грей, имел отношение к этой фирме и, как он сам признался, рассчитывал стать в ней полноправным партнером. До женитьбы, которая состоялась год назад, он жил вместе с дядей в Солуэй-Лодж, в Патни. Домашняя прислуга состояла из Альфреда Мерсера, его жены и приходящей работницы по имени Эшли, которую не вызывали в суд, так как она заканчивает свою работу в шесть вечера. Мерсеры подтвердили: в тот день она ушла приблизительно в это время. Но в доме находилась миссис Томпсон, которую Мерсеры пригласили на обед. Миссис Томпсон является экономкой сэра Джона Блейкни и проживает в Садбери-Хаус по соседству с Солуэй-Лодж. Она служит там уже двадцать пять лет. Вы слышали ее показания. Я не хочу преуменьшать их значение. По словам миссис Томпсон – а у нас нет причины сомневаться в их правдивости, – Альфред Мерсер не покидал кухню в интересующий нас промежуток времени. Она говорит, что он находился то в кухне, то в буфетной, где чистил серебро, но ни разу не выходил оттуда. Таким образом, если верить миссис Томпсон, Альфред Мерсер остается вне подозрений. По его словам, в восемь двадцать он услышал звук выстрела и крик жены. Выбежав в гостиную, он увидел миссис Мерсер в ужасном состоянии. Он попытался войти в кабинет, но дверь была заперта. Затем мистер Грей открыл ее изнутри. В руке он держал пистолет, а мистер Эвертон лежал мертвый на письменном столе. Последовавшая за Альфредом Мерсером миссис Томпсон подтверждает эти показания, но, так как у нее плохой слух, она не слышала звука выстрела и крика. Думаю, вы можете исключить Альфреда Мерсера из списка подозреваемых.
Теперь рассмотрим показания миссис Томпсон в отношении его жены. Миссис Мерсер дважды покидала кухню – в первый раз «около восьми вечера». Миссис Томпсон не может сказать точно, в котором часу это было, но утверждает, что миссис Мерсер отсутствовала «не более двух-трех минут». Мистер и миссис Грей клянутся, что мистер Эвертон разговаривал с ними по телефону в восемь вечера. Думаю, эти показания можно считать достоверными. Я не вижу основания сомневаться, что мистер Грей приехал в тот вечер в Солуэй-Лодж после телефонного разговора со своим дядей, который состоялся в восемь часов. Поэтому отсутствие миссис Мерсер в кухне в это время можно считать несущественным. Она сказала, что относила тарелки в столовую, и у нас нет причин сомневаться в ее словах.
Давайте перейдем к показаниям относительно того периода времени, когда миссис Мерсер отсутствовала на кухне во второй раз. Примерно в четверть девятого она вышла, чтобы приготовить комнату мистера Эвертона ко сну. На первый взгляд это выглядит подозрительно, так как обычно кухарка не должна заниматься домашними делами за четверть часа до начала основного приема пищи делового человека. Но ее показания о том, что из-за жары обед состоял из холодных блюд и уже был подан в столовую, подтверждаются полицейским отчетом. В нем также говорится, что постель мистера Эвертона оказалась разобрана. Я хочу обратить ваше внимание на время – здесь оно играет очень важную роль. Подозревая миссис Мерсер, мы должны предположить, что она поднялась наверх, приготовила комнату, а затем спустилась вниз с пистолетом, который, как утверждает мистер Грей, оставался в Солуэй-Лодж после его переезда год назад. Однако мистер и миссис Мерсер заявили, что даже не подозревали о его существовании. Итак, она зарядила пистолет, спустилась вниз, вошла в кабинет и без колебаний застрелила своего хозяина. Только представьте себе: она запирает дверь, стирает свои отпечатки с ручки – ведь на ней не было найдено других отпечатков, кроме отпечатков мистера Грея, – затем стирает свои отпечатки с пистолета – на нем тоже обнаружили только отпечатки мистера Грея, – а потом убегает через стеклянную дверь. На все это у нее не более пяти минут, но ей еще нужно вернуться обратно в дом. Если даже вообразить, что эта нервная, истеричная женщина способна сначала спланировать, а затем совершить хладнокровное убийство, уничтожив все следы своего преступления, мы по-прежнему не сможем ответить на вопрос, как ей удалось вернуться в дом. Входная дверь заперта на засов, все окна первого этажа – на задвижках, кроме двух окон в столовой, распахнутых в верхней части. В полицейском отчете сказано, что снаружи невозможно поднять нижнюю половину этих окон. Задняя дверь также оказалась закрыта. Миссис Томпсон подтвердила: ее заперли на ключ сразу после ее прихода. Полиция нашла ее закрытой. Я рассказываю об этом так подробно для того, чтобы доказать: миссис Мерсер не входит в число подозреваемых. Несмотря на ее отсутствие на кухне в промежуток времени, когда произошло преступление, физически невозможно – и, полагаю, я смог вас в этом убедить, – чтобы она совершила убийство, а потом вернулась в дом. Дверь кабинета оставалась запертой, пока ее не открыл мистер Грей. Он сам подтвердил: ключ находился в замке. Миссис Мерсер не смогла бы выйти через эту дверь, оставив ее запертой изнутри.
Теперь обратимся к показаниям мистера Бертрама Эвертона. Мне кажется, не стоит напоминать вам об их важности. Мистер Бертрам Эвертон поклялся, что за обедом вечером в понедельник 15 июля мистер Джеймс Эвертон сообщил ему о намерении изменить свое завещание. Он сказал об этом в таких выражениях, которые позволили мистеру Бертраму Эвертону считать себя основным наследником своего дяди. Позвольте зачитать вам отрывок расшифровки стенограммы этой части показаний.
«– Он сказал, что изменит завещание в вашу пользу?
– Ну, не совсем так.
– Что именно он сказал?
– Что ж, если вы настаиваете, он сказал: если ему приходится выбирать между лицемером и дураком, он предпочитает дурака.
– Вы отнесли его слова на свой счет?
– Но ведь именно об этом он и говорил, не так ли?
– Вы подумали, его слова говорят о намерении изменить завещание в вашу пользу?
– Ну, я не думал, что он это сделает, знаете ли. Я решил, он поругался с Джеффри.
– Он сказал вам об этом?
– Нет, у меня просто сложилось такое впечатление, если вы понимаете».
Эти показания подтверждаются установленными фактами. Достоверно известно, что утром 16 июля, то есть утром следующего дня после встречи с мистером Бертрамом Эвертоном, мистер Джеймс Эвертон послал за своим адвокатом и изменил завещание. У вас имеются свидетельские показания мистера Блэкета. Он утверждает, что в телефонном разговоре мистер Эвертон попросил его немедленно доставить его завещание в Солуэй-Лодж. По прибытии он обнаружил своего клиента в ужасном состоянии. По его мнению, мистер Эвертон пережил сильнейшее потрясение. Он не выглядел возбужденным или рассерженным, но был бледен, подавлен и весьма обеспокоен. У него тряслись руки, и, по-видимому, он провел бессонную ночь. Без всяких объяснений он порвал старое завещание и бросил его в открытый камин. Согласно старому завещанию основным наследником являлся мистер Джеффри Грей. Кроме того, небольшие суммы были завещаны миссис Грей, мистеру Фрэнку Эвертону и мистеру и миссис Мерсер. Уничтожив завещание, мистер Эвертон дал мистеру Блэкету распоряжение составить новый документ. В новом завещании мистер Джеффри Грей отсутствует в числе наследников. Миссис Грей и мистер Фрэнк Эвертон также были исключены из этого списка. Сумма, оставленная мистеру и миссис Мерсер, не изменилась. Остальная часть собственности переходит к мистеру Бертраму Эвертону. Обратите внимание: это полностью соответствует тем выводам, которые он сделал накануне вечером со слов своего дяди.
В случае убийства подозрение в первую очередь падает на человека, который получает наибольшую выгоду от преступления. Однако в этом деле мистер Бертрам Эвертон, по счастливому стечению обстоятельств находившийся в Эдинбурге во время совершения преступления, оказывается вне подозрений. Кроме того, у него не было мотива для убийства, поскольку, даже если и предполагал, что дядя собирается изменить завещание в его пользу, он никак не мог знать о новом завещании, которое уже составлено и подписано. Показания служащих гостиницы «Шотландия» в Эдинбурге подтверждают: он находился там во время позднего завтрака, ленча, около трех часов пополудни, немногим позже четырех, в половине девятого вечера 16 июля и в девять утра 17 июля. Поэтому совершенно невозможно предположить, будто он связан с этим убийством.
Наконец рассмотрим показания мистера Джеффри Грея. Он отрицает ссору с дядей и заявляет, что не имеет ни малейшего понятия о причине изменения завещания. Однако у мистера Джеймса Эвертона имелась такая причина. По свидетельству мистера Блэкета, он изменил завещание в минуту глубочайшего душевного страдания. После того как был составлен новый документ, он отправился в свой банк в сопровождении мистера Блэкета и подписал его в кабинете управляющего в присутствии самого управляющего и одного из служащих банка, выступивших в качестве свидетелей. Я обращаю на это ваше внимание, чтобы вы поняли: мистер Эвертон действовал не по чьему-либо принуждению, а по собственной воле. Он лишил одного из племянников наследства, оставив все свое состояние другому племяннику, хотя мистер Джеффри Грей и клянется, будто не знает причину, по которой он это сделал. Он поклялся, что между ним и дядей не было ссоры и разрыва отношений.
Вернемся к его показаниям. Он заявляет, что дядя позвонил ему вечером 16 июля. Миссис Грей подтверждает его слова. На данном этапе нет оснований сомневаться в искренности этих свидетелей. Прозвенел телефонный звонок, и мистера Грея попросили срочно приехать в Солуэй-Лодж. Он говорит, что во время разговора голос дяди звучал дружелюбно. Всего несколько часов назад мистер Эвертон, находясь в состоянии глубокого душевного волнения, лишил своего племянника наследства, но тот уверяет, будто дядя по-прежнему был нежен и участлив. Он клянется, что, прибыв в Солуэй-Лодж, обнаружил дядю мертвым, а орудие преступления – пистолет – лежало у открытой стеклянной двери. Он поднял его, услышал крик миссис Мерсер, подошел к двери и понял – она заперта изнутри, а ключ находится в замке. Он открыл дверь и увидел супругов Мерсер в гостиной.
Хилари перестала читать. Джефф, бедный Джефф! Это было совершенно бесполезно. Что ты мог поделать против таких улик? О чем могли подумать присяжные? Они отсутствовали всего десять минут, и за эти десять минут никто в зале суда не усомнился в отношении того, каким будет вердикт: Джеффри Грей виновен в умышленном убийстве.
Хилари закрыла папку. У нее не хватило сил читать дальше. На судебном процессе не обнаружили ничего нового – тщательно подобранные улики, длинные выступления и ужасающие факты. Все это давно было ей известно. В этот раз жюри присяжных совещалось полчаса вместо десяти минут. Но они вынесли тот же самый вердикт: Джеффри Грей виновен в умышленном убийстве.
Глава 7
Часы в гостиной пробили три. Хилари спала, откинув голову на спинку кресла; тяжелая папка по-прежнему лежала у нее на коленях. Тусклый свет стер румянец с ее влажных щек. Ситцевые чехлы Мэрион были покрыты яркими птицами и цветами, но Хилари выглядела очень бледной, погрузившись в глубокий сон. Свет плясал на ее сомкнутых веках, но она не чувствовала этого. Только что она была здесь, переживая за Джеффри и Мэрион, но вдруг одна из дверей в длинной гладкой стене страны сновидений распахнулась и впустила ее внутрь.
Она оказалась в необычном месте, и в самом деле странном. Она шла по длинному темному извилистому коридору, стены которого были сделаны из черных зеркал. Она видела в них свое отражение, видела, как по обе стороны от нее по коридору идут еще две Хилари. Во сне это казалось естественным и даже забавным, но вскоре отражения начали меняться – не сразу, но постепенно, понемногу, шаг за шагом, – пока не превратились в двух совершенно незнакомых людей. Она не видела их лиц, но была уверена, что не встречалась с ними раньше. Если бы ей удалось повернуть голову, она смогла бы их разглядеть, но у нее не получалось пошевелиться. Ледяной страх сдавил ей шею и сковал мышцы. Она содрогалась от внутренних рыданий, призывая Генри, во сне она забыла о его отвратительном поведении и думала лишь о том, что он защитит ее от всякого несчастья.
Свет скользнул по сомкнутым векам, и слезы из ее сна наполнили глаза и заструились по бледным щекам. Они капали на яркий ситцевый рисунок, увлажняя голубое оперение птиц и ярко-розовые лепестки пионов. Одна слезинка спряталась в глубокой складке в уголке губ, и она почувствовала ее солоноватый вкус во сне.
В соседней комнате Мэрион Грей спала в кромешной темноте и ничего не видела во сне. Ей приходилось всегда носить маску мужества и стойкости, которую она надевала для окружающего мира. Для того чтобы обеспечить себя, она работала манекенщицей. Целыми днями она стояла, ходила и позировала в одежде, порой красивой, порой безобразной, но в любом случае жутко дорогой. Стройное изящное тело и статус жены Джеффри Грея придавали ей определенную известность. И каждый день ей приходилось мириться с этой известностью. Она получила работу благодаря помощи подруги: «Тебе придется изменить имя. Хотя, разумеется, все вокруг будут знать, кто ты на самом деле. Я сильно рискую, ведь твое имя может способствовать увеличению продаж, а может и уменьшить их. Учитывая характер моей клиентуры, я думаю, твое присутствие оживит торговлю. Если нет, тебе придется уйти. Повторяю, я иду на огромный риск». Но риск оправдал себя. Она зарабатывала себе на пропитание, и ее работа была не из легких. Завтра она вернется к Харриет и снова превратится в Ванию. Даже сегодня вечером она не была Мэрион Грей. Она так устала, что утратила связь с реальным миром, с Джеффри, и перестала ощущать холодную тоску, обволакивающую ее сердце тонким панцирем изо льда.
Джеффри Грей тоже спал. Он лежал на своей узкой кровати так же, как в детстве, когда его укладывала мать, и в школьные годы, когда ему приходилось спать на школьной постели, почти такой же жесткой и неудобной. Он спал в той же позе, в которой его часто видела Мэрион в свете луны или на восходе солнца: закинув одну руку за голову, а ладонь другой подложив под щеку. Он спал и видел во сне все те милые его сердцу вещи, которые потерял. Его тело оставалось в тюрьме, но душа была свободна. Он участвовал в школьных соревнованиях, вновь побеждая в забеге на сто ярдов, срывая грудью ленточку и слыша рев и аплодисменты восторженной толпы. А потом видел себя в кабине самолета вместе с Элвери. Гул моторов, звезды и облака, похожие на кипящее молоко, и свист ветра в ушах. В следующую минуту он нырял в прозрачную морскую воду, погружался в нее, уходя все глубже и глубже, и голубые блики волн постепенно темнели, превращаясь в черную толщу воды. И вдруг он вновь оказывался на поверхности, где в лучах сияющего солнца ждала его Мэрион. Они брались за руки и плыли вместе, бок о бок, скользя в прозрачной воде. Порой они взлетали на гребни волн, погружаясь в пену и резвясь в разноцветной радуге ярких брызг. Он смотрел на Мэрион и видел, как радуга сияет в ее волосах.
Капитан Генри Каннингем не спал, когда часы пробили три. К этому времени он уже отказался от всяческих попыток заснуть. Это случилось около получаса назад, когда он включил свет и попытался заняться изучением статьи о китайском фарфоре. Раньше его совершенно не интересовали подобные вещи. Но если он действительно собирается выйти в отставку и взять на себя руководство антикварным предприятием, которое так неожиданно завещал ему крестный отец, старый мистер Генри Юстатиус, то придется узнать много нового об истории фарфора. Разумеется, он еще не принял окончательного решения, но должен сделать это до конца месяца. Моррисы не будут дважды повторять свое предложение; ему придется либо принять, либо отклонить его – ведь отпуск закончится через несколько недель.
Больше всего его волновали мысли о Хилари. Она так хотела, чтобы они занимались антикварным делом вместе. Именно тогда он всерьез задумался об этой возможности. Но если Хилари готова отказаться от участия в предприятии, то и он не станет этим заниматься. Лучше он уедет далеко, на край света, как можно дальше от Хилари Кэрью и от своей матери, которая всякий раз напоминает о том, какой опасности ему удалось избежать. Гнев подсказывал Генри, что опасность по-прежнему рядом, но он вовсе не хотел от нее скрываться. Хилари повела себя отвратительно – это ее собственные слова, – но он не собирался позволить ей ускользнуть из его жизни. Он оставил ее на время, поскольку был зол и она заслужила это наказание. Но как только он увидит ее смирение и раскаяние по поводу случившегося, то сразу же простит. По крайней мере, так он думал днем, но когда наступала ночь, он начинал понимать, что все далеко не так просто. А если Хилари не захочет мириться? Если она на самом деле увлечена этим негодяем Безилом Монтэгю? Если… если… А если он потерял ее?
В такие минуты сон окончательно покидал его, и он уже не мог сосредоточиться на фарфоре. Генри садился на край кровати и вновь пытался понять, почему его отец женился на матери и почему мать так невзлюбила Хилари. Она унижала ее целый день, и это был последний день его пребывания в Норвуде, где он был так счастлив в течение долгих лет. Спасибо провидению и старику крестному за четырехкомнатную квартиру над антикварной лавкой, ставшую прекрасным поводом не проводить отпуск с матерью. Он собирался жить здесь вместе с Хилари.
Ну вот, опять он думает о Хилари. Его гнев обернулся против него самого, поскольку даже мимолетная встреча с ней способна вывести его из равновесия. Избрав свой путь, ты должен быть готов следовать ему, но случайная встреча с Хилари совершенно выбила его из колеи, он уже собрался отказаться от заманчивых перспектив и отправиться на край света только для того, чтобы снова оказаться рядом с ней, обнять и поцеловать ее, увезти с собой и жениться на ней. Он пал так низко, что написал ей письмо – не то письмо, где он великодушно прощает ее, следуя своему плану, но страстное послание с просьбой о примирении, объяснением в любви и предложением руки и сердца. Даже у самолюбивых молодых мужчин случаются минуты слабости. И он только что пережил такую. Обрывки этого недостойного послания лежали в камине, потихоньку исчезая в веселых огоньках пламени. И так же медленно таяли в его сознании предательские мысли.
Генри мрачно посмотрел на камин. На самом деле он ведь не видел Хилари сегодня днем. Это был лишь один дразнящий, провоцирующий, мимолетный взгляд. Ему показалось, она выглядела бледной. Его сердце сжалось при мысли, что бледность Хилари связана с болезнью, но память услужливо подсказала – ее румянец исчезал в холодную погоду. Не исключено, она увидела его раньше, чем он ее, и эту бледность вызвало смятение чувств. Но тут холодный разум сардонически произнес: «Не думаю!» Нет никакой причины воображать, будто Хилари все еще испытывает к нему какие-то чувства. Его всегда поражала ее веселость и безудержный оптимизм. Он никогда не замечал, чтобы она бледнела или мучилась от угрызений совести, выказывая полное равнодушие к его желаниям.
В эту секунду в его сознании возникли две противоположные мысли. Одна нашептывала: «Маленькая чертовка!» – а другая повторяла: «О, Хилари, дорогая!» Нелегко разобраться в своих чувствах к девушке, если, понимая, что она покорила твое сердце, моментально вспоминаешь, что она настоящая маленькая чертовка, а желая забыть о ней навсегда, с болью ощущаешь, что она завладела твоим сердцем. Эту довольно простую дилемму невозможно решить в одиночку, но вдвоем эта задача уже не кажется такой сложной. Генри некого было попросить о помощи. Поэтому он продолжал смотреть на камин, в котором обрывки письма успели превратиться в едва различимую пыль.
Глава 8
Хилари открыла глаза и прищурилась от яркого света. Ноябрьское солнце, чересчур яркое для Лондона, находилось слишком высоко над головой. Она моргнула. Это оказалось вовсе не солнце, а свет свисавшей с потолка электрической лампочки. А она лежала не в своей постели, а в гостиной, в огромном кресле Джеффа, и на коленях у нее было что-то тяжелое. Она приподнялась, толстая папка с громким звуком рухнула на пол, и она вспомнила, что это дело об убийстве Джеймса Эвертона.
Ну конечно, ведь она просматривала его. Она прочитала все материалы дознания, а потом, должно быть, заснула, так как часы били уже семь, а сквозь плотные занавески пробивался холодный туманный свет. Она замерзла, одеревенела и не выспалась – было ощущение, что она бодрствовала всю ночь и совершенно не отдохнула.
«Ванна», – решительно сказала себе Хилари. Она потянулась, вскочила с кресла и подняла папку. В эту самую минуту дверь открылась и она увидела Мэрион, удивленно и рассерженно смотревшую на нее.
– Хилари! Что ты делаешь?
Хилари захлопнула папку. Ее смешные короткие кудряшки разлетелись в разные стороны. Она была похожа на привидение, которое забыло вовремя исчезнуть, провинившееся и растрепанное привидение. Она прошептала:
