Невероятные женщины, которые изменили искусство и историю бесплатное чтение
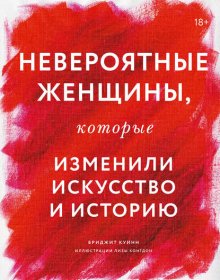
Информация от издательства
Научный редактор Мария Меньшикова
Издано с разрешения Chronicle Books LLC
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Original h2: Broad Strokes. 15 Women Who Made Art and Made History (In That Order)
Text © 2017 by Bridget Quinn.
Illustrations © 2017 by Lisa Congdon.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher.
First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019
ЛУКАСУ И ЗУЗУ, ХУДОЖНИКАМ И СПОРТСМЕНАМ, А ТАКЖЕ НЕИЗМЕННО РО И С ЛЮБОВЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ ПОЛЛИ ЭНН КУИНН (И С ПРОСЬБОЙ О ПРОЩЕНИИ ЗА ДОПУЩЕННЫЕ НЕПРИСТОЙНОСТИ)
Я полагаю, будет верно и правильно, благонравно и целомудренно осознать свое главное предназначение и вцепиться в него зубами, повиснуть на нем всем телом и следовать за ним всюду, куда оно поведет. Тогда даже смерть, которой неизбежно окончится жизнь, какой бы она ни была, не сможет вас разлучить.
ЭННИ ДИЛЛАРД. ЖИТЬ КАК ГОРНОСТАЙ
Введение
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ в 1987 году, весной моего первого года учебы в Калифорнии. В ту пору я была еще подростком, хотя уже и не совсем, и целыми днями думала о том, какой след мне суждено оставить в мире. Сделав шаг, казавшийся бессмысленным всем, в том числе и мне самой, я выбрала своей специализацией историю искусств – тему, о которой совершенно ничего не знала. Но почему-то мне больше всего хотелось разбираться именно в искусстве. И я окунулась в него с головой – девчонка, выросшая на холмистых равнинах Монтаны, в городе, где был всего один музей, посвященный творчеству местного ковбоя-художника Чарли Рассела.
Той весной меня охватил восторг: наконец-то учебная программа дошла до XX века и в ней был курс, посвященный современному американскому искусству. После трех тысячелетий, наполненных богами, обнаженными телами, королями, святыми и лодочными прогулками по Сене, я наконец почувствовала себя уверенно. Курс начался с художников-регионалистов, Томаса Харта Бентона и Гранта Вуда, чьи простодушные картины были так похожи на те, среди которых я росла.
Курс читала единственная среди моих преподавателей женщина-профессор, специально приглашенная из Техаса. У нее были длинные непослушные рыжие волосы, она носила мужские белые рубашки и джинсы с ковбойскими сапогами. Ходила с тростью и произносила слова с едва уловимым протяжным техасским выговором. Я ее обожала.
И потому, когда я записала в блокнот ее слова: «А теперь об абстрактном искусстве… Оно великое, прекрасное и настоящее», я поверила в это всем сердцем. Впервые я увидела в произведениях искусства, высвеченных на больших экранах в огромной аудитории, не работы такого-то периода или такого-то художника, а самоценные объекты; увидела попытки – иногда прекрасные, иногда не очень – отдельного человеческого существа обратиться… ну, скажем, ко всему человечеству. И даже ко мне – бледнолицей невежественной девушке, почти ребенку, с крашеными черными волосами и свежепроколотым носом. Весьма романтично – было от чего потерять голову.
И все-таки чувствовалось что-то еще. Какая-то мелочь, которую я никак не могла ухватить. И это не давало мне покоя. Для полноты картины не хватало самой малости, но я не понимала, чего именно.
На второй неделе изучения современного американского искусства мы прочно обосновались в Нью-Йорке и лишь краем глаза заглядывали в Европу, чтобы узнать, что там происходит. Или следовали за Дюшаном, Дали, Мондрианом и десятками других художников, стремившихся в Манхэттен. Совсем изредка упоминалась какая-нибудь жена художника или натурщица. В основном мне нравилось то, что я видела, я делала записи и старалась ни о чем больше не беспокоиться.
Но однажды наша рыжеволосая профессорша не выключила свет. Она просто начала говорить, опираясь под острым углом на свою трость. Поглядывая в свои записи, она с видимым удовольствием рассказывала историю некоего Джексона Поллока, который родился в Вайоминге и учился в средней школе в Калифорнии. Я подалась вперед. Я и не знала, что на американском Западе тоже были великие художники.
Она надела очки, улыбнулась и прочитала слова, которые молодой Джексон – ему было примерно столько лет, сколько мне тогда, – написал в анкете: «Что касается того, кем я хотел бы быть. Сложно сказать. Кем-то вроде художника».
Весь мир сузился до маленькой точки – фигурки моей преподавательницы на кафедре. Мелкое беспокойство снова дало о себе знать, но, пока я пыталась определить его источник и смысл, свет погас, и на экране появились две восхитительные картины. Одну из них написал Поллок, другую – некто по имени Ли Краснер. «Это его жена», – уточнила профессор, снимая очки. Да, Ли была женщиной, была художницей, и она была хороша.
Мелкое беспокойство превратилось в звук, в голове словно завыла сирена – и так сильно, что я пропустила мимо ушей почти весь остаток лекции. Занятие закончилось, и, топая армейскими башмаками, я отправилась в библиотеку искусств, где взяла три книги о Джексоне Поллоке.
Книг, посвященных Ли Краснер, не было, поэтому мне пришлось узнавать о ней через ее мужа. Оказалось, она раньше него вступила в Лигу студентов-художников и достигла таких успехов, что ее наставник Ганс Гофман сделал ей высочайший комплимент: «Это настолько хорошо – и не подумаешь, что писала женщина».
Я закрыла книгу и вспомнила все те издания по искусству, на которых я выросла.
В моей семье хранилась серия издательства Time Life с биографиями выдающихся художников. Десятки томов стояли на полке в кабинете отца, все в одинаковых серых переплетах, но посвященные разным художникам и скульпторам. В течение многих лет я любила эту серию – примерно до тех пор, пока в десятилетнем возрасте внезапно не осознала, что в ней нет ни одной книги о женщине. Тогда передо мной открылась еще одна ужасная правда взрослых: девочки не могут быть великими художниками. С тех пор эти книги только расстраивали меня.
Я подошла к своему шкафчику в библиотеке искусств и достала наш главный учебник – «Историю искусств» (History of Art) Хорста Янсона. Водрузила увесистый том на стол и принялась его листать. Наконец лишь на пятисотой странице, в разделе итальянского барокко начала XVII века, я увидела имя – Артемизия Джентилески – и слова: «До этого времени женщины-художницы нам не встречались». Я записала ее имя и затем медленно, страница за страницей, просмотрела книгу до конца. Когда я дошла до тыльной стороны переплета, передо мной уже лежал список: шестнадцать женских имен, среди которых было имя Ли Краснер. Это все, что могла предложить мне «официальная» более чем восьмисотстраничная история искусств:
Артемизия Джентилески, Элизабет Виже-Лебрен, Роза Бонёр, Берта Моризо, Мэри Кэссетт, Гертруда Кезебир, Джорджия О’Кифф, Ли Краснер, Хелен Франкенталер, Джуди Пфафф, Одри Флэк, Барбара Хепуорт, Маргарет Бурк-Уайт, Доротея Ланге, Беренис Эбботт, Джоан Леонард.
Во время консультации со своим профессором я упомянула художниц из книги Янсона. Ни об одной из них, кроме Мэри Кэссетт и Джорджии О’Кифф, а теперь и Ли Краснер, я никогда раньше не слышала.
В ответ раздался хриплый прокуренный смешок: «Вам досталось новое издание! В нашем вообще не было ни одной одетой женщины. – Она широко взмахнула рукой, словно отгоняя дым. – Были, конечно, но вы понимаете, о чем я… Ни одной женщины-художника». Она разрешила мне написать курсовую работу о Ли Краснер, предупредив, что найти источники будет трудно.
Так и случилось.
Однако всякий раз, когда выпадала возможность, я старалась как можно больше узнать о женщинах из своего «списка Янсона». Одни не слишком меня заинтересовали, но другие – Джентилески, Краснер или Роза Бонёр, бесшабашная художница-анималистка XIX века, – о них мне всего было мало. Кроме того, я обнаружила невероятных женщин, не вошедших в учебник. Например, Эдмония Льюис, в которой смешалась кровь афроамериканцев и индейцев чиппева. Она выросла в годы Гражданской войны, а затем много лет успешно работала скульптором в Риме. Или Фрида Кало, которая, хотите верьте, хотите нет, как раз в то время начала появляться вместе с Че Геварой в нашем кампусе – на футболках латиноамериканских активистов. Фриды Кало тоже не было в моем списке; правда, несколько лет до описываемых событий вышла ее первая биография на английском, и я нашла экземпляр, но вовсе не в библиотеке искусств, а в центральной библиотеке.
Тогда я называла себя феминисткой (и сейчас тоже), но моя одержимость художницами выходила за рамки феминизма, а может быть, вообще не имела к нему отношения. Я жила жизнями этих женщин точно так же, как мои друзья, слушавшие Joy Division, The Clash, Hüsker Dü, погружались в мир рока. Каким-то странным образом я ощущала свою связь с женщинами-художниками: они понимали меня и они принадлежали мне.
Янсон писал свою «Историю искусств» – настольную книгу любого искусствоведа, – когда преподавал в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета. Позже я училась там в магистратуре. На курсе Герта Шиффа, посвященном немецкому экспрессионизму, я открыла для себя Паулу Модерзон-Беккер. Работы рано умершей художницы предвосхитили появление дерзкого и авангардистского немецкого модернизма. Меня глубоко потрясли ее картины и дневники; я читала их на английском и досадовала – далеко не в последний раз – на свой бедный немецкий, хотя для проходного балла его хватило.
С французским дело обстояло лучше. На семинаре Роберта Розенблюма, посвященном Жаку-Луи Давиду, на втором году обучения в магистратуре мне поручили сделать доклад о портретистке Аделаиде Лабий-Гийар, о которой почти не было материалов на английском языке. В Метрополитен-музее (он стоит через дорогу), наверху в галерее, над парадной лестницей, висел монументальный автопортрет Лабий-Гийар с двумя ученицами. Почти каждый день я подходила к нему и подолгу вглядывалась в лицо художницы, смотревшей с холста пристально и уверенно. Убежденностью в собственной правоте и чем-то еще очень важным она не только подавала пример своим ученицам, но и формировала мое поведение.
Работала я усердно. Что говорить, мне хотелось сделать хороший доклад, но еще больше – узнать о самой Лабий-Гийар. Кем была она, эта потрясающая женщина и виртуозная художница, забытая историей? И самое важное, мною овладело буквально нездоровое, почти постыдное любопытство: мне просто требовалось знать все о ее участи.
Однажды я провела целый день в библиотеке Института изящных искусств. И вот поздно вечером, вырвавшись из XVIII столетия и дебрей французского языка, я вернулась домой, выключила в комнате свет, зажгла свечи в стаканах, купленных в винной лавке за углом. Сегодня мне довелось узнать, что Лабий-Гийар пришлось сжечь свое самое грандиозное произведение. Свечи мерцали, в стереомагнитофоне поскрипывала кассета с Velvet Underground, я стояла у окна, жевала печенье с шоколадной крошкой, запивала его пивом, всматривалась в мелькавшие за стеклом фигуры людей, машины, огни и спрашивала себя, почему когда-то мне пришло в голову изучать историю искусства.
Еще три большие бутылки пива – ровно половина упаковки. Еще один альбом Velvet Underground. И меня внезапно осенило: я хочу сама заниматься творчеством, а не изучать чужое. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать писателем.
Великие жизни вдохновляют.
Великое искусство меняет жизнь.
Творческие судьбы пятнадцати художниц, о которых пойдет речь, поражают своим многообразием: от всепобеждающей славы до непроходимой безвестности. Но у каждой из них есть своя история, которая кому-то поможет продраться сквозь забвение, а кого-то даже заставит пересмотреть собственные представления об искусстве и успехе.
Не так давно на коктейльной вечеринке приятельница спросила, над чем я работаю. «Пишу о своих любимых художниках», – с удовольствием ответила я. «О каких?» – потягивая коктейль, поинтересовалась, ухмыльнувшись, приятельница. Полагаю, она сразу вообразила неистовых латиноамериканцев-монументалистов или какого-нибудь полуголого художника-акциониста. Я успела произнести лишь одно слово – барокко. Приятельница поставила бокал и сказала: «Самый ужасный курс в колледже – история искусств. Такая скука». «Может, тебе просто не повезло с преподавателем…» – парировала я, собираясь поддразнить ее пикантной искусствоведческой фишкой, но она, увидев у меня за спиной что-то более интересное, устремилась туда.
Мне кажется, стоит заключить небольшое соглашение, прежде чем мы начнем. Условимся с самого начала: вы оставляете за порогом данной книги все рвотные позывы, которые вызывает у вас старое доброе искусство. Подавите их. Или пойдите прогуляйтесь. Давайте договоримся: пока мы вместе, да не убоимся мы ни корсетов, ни грудных младенцев-спасителей, ни мужчин в цилиндрах и шейных платках, ни персикового великолепия необъятных бедер в ямочках.
Давайте не будем судить, пока не узнаем больше.
Когда я была студенткой, мой первый куратор оплачивал свою учебу в магистратуре деньгами, которые не самым честным путем выигрывал в бильярд. Как профессиональный бильярдный шулер, он пользовался творческим псевдонимом Санта-Барбара Джим. Несмотря на прискорбную банальность своего прозвища, С.-Б. Дж. жил лучше любого аспиранта. Он носил щегольские льняные пиджаки и коньячного цвета ботинки с перфорированными носками. Мастерски орудовал кием и разбирался в людях. Союз сих ценных качеств позволял ему неплохо зарабатывать на жизнь.
Кроме того, С.-Б. Дж. даже имел собственное представление об искусстве. «Настоящее искусство, – сказал он однажды, – очень сексуально, мужчину оно заводит». Целью было смутить девушку, но меня это восхитило, и я занесла его максиму в свой блокнот, поместив ее рядом с такими терминами, как французский œuvre – «творчество, произведение, строение» – и итальянский sfumato – «затушеванный, окутанный дымкой». Мне понравилось слушать его сальности об искусстве. Возможно, более сознательная студентка отвергла бы гендерно окрашенные фразочки, но я не стала. В конце концов, рассуждения С.-Б. Дж. о том, как его возбуждает искусство, я отнесла бы на счет образности речи. Великое произведение должно воздействовать не только на наш интеллект, но и на нашу физиологию. А хорошая доза эротической встряски никак не вступает в противоречие с нашим тонким вкусом.
И потом, вряд ли вы узнаете, что именно вас заводит, пока этого не произойдет.
Давайте приступим.
Глава 1. Артемизия Джентилески
Было много караваджистов, но караваджистка только одна.
МЭРИ ГАРРАРД
ПЕРВОЕ, что, на мой взгляд, вам следует знать: искусство может быть опасным, даже если оно соблюдает приличия. Иногда даже вполне благопристойное произведение выглядит угрожающе. Наглядный тому пример – картина Артемизии Джентилески «Юдифь, обезглавливающая Олоферна». Написанная приблизительно в 1620 году, она до сих пор не утратила своей способности приводить зрителя в ужас.
Артемизия Джентилески. Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Ок. 1620
«Что за ерунда?» – спросите вы. Думаю, в некотором смысле картина говорит сама за себя. Две женщины удерживают сопротивляющегося мужчину, и одна из них мечом перерезает ему горло.
Безусловно, перед нами жестокое, кровавое полотно. В этом оно похоже на многие другие: насилие наравне с возвышенной любовью и религиозным пылом всегда было одной из главных тем искусства. Но картина Джентилески нарушает все правила. В ней так много жестокости, что она лишает зрителя душевного равновесия.
Женщины действуют сосредоточенно и бесстрастно. На их месте легко можно представить каких-нибудь знаменитых шеф-поваров. Так и вижу Джулию Чайлд и Элис Уотерс, разделывающих индейку. Конечно, работа кровавая и не из самых легких, но она должна быть сделана.
Да, и это дело нужно завершить. Женщины на картине – еврейская вдова Юдифь и ее служанка Абра. Они должны казнить ассирийского полководца Олоферна, иначе он уничтожит их народ.
И хотя Юдифь и Абра выполняют героическую задачу, изображены они отнюдь не в лестном виде. Яркий свет падает снизу и слева, бросая грубые тени на лица женщин, склонившихся над своей жертвой. Женщин трудно отличить друг от друга, обе одинаково поглощены своей работой, хотя Юдифь слегка подалась назад от бьющих струй крови. Возможно, из-за того, что кровь пачкает ей платье. Кровь забрызгала лиф и грудь женщины и стекает густыми красными ручьями по белой постели, на которой бьется Олоферн. Жертва Юдифи – извивающийся в предсмертной агонии Олоферн – обнажен. Юдифь и Абра одеты. Они стоят – он лежит навзничь. Юдифь сжимает смертоносное оружие – у мужчины нет ничего. Коротко говоря, вся власть на картине принадлежит женщинам.
Женщины не только одеты, что прямо противоположно наготе их жертвы, но одна из них одета богато. Юдифь облачена в элегантное золотое платье с широкими рукавами, подвернутыми выше локтей (как-никак она занята работой) и подбитыми красной тканью. Ее цвет перекликается с цветом пролитой крови. Левой рукой, сжатой в кулак, Юдифь с силой удерживает Олоферна за черные волосы, выше на той же руке – два золотых браслета. Как указывает Мэри Гаррард, исследователь жизни и творчества Артемизии Джентилески, один браслет – простой, узкий, другой – массивный, вычурный, а на его овальных звеньях можно разглядеть, если присмотреться, изображения богини Дианы. Последняя известна еще как греческая богиня Артемида, то есть тезка художницы, создавшей этот буйный мир.
Зрелище Юдифи с ее отточенной прямотой, невозмутимой жестокостью и смертоносной силой невольно вызывает вопрос: по плечу ли женщине такое дело?
Отсечение головы?
Занятие живописью?
Как и большинство женщин, состоявшихся как художники до ХХ века, Артемизия Джентилески (1593–1656) была дочерью живописца. Орацио Джентилески, ее отец, считался почтенным мастером римского барокко. Ему посчастливилось (или напротив) обладать способностью распознавать и ценить чужие таланты.
Орацио стал одним из первых последователей Караваджо и его революционного искусства. Караваджо создал новый визуальный язык, соединив реалистичность натурализма с выразительными драматическими акцентами. Он с огромным успехом применял кьяроскуро (смелый контраст света и тени), доводя этот прием почти до тенебризма (когда в пространстве, заполненном густой тенью, возникают пронзительно ярко освещенные области), поднимая на драматическую высоту обыденную жизнь, знакомую каждому зрителю. Сравните: окутанные дымкой (вышеупомянутое сфумато), загадочные, почти потусторонние пейзажи Леонардо, жесткие контуры сверхгероев Микеланджело и реалистичные сцены Караваджо – перед нами исполненный мастерства принципиально новаторский подход.
Орацио был близким другом Караваджо. Когда Артемизии было всего десять лет, в 1603 году, он даже ненадолго отправился вместе с Караваджо в тюрьму – живописцев признали виновными в клевете, так как они написали язвительные стихи об одном своем коллеге. Речь шла об алтаре – работе этого художника.
Обратите внимание: далее я буду называть Артемизию по имени, чтобы отличать ее от отца. А также потому, что великих итальянцев традиционно называют по именам: Данте, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и прочие. Правда, имя Караваджо взято художником Микеланджело Меризи по названию маленького городка, в котором он когда-то жил, да и то лишь потому, что имя Микеланджело уже было занято.
Отдадим должное Орацио – он сразу признал, что ребенок, пусть и девочка, очень способен. Артемизия – старшая из четырех детей и единственная дочь в семье, но Орацио взялся обучать искусству рисования именно ее. Когда Артемизии было всего двенадцать лет, ее мать умерла, и остаток детства девочка провела в мужском мире. Ее окружали не только отец и братья, но ученики и подмастерья отца, его коллеги и натурщики. В последующие века самым веским аргументом, отстаиваемым рьяно и страстно, в пользу запрета изучать женщинам произведения искусства стал как раз этот фактор – толпы мужчин, непрерывно заполняющие «темные коридоры» академий, студий и ателье.
После смерти жены другой мужчина решил бы, что его единственной дочери пора оставить детские забавы – карандаши и краски – и взять на себя женские обязанности по дому. Но Орацио признавал талант Артемизии, и она стала ценным работником в его мастерской. Вероятно, ее образование включало необходимые художнику умения: подготовку холста, смешивание красок, рисование с натуры. Однако оно не предусматривало излишеств вроде чтения и письма, как и у большинства девушек незнатного происхождения. В девятнадцать лет Артемизия сказала судьям в Риме: «Писать я не умею, читать могу, но очень слабо». Однако к художественному образованию дочери Орацио относился весьма серьезно. Чтобы обучить ее тонкостям перспективы, он нанял своего коллегу, мастера в области иллюзорной архитектурной живописи Агостино Тасси.
Артемизия редко появлялась на публике. В основном она, в полном согласии с культурными ожиданиями той эпохи, проводила время в надежном родном доме или мастерской отца. Вспомните сады с высокими стенами и почти неприступные дома Ромео и Джульетты или тот факт, что Данте за всю жизнь лишь дважды смог поговорить со своей возлюбленной Беатриче, соседской девушкой, которую знал с детства.
Но и дома Артемизия не была в полной безопасности. Когда ей было всего семнадцать лет, их соседка Туция – пожилая женщина, дружившая с оставшейся без матери девушкой, – тайно впустила через общую дверь в жилище Джентилески наставника Артемизии Агостино Тасси. Взрослый художник изнасиловал свою ученицу. Девушка тщетно звала на помощь, но никто так и не пришел. Сохранилось описание, данное самой Артемизией. Оно душераздирающее.
Он задрал мои юбки, хотя это удалось ему с большим трудом, закрыл рукой с платком мои горло и рот, чтобы я не кричала… Я все равно пыталась кричать, как только могла, звала Туцию. Я царапала ему лицо и рвала ему волосы… После того как он сделал свое дело, он слез с меня. Когда я поняла, что свободна, то бросилась к столу, взяла из ящика нож и пошла на Агостино, говоря: «Я хотела бы убить тебя этим ножом, потому что ты обесчестил меня».
Важно подчеркнуть, что поступок Тасси не считался «изнасилованием» в современном смысле этого слова, он квалифицировался как «лишение девственности» или «воровство» собственности отца Артемизии, то есть невинности его единственной дочери. Тасси понимал, какие неприятности его ждут. Он нарушил закон, так как «испортил» целостность девственной плевы дочери Орацио, и ему пришлось сказать, что он возьмет ее в жены. Если они поженятся, все будет в порядке. В противном случае Артемизию сочли бы опозоренной. Поэтому она согласилась, поступив вполне сообразно итальянским законам, учению церкви, правилам приличия и прочим мерилам благополучного существования женщины в современном ей мире.
Увы, проходили месяцы после обещаний Тасси, и вдруг выяснилось, что он женат. Орацио подал в суд, выставив свою «ограбленную» дочь на всеобщее обозрение судей и публики.
Последовало крайне тягостное семимесячное разбирательство. Чтобы удостовериться, что Артемизия говорит правду об изнасиловании, ее подвергли пытке с помощью сибиллы – своего рода тисков для пальцев, где к кольцам вокруг пальцев одной руки крепили струны, а затем затягивали их, причиняя мучительную боль. Это был своего рода детектор лжи XVII века, одобренный законом того времени золотой стандарт достоверности. Соглашаясь на это, Артемизия не только принимала ужасную боль, но и рисковала искалечить руку – немыслимая судьба для художника. Но чтобы ей поверили, девушке пришлось это вытерпеть.
В протоколах судебных заседаний говорится, что на каждый заданный судом вопрос Артемизия твердила: «Это правда, это правда, это правда, это правда», но в середине пытки она внезапно не выдержала и закричала: «Вот какое кольцо ты мне дал, вот твои обещания!» Тасси сидел в зале суда.
Вероятно, не менее мучительным, чем физическая пытка, было требование, чтобы юная Артемизия дважды подверглась гинекологическому осмотру, который должен был подтвердить дефлорацию. Присутствовавший при осмотре судебный нотариус зафиксировал результаты. Записи сообщают, что две повитухи «ощупали и осмотрели влагалище донны Артемизии Джентилески» и обнаружили, что «она не девственна», поскольку ее «девственная плева разорвана». Одна из повитух добавила: «И это произошло некоторое время назад, а не недавно, поскольку если бы все произошло недавно, то было бы заметно».
Орацио выиграл дело. Не в последнюю очередь благодаря неистовой стойкости его дочери, но также и потому, что в ходе судебного разбирательства всплыли новые факты: Тасси намеревался убить свою жену и сделал ребенка ее сестре. Он был редкостным мерзавцем. Счастье, что Артемизия избежала такого замужества.
Тасси был «изгнан» из Рима, впрочем, на исполнении этого приговора особенно не настаивали, и позднее они с Орацио даже работали вместе над одним заказом. Иногда выгода заглушает голос чести.
Артемизию поспешно выдали замуж за незначительного флорентийского художника Пьерантонио Стьяттези – это произошло в 1612 году, через месяц после окончания судебного процесса, а в 1614 году они уже жили во Флоренции. По существу, Артемизии пришлось бежать из своего дома в Риме, где независимо от результатов суда ее имя было навсегда запятнано. В дальнейшем историки, вспоминая о ней, всякий раз непременно отмечали ее репутацию «падшей женщины».
Итак, она сбежала, воспользовавшись браком по сговору. Ее муж уступал ей как художник, а в ее новом городе властвовали Медичи. Если вы не знакомы с опасной репутацией Медичи, могу порекомендовать небольшую книжку под названием «Государь» (Il principe), написанную флорентийским государственным деятелем Никколо Макиавелли в тюремной камере. Артемизия, по сути, осталась одна в новых, очень неспокойных условиях. Да, у нее появился муж, и она больше не была дочерью своего отца и не работала под его началом у него в мастерской. Ей надлежало полагаться только на свои силы и профессионализм и добиваться собственных заказов. Другого выбора не было, как только сложить свой талант и владение новаторским стилем Караваджо со всеми его обостренными эмоциями и мелодраматичностью к ногам Медичи. К счастью, им понравилось.
Флоренция приняла Артемизию благосклонно. Ее наставником стал не кто иной, как Микеланджело Буонарроти – младший, внучатый племянник великого гения эпохи Высокого Возрождения. Артемизия была в числе первых художников, получивших от него заказ на создание фресок для Каза-Буонарроти, который тогда богато украшали в честь Микеланджело. Для этого заказа она написала, вполне закономерно, обнаженную женщину. Женщины удавались ей особенно хорошо, поскольку, в отличие от художников-мужчин, она могла рисовать собственное тело и натурщиц (что было запрещено мужчинам).
Даже у такого мастера анатомии, как Микеланджело, были проблемы с женскими формами. Вспомните его надгробные изваяния для новой сакристии церкви Сан-Лоренцо. Женские фигуры, олицетворяющие Ночь и Утро, имеют отчетливо мужественный точеный торс с широко расставленными неестественно выпуклыми грудями, которые выглядят чужеродно, словно результат неудачной пластической операции. Отсутствие доступа к натурщицам объясняет странную женскую анатомию на картинах многих художников эпохи Ренессанса и барокко. (Хотя никто не может объяснить множество крайне странных младенцев.)
Артемизия состояла в приятельских отношениях с людьми, вхожими в круг Медичи, главным образом она дружила с Галилео Галилеем; более того, ей оказывали столь необходимое покровительство сами Медичи. Всего через два года после переезда во Флоренцию, в 1616 году, Артемизия была выбрана членом Академии рисунка. С момента своего основания (1563) это учреждение впервые ввело в состав женщину. Но жизнь не была и никогда не будет отмечена лишь одними успехами. В переписи 1624 года среди членов ее семьи не упомянут муж, который полностью исчезает из истории. К тому времени, когда Артемизия написала уже знакомую нам «Юдифь», она родила по меньшей мере четверых детей, одна из которых, девочка, также стала художницей. Кроме того, Артемизия завела любовника. Она стала единственным кормильцем семьи и была постоянно занята детьми, поисками заказов, созданием картин и попытками, не всегда успешными, получить за них деньги.
Свое первое изображение Юдифи Артемизия написала вскоре после суда – это был прототип картины, которую она создала во Флоренции после рождения детей. Может быть, она чувствовала, что этот сюжет, с его возвышенным драматизмом, роскошью и насилием, придется по вкусу Медичи. А может быть, эта сцена представляла для нее личный интерес, если учитывать ее историю и таимое чувство мести. Я хотела бы убить тебя этим ножом, потому что ты обесчестил меня. У Тасси тоже были темные волосы и борода.
Трудно смотреть на полногубых юношей Караваджо и не ощущать некоторый сексуальный подтекст (художник, возможно, был гомосексуален) – тем более велик соблазн увидеть биографические мотивы в работе Артемизии. Молодая женщина подвергается изнасилованию, за которым следуют публичные пытки и унижение. Вскоре после этого она рисует свою первую версию сцены, в которой женщина обезглавливает бородатого мужчину.
Артемизия была далеко не первым художником, решившим изобразить историю Юдифи. Этот сюжет давно пользовался популярностью. У Караваджо есть знаменитая картина с более типичной Юдифью в виде прелестной молодой девушки (с просвечивающими сквозь рубаху острыми сосками) и Аброй, которая выглядит почти как древняя старуха из какого-нибудь диснеевского фильма. Менее типично, что Караваджо, как и Артемизия, решил изобразить именно момент обезглавливания. Обычно живописцы обходили стороной изображение самого акта убийства. У Боттичелли миловидная Юдифь в развевающихся одеждах легкой поступью идет по полю впереди Абры, которая несет на голове корзину с головой Олоферна. Эта сцена дышит такой здоровой простотой, будто они возвращаются после сбора яблок.
Джон Рёскин считал образ, созданный Боттичелли, безусловно, лучшим в изображении этого традиционного кровавого сюжета. Если вы не знаете, кто такой Рёскин, то объясняю: он был весьма влиятельным и плодовитым критиком викторианского времени. (Не могу удержаться, чтобы не процитировать отзыв о нем из обзора New York Times, посвященного фильму Майка Ли «Уильям Тёрнер»: «Рёскин [Джошуа Макгуайр] показан как претенциозное ничтожество с морковными волосами и голосом, которым мог бы говорить пафосный Элмер Фадд». Но я умолкаю.) Критик с неудовольствием отмечал, что история Юдифи спровоцировала появление «миллиона мерзких картин», особенно во Флоренции.
Однако Рёскин был далеко не единственным критиком «Юдифи» Артемизии. Последняя Медичи, великая герцогиня Анна Мария Луиза, просто ненавидела эту картину. По словам историка и феминистки Жермен Грир, когда британская писательница Анна Джеймсон увидела в 1882 году картину Артемизии, то назвала ее «кошмарной» и добавила, что она лишь «доказывает художественный гений создательницы и его отвратительное применение». Но почему? Почему картина Артемизии вызвала больше негодования, чем сотни (и даже, цитируя Рёскина, миллионы) Юдифей, написанных до нее?
Артемизия Джентилески. Сусанна и старцы. 1610
Возможно, это подходящий момент, чтобы слегка отступить от темы и поговорить о Юдифи: кто она? и почему так дурно поступает с человеком с диковинным именем Олоферн?
История гласит, что Юдифь была прекрасной еврейской вдовой из маленького города Бетулии. Ее городу, как и всему Израилю, угрожал царь Навуходоносор, который послал своего ассирийского полководца Олоферна уничтожить евреев. Ассирийцы были жуткими злодеями. Из тех завоевателей, которые могут заживо снять кожу с целой армии, а потом обить этой кожей стены собственных дворцов, похваляясь своей жестокостью. Никто в здравом уме и по доброй воле не стал бы связываться с ассирийцами.
Евреи Бетулии не без оснований пришли в ужас, но их страх возмутил Юдифь. Она прокралась во вражеский лагерь со своей служанкой Аброй и начала проявлять интерес к полководцу, если вы понимаете, о чем я. Ее красота распалила Олоферна, и он решил овладеть ею. Сделав вид, что она не против, Юдифь напоила его допьяна. Когда он буквально упал на кровать, не то приглашая ее присоединиться, не то просто уснув пьяным сном, Юдифь бросилась на него с мечом.
Юдифь и Абра бежали из вражеского лагеря, прихватив с собой голову Олоферна в качестве доказательства своего триумфа. Юдифь с отрубленной головой врага воодушевила еврейский народ.
Художники Средневековья и Ренессанса видели в истории Юдифи, так же как в истории Давида и Голиафа, победу слабого над сильным. Давид был обычным мальчиком – пастухом, Юдифь была просто женщиной. Но они, избранные Богом, уничтожив непобедимых врагов, совершили невозможное.
Когда Артемизию «заново открыли» в ХХ веке (вскоре после самого Караваджо), с фрейдистской и феминистской точки зрения было очевидно, что ее мощная картина «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» – это крик души, символ, воплощение желания причинить боль человеку, который заставил ее страдать. Коротко говоря, живописный акт мести.
Возможно, все верно. И вполне вероятно, именно так смотрели на картину даже ее современники. Но это не объясняет интереса Артемизии к другим великим героиням как до, так и после того, как она создала свою первую Юдифь. И это не объясняет, почему ее Юдифь вызвала столько негодования.
Самая ранняя датированная картина Артемизии относится к 1610 году – году смерти Караваджо. Ей было всего семнадцать лет. «Сусанна и старцы» также изображает сцену из католической Библии. Это история о двух старцах, которые подсматривали за купающейся молодой женщиной, ложно обвинили ее в прелюбодеянии (что каралось смертью), а затем шантажировали, дабы добиться от нее сексуальных услуг. Картина написана раньше того случая – и мы знаем это, – когда Артемизия сама пережила изнасилование со стороны человека старше ее. Однако сюжет о Сусанне давно пользовался популярностью среди живописцев, не в последнюю очередь потому, что у них было не слишком много возможностей изобразить обнаженное женское тело: Ева, пара несчастных святых (Агата, Барбара) и Венера.
Несмотря на юный возраст, Артемизия демонстрирует уверенное владение анатомией. И уже в первой профессиональной работе она обозначает свое представление об идеальной героине. Сусанна тверда, в ней нет мягкости. Всю свою жизнь Артемизия изображала героинь подобного типа: женщин полнотелых, но не откровенно эротичных. Скорее, их сложение можно назвать слегка утрированным. Ее героини действительно физически сильные женщины, но не манипулирующие своей сексуальностью. Кроме того, художница предлагает зрителю новую перспективу. Сусанна так поворачивает верхнюю часть тела, будто отодвигается от мужчин, глядящих на нее. И наша зрительская точка зрения совпадает с точкой зрения обнаженной женщины. Мы не жадно разглядываем ее наготу, как еще один гадко ухмыляющийся старец по эту сторону рамы, – мы брезгливо отодвигаемся вместе с ней.
Во времена Артемизии каждый, кто мог быть зрителем ее картин, хорошо знал историю Сусанны. Молодая женщина отвергла домогательства старейшин, и из-за этого ее жизнь оказалась в опасности. На картине мужчины одеты, а героиня обнажена, но в конечном счете она оказалась сильнее. Она предпочла смерть бесчестью, но в последнюю минуту выяснилось, что старцы солгали, – и Сусанну помиловали. Тогда уже им пришлось заплатить жизнью за свой обман.
После были написаны портреты многих выдающихся женщин – Эсфирь, Мария Магдалина, Клеопатра, Лукреция. Настоящий пантеон женской силы, в который вошла и сама Артемизия.
Артемизия Джентилески. Автопортрет в образе аллегории Живописи. 1638–1639
Ненадолго воссоединившись с отцом в Англии при дворе Карла I, Артемизия создала обманчиво простую картину, в которой на самом деле таится множество смыслов, – автопортрет в образе аллегории Живописи. La Pittura – аллегория Живописи – воплощение самого искусства в теле женщины. Важно отметить, что аллегория Живописи не муза. Не тот женский образ, вечно вдохновляющий художника, как правило мужчину. Аллегория Живописи это само искусство живописи, со всей его созидательной силой и рожденными им загадками. Простое полотно изображает художницу за работой. И в то же время Артемизия здесь многогранна и смела. Она одновременно субъект и объект, создатель и творение. Обманчиво несложный и весьма убедительный портрет самой Живописи в образе художницы и женщины. Заявляя: «Я И ЕСТЬ ОНА», Артемизия претендует на такое место в искусстве, которое недоступно ни одному художнику-мужчине.
Артемизия создавала автопортрет в образе аллегории Живописи не на пустом месте. Почти за сто лет до этого уже был утвержден ее эталон: атрибуты La Pittura перечислены в составленной итальянцем Чезаре Рипой «Иконологии», энциклопедии символов – весьма авторитетном собрании аллегорических фигур, представляющих искусства и науки, добродетели и пороки. Энциклопедия была впервые опубликована в 1590-х годах, и ею активно пользовались художники, скульпторы и архитекторы. В свою картину Артемизия тщательно вводит все атрибуты аллегории Живописи, перечисленные в «Иконологии».
Волосы. У аллегории Живописи волосы распущены, что указывает на творческий порыв. В трактовке Артемизии она выглядит женщиной, занятой работой: ее волосы небрежно убраны назад самым незатейливым образом. Она здесь не для того, чтобы ею любовались, а для того, чтобы что-то совершить. Она субъект этой картины, а не ее банальный объект.
Цепь. На шее у Артемизии атрибут аллегории Живописи – золотая цепочка с подвеской в виде маски. Маска символизирует подражание природе, которое было сильной стороной Артемизии как последовательницы натуралистической школы Караваджо. Натурализм выражается и в том, что цепочка с подвеской небрежно сдвинута в сторону. Цепочка нужна ей не для украшательства, не для придания статуса богатой дамы и даже не для того, чтобы привлечь внимание зрителя к своей груди. Цепочка просто сбилась в сторону, а женщина оставила это без внимания, поскольку занята работой.
Чезаре Рипа. Иконология. Фрагмент иллюстрированной титульной страницы с изображением Живописи. 1644
Платье. Артемизия в образе аллегории Живописи одета в зеленое платье из какого-то переливающегося материала, в некоторых местах отсвечивающего лиловым, словно костюм из шелкового полотна. Эта одежда из ткани, меняющей цвет, – drappo cangiante («переливчатый шелк») – указывает на то, что художник искусно владеет красками. И Артемизия наглядно демонстрирует свое умение. Рукава платья длиной три четверти, что создает впечатление, будто художница, подойдя к мольберту, подвернула их. Впрочем, облегающий лиф и широкие рукава не выглядят странно на женщине, занятой работой. Художники той эпохи, да и более позднего времени, нередко изображали себя на автопортретах в пышных костюмах – до такой степени нарядных, что невольно хочется спросить: «Вы действительно собираетесь рисовать в этом?» Изысканный наряд служил необходимым приемом – довольно чванливая уловка, – чтобы дать понять зрителю: да, мы люди физического труда, но какого! Мы занимаемся живописью и ваянием, а не подковываем лошадей и не укладываем кирпичи.
Руки. Левой рукой Артемизия держит палитру и опирается на прочный стол или табурет, что указывает на основательное владение художницей навыками и инструментарием своего ремесла. Правая рука, сжимающая кисть, высоко поднята. Там, где кисть соприкасается с холстом, встречаются вдохновение и ум.
Лицо. Художница отнюдь не льстит себе, не приукрашивает свою внешность, не пытается очаровать собою зрителя. Она не смотрит на нас, ее губы сжаты, глаза устремлены на полотно. Треть ее лица скрывает густая тень. Но именно лицо рассказывает о самом главном. Здесь Артемизия пренебрегает ключевым атрибутом, которого требует «Иконология»: аллегорию Живописи следует рисовать с кляпом во рту, поскольку живопись нема. Практически на всех изображениях аллегории Живописи есть это приспособление.
Артемизия отвергает кляп.
Когда я была подростком, моему отцу нравился один бар, назывался он «Тихая женщина». Над входом висела деревянная вывеска наподобие тех, что украшали пивные в старой доброй Англии. Это была вырезанная из доски и раскрашенная женская фигура, одетая в платье XVII века, но без головы. Обрубок шеи – и больше ничего. Тихая женщина. Понимаете?
Артемизия Джентилески никогда не была тихой. Она творила собственное искусство, выступала главным действующим лицом на созданных ею полотнах, своими поступками и художественными образами меняла суть женской природы, формировала новый стиль поведения и внешнего вида зрелой женщины. Ее героини не пожирательницы мужчин, они лидеры среди мужчин. Это одна из причин, почему «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» так долго отвращала зрителя. Мало того, что на картине изображена женщина, совершающая акт чудовищного насилия над мужчиной, – создать это безобразие осмелилась тоже женщина.
Артемизия отвергла кляп. И четыреста лет спустя она все еще говорит с нами, призывая: осмельтесь быть великими.
Глава 2. Юдит Лейстер
Не могу понять, это Лейстер кажется современной или заставляет меня чувствовать себя старым голландцем.
ПИТЕР ШЕЛДАЛ
НАВЕРНО, ВЫ ЧИТАЛИ книгу «Код да Винчи» или хотя бы смотрели фильм? И та и другой начинаются с ужасного убийства куратора Лувра. Конечно, это выдумка, но она заставляет вспомнить о совершенных в Лувре реальных преступлениях. Например, знаменитая кража в 1911 году оригинала «Моны Лизы» Леонардо (через два года картину нашли). Или менее известный случай 1893 года, когда выяснилось, что недавно приобретенное Лувром великолепное новое полотно Франса Халса… оказалось вовсе не Халсом.
«Дело Халса» было не столько преступлением, сколько финансовым провалом, и все-таки оно вполне могло лечь в основу сюжета романа или фильма. Я представляю, как в сумрачной галерее распаковывают новую картину. Нетерпеливо вскрывают деревянный ящик, гвозди и доски лежат на узорах паркетного пола. Некто надевает белые перчатки и освобождает полотно от защитной упаковки. Сгрудившиеся вокруг люди – все мужчины – посмеиваются с нескрываемым удовольствием, когда «Веселое общество» поворачивают к свету.
Несомненно, это огромная удача. Голландский художник XVII века Франс Халс пользовался большой любовью во Франции конца XIX века. Его свободные мазки и живые сюжеты (кто еще мог так изобразить пьяную парочку?) импонировали модернистам. Французские импрессионисты и постимпрессионисты громко восторгались работами Халса и даже копировали их. И теперь в Лувре появилась не просто замечательная новая картина мастера голландского золотого века, а «одна из прекраснейших его работ». Обалдеть.
Картину отправляют в отдел реставрации и консервации (полную жизни масляную поверхность покрывают вековые копоть, грязь, пот и слюна); там после тщательной очистки обнаруживается подпись, принадлежащая явно не Франсу Халсу. Мне хочется представить, как работники Лувра собираются вокруг картины, чтобы осмотреть то место, куда мрачно указывает реставратор.
Юдит Лейстер. Веселое общество. Деталь картины с монограммой. 1630
Вот здесь, чуть выше мужской ноги. Собственно, это даже не подпись, а странная монограмма: буква J и справа от нее яркая звезда. К несчастью для Лувра, ранее такую же монограмму J заметил Вильгельм фон Боде, за десять лет до этого писавший об истории голландской живописи. Он решил, что буква J обозначает брата Франса Халса – менее заслуженного Янса. Плохие новости.
Но фон Боде ошибался. На самом деле все обстояло «еще хуже». Пока бушевали бури обвинений и последовавших судебных разбирательств – следовало бы завести таблицу в Excel, дабы не запутаться, кто, где и на кого подавал в суд, – искусствовед Корнелис Хофстеде де Гроот раскрыл подлинного автора, кому принадлежала монограмма J. Им оказалась ранее никому не известная женщина – художник Юдит Лейстер.
Лувр был взбешен. Музею выплатили символические компенсации. А дальше – тишина.
Ученый, писатель и феминистка Жермен Грир в своем абсолютно революционном исследовании о женщинах-художниках «Бег с препятствиями» (The Obstacle Race) писала: «И никто почему-то не бросал шляпы в воздух, не радовался тому, что открыли еще одного художника, способного сравниться с Халсом в его зените славы».
Юдит Лейстер. Родилась в 1609 году в голландской семье, не имевшей отношения к искусству. Училась у художника – никто не знает какого. Уже в двадцать лет написала «Автопортрет», явно свидетельствовавший об одаренности и несомненном мастерстве автора.
Лейстер одета в модное бордовое платье с корсетом, дополненное совершенно неподходящим для работы огромным воротником и белыми кружевными манжетами, но в этом наряде она восхитительна и держится совершенно свободно. Девушка небрежно полуобернулась к нам, опираясь рабочей рукой о вычурную резную спинку стула. Рот слегка приоткрыт, как будто она вот-вот заговорит, а лукавая улыбка дает понять, что она что-то замышляет.
На картине есть одна шалость. Ее отметил критик New Yorker Питер Шелдал: кисть, которую Лейстер уверенно держит в прекрасно написанной правой руке, нацелена прямо в промежность веселого скрипача на холсте. Глубокий смысл? Или просто вульгарная шутка юной девушки? Не исключаю, что всего понемногу. Так или иначе, картина полна жизни и веселой дерзости. Хочется верить, что, если я в свои двадцать лет оказалась бы в Харлеме в 1620-е годы, мы с Джуди Лейстер точно бы зависали вместе.
Точно нацеленная кисть художника не единственное тайное послание картины. Съемка в инфракрасных лучах показала, что скрипач, изображенный на холсте, появился не сразу. Фигура музыканта написана поверх лица молодой женщины. Шелдал полагает, что это мог быть автопортрет внутри автопортрета. Скрыв собственное лицо за персонажем мужского пола, Лейстер будто совершила акт самоуничтожения, то есть предвосхитила собственное исчезновение из истории живописи.
Юдит Лейстер. Автопортрет. Ок. 1630
Несомненно, Лейстер понимала, какие трудности ожидают женщину-художника в профессии и в истории. В тот же год, когда Лейстер написала «Автопортрет», она вступила в харлемскую Гильдию святого Луки, став второй женщиной среди членов гильдии с момента ее основания. Возможно, монограмма вместо подписи – соединенные буквы JL и падающая звезда – тоже была выбрана с оглядкой на мир коммерции, не вполне готовый принять талантливую женщину-живописца.
Лейстер достигла совершеннолетия уже в мирное время, когда Голландия, недавно завоевавшая независимость, переживала бурный расцвет. Впервые в западной истории художники не зависели от церкви и знатных покровителей. Они конкурировали на свободном рынке в условиях растущего спроса на предметы роскоши – от тюльпанов до масляной живописи. Это была эпоха перемен и неслыханной социальной активности – и то и другое оказалось весьма кстати в условиях, если ты восьмая из девяти детей в семье производителей тканей и если ты не просто девочка, а девочка, мечтающая стать художником.
Семья воспользовалась благоприятным моментом, чтобы сменить фамилию (из Виллемсов они стали Лейстерами) и род занятий (с ткацкого дела на пивоварение). Юдит последовала примеру старших и создала на холсте новую личность. Новое фамильное имя и название пивоварни означало «Полярная звезда», или «Путеводная звезда». Это был манифест, как, собственно, и монограмма Лейстер – оригинальная и невразумительная. Она путеводная звезда. И вместе с тем она загадка. Может быть, так же как писательницы Жорж Санд и Джордж Элиот, она решила не брать женский псевдоним, чтобы от ее работ не отмахивались не глядя. Или, возможно, как художник, не имеющий связей в мире искусства, она посчитала, что ассоциация с семейной пивоварней поможет ей завязать нужные знакомства и обрести известность. А что, пиво же продается.
По той или другой причине, но с самого начала Лейстер использовала эту монограмму. Ее ранние известные работы – «Серенада» и «Веселый пьяница», созданные в 1629 году, – подписаны именно так. И слава богу. Без этого уникального знака Лейстер могла бы навеки затеряться в веках. Как с горечью замечает Вирджиния Вулф в эссе «Своя комната», «на протяжении большей части истории Анонимом была женщина».
Прошло десять лет, как в 1893 году заново открыли художницу Лейстер, и ее с распростертыми объятиями приняло женское движение, стремившееся найти в истории своих предшественниц. Ее включали в издававшиеся в начале ХХ века ретроспективы, посвященные женщинам в искусстве, а первая докторская диссертация о Лейстер была написана студенткой в 1920-е годы.
Официальному искусствоведению, чтобы признать Лейстер, потребовалось больше времени. В своем фундаментальном труде «Женщины, искусство и общество» (Women, Art, and Society) Уитни Чедвик цитирует Джеймса Лейвера, написавшего в 1964 году: «Некоторые женщины-художники пытались подражать Франсу Халсу, но были просто не в состоянии повторить энергичные мазки мастера. Достаточно взглянуть на работу такой художницы, как Юдит Лейстер, чтобы осознать всю слабость женской руки». Весьма типично, но необоснованно по существу. Таланта Лейстер хватило бы на десять Лейверов. Даже самая ранняя работа раскрывает в ней смелую, независимую и феноменально уверенную в себе художницу.
Лейстер довольно часто сравнивали с Халсом. Она написала немало веселых жанровых сцен с пьяницами, лютнистами и скрипачами, напоминающих его работы (свой «Автопортрет» Лейстер написала в манере, введенной Халсом: сидящий художник запечатлен вполоборота к зрителю и как будто приветствует его), но из-под ее кисти выходили и совершенно другие картины, предвосхищавшие спокойные и насыщенные интерьеры Вермеера.
Один из примеров – маленький шедевр Лейстер «Предложение», всего тридцать сантиметров высотой и менее тридцати шириной. Женщина в просторной белой блузе сосредоточенно шьет при свечах, а бородатый пожилой мужчина в меховой шапке наклоняется над ней, одной рукой касаясь ее плеча, а другой протягивая ей деньги. Она не смотрит на него. Он ведет себя настойчиво, позади него вырисовывается высокая зловещая тень. В свете свечи поблескивают монеты, которые он держит перед лицом женщины. У нее под ногами, прикрытая юбкой, мерцает жаровня. Должно быть, в комнате холодно. Ей пригодились бы эти деньги.
Это неприятная, тревожная сцена, в которой чувствуется мефистофелевский подтекст. Мужчина, несомненно, символизирует искушение. Меховая шапка в помещении смотрится странно, она указывает на богатство, но не только. Шапка похожа на иностранную, по крайней мере совершенно не на голландскую. Откуда явился этот темный незнакомец? Как бы то ни было, пожилой мужчина выглядит явно не на своем месте рядом с женщиной намного моложе его, которая отвергает его предложение, демонстративно сосредоточившись на своей работе.
Шитье – движение иголки туда и обратно – можно без труда истолковать как метафору секса. Более того, средневековым голландским словом, обозначающим шитье, на жаргоне также называлось «совершение плотского совокупления». В современном голландском языке шитье по-прежнему используют в этом смысле, хотя, вероятно, теперь его уместнее переводить одним словом, начинающимся на букву f.
Юдит Лейстер. Предложение. Ок. 1631
Так или иначе, в Голландии в XVII веке абсолютно всем порядочным женщинам и высокого, и низкого происхождения полагалось хорошо уметь шить. Таким умением гордилась любая благовоспитанная женщина. Новаторское решение Лейстер заключается в том, что она вводит это добродетельное занятие в сцену соблазнения, которое обычно происходит в борделе или кабаке. Там развязное предложение изображается как нечто приятное, забавное, смешное. Но на картине Лейстер оно выглядит нежеланным, отвергаемым и, как подсказывает темная тень, зловещим.
Юдит Лейстер. Тюльпан. 1643
Другими словами, это сцена сделана с позиции женщины.
Велик соблазн усмотреть в «Предложении» попытку Лейстер иносказательно изобразить художницу, отказывающуюся от легких денег и посвящающую себя творчеству. Или попытку заявить, что художница не уступает в добродетели белошвейке.
Довольно заманчиво было бы увидеть в картине заблаговременно данный отпор нападкам, которым Лейстер подвергнется в далеком будущем.
Вскоре после воскрешения Лейстер, когда ее имя буквально вытащили из исторической черной дыры, люди начали приписывать ей всевозможные любовные связи. Она была любовницей Рембрандта. Нет, она была любовницей Халса. На самом деле доказательств близости ее с одним из этих художников не больше, чем доказательств любовной связи между Халсом и Рембрандтом. Это чистая выдумка, в основе которой лежат неопровержимые факты: она была женщиной, они были мужчинами, все они жили в одном государстве в одном и том же столетии. Ну конечно, у них был секс.
И хотя между Лейстер и Рембрандтом не было любовной близости (так же как между Лейстер и Халсом, Рембрандтом и Халсом или… впрочем, не важно), у Лейстер и еще одного харлемского художника все-таки был роман (и секс тоже). Трудно с уверенностью утверждать, хорошо или плохо это было лично для Лейстер. Но с точки зрения искусствоведения ситуация выглядит вполне однозначно: все известные работы Лейстер, за исключением двух, были написаны между 1629 и 1635 годами, а 1 июня 1636 года она вышла замуж за коллегу-художника Яна Минсе Моленара. Он был успешнее нее с коммерческой точки зрения, хотя уступал ей как художник. Мы не знаем, почему Лейстер не написала ни одной картины за шесть месяцев до брака, может быть из-за вспышки чумы – тогда всем художникам Харлема пришлось несладко. В том и следующем году Гильдия святого Луки приостановила сбор ежегодных взносов, поскольку членам гильдии было трудно зарабатывать в городе, жителей которого больше заботило выживание, чем красивые картины.
Возможно, спасаясь от чумы или в поисках более благоприятного художественного рынка новобрачные через несколько месяцев после свадьбы переехали из Харлема в Амстердам. Там в период с 1637 до 1650 года Лейстер родила пятерых детей: Якобуса, Йоханнеса, Хелену, Эву и Константейна. До совершеннолетия дожили только Хелена и Константейн.
Историки выражают неодобрение, что Лейстер, став женой, утратила себя, – как будто она сознательно решила отказаться от живописи после того, как вышла за Моленара. Но сначала была чума, потом ухаживание и свадьба, потом переезд в новый город, потом первая беременность. И, боже милостивый, пятеро детей! Когда мои двое детей (двое!) были маленькими, я почти шесть лет не писала. У меня ни на что не хватало времени. Представьте, каково было Лейстер с пятью? Это означает не только беременности и роды, младенцев и детей постарше, домашние хлопоты, мастерскую мужа и, возможно, собственную мастерскую, но и тяжесть потерь, ужас горя. Кстати, о смерти ее детей не было сказано ни слова среди тысяч слов, которые я прочитала о Лейстер.
Разве должно нас поражать, что с появлением мужа и семьи она внезапно перестала заниматься живописью? Нас может огорчать такая потеря для искусства, но удивить? Как Лейстер могла продолжать работать?
Однако она смогла.
Долгое время единственной известной работой за подписью Лейстер, созданной в период замужества, был акварельный рисунок 1643 года одинокого тюльпана. По словам исследовательницы творчества Лейстер Фримы Фокс Хофрихтер, если «Тюльпан» написан с натуры, то это произошло в апреле 1643 года, в период цветения тюльпанов, вскоре после рождения Хелены – той дочери, которой предстояло выжить.
У Лейстер кроме новорожденной уже были дети, но в один из редких спокойных часов или, напротив, посреди хаоса семейной жизни она нарисовала этот цветок – простой, реалистичный, прелестный.
«Тюльпан» практически во всех смыслах противоположен ее знаменитым жанровым картинам: в нем нет ни иносказаний, ни морали, он не символизирует ничего, кроме самого себя – красивого и хрупкого.
Целое столетие «Тюльпан» считали последней работой Лейстер, прекрасным, хотя довольно скромным завершением творческого пути, начавшегося в блеске и благополучии. Но неожиданно в 2009 году в частной коллекции был обнаружен натюрморт Лейстер, написанный в 1654 году – на одиннадцать лет позже «Тюльпана».
Значит, Лейстер не перестала писать. И в мире должны быть еще ее картины, кроме тех, что нам известны.
Я представляю, как в галерее, залитой естественным светом, распаковывают новую картину. Нетерпеливо вскрывают деревянный ящик, гвозди и доски остаются разбросанными на полу. Некто надевает белые перчатки и освобождает полотно от защитной упаковки. Сгрудившиеся вокруг люди – все женщины – наклоняются. Общий вздох. Монограмма JL и справа падающая звезда, словно стрела, выпущенная из лука, – все мгновенно ее узнают. Юдит Лейстер. Потрясенное молчание. Затем все бросаются обниматься. И начинается веселье, достойное кисти художницы голландского золотого века.
Глава 3. Аделаида Лабий-Гийар
Она убедительно передала не только мерцание шелка, бархата и пену кружев, но и ощущение серьезной, собранной личности, чья воля и отвага подкреплены терпением и упорством…
ЖЕРМЕН ГРИР
В ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА я начала почти каждый день приходить в Метрополитен-музей к «Автопортрету с двумя ученицами» художницы XVIII века Аделаиды Лабий-Гийар. Это продолжалось добрых пять лет. По самым скромным оценкам я видела это полотно около тысячи двухсот раз.
Аделаида Лабий-Гийар. Автопортрет с двумя ученицами, мадемуазель Мари-Габриэль Капе (1761–1818) и мадемуазель Каро де Розмон (ум. 1788). 1785
Осенью 1990 года на семинаре Роберта Розенблюма, посвященном Жаку-Луи Давиду, я получила задание сделать доклад о Лабий-Гийар. Я никогда не слышала о ней, не видела ее работ. О Розенблюме я узнала еще до того, как попала в Институт изящных искусств. Он считался одним из двух профессоров (второй – Кирк Варнедо), имевших репутацию одновременно маститых искусствоведов и крутых знатоков массовой культуры. Когда в начале 1991 года опубликовали дневники Энди Уорхола, у Розенблюма была собственная строчка в указателе.
Розенблюм соединял в себе лучшие житейские качества: европейскую эрудированность и американскую практичность. Короткий ежик волос, забавная манера держаться – он был невероятно добр ко мне, понятия не имею почему.
И все же на семинар, где я открыла для себя Лабий-Гийар, мне удалось попасть не без труда. «Простите, – сказал Розенблюм, когда я протянула ему бланк, на котором он должен был расписаться, – но вы даже не посещали мои лекции».
Я понимала, как легко мне было отказать: длинные, выкрашенные в черный цвет волосы, кольцо в носу (тогда это еще выглядело необычным), красная помада, викторианские сапожки и кожаная куртка с чудной аппликацией «Крика» Эдварда Мунка, наложенной на ядерный гриб. Весь предыдущий семестр я сидела на лекциях Розенблюма по неоклассицизму, а он меня не запомнил. Именно в этом заключался мой самый большой страх. Я была незаметной. Мои сокурсники до магистратуры учились в университетах Лиги плюща, ведущих гуманитарных колледжах (Вассар, Оберлин, Карлтон) или престижных зарубежных институтах (Сорбонна, Институт искусств Курто) – а я окончила Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Я пришла из ниоткуда, у меня не было связей, я была никем.
«Я слушала ваш курс по неоклассицизму! – завопила я, настойчиво протягивая бумагу бедному Розенблюму. – И получила высший балл!» Я действительно это сказала. Розенблюм, немного ошарашенный таким напором, посмотрел на меня с веселым удивлением и оттенком сострадания. Затем потянулся за ручкой.
На первом занятии ученики Розенблюма делили между собой аспекты творчества Давида, его непосредственных предшественников, знаменитых коллег по цеху и подражателей, – сидя вокруг стола, они расхватывали темы, пока почти ничего не осталось. Полагаю, мои сокурсники были умнее и сообразительнее меня. Во всяком случае, они вели себя намного увереннее. Но затем Розенблюм сунул руку в нагрудный карман, вытащил слайд и вставил его в проектор. На экране появился «Автопортрет с двумя ученицами».
Он посмотрел на меня через большой круглый стол. «Аделаида Лабий-Гийар, – сказал он. – Строго говоря, она не была последовательницей Давида, но она пережила Французскую революцию, и эта потрясающая картина находится как раз через дорогу». Он указал в сторону Пятой авеню. «Как у вас с французским?» – спросил он.
Знание французского было обязательным требованием для этого семинара. Я сдала экзамен по чтению, едва набрав нужный балл. «Хорошо», – ответила я.
Розенблюм вытащил слайд и протянул его мне. Это был подарок.
Я выросла в Монтане, еще несколько лет провела в прибрежных городах Калифорнии, и хотя была знакома с изящным искусством, но на девяносто девять процентов мое знакомство состояло из слайдов и отпечатанных репродукций. Я говорила себе, что в этом нет ничего дурного: репродукции достаточно точные, а слайды – это же крошечные реликварии, чистые драгоценные камни. Они во многих смыслах идеальны.
Но я ошибалась. Во время учебы в магистратуре в Нью-Йорке я узнала, как соприкосновение с подлинным искусством способно психологически утомлять. Какими бурными, сексуальными, физически выматывающими бывают оригиналы. Как картины умеют соблазнять, вызывать тошноту, не давать покоя.
Многофигурная композиция Лабий-Гийар, два метра в высоту и полтора метра в ширину, производит захватывающее впечатление. Полное название картины «Автопортрет с двумя ученицами, мадемуазель Мари-Габриэль Капе (1761–1818) и мадемуазель Каро де Розмон (ум. 1788)». Это важно, поскольку молодые женщины занимают на картине центральное положение. Они стоят позади своей учительницы, там, где на автопортрете художника-мужчины мы могли бы увидеть музу-женщину (стандартный, хотя довольно остроумный пример – «Мастерская художника» Гюстава Курбе). Ученицы красивее женщины, которая их написала, хотя одеты намного скромнее – Лабий-Гийар позаботилась об этом.
Мадемуазель Капе заглядывает через плечо наставницы, очевидно восхищаясь картиной на холсте, которую мы не видим, а мадемуазель де Розмон открыто и уверенно смотрит на нас. Молодые женщины обвивают друг друга руками и наклоняются к учительнице, образуя круг взаимной поддержки. Она им понадобится.
«Автопортрет с двумя ученицами» был впервые выставлен на Парижском салоне в 1785 году.
Салоны – официальные выставки работ членов Академии живописи и скульптуры – проходили раз в два года и представляли собой нечто среднее между церемонией вручения «Оскара» и Олимпийскими играми. Там можно было в самом выгодном свете продемонстрировать свои таланты, обрести славу, заслужить восторги и похвалы. Или, как и сегодня на любой красной дорожке, стать мишенью для насмешек, издевательств и пренебрежительных замечаний.
Парижский салон был мероприятием не для слабых духом.
И он не был рассчитан на женщин.
Я приходила к портрету Лабий-Гийар так же, как некоторые люди снова и снова проигрывают любимую песню, стремясь еще раз ощутить знакомый эмоциональный подъем. Я заходила к ней до и после занятий или в перерывах. Окончив магистратуру, я устроилась на работу в Метрополитен-музей и в обеденный перерыв поднималась по большой мраморной лестнице главного зала, чтобы взглянуть на картину, хотя столовая была совсем в другой стороне.
Я чувствовала, что она узнает меня, – подобное чувство возникает, если регулярно подходить в зоопарке к одному животному. В глубине нарисованных глаз мерцал живой ум. Площадка перед ее портретом была едва ли не единственным во всем Нью-Йорке местом, где я чувствовала, что на меня действительно обращают внимание.
Другие посетители музея, неизбежно подходившие к картине, отвлекали и раздражали меня. Они ахали и хихикали при виде броского наряда Лабий-Гийар. Иногда кто-нибудь замечал, как удивительно похожа на настоящий шелк ткань ее платья, на которой неравномерно переливаются блики отраженного света. Мне приходилось собирать все силы, чтобы не разразиться импровизированной лекцией об эффекте рефлекса в живописи.
Лысый мужчина с сумочкой на животе, высокий мужчина, сощурившись, словно критик в пенсне, – они пренебрежительно вздыхали: «Как же это похоже на женщин – столько тщеславия». Другие отпускали однообразные шуточки: «Почему бы ей не снять шляпу в помещении?», «Платье красивое, но сама так себе, смотреть не на что».
Я принимала все близко к сердцу. Живопись Лабий-Гийар воплощала в себе все, к чему стремилась я. Талант. Страсть. Смелость. Кроме того, мне казалось, что мы похожи внешне: мягкие черты лица, бледная кожа, глаза с тяжелыми веками.
Я хотела узнать о ней как можно больше и выслеживала каждый новый набросок, пастель, картину, которые могли бы принадлежать ей, проверяла каждую улицу, каждого преподавателя, друга, корреспондента. Чувство долга и, не скрою, безумного желания велит мне посвятить ей не менее пятисот страниц текста, но тогда не останется места для других моих персонажей, поэтому я ограничусь лишь кратким очерком.
Лабий-Гийар родилась в 1749 году и выросла в окрестностях Лувра, в то время также служившего резиденцией художников. Ее отец торговал тканями и был поставщиком французской знати. Аристократы привыкли рассчитывать на Клода-Эдма Лабийя, когда им нужны были красивые вещи или красивые девушки (в его лавке работала будущая мадам Дюбарри, которая, прежде чем обрести печальную известность в качестве фаворитки короля Людовика XV, звалась Жанной Бекю).
Младшая из восьми детей, Лабий-Гийар – единственная, кто дожил до взрослых лет. Когда ей было всего девятнадцать, умерла ее мать.
Стремясь быть художницей, она с четырнадцати лет при любой возможности брала уроки у соседей. Вскоре после смерти матери, в 1769 году, она вышла замуж – тоже за соседа, служившего в церковном казначействе. Наверное, тогда он был хорош собой. В католической Франции развод был невозможен, но в 1777 году они законным образом расстались. По совпадению (или нет) в том же году Лабий-Гийар начала осваивать масляную живопись под руководством Франсуа-Андре Венсана, друга детства и сына своего первого учителя, миниатюриста Франсуа-Эли Венсана.
Они вместе учились у его отца, но затем Франсуа-Андре оставил отца и подругу – его приняли в престижную школу при Академии живописи и скульптуры. Для женщин ее двери были закрыты, и без академической подготовки творческое развитие Лабий-Гийар зашло в тупик. Ей, как любому другому, была хорошо известна незыблемая иерархия жанров, поднимавшаяся от скромного натюрморта к анималистической живописи, затем к пейзажу, бытовой живописи, портрету и, наконец, к высочайшей вершине – исторической живописи (огромным полотнам, рассказывающим какую-либо историю). Чтобы писать исторические картины, нужно было сначала овладеть всеми предыдущими жанрами. Кроме того, историческая живопись требовала знания мифологии, истории, теологии, литературы, философии, а также доступа к обнаженной натуре, невозможного для женщин.
Но Венсан-младший не собирался оставлять подругу на произвол судьбы. Он вернулся из Италии в 1777 году, где несколько лет изучал искусство Античности и Возрождения, и собирался научить Лабий-Гийар всему, что узнал сам. И если верить сплетням, не только этому.
Особая разновидность троллинга, породившая целое направление едкой сатиры, существовала уже в XVIII веке. Как женщина-художник, Лабий-Гийар была легкой мишенью.
К мадам Гийар
- Что вижу я, о небо! Наш друг Венсан
- Осла ничуть не лучше?
- Его любовь открыла ваш талант,
- Любовь увяла, и талант поник.
- Смиритесь с неизбежным, гордая Хлорида,
- Читайте покаянные молитвы…
Дальше неизвестный автор приведенных строк обвинял Лабий-Гийар в том, что у нее в любовниках некий Венсан – или еще две тысячи человек. Если произнести вслух по-французски имя Венсан, оно звучит очень похоже на две тысячи. Словом, он намекал, что Аделаида Лабий-Гийар просто шлюха. И к тому же бездарная шлюха. Женщинам-художникам от близости с мужчиной до звания бездарной шлюхи, по мнению публики, было рукой подать.
Но шлюха или нет, находчивости ей было не занимать. Не имея мужа, который мог бы защитить ее или поддержать финансово, Лабий-Гийар защищала себя сама, обратив обвинение в свою пользу: в 1782–1783 годах она написала шесть портретов влиятельных членов Академии живописи и скульптуры (разумеется, мужчин). Это был блестящий ход, позволивший ей заручиться поддержкой ценных поклонников ее таланта. Если кто-то восхищался своим портретом, он восхищался и способностями Лабий-Гийар.
Традиция обвинять художниц в том, что они спят с теми, кто им позирует, стара так же, как традиция обвинять их в том, что вместо них произведение создает какой-то мужчина. Но, начав изучать жизнь и творчество Лабий-Гийар и ее коллег по цеху, я обнаружила, что ее совершенно нелогичным образом обвиняют и в том и в другом сразу. Одновременно. Другими словами, на самом деле она не писала этой картины, но у нее была любовная связь с тем, кто на ней изображен. История ее жизни оказалась бесконечно интересной и во многом запутанной – но совсем не в том смысле, как старались представить люди.
Лабий-Гийар была избрана в Академию живописи и скульптуры 31 мая 1783 года. Она стала всего лишь двенадцатой женщиной среди членов Академии с момента ее основания и была принята в тот же день, что и ее так называемая соперница Элизабет Виже-Лебрен.
Все время, пока эти женщины выставляли свои работы, их сравнивали. При этом одна могла получить благосклонные отзывы, только если их не получала другая, – практика, существующая не только в искусстве. И художниц сравнивали буквально во всем, вплоть до внешнего вида (в этой категории Лабий-Гийар проигрывала).
Виже-Лебрен, миловидная (что подтверждают ее автопортреты), богатая, успешная, была придворной художницей королевы. Кроме того, она была женой торговца произведениями искусства. Поначалу ей отказывали в приеме в Академию, ссылаясь на то, что членам Академии запрещено заниматься «художественным бизнесом» (женщину отождествляли с профессией мужа). Но Академия считалась королевским учреждением, и, если королева Мария-Антуанетта чего-то желала, она обычно это получала. А она желала, чтобы ее художница была в Академии.
Можно представить, насколько академикам не понравилось, что одна женщина заставляет их принять в свои ряды другую женщину. Они недвусмысленно продемонстрировали это Виже-Лебрен и ее патронессе, приняв в тот же день Лабий-Гийар. В протоколе Академии указано, что Виже-Лебрен принята par ordre («по приказу»), а после имени Лабий-Гийар значится les voix prises a l’ordinaire («голосование проведено в обычном порядке»). В тот день Лабий-Гийар с удовольствием поставила в реестре подпись Аделаида Добропорядочная (Adélaïde des Vertus). Вот вам, сплетники.
К несчастью, Академия недолго смаковала свой ехидный жест и быстро установила квоту на количество мест для женщин. Четыре. Поразительное совпадение – именно столько женщин и числилось в Академии на тот момент.
На следующем Парижском салоне Лабий-Гийар представила «Автопортрет с двумя ученицами». Это был акт неповиновения, открыто направленный против Академии.
Лабий-Гийар изобразила себя в высоком стиле (по меткому выражению Жермен Грир, «под всеми парусами»): она сидит перед мольбертом и с уверенной небрежностью держит в руках кисти и палитру. Поперек колен лежит длинная трость (муштабель), которой художники пользовались, чтобы поддерживать ведущую руку во время работы над мелкими деталями. Это довольно распространенное приспособление, подсказывающее, что перед нами художник (см. «Искусство живописи» Вермеера или «Автопортрет» Софонисбы Ангиссолы).
На заднем плане виден бюст ее отца в классическом стиле. Позади него едва заметная в тени статуя девственной весталки, олицетворяющей античный образец добродетельной незамужней женщины. На низком табурете у ног Лабий-Гийар лежат ножницы и рулон ткани, вероятно холста. В изобразительном искусстве шитье часто связывают с женщинами. Вспомним, например, знаменитую картину Давида «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей», где стоящая в центре корзинка с шитьем отделяет суровый воинственный мир мужчин от ограниченного домашними заботами и тревогами мира женщин, чьим преимущественным правом оставалось лишь падать в обмороки. На нашей картине холст и ножницы выступают как атрибуты не швеи, а художника. То есть, утверждает Лабий-Гийар, живопись – это принципиально новое занятие для женщины – вполне ей по плечу.
Элегантное платье Лабий-Гийар свидетельствует о высоком социальном положении, подобающем художнику ее ранга. Кроме того, оно подчеркивает ее женственность. По мнению взыскательного искусствоведа Лора Ориккио, «пышное и роскошное шелковое платье сразу привлекает внимание, а грудь занимает видное место в самом центре композиции – если провести две диагональные линии из одного угла картины в другой, они скрестятся как раз в точке декольте». На своем «Автопортрете…» Лабий-Гийар предстает воплощением множества женских добродетелей. Она талантлива, фешенебельна, с шикарной грудью, кроме того, она преданная дочь и наставница.
Никоим образом не позволяет она зрителю упускать из внимания своих учениц – мадемуазель Капе и мадемуазель де Розмон, – специально написанных в немного увеличенном масштабе. Молодые женщины не изображают муз или миловидных натурщиц. Они живописцы, то есть активные и полноправные создатели художественных произведений. Включив Капе и де Розмон в свою композицию, Лабий-Гийар дерзко бросила вызов Академии, решившей ввести квоту на количество мест для женщин-художников. На стенах официального Салона Академии теперь появились еще две художницы.
В сущности, эта картина говорит: да пошли вы. А безмятежный облик ее создательницы призывает: улыбайтесь.
Неудивительно, что я никак не могла на нее насмотреться.
В ту зиму я обошла Манхэттен вдоль и поперек, задавшись целью отыскать все потенциальные источники. Мир жил еще без интернета и ноутбуков. Редко в каких крупных научных библиотеках выдавали книги на дом. Ксерокопировать материал почти никогда не разрешали, пользоваться ручками было запрещено. Вооружившись карандашом и толстенным французским словарем, я перемещалась между Нью-Йоркской публичной библиотекой, коллекцией Фрика, библиотекой Моргана, библиотекой Бобста Нью-Йоркского университета и Метрополитен-музеем. Дело шло медленно, но мой французский улучшался не по дням, а по часам.
Как-то раз в библиотеке Уотсона в Метрополитен-музее я испытала острое желание швырнуть свой словарь в стильную стеклянную перегородку, а кончик карандаша воткнуть в большой рабочий стол и оставить уродливый след на безупречно гладкой деревянной столешнице. Я выяснила, каким образом Метрополитен-музею достался оригинал шедевра Лабий-Гийар. Ее наследники в 1878 году предложили «Автопортрет…» Лувру. И получили отказ. Недостаточно хороша.
Аделаида Лабий-Гийар. Портрет мадам Аделаиды. 1787
Художественная дерзость Лабий-Гийар не ограничивалась мотивами личной жизни. Надо сказать, она вполне успешно писала на заказ. Через два года после «Автопортрета…» она сделала еще один политический выпад, представив на Парижском салоне 1787 года «Портрет мадам Аделаиды». Художница Аделаида Лабий-Гийар встретилась с дочерью короля Людовика XV принцессой Аделаидой.
Одна – дочь парижского лавочника, другая – дочь короля Франции, но их портреты очень похожи. На обеих картинах изображены в полный рост роскошно одетые женщины перед мольбертами. И та и другая не замужем и бездетна. Рядом с обеими лежат ножницы и свернутая ткань. Позади обеих Аделаид девственные весталки. Над мадам Аделаидой резной фриз с изображением ее отца, рядом с художницей Аделаидой бюст ее отца. Примечательно не столько то, что Лабий-Гийар позволяет себе претендовать на королевское величие, сколько то, что принцесса Аделаида выступает в роли художницы.
Симпатии французской знати строго делились между царствующим королем Людовиком XVI с его супругой королевой Марией-Антуанеттой и «старой гвардией». В последнюю входили тетушки короля, имевшие официальный титул «госпожи тетки» (Mesdames les Tantes). Принцесса Аделаида также носила этот титул (Madame Adélaïde). На Парижском салоне 1787 года Лабий-Гийар была представлена как «первый живописец теток короля» (premier Peintre de Mesdames). Ее якобы соперница Виже-Лебрен к этому времени уже значилась придворным живописцем королевы. На Парижском салоне 1787 года она выставила свое полотно «Мария-Антуанетта и ее дети». Картины повесили рядом, практически как парные произведения, предлагая зрителям сравнить и противопоставить как художниц, так и их царственных героинь.
Виже-Лебрен, пытаясь поднять репутацию Марии-Антуанетты, изобразила ее как заботливую мать, приносящую свое потомство в дар будущему Франции. Бездетная Аделаида на картине Лабий-Гийар занимает почетное положение сама по себе. Она стоит перед тремя профилями, очевидно созданными собственноручно, – это ее отец, мать и брат. Иначе говоря, повышенное внимание к славному прошлому Франции. На фризе, который тянется над принцессой, изображен прикованный к постели король Людовик XV, умирающий от оспы. Но что это? Король отсылает сыновей, чтобы спасти их от собственной жестокой судьбы, но к его постели устремляются дочери.
Пьетро Антонио Мартини. Экспозиция Салона в Лувре в 1787 году. 1787
Фриз можно интерпретировать двояко. Первое объяснение: принцессы не так ценны, как принцы, и ими можно пожертвовать. Второе объяснение: принцессы сильнее и отважнее принцев. В целом картина склоняет нас ко второму варианту. Незамужние женщины могут быть отважными и добродетельными. И даже более добродетельными, чем плодовитые королевы.
Успех на Парижском салоне 1787 года стал для Лабий-Гийар ступенью к дальнейшему продвижению. Следующая работа должна была наконец возвысить ее до уровня исторического живописца – «Месье, Великий магистр ордена Святого Лазаря, принимает рыцаря». Картина, заказанная графом Прованским, родным братом короля, носившим официальный титул «месье», была задумана в виде огромного группового портрета (518×427 см), прославляющего графа как главу ордена Святого Лазаря – древнейшего рыцарского ордена, который выполнял в то время лишь церемониальную функцию.
Через год после начала этого грандиозного замысла все изменилось. Случился штурм Бастилии, за ним пришла эпоха террора. На гильотине казнили шестнадцать тысяч врагов революции, еще двадцать пять тысяч – другими способами. Разумеется, были обезглавлены король и королева, а также «друзья аристократов», такие как мадам Дюбарри. Некоторые художники погибли, многие, как Виже-Лебрен, бежали. Госпожи тетки короля тоже спешно покинули страну, прихватив с собой деньги, которые задолжали Лабий-Гийар.
Но Лабий-Гийар осталась вместе с Венсаном в доме, который они снимали за пределами Парижа (весьма предусмотрительно). Оба, как бывшие придворные художники, находились в опасном положении.
Аделаида Лабий-Гийар. Портрет Франсуа-Андре Венсана. 1795
Новые опасности напомнили Лабий-Гийар о ее старом ухищрении. Когда-то она писала портреты членов Академии, теперь пришла очередь ведущих деятелей Конвента. Среди прочих она сделала портрет идейного вдохновителя террора Максимилиана Робеспьера.
Как и в прошлый раз, Лабий-Гийар исподволь использовала работу над портретами для установления прочных связей с их персонажами. Ей нужны были такие союзы. Ведь то, что она пережила террор, кажется невероятным чудом.
Однако не все ее действия были такими разумными: она по-прежнему продолжала работать над монументальным полотном, прославляющим брата короля. Даже когда тетки короля и сам граф Прованский бежали из страны, она все еще цеплялась за свои амбиции. Портреты Робеспьера и ему подобных, возможно, спасли жизнь Лабий-Гийар, но никто не мог спасти ее историческую работу.
Директория парижского департамента 11 августа 1793 года потребовала, чтобы она передала властям «большие и малые портреты бывшей знати и все наброски, сделанные к ним, дабы предать их огню». Пришлось подчиниться, поскольку выбора не было. Все остальное обернулось бы верным самоубийством.
Я узнала о судьбе полотна Лабий-Гийар в конце долгого тяжелого дня: после занятий я еще несколько часов просидела в библиотеке, пытаясь разобраться в деталях (кто такой великий магистр ордена?). Когда я вышла из Института изящных искусств, над Центральным парком поднималась яркая луна.
Я брела по холодным проспектам, ехала в поезде метро, с грохотом уносившем меня обратно в центр города, и никак не могла избавиться от тягостных мыслей. Вот почему Лабий-Гийар оказалась почти потеряна для истории. Самую грандиозную работу уничтожили. И хотя она боролась против введенной Академией квоты на места для женщин, эта долгая борьба ни к чему не привела. Ее ученицы не оставили ничего знаменательного. У нее не было преемников.
Мой доклад на семинаре был напряженным и эмоциональным, длился он почти два часа. В темной комнате никто не мог видеть мои взмокшие от пота волосы, раскрасневшееся лицо, растаявшую помаду, размазанную тушь, но я все равно чувствовала себя обнаженной. Я знала, что подобный пыл выглядит совершенно не академично, может быть даже неприлично.
У меня за спиной светилось на экране лицо Франсуа-Андре Венсана – последняя работа Лабий-Гийар, сделанная в 1795 году. На этом нежном портрете изображен друг, стареющий художник, держащий в руках кисти и палитру – единственное, что еще подвластно ему в нестабильном мире. Портрет без всякого глянца, очень честный, проникнутый неистовой преданностью и любовью, как, впрочем, и все произведения Лабий-Гийар.
Пожалуй, единственной хорошей вещью, которую революция принесла Лабий-Гийар, было законодательное признание развода. Прошло двадцать с лишним лет художественного и любовного партнерства, и в 1800 году Лабий-Гийар и Венсан поженились. После этого Лабий-Гийар прожила всего три года.
Из темноты раздался голос Розенблюма:
– Где эта картина сейчас? – Судя по тону, портрет ему понравился.
– В Лувре, – вздохнула я и мысленно прибавила: они ее не заслуживают.
Через несколько недель Розенблюм остановил меня в холле и передал слайд с картиной, возможно написанной Лабий-Гийар, попросив подтвердить ее подлинность для одной галереи в центре города. Такого рода задания давали перспективным студентам. Это выглядело как посвящение в сан искусствоведа, и наверняка меня выбрали благодаря докладу о Лабий-Гийар. Я была признательна Розенблюму – отзывчивому человеку и превосходному учителю.
Правда, жизнь повернулась так, что я перестала быть его ученицей. Однако именно Розенблюм указал мне путь к той, что изменила все.
Я положила слайд в задний карман папки и больше не вспоминала о нем. Я уже решила, что хочу не изучать творчество Лабий-Гийар, а идти по ее стопам. Я испытывала необходимость стать такой же, как она, чтобы смело и решительно исследовать тот талант, который мог быть во мне скрыт. Так, как она меня научила. В конце учебного года я ушла, чтобы заняться писательским трудом.
Глава 4. Мари-Дениз Вильер
Пожалуй, величайшая картина, когда-либо написанная женщиной, – портрет Шарлотты дю Валь д’Онь.
ТОМАС ХЕСС, ARTNEWS
Ее искусно скрытые недостатки, общее впечатление, возникающее из тысячи тонких ухищрений, – все как будто раскрывает сам дух женственности.
ШАРЛЬ СТЕРЛИНГ, МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ
МНЕ, ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩЕЙ обучаться искусствоведению, внушали, что истинная суть моей подготовки – знаточество. Научиться безошибочно определять произведение искусства и постоянно развивать в себе чутье знатока.
Это о чем?
В общих чертах: уметь при осмотре произведения определять, что оно есть и кто его создал; обладать способностью распознавать – по манере, почерку, жесту, стилю, настроению, – кому принадлежит то или иное произведение. Высокая цель. Пугающая. Но, поступив в магистратуру в Нью-Йоркский университет, где я попала в старинный оплот обучения методу знаточества, я поверила, что когда-нибудь смогу овладеть этим даром.
Как-то раз во время обеда я сидела в уличном кафе со своим новым парнем. Он был аспирантом отделения истории искусств (ныне он мой муж). Я была еще студенткой, но уже очень наглой, поскольку только-только узнала, что меня приняли в магистратуру. Вдруг к нашему столику подошел профессор Альфред Моир с подносом в руках и спросил, можно ли ему присоединиться. Я быстро провела языком по зубам, чтобы избавиться от остатков зеленого салата. Мой приятель-аспирант, уже привыкший к близости великих людей, спокойно пригласил его сесть.
Моир, необыкновенный умница с огромным обаянием, производил потрясающее впечатление: большой, бородатый, с шапкой кудрей в неподвластном времени античном стиле, похожий на Лаокоона (гляньте сами, кто это). Вдобавок он был очаровательным, искренним и забавным. Мне не терпелось поделиться хорошими новостями о предстоящем отъезде в Нью-Йорк.
Наконец мне удалось несколько неловким образом обратить на себя внимание. Но вместо того, чтобы осыпать меня похвалами, как это сделал бы любой, понимающий суть дела (Нью-Йорк! Магистратура!), Моир откинулся на спинку стула и скрестил на груди большие руки.
– Значит, Институт… так?
Я кивнула, ожидая поздравлений.
Моир кивнул в ответ.
– А ведомо ли вам, в чем проблема знаточества?
Ведать не ведала. Понятия не имела, что у знаточества есть какая-то проблема.
– Оно не учитывает, что художник мог встать не с той ноги. – Моир наклонился вперед и поднял палец, как будто хотел погрозить им у меня перед носом. – Оно не учитывает действительно хреновые деньки.
С того дня я была в команде Моира. А много лет спустя обнаружила, что он чуть ли не первый среди исследователей Караваджо начал писать об Артемизии Джентилески, и подумала: «Да! Наш человек!»
И никогда я не забывала про действительно хреновые деньки.
Позднее мне пришло в голову: а если верно и обратное? Если бывают дни, когда все идет хорошо? Чертовски удачные дни.
Метрополитен-музей в Нью-Йорке получил в 1917 году невероятный даже по его высочайшим стандартам подарок. Некто Айзек Дадли Флетчер завещал музею монументальное полотно «Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь» кисти Жака-Луи Давида, родоначальника и бесспорного мастера французского неоклассицизма XVIII века.
Вряд ли можно переоценить значение этого дара. Оригинальный пресс-релиз музея (в 1917 году их уже выпускали) гласил: «Один из шедевров мастера. Картина Флетчера отныне будет известна в мире искусства как “нью-йоркский Давид” – в одном ряду с “Портретом молодого человека в меховой шапке” из Эрмитажа и “Сикстинской мадонной” из Дрездена». Другими словами, для Метрополитен-музея, уже обладавшего коллекцией мирового уровня, приобретение этого произведения стало эпохальным событием.
Кроме того, исходная цена произведения была впечатляющей, о чем с нескрываемым торжеством заявили в том же пресс-релизе: «Как говорят, мистер Флетчер приобрел великого Давида за двести тысяч долларов». «В современном эквиваленте Флетчер заплатил около двух миллионов долларов» – это уже в 1971 году писал Томас Хесс. Интересно, какова ее цена сегодня? Кто знает, как вообще оцениваются такие вещи? Сойдемся на том, что в сегодняшних долларах это многие и многие миллионы.
Почему Хесс в 1971 году обратился к стоимости картины, которая более чем пятьдесят лет назад досталась Метрополитен-музею в подарок?
По той причине, что «нью-йоркский Давид», как выяснилось, был написан вовсе не Давидом. А женщиной. И это все меняло.
«Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь» сразу стал одним из самых популярных экспонатов Метрополитен-музея. Если бы в 1917 году в музее продавали сувениры, эту картину печатали бы на зонтах и картонных подставках для пивных бокалов, и они разлетались бы, как пиво на бейсбольной площадке, – быстро и в больших количествах. Поколения посетителей присылали в Метрополитен-музей письма с откровениями об этой картине, рассказывая, как они души в ней не чают, как она волнует их, что она для них значит.
Мари-Дениз Вильер. Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь. 1801
Картина завораживает. Стоя перед ней, трудно отвести взгляд. Много лет, во время своих ежедневных визитов к «Автопортрету…» Лабий-Гийар, я останавливалась перед молодой и притягательной Шарлоттой дю Валь д’Онь. Они висели на соседних стенах. Иногда я проводила перед Шарлоттой столько же времени, сколько перед Лабий-Гийар, ради которой, собственно, приходила. Меня не покидало ощущение, что, если галерея вдруг опустела бы и мы с ней остались бы наедине, она могла заговорить. Она явно хотела, чтобы я что-то узнала.
Шарлотта одета в простое белое платье и сидит, слегка ссутулясь, в подкупающей почти подростковой манере. Из украшений на ней только розовый пояс, повязанный под маленькой грудью, простая брошь, которой сколота косынка на шее, и шпилька в забранных вверх волосах. На спинку стула, на краю которого она сидит, наброшена простая однотонная шаль, цветом сочетающаяся с лентой пояса. Девушка совсем не похожа на тех нарядных художниц, к которым мы привыкли (сравните ее с Юдит Лейстер или ее соседкой по музею Лабий-Гийар), но несомненно – она художник.
В правой руке она сжимает карандаш или грифель, а левой придерживает поставленную на колени большую картонную папку – в таких обычно держат рисунки. Она смотрит так пристально, как будто рисует именно нас – или то, что было на нашем месте. Выражение ее лица невозможно прочитать. Улыбается она или серьезна? Задумчива или грустна? Она исполнена загадочности. Ее можно назвать Джокондой Метрополитен-музея.
Простой стул, на котором девушка сидит, – единственный предмет мебели в пустой комнате. Позади нее голая темная стена, но рядом есть окно, и, если присмотреться, ближайшее к Шарлотте стекло разбито. Сквозь него мы можем разглядеть мужчину и женщину на каком-то высоком балконе, их размытые лица обращены друг к другу. Женщина на заднем плане одета почти так же, как Шарлотта на переднем плане, в белое платье с розовой шалью на плечах.
Это картина прекрасна.
Но что она означает? Что происходит? Как мы должны ее понимать?
Никто не знает наверняка. Случись мне встретиться с ней в те времена, когда все считали ее принадлежащей Давиду, я знала бы, как интерпретировать изображенное. Я бы сказала, что речь идет о любовной интриге. Женщина на заднем плане и женщина на переднем – одно и то же лицо, а два самостоятельных момента, разъединенных во времени, показаны одновременно, как на картинах Раннего Возрождения. Приведу в пример фреску Мазаччо «Чудо со статиром».
Затем я домыслила бы, что разбитое стекло символизирует потерю невинности, сексуальное пробуждение. Может быть, загадочная тайна героини заключена в ее беременности. Больше всего эта картина напоминает мне «Созревание» Эдварда Мунка, созданное почти что спустя век, в 1894 году, – самым очевидным образом раскрывающее тему сексуального влечения.
Это моя версия.
Но в любом случае наша картина написана не мужчиной.
Первый трепет сомнения зародился в недрах самого Метрополитен-музея. В начале 1940-х годов в музей пришел работать авторитетный французский искусствовед Шарль Стерлинг, до бегства от нацистов служивший в Лувре; он покинул Европу наряду с большинством выживших еврейских художников и искусствоведов, что, конечно, оказалось величайшим приобретением для американского искусства и величайшим благом для Нью-Йорка. После войны Шарль Стерлинг вернулся в Лувр, но продолжал вести научную деятельность и в Метрополитен-музее, где ему и предстояло сделать поразительное открытие. Составляя в 1947 году каталог французской живописи в коллекции Метрополитен-музея, он обнаружил гравюру с изображением Парижского салона 1801 года. На ней он увидел нечто леденящее кровь: на стене висел давидовский «Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь». Что в этом ужасного? Объясняю: в том году Давид во всеуслышание отказался представлять свои работы на выставке 1801 года. И если картина Давида, висевшая в Метрополитен-музее, была изображена на этой гравюре, значит, она, участвовавшая в выставке, не принадлежала Давиду.
В официальном бюллетене Метрополитен-музея в 1951 году вышла статья Стерлинга, в которой он прямо объявил, что автор картины не Давид, и в порядке гипотезы предположил, что ее могла написать Констанс Шарпантье. Она выставляла какую-то работу на Парижском салоне 1801 года, а ее единственно достоверно известная картина «Меланхолия» (с подписью) также изображает глядящую вправо женщину с опущенными плечами и в белом платье.
Стерлинга удивило, что его гипотетическая атрибуция была немедленно воспринята как неоспоримая истина. Но именно так и произошло. Предположение ученого разошлось по многим академическим и массовым изданиям в качестве факта. Важная новость появилась в журналах TIME и Saturday Review; в последнем Джеймс Тролл Соби писал: «Определенная поэтическая справедливость чувствуется в том, что выдающееся знаковое произведение мужественной эпохи, по всей вероятности, написано женщиной».
Однако никто особенно не радовался открытию ранее неизвестного художника, способного сравниться с великим Давидом. Публика по-прежнему обожала картину – впрочем, не факт, что средний зритель смог бы отличить Давида от Делакруа. А вот некоторые ученые изменили свое мнение об этом произведении.
Стерлинг сделал несколько не слишком приятных высказываний (см., например, цитату, взятую эпиграфом к этой главе), в том числе такое: «Давайте признаем, мысль о том, что наш портрет мог быть создан женщиной, выглядит весьма привлекательно». Почему привлекательно? Потому что это объясняет всю слабость работы? Все «искусно скрытые недостатки»? «Тысяча тонких ухищрений», из которых складывается «дух женственности»?
Перефразируем Стерлинга: как же это похоже на женщин!
После реатрибуции некоторые ученые стали утверждать, что их с самого начала трудно было одурачить. Британский критик Джеймс Лейвер писал: «Хотя картина чрезвычайно интересна как предмет своего времени, в ней есть определенные недостатки, которых не мог бы допустить живописец уровня Давида».
Мари-Виктуар Лемуан. Интерьер ателье художницы. 1789
Но не кто иной, как сам Бернард Беренсон – крупнейший историк искусств своего времени, авторитетный специалист по атрибуции, по-прежнему причислял картину к величайшим шедеврам всех времен. Кроме того, он продолжал настаивать, что ее автором был Давид.
Стоит упомянуть одну деталь: хотя Метрополитен-музей еще в январе 1951 года заявил в своем бюллетене, что знаменитая картина написана не знаменитым художником, имя Давида удалили с таблички на раме только в 1977 году.
Выйдя на пенсию и оставив исследовательскую работу в Метрополитен-музее, Стерлинг в 1969 году просто пересек Пятую авеню и начал преподавать в Институте изящных искусств. Через двадцать лет в этот Институт пришла я, чтобы учиться в магистратуре. В то время там работала над своей диссертацией Маргарет Оппенгеймер. Я не была с ней знакома (хотя мне очень хотелось), но суть не в этом.
Дело в том, что, еще учась в аспирантуре, Оппенгеймер поняла, что Стерлинг ошибался (самого его это мало бы удивило). Благодаря поразительному совпадению – учитывая, что женщины-художники, представленные на Парижском салоне 1801 года, составили лишь пятнадцать процентов от всех участников, – она обнаружила, что «Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь», вероятнее всего, написан другой художницей. Ее имя Мари-Дениз Вильер.
О ней известно совсем мало. Девичья фамилия – Лемуан, близкие называли ее Низа. Муж архитектор. Родилась в семье художников, две старшие сестры, Мари-Элизабет Габиу и Мари-Виктуар Лемуан, тоже были художницами. Похоже, ее мать, как и моя, считала имя Мария самым подходящим для девочек.
В коллекции Метрополитен-музея есть работа ее сестры, Мари-Виктуар Лемуан, под названием «Интерьер ателье художницы». Но вы не увидите ее в той величественной галерее, где картина Вильер висит рядом с потрясающими портретами кисти Давида, Лабий-Гийар и Виже-Лебрен. На самом деле эту картину вообще редко выставляют. На полотне Лемуан тоже изображена молодая художница, склонившаяся над папкой для рисования, поставленной на колени. Однако на этом сходство заканчивается. Увы, картина не слишком хороша.
Считается, что произведение Лемуан посвящено Элизабет Виже-Лебрен. Известная художница изображена в белом платье (не самый, скажем, удачный выбор для работы с красками), с длинным муштабелем в руке. Она стоит перед холстом, на котором изображена богиня Афина, а ученица в это время рисует, сидя у ее ног. Полагают, что это сама Лемуан. По общему мнению, картина – не вполне удачная попытка Мари-Виктуар Лемуан выразить уважение своей учительнице.
Но даже работы самой Вильер не так хороши, как та, что находится в Метрополитен-музее. Оппенгеймер основывала свою реатрибуцию на этюде маслом, небольшом предварительном наброске к утерянной картине Вильер «Молодая женщина, сидящая у окна». На этюде изображена женщина в белом, очень похожая на натурщицу с картины из Метрополитен-музея – вплоть до прелестного овала лица, забранных вверх волос и такой же шпильки в прическе. Более того, она одета в белое, она повернулась вправо, и она сидит на скамье у окна.
Но, несмотря на перечисленные детали, все равно трудно поверить, что эти две работы принадлежат одному и тому же человеку. Этюд смотрится несколько примитивно и схематично, в нем гораздо больше от репродукций Максфилда Пэрриша, висящих в спальне моих бабушки и дедушки, чем от неистового гения Жака-Луи Давида.
Единственная подписанная работа Вильер в крупной коллекции – «Этюд женщины на природе». Картина хранится в Лувре, где, вероятно, ее и видел Стерлинг. Она тоже немного похожа на «Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь». Молодая женщина, на этот раз почти вся в черном, наклоняется, повернувшись вправо, чтобы завязать ленту на туфле. У нее лицо почти такой же формы, как на картине из Метрополитен-музея, ее волосы так же зачесаны вверх. Она смотрит на нас.
Но в ней нет никакого волшебства.
Неужели портрет из Метрополитен-музея могла написать Вильер?
Нам стоит внимательнее присмотреться к предполагаемой героине картины, Шарлотте дю Валь д’Онь. В лекции, прочитанной в Метрополитен-музее в 2014 году (она есть онлайн, и ее стоит посмотреть), искусствовед и непревзойденный детектив Энн Хигоннет рассказала о том, как ездила в Париж, чтобы найти ту самую комнату, где молодая женщина позировала для своего портрета.
Мари-Дениз Вильер. Молодая женщина, сидящая у окна. 1801
Мари-Дениз Вильер. Этюд женщины на природе (также известен как «Портрет мадам Сустра»). 1802
И нашла ее.
Это оказалась галерея внутри Лувра. Мастерская, где студентки могли постигать искусство живописи вдали от соучеников-мужчин – отдельно и не столь основательно.
Далее расследование Хигоннет показало: картина, конечно, принадлежит Вильер, но независимо от авторства самой работы личность модели остается неизменной – это действительно Шарлотта дю Валь д’Онь. В то время, когда был создан портрет, обе женщины посещали занятия в Лувре.
Открытие Хигоннет помогает нам закрыть важный пробел в понимании картины. Это портрет одной молодой художницы, сделанный другой молодой художницей.
Таким образом, речь уже идет не о половом, а творческом томлении. Хотя, говоря о художницах начала XIX века, эти два понятия сплетались в такой клубок, который не всегда легко распутать. В те времена для подавляющего большинства женщин, занимавшихся искусством, иметь любовные отношения означало отказ от занятия живописью. На портрете кисти Мари-Дениз Вильер разбитое оконное стекло отделяет внутреннее пространство Лувра – Лувра, где создаются художественные произведения и благодаря которому тебе обеспечивается известность, – от внешнего мира – мира, где зарождаются любовные связи и формируется семейная жизнь.
Шарлотта дю Валь д’Онь – наглядный тому пример. Как многие другие женщины, выйдя замуж, она отказалась от мечты стать профессиональным художником. Ее капитуляция неудивительна. И не только потому, что социальные нормы требовали от женщин ставить на первое место своих мужей и детей. То было страшное время для французских художниц. «Политически прогрессивный революционный режим, – замечает феминистка и искусствовед Линда Нохлин, – в социальном отношении был во многом консервативен».
Цели, которые ставили перед собой Лабий-Гийар и другие художницы, так и не были достигнуты. Более того, положение ухудшилось. Наполеон в 1804 году полностью лишил художниц Франции возможности получать официальное образование и участвовать в выставках. Только в конце столетия женщин начали принимать в престижную Национальную высшую школу изящных искусств. Но произошло это лишь потому, что на фоне набиравшего популярность модернизма классическая программа этой школы выглядела устаревшей.
Вильер к моменту создания портрета своей соученицы Шарлотты дю Валь д’Онь уже пять лет была замужем. Судя по всему, муж поддерживал ее начинания. Вильер продолжала профессиональную деятельность, хотя ситуация во Франции становилась все более сложной. Ее последняя картина датирована 1814 годом. Семь лет спустя она умерла. Что произошло за эти годы, неизвестно, хотя, как мы уже убедились, картины могут теряться и их могут неверно атрибутировать.
Таким образом, тайна дивной и берущей за душу картины Вильер заключена в особом временном моменте ее создания – когда двум молодым женщинам, стремившимся стать художниками, ненадолго приоткрылся доступ к образованию, выставкам и даже славе.
В этот момент родилось совершенство. Чертовски удачный день. Томление духа, душевное родство и природная одаренность сошлись в одной точке, и появилось прекрасное произведение искусства. Появился шедевр.
Глава 5. Роза Бонёр
Мадемуазель Роза пишет почти как мужчина.
ТЕОФИЛЬ ТОРЕ-БЮРЖЕ
По правде говоря, из всех мужских особей мне нравятся только быки, которых я рисую.
РОЗА БОНЁР
ЛЕТОМ 1889 ГОДА Роза Бонёр, недавно похоронившая близкую подругу, посетила Всемирную выставку в Париже, ища способ отвлечься от тяжелых переживаний. Вместе с парижанами она осмотрела имевший скандальный успех архитектурный дебют выставки – Эйфелеву башню. Затем – если верить более поздним изображениям – женщина в траурном платье и вуали направилась к павильону популярного американского шоумена XIX века Буффало Билла Коди. Захватывающие представления со стрельбой, ловлей животных арканом, «сражениями» ковбоев и индейцев – шоу Буффало Билла «Дикий Запад» могло взбодрить кого угодно. Бонёр давно увлекалась Америкой, еще дольше лошадьми, поэтому увиденное впечатлило ее даже больше, чем остальных зрителей.
За семь месяцев, пока шоу «Дикий Запад» стояло лагерем в Париже, там побывало множество замечательных художников, в том числе передовой отряд модернизма – Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк и Джеймс Макнейл Уистлер. Однако внимание Буффало Билла привлекла именно Бонёр, художница-анималистка уходящего века.
Они оказались родственными душами. Коди – покоритель фронтира, следопыт, курьер конной почты Pony Express, армейский разведчик в период индейских войн, охотник на бизонов. Бонёр – художница, наездница, страстная охотница, ценительница женщин, любительница носить мужские костюмы.
От их первой встречи явно захватывало дух. Об этом красноречиво рассказывает американская литография, на которой изображены: слева – давно покойный Наполеон верхом на белом коне, сидящий в седле, словно мешок с картошкой; справа – Буффало Билл, тоже верхом на белом коне, красивый и молодцеватый; посередине – Бонёр, которая смотрит на Билла и делает с него набросок. Надпись под художницей сообщает: «Искусство увековечивает славу – Роза Бонёр рисует Буффало Билла. Париж, 1889».
Роза Бонёр. Портрет Буффало Билла Коди. 1889
Вскоре после встречи Коди предоставил Бонёр неограниченный доступ в свой парижский лагерь. Бонёр с толком использовала выпавшую возможность и написала около семнадцати картин, в том числе портрет Буффало Билла на его любимой лошади.
Это довольно простая картина с всадником на коне, но Бонёр и здесь раскрывает себя как художник, которого больше интересуют животные. Коди смотрит в сторону, вероятно по старой памяти изображая следопыта, но его белая лошадь смотрит нам прямо в глаза.
Конный портрет Буффало Билла работы Бонёр стал американской иконой. Коди немедленно отправил картину своей жене. Через много лет, узнав, что его дом в штате Небраска охвачен пожаром, он телеграфировал ей: «Спаси Розу Бонёр, остальное пусть горит!»
Буффало Билл воплощал в себе все, на чем стояла Америка, – неудивительно, что он так заинтересовал Бонёр. Она считала себя прогрессивной женщиной американского толка. «Если Америка выступает в авангарде современной цивилизации, – говорила она, – то причиной тому удивительно разумные методы воспитания дочерей и уважение к своим женщинам». В свою очередь, Америка отвечала Бонёр симпатией. Американские девочки играли с куклами «Роза Бонёр» так же увлеченно, как сто лет спустя их сверстницы будут мечтать о куклах в виде Ширли Темпл.
Войдя через парадные двери Метрополитен-музея в величественный главный зал, я сразу начала искать взглядом «Ярмарку лошадей» Бонёр. Здесь, в Манхэттене, эта висевшая высоко над головой картина напомнила двадцатилетней девушке из маленького городка, откуда она родом, – я вспомнила Монтану и маленький загон за домом, где мы держали лошадей. В произведениях искусства, на которых я выросла, – в работах Рассела, Ремингтона, Кёртиса – лошади часто выступали как символ уходящего в прошлое образа жизни.
Роза Бонёр. Ярмарка лошадей. 1852–1855
Внушительные конские фигуры Бонёр совсем не походили на стройных мустангов и скакунов породы аппалуза, которых я с детства привыкла видеть на холсте и в реальной жизни. Ее мускулистые французские першероны были такими же тяжелыми, плотскими и эротичными, как персонажи картин Рубенса и Ренуара в галереях наверху. И все-таки в них чувствовалось что-то свое, домашнее. Проходить под ними было радостно и уютно – они вроде как напутствовали меня, помогая поверить, что я на своем месте.
Конечно, я не была первой, на кого «Ярмарка лошадей» произвела огромное впечатление. Масштабное полотно Бонёр (244×488 см) считалось одной из самых известных и любимых картин своего времени. Впервые выставленная на Парижском салоне 1853 года «Ярмарка лошадей» мгновенно завоевала сердца зрителей и признание критиков, что сделало Розу Бонёр – которой тогда был тридцать один год – мировой знаменитостью.
Законченная картина произвела эффект, подобный падению пушечного ядра, причем ядро угодило в самую гущу художественной элиты. Мощные формы великолепных сильных животных, их зады, бока и круто изогнутые шеи создают на монументальном полотне Бонёр захватывающий ритм. Любимая императором французская порода здесь представлена во всей своей бурной славе. Движения царственных животных настолько сильны и порывисты, что земля под их тяжелыми копытами взвивается пылью. Подчеркнуто ритмично мелькают белые и синие рубахи конюхов, чьи фигуры кажутся утрированно маленькими на фоне огромных скакунов. Лошади у Бонёр рвутся во все стороны одновременно, что демонстрирует ее владение анатомией. Тот эффект, что они намного крупнее находящихся среди них людей, отнюдь не случаен.
В западном искусстве всадников принято изображать больше натуральной величины, а лошадей – в натуральную. Это подчеркивает главенство человека – при сохранении природных пропорций могучий конь без труда затмит собой тщедушного гладкокожего наездника. Самый наглядный пример подобных нечеловеческих пропорций – конная статуя Марка Аврелия. (Обратите внимание: Аврелий настолько крут, что ему даже не нужны башмаки.)
Однако фигуры конюхов у Бонёр даже меньше, чем должны быть по отношению к лошадям, а их лица или скрыты тенью, или повернуты так, что мы их не видим. Все они носят усы или бороды, кроме одного, в центре холста, наклонившего голову вбок почти таким же движением, как ставшая на дыбы рядом с ним белая лошадь. Искусствовед Джеймс Саслоу утверждает, что этот «мужчина» на самом деле не мужчина. Единственный конюх без растительности на лице и единственный персонаж картины, с которым зритель встречается взглядом. На основании этого всегда умышленного авторского приема Саслоу убедительно доказывает, что на нас смотрит сама художница. Судя по всему, Бонёр создала тайный автопортрет, по сути заявляющий: это то, кто я есть. Несколько мужеподобная, полностью уверенная в себе и находящаяся в самой гуще раскаленной лавы событий.
«Ярмарка лошадей» была одной из тех редких картин Парижского салона, которыми восхищались и художники, и критики, и публика. Делакруа, бесспорный король романтической живописи, одобрительно отозвался о ней в своем дневнике. Даже императора с императрицей полотно Бонёр привело в восхищение, в то время как к картине реалиста Гюстава Курбе, представленной на том же Салоне, император отнесся весьма неодобрительно. Подойдя к внушительного объема «Купальщицам» Курбе с их вызывающей демонстрацией голой плоти, он раздраженно ударил по холсту хлыстом для верховой езды, а императрица ехидно спросила: «Это тоже першерон?»
Она подтрунила над монументальными формами обнаженных натурщиц Курбе, и это было справедливо, так как лошади Бонёр с их возбуждающей силой выглядели намного эротичнее и привлекательнее. Девочки в определенном возрасте начинают увлекаться лошадьми – и царствующие женщины не исключение. Когда «Ярмарка лошадей» приехала в Англию, королева Виктория пожелала, чтобы для нее организовали частный просмотр. А императрица Евгения, недолгое время исполнявшая обязанности регента в отсутствие императора, пожаловала Бонёр орден Почетного легиона. Художница стала первой женщиной, получившей знаменитую награду. Орден, по словам императрицы Евгении, доказывал, что «гений не имеет пола».
Репродукции «Ярмарки лошадей» можно было увидеть по всей Америке: от почтовых отделений до школьных классов. Оригинал оказался в Соединенных Штатах после того, как Корнелиус Вандербильт, один из самых богатых людей в истории страны, купил его и подарил Метрополитен-музею. То, что картина попала в иностранный музей, совсем не огорчило французскую художницу. Она предлагала полотно по сниженной цене в своем родном Бордо, но отцы города отказались. Tant pis (тем хуже для них).
Когда-то Бонёр принадлежала к числу самых знаменитых художников мира, но ее живопись – масштабная, мощная, натуралистичная – не соответствовала общему направлению французского искусства того периода, двигавшегося к импрессионизму и постимпрессионизму, пуантилизму, фовизму и так далее. И как многие некогда великие художники-академисты XIX века, она осталась в истории искусства лишь примечанием на полях. Скажем так: все они поставили не на ту лошадь.
Слава, пришедшая к ней, кажется почти неправдоподобной. Роза Бонёр выросла в темные для женщин-художников годы после Наполеона. Она родилась в пригороде Бордо. Ее отец, не слишком успешный художник Раймонд Бонёр, женился на одной из своих учениц, Софи, и у них родилось четверо детей. В свидетельстве о браке Раймонд назван «мастером исторической живописи» – увы, в Париже этот высокопарный стиль неуклонно терял популярность.
Когда Розе, старшей из детей, было всего шесть лет, Раймонд оставил семью и отправился в столицу искусства. Он хотел послать за женой и детьми, когда найдет работу. Через год они приехали сами, так и не дождавшись приглашения.
За этот год Раймонд не слишком преуспел в искусстве, однако страстно увлекся сенсимонизмом, утопической псевдорелигией с радикальной социальной программой, проповедующей среди прочего полное равенство полов. Теоретически это должно было обрадовать Софи, которая без всякой помощи воспитывала четверых маленьких детей. В реальности, конечно, все обстояло иначе. «Мой отец был прирожденным проповедником, – иронично заметила Бонёр своему биографу. – Он импульсивно любил нас, но на первом месте у него всегда стояла социальная реформа. Он никогда не жертвовал благородными идеалами ради личных дел». И хотя сенсимонизм ничем не помог Софи, ее старшая дочь все же восприняла духовные посылки учения и принципы гендерного равенства.
В одиннадцать лет Бонёр едва не умерла от скарлатины. Мать неустанно ухаживала за ней, и в отличие от многих соседских детей Бонёр выжила. Но вскоре после этого Софи сама заболела и умерла, вероятно от истощения. Бонёр никогда не забывала о полной тягот жизни своей матери и утверждала, что именно это навсегда отвратило ее от брака (имея в виду брак с мужчиной). Но она верила, что Софи всегда оставалась рядом с ней, словно ангел-хранитель, направляющий и озаряющий ее жизнь.
Вера в потустороннее участие матери в ее судьбе, вероятно, стала одним из источников непоколебимой уверенности Бонёр в себе. Искусство, животные, женщины – эти три страсти заполняли всю ее жизнь, и никакие социальные условности не могли помешать ей удовлетворять их.
Искусство. Четверо детей Раймонда и Софи стали художниками. Они приобрели такую известность, что Фрэнсис Гальтон (кузен Дарвина) написал в 1869 году эссе «Наследственный гений» (Hereditary Genius), в котором расхваливал семью Бонёр как живой пример.
Первые шаги на поприще искусства сделала Роза. После того как ее выгнали даже из прогрессивных школ с совместным обучением (на попытки отдать ее в ученицы к швее она неизменно отвечала воинственным протестом), Раймонд смирился и сам стал ее учителем. Он отправлял ее в Лувр, где она целыми днями в одиночестве делала наброски с работ старых мастеров, а по ночам он исправлял ее рисунки.
Животные. Бонёр с самого начала сопротивлялась традиционному образованию и в детстве научилась читать только после того, как мать сделала для нее азбуку с картинками животных. Когда она была подростком, отец разрешил ей завести в их парижской квартире зверинец, в котором были «кролики, цыплята, утки, перепела, канарейки, зяблики и коза» – последнюю нужно было, преодолев шесть лестничных пролетов, на руках выносить вниз на улицу для периодического моциона.
«Разве нельзя стать знаменитой, – спросила однажды Бонёр, – если просто рисовать животных?» Конечно, можно, заверил ее Раймонд. И с сенсимонианским пылом добавил: «Может быть, дочь, я исполню свои стремления через тебя!» Уместный или нет, этот ответ и стоящие за ним безоговорочная поддержка и одобрение очень помогли молодой начинающей художнице.
Женщины. В четырнадцать лет Бонёр увидела, как ее отец рисует в своей мастерской портрет юной девушки. Я представляю себе, как Бонёр, коренастая и обычно весьма самоуверенная, осторожно подглядывает из-за занавески на больную Натали Мика, полулежащую в кресле. Родители Натали боялись, что дни их дочери сочтены, и попросили Раймонда написать ее портрет на память.
Бонёр затаив дыхание застыла за занавеской. Она узнала Натали – она видела ее во сне. Она сразу поверила, что это мать прислала к ней младшую девочку. Это была любовь с первого взгляда. Бонёр стала ее защитницей, а Натали опекала оставшуюся без матери подругу. Когда Бонёр стала достаточно взрослой, чтобы арендовать собственное ателье, Натали приходила к ней каждый день. Их связь была настолько очевидной, что на смертном одре отец Натали заставил девушек преклонить перед ним колени, а затем вверил их друг другу на всю оставшуюся жизнь. Это был брачный союз во всем, кроме юридических формальностей.
Натали вовсе не умерла молодой. Она неизменно оставалась рядом с Бонёр еще пятьдесят с лишним лет.
Роза Бонёр. Пахота в Ниверне. 1849
Далекий от условностей союз был заключен всего за год до первого громкого публичного успеха Бонёр, который ей принесла картина «Пахота в Ниверне», представленная на Парижском салоне 1849 года. В ясный осенний день дюжина запряженных попарно волов шаролезской породы (выведенной в Ниверне) распахивает землю, готовя ее к зиме. Жирная рыхлая земля заполняет передний план, мускулистые животные вышагивают на среднем плане. Они герои этой картины. Крестьяне и погонщики, идущие рядом, прячут лица под широкополыми шляпами или за величественными тушами волов.
Бонёр не просто представляет в благородном свете прекрасных созданий, выполняющих Божью работу под ясным осенним небом. Она любит их. Боготворит их мощные тела и тяжелые рогатые головы. И она заставляет нас тоже полюбить их.
Я выросла на молочной ферме, но никогда не замечала в коровах ничего интересного, пока однажды дождливым ноябрьским днем не оказалась в Париже в музее Орсе перед картиной Бонёр. Я чувствовала, как горячий пар поднимается от потных воловьих боков, ощущала идущий от них густой резкий запах. Эти благородные создания обладали достойной восхищения волей и разумом. Организация по защите прав животных сегодня может только мечтать об активисте, способном быть таким же убедительным, как Бонёр.
Часто отмечают, что люди на картинах Бонёр играют второстепенную роль по сравнению с животными. Рёскин (помните такого?), однажды встретившийся с Бонёр за ужином, позднее осудил ее за эту тенденцию: «Ни один живописец, рисующий животных, но избегающий человеческого лица, пока еще не становился великим, а мадемуазель Бонёр недвусмысленно этого избегает».
Замечание выдающегося критика не произвело на Бонёр должного впечатления. «Он джентльмен, – признала она после ужина, – и образованный джентльмен, но он теоретик. Он видит природу маленьким глазом, как птичка». Бонёр разбиралась в животных. И она разбиралась в искусстве с позиции художника, а не теоретика. Она не была глупой птичкой.
Бонёр любила сравнивать людей с животными, и себя в том числе. В письмах и других записях она называет себя собакой, теленком, совой, ослом, кабаном, черепахой, медведем и многими другими прозвищами. Но особое родство она чувствовала с волом или быком.
Так удивительно ли, что центральным персонажем «Пахоты в Ниверне» стал не крестьянский мальчик, а большой белый вол, который как будто смотрит на нас с полотна? В его глазах читаются замечательная понятливость и индивидуальность.
Кто такой художник и вообще человек искусства, как не тот, кто умеет видеть?
Мне кажется, «Пахота в Ниверне» отчасти тоже автопортрет.
Когда в 1857 году Луи-Эдуард Дюбюф писал портрет Бонёр, ей не понравилось, что он изобразил ее опирающейся на «скучный стол». С разрешения Дюбюфа Бонёр собственноручно написала вместо стола прижавшегося к ней прекрасного бурого быка. Правой рукой художница обвивает широкую мохнатую шею быка. И если сама Бонёр на портрете Дюбюфа несколько отсутствующим взглядом смотрит вдаль (предвосхищая образы манекенщиц будущего), ее бык смотрит честным и умным взглядом прямо на нас.
Странная на первый взгляд пара – Бонёр со своим быком. Но на самом деле она была понятна каждому, кто вырос в католической Франции и привык видеть изображения четырех евангелистов. У Матфея, Марка, Луки и Иоанна есть собственные символы: человек, лев, телец и орел соответственно. Обычно евангелистов изображают с книгой, каким-нибудь пишущим инструментом и их символом рядом. Обратите внимание: телец считается символом святого Луки. Кроме того, святой Лука – покровитель художников.
Луи-Эдуард Дюбюф. Портрет Розы Бонёр. 1857
Впрочем, эти благочестивые ассоциации никак не сочетались с многочисленными «неортодоксальными» привычками Бонёр. Курение, коротко остриженные волосы, мужская одежда – все это для женщин было под запретом, а кое-что вообще считалось незаконным.
Объяснения Бонёр всегда звучали убедительно. Короткие волосы она носила, потому что после смерти матери «некому было позаботиться о ее локонах». Может быть, это действительно имело смысл, когда ей было одиннадцать, но она продолжала коротко стричься до самой смерти.
Что касается ее излюбленного наряда, по словам Бонёр, только одеваясь как мужчина, она могла находиться в грубой толчее на бойнях и лошадиных ярмарках «без ущерба для своей чести». Другими словами, повседневный деловой стиль был неотъемлемой частью ее искусства.
Бонёр в 1850 году получила от полиции разрешение на ношение мужской одежды (Permission de Travestissement). Ношение женщинами мужской одежды (то есть брюк) было незаконным, поэтому, чтобы избежать ареста, Бонёр понадобился официальный документ. Он позволял ей появляться на публике в мужском костюме, правда с рядом исключений, к которым относились «спектакли, балы и подобные общественные мероприятия». Разрешение полагалось обновлять каждые шесть месяцев, и оно требовало подписи ее врача.
Бонёр в 1860 году получила деньги за «Ярмарку лошадей» и другие картины – Натали обладала превосходной деловой хваткой. И все они: Бонёр, Натали, мать Натали мадам Мика – покинули Париж и переехали в деревню Би близ леса Фонтенбло. Там был приобретен небольшой замок, который Бонёр прозвала «Обиталищем совершенной любви». Женщины жили в окружении огромного зверинца, в котором были обезьяны, львы, лошади, охотничьи собаки, десятки голов крупного и мелкого крестьянского скота и три диких мустанга, присланных американским поклонником.
Когда мать Натали умерла в 1875 году, в их жизни почти ничего не изменилось. Роза и Натали были предшественницами Гертруды Стайн и Алисы Токлас – женщина искусства и ее помощница, жившие (и любившие друг друга) по собственным правилам во французской глубинке. Натали занималась домом и зверинцем, Бонёр писала картины и охотилась в знаменитых лесах Фонтенбло, на что имела особое разрешение императора.
Смерть Натали весной 1889 года опустошила Бонёр. «Вы очень хорошо понимаете, как трудно разлучиться с таким другом, как моя Натали. Чем дальше мы двигались по жизни, тем больше я ее любила, – писала она другу. – Она одна знала меня».
По словам искусствоведа и биографа Дори Эштон, когда Натали не стало, жизнь для Бонёр «сделалась почти невыносимой».
Затем был «Дикий Запад» Буффало Билла. И возрождение. Осенью 1889 года в Би приехала американская художница, учившаяся в Париже, – она служила переводчицей у Джона Арбакла, нью-йоркского кофейного магната, который подарил Бонёр мустангов. Арбакл искал повод встретиться с известной художницей. Бонёр торопливо поблагодарила его за подарок (лошадей она потом отослала Коди) и, не теряя времени, приступила к соблазнению молодой переводчицы Анны Клюмпке.
Клюмпке родилась в Сан-Франциско, но училась живописи во Франции. С детства она хромала на одну ногу. Родители считали, что она никогда не выйдет замуж. Кроме того, у нее был довольно большой нос – Бонёр галантно сравнивала ее с великим французским любовником Сирано де Бержераком, обладавшим таким же выдающимся носом.
Мать Фрэнка Ллойда Райта вешала над его колыбелью вырезанные картинки английских соборов – мать Клюмпке тоже с детства готовила своих четырех дочерей к блестящей карьере. Она подарила Анне куклу в виде Розы Бонёр, которой та в детстве очень дорожила, а позднее репродукцию «Ярмарки лошадей» для вдохновения. Это сработало. Анна отправилась учиться живописи в известную Академию Жюлиана в Париже, и на Салоне 1885 года получила поощрительную премию жюри за портрет своей сестры.
Когда Клюмпке встретила Бонёр, она уже была готова полюбить пожилую женщину – а та пришла от нее в восторг с первого взгляда. Да, звучит жутковато – напоминает историю Кэти Холмс, которая еще девочкой влюбилась в Тома Круза, увидев его в кинотеатре в Толедо, а затем, став взрослой, вышла за него замуж. Но в то же время есть в этом что-то чудесное. С виду Бонёр напоминала ворчливую медведицу, но у нее было самое нежное сердце. «Дело решено, верно? – писала Бонёр после того, как Клюмпке пообещала никогда не расставаться с ней. – Это будет брак, заключенный на небесах».
Бонёр умерла в возрасте семидесяти семи лет и была похоронена рядом с Натали на легендарном парижском кладбище Пер-Лашез. Сорок с лишним лет спустя Анна Клюмпке присоединилась к ним уже навсегда.
Через два года после смерти Розы Бонёр на площади Денекур в Фонтенбло воздвигли монументальный бронзовый памятник в ее честь. Памятник изображал не саму художницу, но – в редком согласии с душой художника – бронзового быка в натуральную величину, неторопливо и мощно шагающего вперед. Великолепное создание.
Глава 6. Эдмония Льюис
Я думала снова вернуться к вольной жизни, но мне помешала любовь к ваянию.
ЭДМОНИЯ ЛЬЮИС
В КОНЦЕ 1980-Х ГОДОВ независимый ученый и куратор Мэрилин Ричардсон изучала творчество жившей в XIX веке женщины-скульптора Эдмонии Льюис. Биографических данных о ней было мало, а самая знаменитая работа Льюис «Смерть Клеопатры» уже сто лет считалась бесследно пропавшей. Ричардсон поступила так же, как поступали все люди до наступления эпохи интернета: она дала в рубрике «Книжное обозрение» газеты New York Times объявление с просьбой откликнуться всех имеющих какие-либо сведения.
Эдмония Льюис. Смерть Клеопатры. 1876
Объявление случайно увидел куратор Метрополитен-музея (возможно, это произошло ленивым воскресным утром, когда он неторопливо завтракал рогаликами с апельсиновым соком). Куратор вспомнил, что в музей недавно пришло письмо от некоего Фрэнка Орланда, зубного врача и любителя истории из пригорода Чикаго, обратившегося за сведениями о той же Эдмонии. Возможно, у него было что-то из ее вещей. Благодушно настроенный куратор отодвинул стакан сока и набрал номер, указанный в газете.
Ричардсон с готовностью ухватилась за эту зацепку. Она звонила. И снова звонила. Она передавала сообщения. Все оставались без ответа. Как в таком случае поступает научный работник, живущий на зарплату независимого ученого? Совершенно верно – она села на самолет, затем в машину, а затем поднялась по парадной лестнице к дверям дома Фрэнка Орланда и позвонила в звонок.
Сразу ставший сговорчивым Орланд привел Ричардсон в пустынный технический коридор в торговом центре на окраине города. Явно не то место, где можно найти монументальную мраморную статую египетской царицы. По закону детективного жанра на этом этапе события должны были принять зловещий оборот – не ходи туда, Мэрилин! – но нет, Фрэнк оказался порядочным человеком. В ничем не примечательном техническом коридоре они с Ричардсон остановились перед закрытой дверью. Орланд вытащил ключи.
Момент не менее знаменательный, чем тот, когда Говард Картер и Джордж Герберт открыли древнюю гробницу Тутанхамона в Долине царей и чиркнули спичкой. Впрочем, на этот раз все выглядело по-американски просто: Орланд протиснулся в кладовку и щелкнул выключателем.
Там стояла «Смерть Клеопатры» Эдмонии Льюис. Великая владычица бессильно откинулась на спинку мраморного трона, трагическая, волнующая и – как вспоминала Ричардсон – «со всех сторон окруженная праздничными украшениями, индейками из папье-маше, елочными гирляндами и рождественскими эльфами».
Ричардсон охватила дрожь.
Знаменитая работа одной из самых выдающихся скульпторов Америки XIX века, утраченная сто лет назад, неожиданно нашлась.
Почему художественное произведение теряется, а потом находится? В случае Льюис причин было множество. Самые очевидные: у нее не было наследников, ее неоклассический стиль, который так любили в Америке в 1860–1880-е годы, утратил популярность. Она не давала повода писать о себе в новостях, и ни одна живая душа не посетовала, что ей не уделяют должного внимания. Целых сто лет никто не знал, что с ней случилось. Одни говорили, что она умерла в Риме, другие называли Париж, а некоторые даже верили, что она умерла в округе Марин (штат Калифорния) и была похоронена в Сан-Франциско. На самом деле умерла она в 1907 году от Брайтовой болезни (умирала мучительно) и была похоронена в Лондоне. В завещании она называет себя «старой девой и скульптором». Это крайне упрощенная версия ее биографии.
В интервью, данном в 1866 году британскому критику, Льюис так описала свое происхождение: «Моя мать была вольной индианкой. Она родилась в Олбани, кожа у нее была медного цвета, волосы прямые и черные. Там она мастерила и продавала мокасины. Мой отец был негром и слугой джентльмена, он увидел ее и взял в жены… Мать часто уходила из дома и странствовала со своими людьми. Она не могла забыть их привычки, и мы, ее дети, воспитывались в том же вольном духе».
Льюис была наполовину черной и наполовину индианкой, и это отнюдь не сулило ей радужного будущего. Но как будто этого было недостаточно – она довольно рано осталась сиротой.
Родители умерли, когда Льюис исполнилось девять лет. Остаток детства она провела с племенем матери, индейцами чиппева (оджибве), которые носили мокасины и продавали бусы и другие товары туристам в окрестностях Ниагарского водопада. Брата Сэмюэля тогда звали Солнечный Свет, а ее – Лесной Пожар. Индейское имя как нельзя лучше подходило упрямой девушке.
В какой-то момент Сэмюэль уехал добывать золото в Калифорнию, а Льюис поступила в Центральный колледж (штат Нью-Йорк), хотя вскоре ее «признали дикой» и попросили покинуть учебное заведение. После этого благодаря финансовой поддержке Сэмюэля и помощи аболиционистов Льюис поступила в Оберлинский колледж.
Оберлин был очагом аболиционизма, первым колледжем в Соединенных Штатах, где мужчины и женщины, белые и черные учились вместе.
Льюис жила в семье преподобного Джона Кипа, и дела шли замечательным образом заурядно вплоть до 11 февраля 1862 года, когда в местной газете Cleveland Plain Dealer появилась следующая новость:
Таинственное происшествие в Оберлине – Подозрение в покушении на убийство – Отравлены две молодые леди – Подозреваемая арестована.
Отравленными были белые подруги Льюис. Кроме того, в деле фигурировали такие факты, как вино и интимная прогулка на санях зимним вечером в сопровождении мужчин. Ядом была шпанская мушка – Льюис обвинили в том, что она подлила опасный афродизиак в напитки девушек.
Стоит заметить, что годом ранее началась Гражданская война, и даже в идеалистическом Оберлине обстановка стала напряженной. Однажды вечером, еще до того, как Льюис предъявили официальное обвинение, ее похитили вигиланты, когда она вышла из дома Кипов, увезли в безлюдное поле, раздели, избили и бросили умирать. Она была прикована к постели в течение многих дней, а потом довольно долго передвигалась на костылях.
Вскоре после избиения ее арестовали. К счастью, ее адвокатом был Джон Мерсер Лэнгстон, один из первых чернокожих выпускников Оберлина, позднее первый декан юридического факультета Говардского университета. Блестящий оратор, Лэнгстон выступил на судебном разбирательстве с шестичасовым заключительным словом. Льюис была оправдана по всем пунктам обвинения.
О феноменальной стойкости и целеустремленности Льюис говорит то, что она вернулась в Оберлин. Однако уже в следующем году ей предъявили новое обвинение, на этот раз в краже художественных принадлежностей. И хотя она снова была оправдана, ее отказались принять обратно в колледж.
Не хочется уподобляться неукротимой оптимистке Поллианне, но изгнание из Оберлина, вероятно, было для нее благом.
В поисках места, где можно было бы заняться любимым делом, Льюис отправилась в Бостон. Там она познакомилась с Уильямом Ллойдом Гаррисоном, выдающимся издателем, аболиционистом и суфражистом. Он представил Льюис ее будущему учителю, скульптору Эдварду Брэкетту.
Брэкетт специализировался на бюстах великих людей, и Льюис, схватывавшая все на лету, начала с того же. Ее бюст Роберта Гулда Шоу, погибшего «бостонского брамина», во времена Гражданской войны возглавлявшего первый полк чернокожих (в фильме «Слава» его сыграл Мэтью Бродерик), был продан в количестве более ста экземпляров по пятнадцать долларов за штуку. Заработав первые настоящие деньги, Льюис отправилась в Рим. «В стране свободы не было места для цветного скульптора», – сказала она New York Times десять с лишним лет спустя.
Я всегда видела в Льюис удивительную противоположность Поля Гогена, который позднее в том же столетии оставил степенную старую Европу ради свободного Таити. Льюис, наоборот, покинула Новый Свет ради Старого в 1866 году. В обоих случаях это принесло богатые плоды.
Разве может быть совпадением то, что первое крупное произведение, завершенное Льюис после переезда, называлось «Освобожденная женщина, впервые услышавшая о том, что она свободна»?
Это произведение ныне утрачено, но вслед за ним Льюис создала посвященную той же теме знаменитую скульптурную группу «Навеки свободные», изображающую пару рабов, мужчину и женщину, в тот момент, когда они слышат прокламацию об освобождении. Женщина – босая, в простой тунике с поясом – стоит на коленях со сложенными руками и смотрит вверх. Ее длинные волосы, разделенные прямым пробором, мягко спадают по обе стороны классического идеализированного лица. Мужчина, стоящий рядом с ней, почти наг, на нем только свободные короткие штаны. Его большая правая рука опущена на плечо женщины в защищающем жесте. С левого запястья, охваченного кандалами, спускается обрывок цепи, но мужчина торжествующе поднимает кулак.
Его левая нога опирается на ядро, что находится на другом конце разорванной цепи, – в классической статуе вместо ядра могла быть голова побежденного врага (ренессансная отсылка – «Давид» Донателло). Положение одной ноги выше другой естественным образом приводит современную фигуру Льюис в самую классическую позу: это контрапост – найденный греками прием, позволяющий оживить стоящую фигуру при помощи одной активной ноги (например, статуя Поликлета «Дорифор»).
В скульптуре «Навеки свободные» Льюис прославляет недавнее (для нее) историческое событие, но опирается на древнейшие традиции. В этом союзе нового и старого и заключается гений скульптора. Одетую женщину рядом с обнаженным или едва одетым мужчиной можно увидеть еще в Древнем Египте (например, статуя «Царевич Рахотеп и его жена Нофрет») или в древнегреческих скульптурах юношей и девушек – куросы и коры, – где куросы (мужские фигуры) обнажены, а коры (женские фигуры) одеты в подпоясанный пеплос, очень похожий на одежду героини Льюис (сравните «Кору в пеплосе» из Акрополя и «Навеки свободных»). Скульптура «Навеки свободные» современна, как сама Америка, и неподвластна времени, как античный мир.
Свою свободу Льюис нашла в Риме, вечном городе, в небольшом кругу женщин-эмигранток. В группу скульпторов входили Харриет Хосмер, Маргарет Фоли и Эмма Стеббинс. Пользовавшаяся международным признанием Хосмер помогла Льюис обосноваться в студии, где раньше работал итальянский мастер неоклассицизма Антонио Канова.
Эдмония Льюис. Навеки свободные (Утро свободы). 1867
Аналогичные «мальчишеские» клубы, судя по всему, не чувствовали себя в безопасности рядом с этим кружком. И защищались, не стесняясь в выборе средств.
У Натаниэля Готорна, чья жена София сама была художницей, есть популярный роман «Мраморный фавн», в котором художницы представлены как примитивные копиисты, обреченные на трагедию. (Еще меньше уважения Готорн проявлял к писательницам; своему издателю он говорил: «Все женщины пишут невыразительно и скучно. Хотел бы я, чтобы им всем запретили писать, а тем, кто осмеливается, грозили изрезать лицо устричной раковиной». На что, если мне позволено будет перебить классика, хочется сказать только одно: «Да пошел ты, Нейт».)
Но самый чувствительный удар нанес Генри Джеймс, написавший биографию скульптора-эмигранта Уильяма Ветмора Стори, где он описывает художниц Рима как «причудливый сестринский круг американских “дам-ваятельниц”, примерно в одно время осевших на семи холмах беломраморной стаей».
Причудливое слово беломраморный, разумеется, относится к белому мрамору.
Стая – снисходительное определение, намекающее, что эти женщины, взбалмошные и однообразные, повторяющие все друг за другом, были как беспорядочная стая голубей, гадящих на великое искусство. С птичьими мозгами, возможно.
Изначально уничижительные ярлыки импрессионист и фовист пристали к представителям более поздних течений и превратились в их официальные наименования – точно так же женщин-скульпторов, работавших в Риме в середине XIX века, стали называть «беломраморной стаей».
Но на этом Джеймс не остановился. «В сестринском круге… была негритянка, чей цвет кожи, живописно контрастирующий с цветом ее художественного материала, стал самым назойливым посредником ее славы».
Откровенно говоря, у Джеймса было много общего с Льюис (возможно, его обличительная речь в равной степени относилась и к нему самому). Оба были одинокими американцами за границей. Оба не состояли в браке и были бездетны, вероятно гомосексуальны. Оба были преданы своему искусству. Разница заключалась в том, что если Джеймс (так же как и Льюис) еще мог сойти за человека традиционных предпочтений, она никак не могла сойти за белую. По какой-то причине Джеймс хотел подчеркнуть именно этот пункт, и сделал это в печати.
И раз уж мы затронули тему цвета, я должна сказать несколько слов о выбранном Льюис рабочем материале – белом мраморе. Льюис работала в мраморе, потому что так делали все мастера изящных искусств. В этом нет никакого тайного смысла и никакой «ненависти к себе» (такие предположения высказывались). Поразительная новость: далеко не у всех европеоидов кожа белая как мрамор. Вот почему в Древнем мире скульптуры всегда раскрашивали (поищите «полихромия в античной греческой скульптуре» и приготовьтесь испугаться). Мрамор – академическая условность, сообщающая, что перед нами высокое искусство. Этот материал не имеет ничего общего с конкретным цветом кожи людей, мастью лошадей, цветом кожаных панцирей и всего остального.
Италия привлекала скульпторов богатыми месторождениями мрамора и высокоразвитыми камнерезными традициями. Обычно скульпторы создавали уменьшенную модель произведения и отправляли ее резчикам, которые с помощью пунктировальных машин аккуратно вырезали из камня увеличенную копию. Почти законченную работу затем возвращали скульптору, который наводил на нее окончательный глянец.
Эдмония Льюис. Сватовство Гайаваты (Старый стрелоделатель и его дочь). 1872
Сегодня этот простой способ создания скульптур распространен так же широко, как в XIX веке (например, Джефф Кунс – слышали о таком?). Но критики «беломраморной стаи» увидели в нем повод обрушить на женщин-скульпторов бессмертное обвинение: якобы они не являются авторами собственных работ. Участница «беломраморной стаи» Харриет Хосмер выступила против невежественных нападок: «Мы, женщины-скульпторы, даже не собираемся скрывать, что нанимаем помощников; мы лишь возражаем против предположения, будто это некий особый метод, которым не пользуется никто, кроме нас». Почти все скульпторы того времени при создании своих работ обращались к услугам камнерезов и других ремесленников.
Все, за исключением Льюис. Она сама прекрасно владела резцом. Вероятно, на раннем этапе она не могла позволить себе помощников, но и позднее продолжала работать самостоятельно. Будучи цветной женщиной, она категорически не могла допустить ни малейшего намека на обман.
Что делает еще более значительной ее скульптуру «Сватовство Гайаваты», второе известное название – «Старый стрелоделатель и его дочь».
«Песнь о Гайавате» Генри Уодсворта Лонгфелло была самым популярным американским стихотворным произведением XIX века. Многие уважаемые художники и скульпторы создавали работы по мотивам этой поэмы, но ни один не мог взглянуть на нее одновременно изнутри и извне – быть и индейцем, и художником, носителем традиций коренного народа и представителем западной культуры.
Льюис могла.
«Сватовство Гайаваты» полно изысканных тонких деталей. Обутый в мокасины отец сидит рядом с дочерью, оба смотрят вверх, прервав свои занятия. Мужчина, снова одетый более скудно, чем женщина, обтачивает наконечник стрелы, а его дочь плетет циновку, лежащую у нее на коленях. У их ног мы видим мертвого олененка.
Здесь в полной мере проявляется власть скульптора над камнем. Мягкие кожаные мокасины и тяжелые шкуры, в которые одеты герои, прочный кремень в руках отца и мягкая циновка на коленях дочери передают богатое разнообразие материалов и текстур.
Работа интересна не только тем, что обнаруживает абсолютное владение Льюис техникой и материалом, но и тем, какую роль скульптор отводит зрителям. Все англоговорящие современники Льюис знали стихотворение Лонгфелло о храбреце из племени чиппева, полюбившем девушку из враждебного племени дакота.
- У дверей в своем вигваме,
- Вместе с милой Миннегагой,
* * *
- Стрелоделатель работал.
- Он точил на стрелы яшму,
- Халцедон точил блестящий,
- А она плела в раздумье
- Тростниковые циновки.
* * *
- Пред невестой Гайавата
- Сбросил с плеч свою добычу,
- Положил пред ней оленя…
(Перевод И. А. Бунина)
В скульптуре Льюис нет фигуры Гайаваты, но перед Миннегагой лежит олень, и она смотрит на нас. А мы и есть Гайавата. Льюис покончила с привилегированным белым зрителем, несмотря на то что иллюстрировала произведение почтенного белого поэта. Она превратила нас всех в чиппева.
Я белая, но двое из моих братьев и сестер – коренные американцы. Моя сестра Дайана, принятая в племя черноногих, на одиннадцать лет старше меня. Большое благо для меня в детстве, поскольку она водила машину и, что еще важнее, любила ходить в такие веселые заведения, как мексиканские закусочные Taco John’s, и встречаться с друзьями на собраниях в Юношеской христианской ассоциации. Каждое лето она возила меня на ярмарку штата Монтана, где мы гуляли целыми днями.
Однажды, в моем восьмилетнем возрасте, наш брат Том получил на ярмарке приз за свою картину. Его холст с изображением человека на больничной койке висел в павильоне изящных искусств; причем брат, один из немногих, выбрал сюжет не из «западной» жизни. Надо сказать, почти все, что окружало меня в моем детстве из предметов искусства, было посвящено лошадям, ковбоям, индейцам и бизонам. Пока мы с Дайаной, взявшись за руки, бродили в поисках работы Тома, я про себя давала названия картинам, мимо которых мы проходили: Индейская девочка с куклой; Перестрелка ковбоев в салуне; Воины в боевой раскраске; Поющий ковбой на лошади. Все они выглядели немного одинаково, словно иллюстрации в книге сказок. Ничего не напоминало ту западную жизнь, которую я знала.
Генри Рочер. Фотопортрет Эдмонии Льюис. Ок. 1870
Вдруг Дайана остановилась. Она смотрела на портрет молодой индейской девушки с Великих равнин, примерно ее возраста. Девушка в рубахе из оленьей кожи была красивой, как моя сестра, – с высокими скулами, темными косами, спускавшимися на грудь. Ее карие глаза смотрели прямо на Дайану, но взгляд казался отсутствующим, словно у куклы. Совсем не как у моей энергичной сестры, всегда предпочитавшей среди ярмарочных аттракционов «Молнию» – самую крутую и опасную горку.
Я вспомнила тот давний день с Дайаной, когда в студенческие годы впервые увидела работу Эдмонии Льюис. Мне случайно попала в руки тоненькая книжка про скульптуру неоклассицизма, и я сразу открыла страницу с фотографией «Сватовство Гайаваты». Мне не доводилось слышать о Льюис, но мне сразу понравилось то, что я увидела. Отец и дочь выглядели, по канонам неоклассицизма, идеализированно, но в них было что-то яркое и живое. Не другие, а мы. Они походили на людей, которых я знала. На мою семью.
Льюис иногда обвиняли в том, что она эксплуатирует свое происхождение. Но документально это утверждение ничем не подтверждается.
Возьмем ее фотопортрет – обычное лицо задумчивой молодой женщины. Такие фотопортреты были своего рода визитными карточками (carte-de-visite photo) наподобие сегодняшних аватаров в Twitter или Facebook. Вы скрываетесь за своим лучшим я; оно может быть умным или счастливым, – но это то лицо, которое вы хотите предъявить публике.
Как успешный скульптор, Льюис знала, что фотопортрет-визитка может служить рекламным инструментом. Она действительно могла бы эксплуатировать тему своих национальных корней с помощью экзотических костюмов, предметов интерьера и другой бутафории. Но она одета в простую, наподобие мужской, одежду, которую носила всегда. У нее задумчивое лицо, маленькие, сильные руки. Рост, очевидно, «ниже среднего», так как задрапированные юбкой ноги явно не достают до пола.
Очень маленькая женщина. Но работы ее красноречивее всех слов.
Итак, «Клеопатра».
Публика восхищалась аболиционистскими работами Льюис и обожала ее индейские работы, но ее лучшее произведение не имело ничего общего с Америкой ни с политической, ни с исторической точки зрения. На создание «Смерти Клеопатры» у Льюис ушло больше четырех лет; это был ее самый грандиозный замысел, высотой более полутора метров, весом более двух тонн.
Клеопатра – героиня непростая. Она правила Египтом двадцать один год до самой смерти (51–30 годы до н. э.). Этническая принадлежность царицы наполовину скрыта. По отцу она принадлежала к греческой династии Птолемеев, но происхождение ее матери неизвестно – скорее всего, африканка, то есть или египтянка, или нубийка, или эфиопка. Вокруг этой версии в XIX веке было сломано немало копий.
Предметом бурных обсуждений служила и сексуальная жизнь Клеопатры. Она по очереди была женой двух своих младших братьев и обоих убила; стала любовницей Юлия Цезаря, потом Марка Антония. Во все времена фигура Клеопатры вызывала яростные споры: одни считали ее великой африканской царицей, другие – распутницей, получившей по заслугам. Антоний и Клеопатра объединили силы против Рима и потерпели поражение. Антоний бросился на меч, а Клеопатру ждало позорное шествие через весь Рим в цепях. Она предпочла смерть, заблаговременно решив умереть от укуса ядовитой змеи. Воля ее была исполнена.
Всемирная выставка в 1876 году впервые проводилась не в Европе, а в Филадельфии – в честь столетия принятия Декларации независимости США. На ней представили пятьсот скульптур, среди которых была и «Смерть Клеопатры» Эдмонии Льюис, ставшая одной из сенсаций дня. Поразительная новизна заключалась в том, что Клеопатра не раздумывает о самоубийстве, соблазнительно поднося аспида к груди. Нет, она уже мертва, губы ее слегка приоткрыты в последнем вздохе, левая рука безжизненно повисла. Этот пронзительный портрет изображает царицу Египта не как соблазнительницу, а как великую и трагическую правительницу, которую можно сравнить с королем Лиром.
Скульптура Льюис изображает момент смерти, поэтому некоторые считали ее ужасной, даже уродливой, однако о «Клеопатре» много писали и повсюду ее хвалили. Афроамериканский еженедельник того времени сообщал: «“Смерть Клеопатры”, выставленная в Мемориальном павильоне, вызывает больше восхищения и собирает вокруг себя больше людей, чем любое другое произведение этой богатой экспозиции». В учебниках истории ее называли «самым замечательным скульптурным произведением в американском разделе».
Далее «Клеопатра» отправилась в 1878 году на выставку в Чикаго и снова собрала вокруг себя толпы. Ее восхваляли, о ней спорили, многие хотели ее увидеть, однако никто ее не купил. Отсылать статую обратно в Рим было слишком дорого, и Льюис, не теряя надежды, что покупатель все-таки найдется, решила оставить Клеопатру на хранение там, где последний раз ее показывала.
Каким-то образом в 1892 году статуя оказалась в чикагском салуне. Позже она перешла в собственность печально известного местного игрока Джона Кондона по кличке Слепой, который, скорее всего, выиграл ее на спор. Из шедевра Льюис он сделал надгробный памятник любимой лошади, которую тоже звали Клеопатрой. Лошадь была похоронена перед трибуной гарлемского ипподрома в расположенном неподалеку Форест-Парке. В завещании Кондон потребовал, чтобы статуя всегда стояла над могилой его лошади.
«Смерть Клеопатры» оставалась там даже после того, как на территории ипподрома появилось поле для гольфа, а затем торпедный завод. Но в начале 1970-х годов на месте могилы лошади построили новое здание почтовой службы, и прежним договоренностям пришел конец. Подрядчик перевез «Клеопатру» в соседний город и оставил мраморную статую на открытой стоянке среди экскаваторов и прочей строительной техники. Там ее обнаружили сострадательные бойскауты, они ее помыли, покрасили – не самый лучший способ консервации, хотя действовали они из лучших побуждений. Наконец, сведения о статуе дошли до Исторического общества Форест-Парка, которое в 1985 году выкупило ее и поместило на хранение в торговый центр.
И вот теперь глава Исторического общества Фрэнк Орланд остался стоять в тусклом дверном проеме кладовки торгового центра, заваленной праздничными украшениями, а ученый Мэрилин Ричардсон сделала шаг внутрь.
Глава 7. Паула Модерзон-Беккер
Я люблю заходить в студию и видеть, как мои картины оживают на свету. Иногда я чувствую, что это я сама пинаюсь внутри себя, это себя я должна кормить грудью, любить…
АДРИЕННА РИЧ. ПИСЬМА ПАУЛЫ БЕККЕР К КЛАРЕ ВЕСТХОФФ
СОГЛАСНО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ annus mirabilis модернизма ХХ века точно известен – это 1907 год в Париже, открывший путь всему, что последовало за ним.
Каждому движению нужна точка отсчета. Разумеется, модернизм активно развивался и до 1907 года. Романтики уже изображали мир, лишенный организованной религии, но исполненный духовного совершенства. Реалисты подарили нам героизм повседневной жизни (согласно Бодлеру, «как мы велики и поэтичны в своих галстуках и лакированных ботинках»). Импрессионисты добросовестно запечатлевали игру света на коже, на земле, на воде и в воздухе, а постимпрессионисты так же добросовестно исследовали невидимый мир духа и эмоций – символист (и протоэкспрессионист) Эдвард Мунк называл их «внутренними образами души».
Какое же событие 1907 года сделало его точкой отсчета для модернизма ХХ века?
Обнаженная женская натура – хотя это одна из древнейших тем в искусстве, – написанная двумя мужчинами.
Весной 1907 года бывший enfant terrible фовизма Анри Матисс представил публике «Голубую обнаженную» («Сувенир из Бискры») – нагую одалиску (лежащая в нарочито сексуальной позе женщина восточного типа), сведенную к разрозненным цветам, линиям и формам.
Приняв перчатку, Пикассо написал «Авиньонских девиц» – ошеломляющую и шокирующую бордельную сцену, с которой, как принято считать, началось развитие кубизма. «Борьба за первенство в авангардизме шла на арене обнаженной женской натуры, написанной в крупном масштабе», – пишет специалист по кубизму Наташа Сталлер. Слово борьба в данном случае полностью оправданно.
Но эта борьба началась раньше 1907 года. В предыдущем году уже была написана обнаженная натура, не менее революционная, чем работы Матисса и Пикассо, – и сделала это женщина. На картине «Автопортрет в возрасте тридцати лет на шестой день свадьбы» Паулы Модерзон-Беккер в роли обнаженной модели выступает сама художница. Она стоит перед нами в натуральную величину и смотрит на нас спокойным и бесстрастным взглядом. Она обнажена до пояса, сверху на ней только янтарное ожерелье, лежащее между маленькими грудями. Левая рука придерживает на талии юбку или драпировку, а правая – защищая ли, с намеком ли – покоится на выступающем животе.
Паула Модерзон-Беккер. Автопортрет в возрасте тридцати лет на шестой день свадьбы. 1906
Картина-манифест, ни единым мазком кисти не уступающая «Авиньонским девицам» Пикассо. В интервью New Yorker искусствовед Диана Радицки называет Модерзон-Беккер «недостающей деталью в истории модернизма XX века».
«Сезанн – наш общий отец» – эти слова приписывают как Пикассо, так и Матиссу. Что абсолютная правда – с точки зрения искусства он действительно был отцом для них обоих.
В равной степени верно и то, что Модерзон-Беккер – мать альтернативного направления модернизма: психологически чуткого, отчаянно смелого, вопиющего и упорствующего в своей женственности. Вспомните Фриду Кало, Элис Нил, Ану Мендьету, Кики Смит, Нэнси Сперо, Синди Шерман, Кэтрин Опи и многих других. В этом длинном списке полно знаменитых имен.
Я представляю Модерзон-Беккер в промозглой парижской квартире весной 1906 года. Она ждет хорошего света, но в мае солнце еще довольно слабое. Она раздета до пояса, и ей холодно. В комнате лишь она и фотокамера. Она уехала от мужа, родителей и сестер, оставшихся в Германии. Здесь она в чужом городе, потому что у нее нет выбора. Здесь она впервые увидела Сезанна, Гогена. Здесь ее каждый день ждет древнее искусство Лувра – египетское, этрусское, римское. И конечно, старые мастера. А в галереях столько всего нового. В художественной жизни происходит нечто небывалое – и она обязательно должна в этом участвовать.
Она много лет писала обнаженную натуру, немецких крестьянок, даже старух и девочек из деревни Ворпсведе. Здесь, в Париже, это не так просто. Здесь только профессиональные натурщицы. Им нужно платить – франками, а не вещами или обещаниями, – а у нее сейчас нет денег.
Какая удача, что у нее есть она сама. Она улыбается, регулирует свет, настраивает объектив и отступает назад. Меняет угол наклона головы, делает одну фотографию, подняв руки к ожерелью, другую – опустив их на живот. Вынимает маленькие цветы – первые весенние бутоны – из букета в банке на столике у кровати и держит их перед собой, глядя в камеру. Проявляет пленку. Ей нравится то, что она видит.
Каждое утро сразу после пробуждения она начинает писать. Пишет весь день, пока есть свет. Она забывает поесть. Работы достаточно – это поддерживает ее. Она худеет, но на холсте становится полнее. Она рисует себе пышущий здоровьем округлый живот, наполненный обещанием. Она полна возможностей, как весенний бутон.
Закончив, она отступает. Она знает, что наконец стала кем-то. Никогда больше не будет извиняться за то, что она художница.
Она подписывает автопортрет инициалами П. Б. В этот день она отмечает пятую годовщину (или шестой день свадьбы) брака с Отто Модерзоном, но с этим покончено. Она пользуется только инициалами своей девичьей фамилии – Паула Беккер. Это моя работа.
К ней заглядывает ее друг, немецкий поэт Райнер Мария Рильке, и видит новую картину. Он с беспокойством смотрит на холст, разглядывая округлившийся живот подруги. Рильке считает, что искусство должно быть важнее жизни. Но ребенок был бы катастрофой.
Рильке может не волноваться. Паула Беккер не беременна.
В истории западной живописи первый обнаженный женский автопортрет написан Модерзон-Беккер. Скорее всего, когда Артемизия Джентилески создавала свою библейскую героиню в «Сусанне и старцах», она брала за образец собственное тело – но это не то же самое. На «Автопортрете, в возрасте тридцати лет на шестой день свадьбы» Модерзон-Беккер сама становится героиней картины. Она художник, субъект, объект, метафора, натура и движущая сила.
Сравним нашу художницу – небеременную, но выглядящую беременной – с прославленными живописными героинями. Например, знаменитая Венера на картине Боттичелли «Весна» – богиня не носит дитя, но живот ее округлен, поскольку она аллегорически выражает плодородие всего сущего. Возьмем невесту, запечатленную Яном ван Эйком на «Портрете четы Арнольфини», – сразу возникает вопрос (если вы не видели картину, поверьте мне на слово): почему невеста так беременна? Нет. И она не беременна. Представьте себе, но пузатые женщины считались самыми красивыми.
При всей своей любви к современному искусству и прогрессу Модерзон-Беккер прекрасно разбиралась в истории живописи. Она и Боттичелли, и его Венера, она и ван Эйк, и невеста бюргера, она с округлым животом в холодной парижской мансарде весной, во всей силе детородного возраста.
Модерзон-Беккер написала первый обнаженный автопортрет в тридцатилетнем возрасте (после этого было еще шесть), но до этой работы она более чем десять лет всерьез занималась живописью, с самого начала подавая большие надежды.
«Я иду по бульварам, и мимо меня проходят толпы людей, и что-то внутри меня кричит: “Красоту, которую я вижу перед собой, не видит больше никто, никто, никто из вас”», – художница записала это в 1897 году, ей было столько же лет, сколько и мне, когда я прочитала ее слова, – двадцать два года. К тому времени я уже влюбилась в Нью-Йорк и уже лелеяла мысль заняться литературным трудом, хотя пока еще не продвинулась дальше университетских работ.
На занятиях по немецкому экспрессионизму профессор Герт Шифф показал нам один из обнаженных автопортретов Модерзон-Беккер и упомянул, что для этого курса отложил в библиотеке томик переведенных писем и дневников художницы, и даже сказал, на какой полке он лежит. В перерыве я помчалась наверх, нашла эту книгу и перенесла ее в учебный кабинет на «свое» место. Выносить книги из библиотеки не разрешалось.
Я провела следующую неделю в квартире бойфренда в Верхнем Ист-Сайде, чтобы пораньше приходить в Институт и успевать взять книгу. По утрам я ждала на холодной улице, когда здание откроется, тщетно пытаясь согреть ладони о картонный стаканчик с чаем, в котором было слишком много молока. Оказавшись на своем месте наверху, я жадно глотала записки Модерзон-Беккер, чтобы узнать (и воспроизвести) ее рецепт, как стать художником.
Первую славу Модерзон-Беккер принесли не картины, а как раз дневники и письма. Рильке, ее близкий друг, отказался редактировать их и умолял своего издателя не публиковать их: «Для чего позволять всем знать, как нежнейшее существо, так послушно и искренне исполнявшее волю семьи, позднее, охваченное страстью своего дела, отказалось от всего и взвалило на свои плечи одиночество и нищету?»
Разве об этом нельзя узнать из ее картин?
Хотя не все записки Модерзон-Беккер имеют непосредственное отношение к ее искусству, я очень рада, что они все-таки были опубликованы. Они позволяют нам познакомиться с предысторией ее работ и стоящими за ними противоречивыми чувствами.
Отец Модерзон-Беккер (с не слишком благозвучным для читателей «Гарри Поттера» именем Вольдемар) настаивал, чтобы она училась на гувернантку. Он считал, что у нее нет оснований надеяться на удачный брак и тем более тешить себя фантазиями об искусстве. Но его целеустремленная дочь при любой возможности старалась учиться рисовать. Она так и не получила благословения отца («Не верю, что ты станешь боговдохновенным художником и добьешься больших успехов, – иначе это уже давно проявилось бы в тебе»), но и Сезанн, как мы знаем, остался без родительского благословения.
Паула Модерзон-Беккер. Портрет Клары Рильке-Вестхофф. 1905
Модерзон-Беккер самостоятельно обнаружила колонию художников в Ворпсведе, недалеко от своего родного города. Колонию основали в 1889 году два студента-художника – Фриц Макензен и Отто Модерзон, представители натуралистического течения, зацикленного на природной романтике и облагораживающих свойствах уборки навоза лопатой и растопки печей торфом.
Именно на уроках живописи в женской группе у Макензена Паула Беккер в 1899 году познакомилась со скульптором Кларой Вестхофф. Молодые художницы стали близкими подругами, они вместе работали, мечтали, разговаривали, строили планы. Вскоре к ним присоединился поэт Рильке – казалось, он был немного влюблен в них обеих («Я с вами, я благодарно с вами, сестрами души моей»). Однако женился он на Кларе.
На «Портрете Клары Рильке-Вестхофф», написанном Модерзон-Беккер в 1905 году, всего за год до бегства в Париж и революционного автопортрета, изображена подруга Паулы в белом платье, эффектно контрастирующем с ее темными волосами и красной розой, которую она прикладывает к груди. Роза была любимым цветком Рильке и часто появлялась в его стихах. Его жена смотрит из картины влево, и на ее лице застыла маска усталого терпения.
Картина показывает, какую важную роль в расцвете позднего стиля Модерзон-Беккер сыграло древнее искусство. Ее фигуры утрированны, монументальны и стоят как будто вне времени. Вместе с тем они демонстрируют тонкое понимание психологии модернизма и свойственной ему прямолинейной выразительности форм, соединенных с таинственными символами.
Беккер часто писала на женских портретах цветы – архетип природы, красоты, женственности и вместе с тем загадка, поскольку их часто держат для зрителя, подавая ему тайный знак, который мы понимаем на том же интуитивном уровне, как понимаем происходящее во сне.
Модерзон-Беккер впервые приехала в Париж 1 января 1900 года. Полгода она писала оттуда пространные письма в Ворпсведе, призывая остальных последовать за ней и познакомиться с новым преображающим искусством. Из Ворпсведе приехало несколько художников, в том числе Отто Модерзон, один из основателей колонии. Он был на одиннадцать лет старше ее. Его больная жена, оставшаяся дома, умерла через три дня после его приезда. А через три месяца они с Паулой Беккер обручились.
Отто Модерзону иногда отводят роль негодяя в истории его жены-художницы, однако он любил ее и восхищался ею. У нее (как и у него) была личная мастерская близ их дома в Ворпсведе, где она работала с девяти утра до семи вечера с двухчасовым перерывом в полдень для семейного обеда, приготовленного кухаркой. У нее было больше поддержки, чем у большинства женщин-художниц в любые времена. Но даже с этой поддержкой и с ежегодными поездками в Париж ей приходилось нелегко. Сельская художественная колония в Ворпсведе смотрела в прошлое, а Модерзон-Беккер видела будущее. «Ее никто не понимает», – писал ее муж, пытавшийся понять свою жену.
Работая над «Портретом Клары Рильке-Вестхофф», Модерзон-Беккер писала своей матери: «В какой ужасный тупик попадаешь, выйдя замуж, – как же трудно это выносить».
Паула Модерзон-Беккер. Лежащая мать с ребенком II. 1906
Сама Рильке-Вестхофф позднее вспоминала: «Открывая маленькую скрипучую дверцу, Паула бросала в печь один кусок торфа за другим, и по ее щекам катились слезы. Она рассказывала мне, как важно ей было снова оказаться “в большом мире”, снова вернуться в Париж. “Когда я думаю об этом, о мире…” – говорила она».
В начале 1906 года, всего через несколько дней после дня рождения Отто, Модерзон-Беккер сбежала из Ворпсведе с намерением никогда не возвращаться.
В письмах из Парижа она умоляла Отто не пытаться вернуть ее. В то же время она просила денег. Как замужняя женщина, она не располагала собственными средствами.
Повседневные потребности: еда, отопление, плата натурщицам – доставляли немало хлопот, и все же ее искусство переживало бурный расцвет. Проведя в Париже всего несколько месяцев, она выработала новый мощный стиль. Вскоре после создания «Лежащей матери с ребенком II» (картина написана в натуральную величину) она восторженно признавалась в письме к своей сестре Милли: «Я становлюсь кем-то – я проживаю самый насыщенный и счастливый период своей жизни». Затем она попросила Милли выслать денег.
Традиционно полулежащая обнаженная фигура сообщает о сексуальной доступности, и это в равной степени касается как мифологии («Венера Урбинская» Тициана), так и ориентального романтизма («Большая одалиска» Энгра) и откровенной проституции («Олимпия» Мане). В сотнях (или даже тысячах) подобных работ обнаженная женщина открыто смотрит на зрителя, приветствуя его взгляд. Невозможно представить на месте зрителя кого-то, кроме мужчины; это предполагается по умолчанию.
Но на картине «Лежащая мать с ребенком II» Модерзон-Беккер порвала с существовавшей три тысячи лет условностью. Ее мать и ребенок смотрят друг на друга, не обращая внимания ни на какого зрителя. Они действительно полны чувственности, но это чувственность пищи, прикосновения, тепла и животной любви. Друг к другу.
Новаторство Модерзон-Беккер проявляется и в том, что она не боится женского тела и того, для чего оно создано. Грудь, пупок и волосатый лобок ее монументальной полулежащей героини не прикрыты. Прическа и лицо, лишенное деталей и похожее на маску, напоминают древнейшие, далеко не западные изображения. Она вечна, как Венера Виллендорфская, – и именно так далеко, до палеолита, нам придется вернуться во времени, чтобы найти откровенное и откровенно несексуальное изображение половых органов.
Кроме того, художница полностью переосмыслила образ кормящей матери с ребенком. Она изобразила не Деву Марию, кормящую святого младенца (мужского пола), и не простую крестьянку, устало расстегивающую блузу, а Женщину, Мать, Обнаженную, предлагающую пищу и любовь и получающую их в ответ от ребенка, пол которого нам неизвестен.
Обнаженные матери у Модерзон-Беккер – сильные и разносторонние и вместе с тем естественные. Как художники. Как эта художница и женщина.
Некоторые критики улавливали в произведениях Модерзон-Беккер консервативные нотки, одержимость женским стремлением к материнству. Но видение Модерзон-Беккер имеет феминистскую суть. Она хочет получить все сразу: и искусство, и ребенка.
Мы не знаем, была ли художница беременна, когда писала «Лежащую мать с ребенком II». Скорее всего, да. Но если еще нет, то скоро это произойдет.
Я помню момент, когда впервые увидела работу Модерзон-Беккер. Я сидела в передней части аудитории Института изящных искусств, располагавшейся в бывшем бальном зале особняка. Профессор Шифф стоял неподалеку на кафедре и всматривался в свои записи. Во Второй мировой войне он был солдатом вермахта, попал в плен к французам, а затем оказался в Нью-Йорке, где поселился в богемном отеле «Челси». Несколько лет назад я прочитала об этом в мемуарах Патти Смит «Просто дети» (Just Kids), посвященных тому времени, когда она тоже жила в «Челси»: «Иногда я сталкивалась с Гертом Шиффом, немецким ученым, не расстававшимся с книгами о Пикассо». Я улыбнулась, представив Шиффа таким же, как сейчас за кафедрой, двадцать лет спустя, сгорбившегося над искусствоведческим текстом, растрепанного, ироничного, увлеченного.
Над головой у профессора появился слайд с «Автопортретом с янтарным ожерельем II» Модерзон-Беккер, и хрустальные люстры и позолоченные стены комнаты с зеркалами померкли рядом со светящимся изнутри телом женщины. Шифф вскинул голову, словно от неожиданности, потом вздохнул – что это было? Узнавание? Восхищение? Я проследила за его взглядом. Поясной портрет пышной обнаженной женщины, тело развернуто к нам, взгляд устремлен куда-то вправо от нас. Позади нее небесно-голубой фон, заполненный побегами и цветами. На ней янтарное ожерелье – теплое золото на персиковой коже, а в забранных назад волосах три маленьких розовых цветка. Два таких же цветка она держит перед собой, тот, что в левой руке, поднят вверх между грудями.
«Цветок почти такого же цвета и формы, как ее ареола», – сказал Шифф с мягким немецким акцентом.
В написанном тексте это выглядит слишком холодно, как врачебная помета в истории болезни, но тогда прозвучало удивительно красиво. Она была совсем не похожа на обнаженную натуру, которую мы видели на курсе до этого: чувственная, но не сексуальная, полная здоровья и силы. Ничего общего с работами скандинавских и немецких художников, рисовавших бьющую в глаза похотливую наготу, одновременно и хищниц и сексуальные объекты, и пожирательниц и мясо.
Паула Модерзон-Беккер. Автопортрет с янтарным ожерельем II. 1906
Картина ошеломила меня, я пыталась делать заметки, но не хотела отводить от нее взгляда. Когда Шифф сказал, что это автопортрет, я чуть не уронила ручку. Когда он сказал, что художница в тот момент была беременна, я все-таки ее уронила. Я и подумать не могла, что такое возможно. Не знала, что можно иметь ребенка и создавать великое искусство. Действительно не знала. Но может быть, в моем незнании нет ничего удивительного. Ведь «Автопортрет с янтарным ожерельем II» – это первый в истории автопортрет обнаженной беременной женщины.
Через несколько лет, когда я читала курс «Обзор современного искусства» в Портлендском государственном университете, я специально отвела время, чтобы рассказать студентам об «Автопортрете с янтарным ожерельем II». Мы были в лекционной аудитории в десять раз больше того бального зала старого особняка, где я впервые встретилась с этим произведением. Вслед за Гертом Шиффом я сравнила маленький цветок с соском художницы и сказала, что она, как сама природа, прекрасна, плодовита и вечна. Я говорила о ребенке у нее внутри и о работах, которые она оставила миру. Стоя за кафедрой, я буквально светилась от восхищения этой женщиной.
Позднее, проверяя итоговые работы (эта картина была среди экзаменационных слайдов), я обнаружила, что студенты все как один повторяют мои слова о цветах и сосках, но некоторые добавляют к ним свои комментарии, например: «Что довольно странно»; «Я все-таки не понимаю, зачем такое делать»; «Может быть, она странно вела себя из-за беременности». Я еще раз просмотрела стопку и отложила в сторону работы с подобными комментариями. Все они были сделаны мужчинами.
Отто Модерзон явился в Париж без предупреждения всего через неделю после того, как его бывшая жена завершила «Автопортрет в возрасте тридцати лет на шестой день свадьбы» и подписала его девичьими инициалами. Когда Отто ворвался в мансарду, она как раз писала портрет Рильке – еще одна модель, которой можно было не платить, как и себе самой.
Вначале она сопротивлялась уговорам, но потом все же согласилась принять его. Кто знает почему? Деньги? Одиночество? Или она действительно его любила?
Они вместе прожили в Париже все лето и осенью вернулись в Ворпсведе. За это время Модерзон-Беккер создала несколько новаторских ню, в том числе два автопортрета и монументальную «Лежащую мать с ребенком II». И она была уже на порядочном сроке своей первой беременности.
Перед тем как уехать той осенью из Франции, она могла увидеть выставки Руссо, который был ее соседом, а также Курбе, Сезанна, Гогена, Родена, Дерена и Матисса. Возможно, она даже застала провокационную «Голубую обнаженную», выставленную как раз в то время, когда она упаковывала свои революционные работы, чтобы вернуться с ними в маленькую немецкую художественную колонию, по-прежнему замкнутую на прошлом веке. Но она была спокойна, уверена в своем прорыве.
В ноябре Модерзон-Беккер написала сестре Милли леденящее письмо: «Я смотрю на это так: если милосердный Господь позволит мне еще раз сотворить нечто прекрасное, я буду счастлива и довольна, особенно если у меня будет место, где можно спокойно работать. Я буду благодарна за ту любовь, которая встретится на моем пути. Особенно если удастся остаться здоровой и не умереть молодой». Пожалуй, нет ничего удивительного, что в те времена женщина, которой предстояло родить ребенка, думала о смерти.
В тот же месяц она родила дочь Матильду. На фотографиях мы видим сияющую мать и вопящего младенца, одинаково здоровых и крепких.
Модерзон-Беккер, мать и художница, говорила гостям: «Видели бы вы ее голенькой!»
Как было принято в то время, молодой матери прописали две недели строгого постельного режима. Через неделю она пожаловалась на боли в ногах. Через две недели ей разрешили встать. Она заплела волосы, украсила их розами и попросила принести ей дочь. Внезапно ее пронзила боль. Она приподняла ногу и упала без чувств. Ее последними словами были: «Как жаль».
Глава 8. Ванесса Белл
И опять мистер Тэнсли ей нашептывал в уши: «Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером…»
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. НА МАЯК (ПЕРЕВОД Е.А. СУРИЦ)
Действительно, я поражена и немного встревожена (раз уж у тебя есть дети, то слава по праву достается мне), как ты сочетаешь чистоту художественного видения с блестящим воображением.
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. ИЗ ПИСЬМА К СЕСТРЕ
В ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ 1912 года две сестры – Ванесса Белл (урожденная Стивен) и Вирджиния Стивен (в недалеком будущем Вулф) – тихо занимались своими делами в одной комнате. Рядом с ними хочется представить пылающий камин. Англия в конце зимы и начале весны всегда наводит на мысль о холоде и дожде. Скорее всего, в комнате горел камин.
Младшая, Вирджиния (да, та самая Вирджиния Вулф), вяжет на спицах или крючком, устроившись в большом оранжевом кресле. Ванесса, всего лишь на два с половиной года старше ее, ставит рядом небольшой холст и запечатлевает свою сестру-писательницу в тот момент, когда она переплетает нити, создавая узор, нечто прекрасное, что-то полезное и ценное. Вязание крючком как естественное продолжение литературной деятельности. Женщины, говорит эта картина, за работой.
Живопись, литература, вязание. Все это женская работа.
Посмотрим иначе: одна из величайших писательниц ХХ века предстает перед нами как символ обыденного существования, как образ, запечатленный на холсте виртуозной модернисткой, чьи живописные изображения будней убедили самодовольную британскую публику признать новый визуальный язык, до этого считавшийся всего лишь уродливой французской причудой.
Сестры, выражавшие сходные мысли сходными средствами. Дзынь.
Портрет Вулф открывает нам, как глубоко на творчество Белл повлияла первая британская выставка постимпрессионистов, организованная двумя годами ранее ее любовником Роджером Фраем при поддержке ее мужа Клайва Белла (держитесь, впереди еще много подобных кульбитов). Знакомство с произведениями Сезанна, Гогена, Ван Гога ошеломило молодую художницу. «Передо мной открылся новый путь, – писала Белл, увидев их работы. – Внезапное освобождение и разрешение чувствовать самостоятельно».
Ванесса Белл. Вирджиния Вулф. 1912
Густые черные контуры на портрете Вулф, небрежные, хорошо заметные мазки и яркий контраст оранжевого кресла и бирюзового фона – во всем этом чувствуется влияние постимпрессионизма. Но есть один прием, который принадлежит исключительно манере Белл. Она изображает сестру, самого близкого ей человека в мире, без лица. Белл прибегает к другим средствам: она довольствуется позой и всего-навсего привычным жестом, то есть тем характерным, что говорит о человеке не менее, чем черты его лица. Все близкие прекрасно знали о мгновенной смене выражения лица Вирджинии Вулф – его черты невозможно было ухватить и перенести на холст или снимок. Еще она не любила позировать для портретов. Белл понимала ее, понимала язык ее тела и ее душу. Она отбросила идею лица – бог с ним, прошли мимо, – зато она уловила саму суть своей сестры. «В некотором роде этот портрет больше похож на Вирджинию, чем все остальные ее изображения», – сказал Леонард Вулф критику через много лет после смерти жены (речь шла о другом «безликом» портрете, написанном его невесткой в том же году, что и первый).
Сестры служили друг другу музой. В то время, когда был написан представленный здесь портрет, Вулф работала над первым романом «По морю прочь» (The Voyage Out). Белл послужила прототипом одной из главных героинь романа, Хелен Амброуз. Позже, в шедевре Вулф «На маяк» (To the Lighthouse), Белл было отведено важное место – с нее списан образ художницы Лили Бриско, ставшей духовным центром всего повествования (роман занял, по версии Би-би-си, второе место в списке двадцати пяти лучших британских романов всех времен). В самой экспериментальной работе Вулф «Волны» (The Waves) Белл стала Сьюзен (в том же списке Би-би-си роман получил шестнадцатое место).
Были ли они похожи? В своих стремлениях – да, в остальном – не слишком.
Сдержанная и невозмутимая Ванесса стала живым олицетворением самообладания и, по словам биографа Фрэнсис Сполдинг, обладала «ненасытным материнским инстинктом», несмотря на пренебрежение общественными условностями. Вирджиния была искрометна, капризна, эмоционально неустойчива и бездетна. Ванесса прожила долгую жизнь, Вирджиния собственноручно оборвала свою. Ванессу мало кто помнит, Вирджинию боготворят.
В мои двадцать Вирджиния Вулф стала для меня литературным кумиром. Я была без ума от ее совершенного слога, едкой публицистики, художественной смелости, бесстрашной бездетности и даже безумия, которое я принимала за неотъемлемое свойство гения.
На тридцатилетие муж подарил мне ее «Дневник писательницы» (A Writer’s Diary), купленный в легендарном книжном магазине City Lights. Мы только переехали в Сан-Франциско, я подрабатывала там и сям, но постоянной работы еще не нашла, поэтому я лежала на пятнистом розовом ковре среди нераспакованных коробок в ветхом викторианском доме и запоем читала «Дневник», глотая его, как воздух.
Только тогда до меня дошло, что у Вирджинии Вулф была сестра, которая занималась живописью. (В свою защиту могу лишь сказать, что мое знакомство с модернистами в основном ограничивалось французским и немецким направлениями, да еще норвежцем Эдвардом Мунком.) Я лучше многих знакома с острыми локтями семейного соперничества – нас было у родителей девять, – и меня давно восхищало, что у Вирджинии Вулф было семеро братьев и сестер (четверо из них неполнородные), но я никогда не заглядывала глубже. На розовом ковре в полном сквозняков викторианском доме я вспоминала знаменитый эпизод из эссе Вулф «Своя комната» (A Room of One’s Own) – о сестре Шекспира, так и не раскрывшей себя в творчестве и всеми забытой. И вот откуда ни возьмись – собственная сестра Вулф. Талантливая. Пережившая ее. Сестра, которая занималась живописью.
Первой мыслью было: как грустно. Что может быть хуже, чем находиться в непосредственной близости к гению, осознавать его величие, а самому, увы, не тянуть? Сестра Вулф, Ванесса Белл, должно быть, не могла с ней сравниться, потому что я ничего о ней не слышала. Какая гадость! Как удручающе банально! Я так ничего и не поняла, несмотря на все свои долголетние поиски женщин-художников. Я до сих пор не усвоила, как легко их накрывает забвение и как редко это соотносится с величиной их таланта.
«Дневник писательницы» я проглотила залпом. Прошло несколько недель, коробки уже были разобраны, книги заняли свои места на полках икеевского стеллажа в дальней части квартиры, а я неожиданно оказалась беременной. Обнаружив такое, я тут же сняла с полки «Дневник» Вулф, открыла указатель, нашла Ванессу Белл и перечитала все написанное о матери троих детей, не прекращавшей рисовать.
Кажется, неукротимая творческая энергия досталась ей по праву рождения. Ее отец – выдающийся критик и историк сэр Лесли Стивен, чьей первой женой была дочь писателя Уильяма Мейкписа Теккерея. Джулия, мать Ванессы и Вирджинии, – племянница Джулии Маргарет Кэмерон, мастера фотопортрета. Джулия стала не только любимой моделью своей тетки-фотографа, но и позировала нескольким прерафаэлитам – ширококостная, с густыми волнистыми волосами, она лучшим образом олицетворяла их героинь. В детстве Ванессу Белл окружали художники, писатели, мыслители, правда, все они принадлежали к предыдущим поколениям. «Вся жестокость, – писала ее сестра Вирджиния, – заключалась в том, что мы могли видеть будущее, но полностью находились во власти прошлого».
Лесли и Джулия, вдовцы с детьми от предыдущих браков, родили еще четверых общих детей: Тоби, Ванессу, Вирджинию и Адриана. После смерти Лесли Стивена в 1904 году (Джулия умерла в 1895 году) братья и сестры продолжали жить вместе. Они обосновались в Блумсбери, недорогом лондонском районе, где при поддержке кембриджских друзей Тоби создали оживленный кружок, в который входили влиятельные художники, писатели, интеллектуалы, в конечном счете изменившие британское искусство и жизнь.
О Блумсберийском кружке, или группе Блумсбери – так стали называться их лондонские собрания, – написано больше, чем о любом другом явлении ХХ века, за исключением разве что Второй мировой войны. Чтобы не затеряться в дебрях и не отвлекаться от Белл, я начну с ее краткой биографии, больше похожей на бесконечный список потерь. В тот месяц, когда Белл исполнилось шестнадцать лет, ее мать умерла от ревматической лихорадки (в нашей краткой истории о женщинах-художниках тема смерти матери повторяется с ужасающей регулярностью). Два года спустя смерть сводной сестры Стеллы вынудила Белл взять на себя роль «старшей женщины дома». Между ведением домашнего бюджета и подачей чая в половине пятого она умудрялась втиснуть уроки рисования в Королевской академии художеств. Смерть сэра Лесли освободила ее, но и райское существование братьев и сестер в Блумсбери продолжалось недолго: через два года Тоби, старший брат, умер от брюшного тифа.
Ванесса вышла замуж за друга своего горячо любимого умершего брата. С Клайвом Беллом они родили двоих детей – Джулиана и Квентина. Двадцатидевятилетний Джулиан погиб во время гражданской войны в Испании, он служил водителем машины скорой помощи. Гибель сына подкосила Белл. Но с лихвой постичь науку стоицизма, дабы вынести мучительные потери, ей пришлось четыре года спустя, когда ее сестра, набив камнями карманы пальто, вошла в реку Уз.
Конечно, не одни трагедии были в ее долгой и плодотворной жизни. Были глубокие чувства и страстные увлечения. Но прежде всего были ее дети, ее творчество, а возможно, и «любовь собственной персоной».
Многочисленным любовным связям Ванессы немало способствовал муж, Клайв Белл, который настаивал на открытом браке. К его чести, эта открытость распространялась не только на него, но и на жену. Довольно быстро после замужества она сошлась с Роджером Фраем, выдающимся английским художником и историком искусства. В отличие от мужа Клайва ее любовник Роджер был убит горем, когда через несколько лет она влюбилась в художника Дункана Гранта. Вместе они (Ванесса и Грант) прожили семьей почти сорок лет. У них был общий ребенок – Анджелика. Официально она считалась дочерью Белла, так как Ванесса и Клайв не разводились и оставались добрыми друзьями. Между тем Ванесса и Дункан продолжали жить в любви и согласии, мирно деля между собой многочисленных гомосексуальных любовников Гранта; в их чудный круг входил и писатель Банни Гарнетт, который много лет спустя женился на Анджелике (уф!).
В какие бы стороны ни швыряли Ванессу Белл жизненные водовороты, она неизменно занималась своим трудом. В год своего прорыва, то есть в 1912 году, у нее в активе было: двое малолетних детей; муж, гуляющий сам по себе, но по-прежнему ожидающий свежих рубашек и домашних обедов; женатый любовник; целое созвездие друзей и родственников, регулярно заглядывающих на чай, ужин и долгие вечерние посиделки; гениальная младшая сестра с хрупкой нервной системой без всякой эмоциональной стабильности (к этому времени Вулф пережила по крайней мере два серьезных нервных срыва). Несмотря на все это, Белл продолжала рисовать.
«Я вовсе не так предприимчива, как ты (или Дункан), – однажды написала она Фраю, – я рисую только то, что лежит у меня прямо под дверью». Читая о Белл в дневниках ее сестры, я понимала, что, когда стану матерью, это умение пригодится мне больше всего: Белл просто бралась за работу и писала то, что было под рукой. Свою сестру в кресле напротив. Заглянувших в дом гостей.
Кстати, о гостях. Первыми навестили Белл в ее новом загородном доме в конце лета 1912 года Фредерик и Джесси Этчеллс, брат и сестра, оба художники. Сам факт, что Белл принимала их (вместе с надоедливой собакой Фредерика) и могла работать рядом с ними, без слов говорит о ее трудолюбии.
Формально в этой работе Белл ничто не вызывает сомнений. Темные выразительные контуры – которые Фрай называл ее «скользящим почерком» – обозначают фигуры и формы, все остальное пространство холста заполнено яркими цветными прямоугольниками. Как у Пикассо, который никогда полностью не отходил от фигуративности, эти абстрактные цветовые пятна обозначают что-то конкретное. В данном случае это холсты, на которых работают брат и сестра, и стопка натянутых на подрамники холстов позади Джесси. Горизонтальные прямоугольники чистых цветов обозначают вид на сад между открытыми стеклянными дверями: каменные ступени, выложенный красной плиткой двор, зеленая лужайка, серая стена.
Ванесса Белл. Фредерик и Джесси Этчеллс за работой. 1912
Картина Белл не просто формальное упражнение. Трогательно видеть, как художники, брат и сестра, работают бок о бок (почти так же, как сама Белл, создававшая портрет своей сестры-писательницы), и все же здесь есть намек на неравенство, с которым, возможно, ей приходилось сталкиваться даже в богемном Блумсбери. Фредерик (Ванесса не слишком его жаловала) работает стоя у мольберта – как, собственно, и полагается художнику (это мольберт Белл? или у нее был лишний? или он привез мольберт с собой в поезде?); его сестра сидит на полу. Даже много лет спустя Фредерик ничуть не раскаивался; в интервью для Британской галереи Тейт он сказал: «Поразительно видеть настолько аутентичный портрет самого себя в далекой юности. И Джесси точно такая, как я ее помню». Должно быть, он много раз видел, как его сестра работает, сидя на полу.
Шедевр Белл раннего периода – строгий и завораживающий «Пляж в Стадленде», – по мнению искусствоведа Ричарда Шоуна, «одно из самых радикальных произведений того времени в Англии». Картина соединяет в себе личное прошлое Белл и будущее модернизма, которое она творит на наших глазах.
Ванесса Белл. Пляж в Стадленде. 1911
Диагональная береговая линия делит полотно на две части – воду и песок. Выше и ниже этой линии находятся фигуры людей. В правом верхнем углу женщина стоит спиной к нам перед белой пляжной кабинкой, как будто на пороге портала в другой мир. Возможно, в тот, что изображен здесь: упрощенный, неподвластный времени, вечный мир, где под присмотром женщин играют дети. Женщина в шляпе, сидящая внизу слева, может быть няней, но может быть и Вирджинией Вулф. Она отдыхает на пляже с маленьким ребенком и наблюдает за фигурами вверху: стоящей женщиной со спускающейся на спину толстой косой и сидящими у ее ног детьми – они что-то ищут или строят башенки из песка, а она смотрит вдаль, на море без горизонта. Ее фигура напоминает множество самых разных произведений – от алтарного образа «Мадонны Милосердия» Пьеро делла Франчески периода Кватроченто (XV век) до картин Мунка и Матисса.
Написанные Белл женщины и дети у моря предвосхитили, а отчасти даже вдохновили литературный шедевр Вирджинии Вулф «На маяк». В романе описано ее реальное детство на берегу моря, в компании многочисленных сестер и братьев, властного отца и добросердечной хозяйственной матери, скончавшейся слишком рано.
Семья Стивен проводила лето в Сент-Айвсе с видом на маяк Годреви, единственную вертикальную линию на горизонтальной плоскости моря. Одна из главных героинь романа, художница Лили Бриско, страдает от критики окружающих и внутренней неуверенности в себе, но в итоге становится победительницей. Вот последние слова романа: «…вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот, на секунду, впервые – увидела, – она провела по самому центру уверенную черту. Кончено; дело сделано. Да, подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможенье, – так мне все это явилось» (перевод Е. А. Суриц).
Магия живописной картины «Пляж в Стадленде» и романа «На маяк» – превращение прозаического в высочайшее искусство, настолько высокое, что оно становится почти духовным переживанием. «Пляж в Стадленде» мог бы стать алтарным образом современной эпохи – Богоматерь с младенцем встречают женщин с детьми. Повседневная жизнь становится вечной.
Белл рисовала обложки для книг сестры. Выведенные ее рукой абстрактные, почти экстатические линии: маяк, волны и прочие подходящие к содержанию образы (обложки отличаются очаровательной буквальностью) – стали отличительной чертой типографии и издательства Hogarth Press, открытых Вирджинией и ее мужем в 1917 году.
Вулф продолжала черпать вдохновение в искусстве своей сестры. Критики отмечали, что образ Сьюзен в «Волнах» списан с Белл и произведение в целом создано под влиянием ее картин. В своем дневнике Вулф называла «Волны» «абстрактной пьесой-поэмой… мистической безглазой книгой». Она, как картины ее сестры, была безликой, но брала начало из важнейшего источника – самой жизни.
Ванесса Белл. Обложка первого издания романа Вирджинии Вулф «Волны». 1931
Через десять лет после создания «Волн» Вулф утопилась. Белл горевала о ее кончине, но продолжала жить. Она встретила старость и до самого конца не прекращала рисовать. Ближе к концу первого романа Вулф, «По морю прочь», старик говорит: «Хотеть жить не трусость. Это полная противоположность трусости. Лично я хотел бы прожить еще сотню лет… Подумайте только, сколько всего за это время должно произойти!»
Глава 9. Элис Нил
Элис любила неудачников. Она любила неудачника в герое и героя в неудачнике. Думаю, она видела это во всех нас.
ДЖИННИ НИЛ
Наше «я» висит у нас на шее мертвым грузом.
ЭЛИС НИЛ
ЗИМОЙ 1931 ГОДА тридцатилетнюю художницу Элис Нил пристегнули ортопедическими ремнями к жесткому матрасу в больнице Филадельфии. В больницу Нил отправили родители: она страдала бредом, недержанием мочи и пыталась совершить самоубийство. Позднее она по праву займет место самой великой американской портретистки ХХ века, но в 1931 году врачи запретили ей заниматься живописью и вообще каким-либо искусством. Искусство, по мнению медиков, грубо нарушало душевное равновесие этой симпатичной молодой блондинки. Вместо этого ей настойчиво порекомендовали заняться шитьем.
Она ненавидела шить.
Элис Нил назначили строгий, почти тюремный режим: будили в пять утра, чтобы она могла съесть резиновой вилкой свой завтрак, после чего она весь день проводила в комнате с решетками под неусыпным надзором врачей. Такое обращение могло свести с ума любого художника, ведь его работа – наблюдать, а не находиться под наблюдением.
Но Нил действительно требовался надзор. Вернувшись из больницы в родительский дом, она в первую же ночь пошла на кухню и сунула голову в духовку. Утром ее, полумертвую, нашел брат (сначала он подумал, что это их мать лежит, вытянув ноги, на линолеуме). Отец сетовал, что им теперь придет огромный счет за газ; Нил вернули в отделение для самоубийц. Там она пыталась проглотить осколки стекла, броситься в коллектор для грязного белья, задушить себя чулком. Ничего не получалось. «Я не могла затягивать его достаточно долго или держать достаточно сильно, – сказала она. – Вы не сможете совершить самоубийство, если только – в момент безумия – не сделаете что-то окончательное и бесповоротное».
Сделать «окончательное и бесповоротное» ей так и не удалось, по крайней мере, что касается самоубийства. Окончательно и бесповоротно Нил занялась живописью – и больше никогда не останавливалась.
Я впервые увидела работу Нил – это был портрет Энди Уорхола, – когда училась в магистратуре в Нью-Йорке. И моментально влюбилась в него. Признаюсь, портрет – мой любимый жанр, а Нил была настоящим алхимиком. Каким-то образом она изображала то, что могла видеть только она: характер и дух, саму жизненную суть тех, кто ей позировал.
Продолжая рассматривать Уорхола на стене, я искоса оглядывала полупустую галерею, надеясь поймать чей-нибудь взгляд и спросить: вы видите то же, что вижу я? Нил уловила то, чего не было ни на картинах, ни на фотографиях, ни на обложках скандально известного поп-художника. Энди Уорхол, бледный и уязвимый, выражал всю хрупкость человеческой природы.
Примечательно, но тем же всевидящим взглядом она умела смотреть на саму себя. Жила она довольно долго, и ей удалось запечатлеть один из самых проницательных образов старения в истории, стоящий в одном ряду с Рембрандтом, так же трезво наблюдавшим за собственным угасанием. На этой картине, написанной в 1980 году, восьмидесятилетняя портретистка беспощадно изучает собственную все еще впечатляющую личность. Пушистые белые волосы, по-старомодному зачесанные наверх, – мягко говоря, неуместная прическа для обнаженной натуры – перекликаются с ярко-белой тряпкой в ее левой руке. По мнению некоторых комментаторов, это и ветошь для вытирания краски, и белый флаг, знак капитуляции. Капитуляции перед чем? Полагаю, они имели в виду старение и увядание плоти. Но как быть с тем, что это первый автопортрет, написанный Нил за пятьдесят лет, отданных портретной живописи? За свою жизнь она уговаривала сбросить одежду десятки людей – мужчин, женщин, детей – и вот сама решила присоединиться к ним. Наконец она позирует для самой себя, сидя в том же широком кресле в синюю полоску, где до нее сидели многие натурщики и натурщицы.
Она непростой клиент. Модерзон-Беккер первой написала обнаженный автопортрет – смелый и революционный поступок, но она была в цветущем возрасте, и ее молодость, художественная энергия и материнство в целом вписывались в общепринятые стандарты красоты. Нил растеряла все, чем можно было гордиться. Ее тело – изрытое поле боя, ее широкий раздутый живот лежит на вялых ляжках, и почти так же низко опускаются большие, налитые груди. Нил произвела на свет четверых детей, и это дает о себе знать.
На щеках яркий малиновый румянец, возможно примета возраста, нью-йоркской погоды или тяжелой жизни, но между щеками выше и ниже губ с опущенными вниз уголками лежат жутковатые зеленые пятна. Это зеленое пятно сразу напоминает, может быть даже повторяет, знаменитый портрет Амели Матисс – «Зеленая полоса» (1905). У Нил много общего с женой художника: убранные вверх волосы, выгнутые брови, поджатые губы и три цветных пятна формируют фон. Нил как будто окликает своего друга-фовиста с другого конца столетия, крича: «К черту абстракционизм, Хэнк, мы все-таки победили!»
Может быть, художница и поднимает какой-то флаг, но это флаг с лозунгом, что портретная живопись вполне еще жива и может лягаться, даже если все «маститые» художники, критики и искусствоведы давно уже ее похоронили.
Высоко поднятые брови Нил знакомы всем, кому приходилось когда-нибудь красить ресницы тушью перед зеркалом, – они выражают сосредоточенное внимание. Должно быть, Нил писала эту картину, глядя в зеркало. Ей не нравилось работать с фотографиями, она любила ощущать пульс настроения человека, его непосредственные эмоции и живую плоть. Интересно, что на картине она держит кисть в правой руке, хотя на самом деле была левшой.
На ней очки – еще одно напоминание и о преклонном возрасте, и о художественной беспристрастности, и даже об угасшей сексуальной привлекательности. Как заметила ее современница Дороти Паркер, «мужчины никогда не флиртуют с очкариками». Или, как сказала феминистка и искусствовед (и героиня одного из портретов Нил) Линда Нохлин, очки «определенно не входят в традиционный набор атрибутов обнаженной натуры». Нил, с одной стороны, скрупулезно точна в деталях, с другой стороны, слегка насмехается: ну что, пришел поглядеть на меня, ценитель? Наслаждайся!
В отличие от Рембрандта, скорбно свидетельствующего о разрушительном действии времени, Нил не испытывает жалости к себе. То, что многим покажется руинами тела, всего лишь трезвый реальный взгляд во время работы, констатация факта, подобного любому другому. Картина написана в те годы, когда уже не осталось ничего, чем можно было бы эпатировать обывателя, однако зрелище голой старой женщины чертовски огорошило публику.
«Пугает, правда? – хихикнула Нил в разговоре с критиком Тедом Каслом. – Это мне и нравится. В каком-то смысле это протест против всех благопристойностей». Никто никогда не бунтовал так последовательно, как Элис Нил.
Когда пишешь о художниках прошлого, в этом есть свое очарование и свои загадки и пробелы в знаниях можно (неосознанно) заполнить собственными надеждами или идеалами. Когда пишешь о художниках, близких к нам по времени, возникает другая проблема: мы знаем слишком много. Нам известен каждый их чих, каждое письмо, каждый любовник, каждая поездка на море и поход в соседний магазин. Как рассказать о жизни, которую прожила Элис Нил? Жизни длиной в восемь десятилетий, в которой были один муж, трое отцов четверых детей и кто знает сколько еще любовников и очень влиятельных друзей? Нам ничего не остается, как только промотать пленку на высокой скорости и покрепче держаться.
Элис Нил. Автопортрет. 1980
Нил выросла в семье рабочих в Пенсильвании и самостоятельно поступила в художественную школу. Окончив ее в 1925 году, она сразу вышла замуж за кубинского художника Карлоса Энрикеса. Переехала в Гавану, где увлеклась кубинским авангардизмом, приобрела радикальные политические взгляды, провела свою первую выставку и родила первого ребенка, девочку по имени Сантильяна; в 1927 году переехала в Нью-Йорк, где Сантильяна незадолго до своего первого дня рождения умерла от дифтерии. В следующем году родила вторую дочь, Изабетту, которую Карлос забрал, чтобы показать своим родителям, и оставил в Гаване, а сам уехал в Париж. Таким образом, Нил менее чем за два года потеряла двоих детей, а заодно и мужа.
«Сначала я вообще ничего не делала – только писала днем и ночью», – рассказывала Нил. Она маниакально работала несколько месяцев подряд, пока не впала в состояние, которое сама называла «классической истерией по Фрейду». Ее снедало чувство вины: «Понимаете, у меня всегда было это ужасное раздвоение. Я любила, конечно, я любила Изабетту. Но я хотела рисовать». Огненный шторм горя, неуверенности и стыда в конце концов поглотил ее.
Как она попала в отделение для самоубийц, как вышла оттуда, как добилась успеха? Всему она дает одно объяснение: «У меня была неврастения. Искусство спасло меня».
Нил вышла из больницы, сумев убедить социального работника, что она «известная художница», затем встретила Кеннета Дулиттла, героинового наркомана, прошедшего Гражданскую войну в Испании, и переехала к нему в Гринвич-Виллидж. Два года спустя он сжег более трехсот ее акварелей и порезал более пятидесяти картин маслом. На какое-то время Нил переехала к Джону Ротшильду, состоятельному гарвардскому выпускнику, – ее давний друг и, вероятно, любовник. Затем завязала роман с пуэрториканским певцом из ночного клуба Хосе Негроном. У них родился мальчик Ричард. Когда ему было три месяца, Негрон бросил их обоих в испанском Гарлеме. Через два года у Нил появился еще один сын – Хартли, от режиссера-левака Сэма Броди.
Примечательно, что оба сына Нил носят ее фамилию. Несмотря ни на что, она писала картины, занималась детьми и делала все, что было в ее силах.
В умении выживать Нил проявляла недюжинную изобретательность: работала станковым живописцем в Управлении общественных работ, воровала в магазинах, выбивала пособия по безработице, талоны на питание и полную стипендию для своих сыновей.
Вальдорфская школа Рудольфа Штайнера находится по соседству с Институтом изящных искусств. Раньше, проходя мимо детей из школы Штайнера, я все удивлялась, как эта маленькая богема оказалась в фешенебельном Верхнем Ист-Сайде. Ну а как я здесь оказалась? Позднее я отправила обоих своих детей в школу такого же типа в Сан-Франциско и сама много лет преподавала там историю искусства для старшеклассников. Искусство в школах Штайнера – основа учебной программы, оно в равной мере присутствует в занятиях по английскому, истории, математике и физике. В некотором смысле Нил отправила своих детей в свою собственную версию приходской школы, где искусство считалось святая святых.
Нил умела добиваться своего, но тем не менее много лет писала лишь портреты друзей и соседей в испанском Гарлеме, прежде чем осознала, что завести парочку полезных связей ей совсем не помешает. С подачи своего психотерапевта Нил начала просить облеченных властью людей из мира искусства позировать ей. Немного напоминает находчивую Аделаиду Лабий-Гийар.
Нил начала в 1960 году с портрета поэта Фрэнка О’Хары, недавно назначенного куратором Музея современного искусства. Как художник и гомосексуал, он, возможно, имел что-то общее с теми изгоями, которых обычно писала Нил. Однако Нил изобразила О’Хару в профиль – редкий для нее торжественный ракурс, напоминающий профили римских императоров на монетах или профильные портреты эпохи Возрождения (хотя ее герой одет в потрепанный серый свитер). Портрет О’Хары хочется сравнить с изображением герцога Урбинского кисти Пьеро делла Франческа («Урбинский диптих») – легко представить, как разделенные пятью столетиями правитель города Урбино и куратор нью-йоркского музея всматриваются друг в друга. Написав О’Хару в профиль, Нил подчеркнула его «веский» нос и выступающий подбородок – то же самое сделал Пьеро делла Франческа с герцогом Урбинским. Оба героя облечены властью. Четко выписанный красный головной убор герцога выглядит почти как корона – голову О’Хары венчает водопад цветущей сирени за его спиной. Широко открытые, с пристальным взглядом глаза О’Хары поразительно-голубого цвета, как у кинозвезды (на ум приходит Пол Ньюман – О’Харе нравились удачные кинематографические отсылки), а позади него клубится бесформенная тень, своего рода темный второй портрет. Эта нависшая тень выглядит для нас символично угрожающей, ведь мы знаем, что всего через четыре года сорокалетний О’Хара погибнет. Его собьет джип на пляже Огненного острова.
Элис Нил. Фрэнк О’Хара. 1960
Элис Нил. Джеки Кёртис и Ритта Редд. 1970
Возможно, Нил внутренним чутьем постигла темное будущее О’Хары, а может быть, это было предчувствие своего будущего. Прием, сыгравший на руку Лабий-Гийар, не сработал у Нил. В следующие несколько лет О’Хара организовывал выставки и писал рецензии о творчестве многих фигуративных художников, но никогда не включал работы Нил в показы и ни разу не написал о ней.
Та же история повторилась с Генри Гельдцалером, куратором отдела искусства ХХ века в Метрополитен-музее, чей портрет Нил написала в 1967 году. Когда два года спустя она попросила включить ее в выставку «Живопись и скульптура Нью-Йорка. 1940–1970», которая могла бы стать для нее карьерным трамплином, Гельдцалер только усмехнулся: «О, значит, ты захотела стать профессионалом». И не взял работы Нил на выставку.
Трудностям и препятствиям на профессиональном пути Нил не было числа. Можно было бы и озлобиться, но она просто продолжала работать. И все-таки. «Я не против абстрактной живописи, – говорила она. – Но меня бесит, что абстракционисты вытолкали из песочницы всех остальных». Однако она по-прежнему стояла на своем, то есть придерживалась фигуративного искусства во всех формах.
По словам куратора Джереми Льюисона, «многие из ее лучших портретов того времени были написаны с мужчин-геев и однополых пар». Нил написала О’Хару и Гельдцалера, которые могли ей помочь и по совпадению оказались гомосексуалами, а также ряд других деятелей. Так, в 1970 году она создала парный портрет критиков Дэвида Бурдона и Грегори Бэтткока и похожий на образ святого (святого Себастьяна или другого мученика) портрет Энди Уорхола, бледного, без рубашки, в корсете.
Но я думаю, ее лучшая картина того года – портрет однополой пары, Джеки Кёртиса и Ритты Редда. Джеки в женской одежде сидит справа (и он указан первым в названии, что так же дезориентирует, как и внешний вид и гендерно нейтральные имена); Ритта – слева, одетый в мальчишескую полосатую футболку и джинсы, из них двоих он выглядит мягче, более «женственным».
Оба были участниками «Фабрики» Уорхола, Кёртис – раскрученная «суперзвезда Уорхола», но ни один из них не имел влияния ни в творческой среде, ни в большом мире. Нил просто хотела сделать их портреты. Кёртис, с голубыми тенями на глазах и красным лаком на ногтях, одет в элегантный ансамбль из юбки и блузки в стиле 1950-х годов и темные чулки (с дыркой на пальце, через которую виднеется накрашенный ноготь), однако это ни капли не напоминает собрание уродов Дианы Арбус (тема работ американского фотографа-документалиста середины XX века). Мужчины полны достоинства, как все герои Нил, и они, очевидно, любовники. Правое колено Кёртиса под неловким углом выдвинуто вперед, и голенью он прижимается к голени Редда. Этот нежный жест говорит о близости. В том, как Нил изображает их взаимную тягу, чувствуется оттенок горечи, даже тоски. Это особенно трогательно, учитывая, что в те годы гомосексуальность была не просто маргинальным «стилем жизни», она в буквальном смысле считалась вне закона. Гомосексуал в глазах общества в лучшем случае человек безнравственный, но чаще психически неадекватный (вплоть до 1973 года гомосексуальность входила в официальный список психических расстройств Американской психиатрической ассоциации).
Элис Нил. Кейт Миллет. 1970
Нил вовсе не заботили вопросы морали, общественного осуждения и даже законности. Ее сыновья вспоминали, как однажды в разгар красной угрозы к ним в квартиру ворвались агенты ФБР с толстым досье, где было изложено все о коммунистических симпатиях Нил. Нил не задрожала от страха, не пыталась их задобрить – она восхитилась «этими ирландскими мальчиками» и немедленно пригласила их попозировать ей «прямо в тренчкотах». Парни отказались и поспешили уйти. Грядущие поколения горько оплакивают эту потерю.
Подъем феминистского движения стал наконец тем идеальным штормом, который вынес наверх потрепанную лодку Нил. Женщина-художник несколько десятков лет провела в самом центре художественной жизни Нью-Йорка, но на нее смотрели как на пустое место. Она, напротив, одинаково относилась ко всем своим моделям, независимо от их пола, расы, возраста. Работающие мужчины, работающие женщины, матери, художники, беременные, кураторы, искусствоведы, обнаженные, геи, трансвеститы – в ее глазах все они были славными представителями рода человеческого во всем своем причудливом многообразии. При этом она продолжала придерживаться собственного стиля, никогда не меняя его в угоду очередной теории или моде. Феминистки в 1970-х годах начали энергично продвигать Нил, хотя она отказывалась следовать линии партии. «Я всегда предпочитала мужчин женщинам», – пожимала Нил плечами. Современники справедливо высмеивали феминистский брендинг Нил. Художница Мэй Стивенс сказала: «Она не феминистка – она Элис Нилистка».
Тем не менее феминистское движение сослужило Нил хорошую службу. Журнал TIME попросил ее в 1970 году написать для обложки портрет Кейт Миллет, автора работы «Политика пола» (Sexual Politics), – книга, выпущенная на материале диссертации, защищенной в Колумбийском университете, неожиданно стала бестселлером. Нил – как представитель уже ушедшей натуры, то есть последний настоящий портретист, – конечно, хотела работать с живым человеком, но Миллет позировать отказалась. Будучи «солисткой», она не хотела злить других участниц феминистского «хора» и всячески избегала выходить из их сестринского строя под свет софитов. Нил, не имевшая привычки упускать выгодные предложения, согласилась и на фотографию.
Сделав обложку для TIME, Нил вышла на такую широкую аудиторию, о которой не мог мечтать ни один современный художник. Портрет Кейт Миллет стал одним из самых известных ее произведений. Он сродни иконописной работе – говорю это без тени смущения. Миллет – с пристальным взглядом, неулыбчивая, несколько мужеподобная, сосредоточенная, с темными волосами, в белой мужской рубашке. Больше всего она напоминает ставший сразу знаменитым фотопортрет Патти Смит, сделанный в 1975 году Робертом Мэпплторпом для обложки к ее дебютному альбому Horses. Обе женщины привлекательны; обе из семей работяг; и на той и на другой белоснежные мужские рубашки, призванные подчеркнуть, что, несмотря на всю вызывающую чувственность, несмотря на всю бисексуальную притягательность, они совершенно серьезны в достижении своих целей. Очень впечатляет. Не исключаю, что в свое время Мэпплторп обратил внимание на журнал с Кейт Миллет на обложке и вспомнил о ней, создавая свой портрет Патти Смит.
Мэпплторп сделал фотопортрет Нил незадолго до ее смерти. Нил умерла от рака в 1984 году. Фотография жутковатая и завораживающая – такой она сделана сознательно, по желанию Нил. Она знала, что умирает, и попросила Мэпплторпа дать ей возможность увидеть, как будет выглядеть мертвой. Поэтому Нил закрыла глаза, приоткрыла рот, имитируя изображения покойников на старых фотографиях XIX века. Фотография ошеломляет своей потусторонностью. Остановленное мгновение пронзительного восторга и ощутимой боли – ну просто «Экстаз святой Терезы» Бернини.
Во всех нас и в самой себе Нил прежде всего видела живого человека. Она писала нас такими, как мы есть: уродливыми, растерянными, помешанными – жалкими и прекрасными. «Я старалась отражать все простосердечно», – однажды сказала Нил о своей работе. Ей это удавалось до безобразия хорошо.
Глава 10. Ли Краснер
Я ничем не жертвовала.
ЛИ КРАСНЕР
НА ФОТОГРАФИИ, сделанной летом 1927 года, две сестры в купальных костюмах позируют плечом к плечу на песчаном пляже. Девятнадцатилетняя Ленор абсолютно спокойно смотрит в камеру, а семнадцатилетняя Руфь улыбается, но отводит взгляд. Они выглядят как самые обычные американские подростки, но это не совсем так.
К тому времени имя Ленор (так она называла себя сама) успело уменьшиться до Ли (так ее называли приятели из художественной школы, которую она посещала при колледже Купер-Юнион в Манхэттене). Свою судьбу она выбрала много лет назад: «Я не знаю, откуда взялось слово ИС-КУС-СТВО, но уже в тринадцать я твердо знала, что хочу быть художником». Не самый предсказуемый выбор для дочери эмигранта, торговца рыбой из Бруклина.
При рождении ей дали имя Лена. Она была шестой из семи детей в семье Краснер и оказалась первой, рожденной в Америке – ровно через девять месяцев после воссоединения ее еврейского отца и русской матери, на два года разлученных друг с другом. Два года спустя родилась Руфь. Две совершенно американские девочки, Лена и Руфь, стали фактически обособленной семьей внутри большой ортодоксальной еврейской семьи, говорившей исключительно на идише и русском. Они спали в одной кровати и росли в двух мирах: старом и новом.
К тому времени, когда была сделана фотография на пляже, девушка по имени Ли Краснер всерьез вознамерилась покорить Новый Свет и установить свой флаг на его вершине.
Следующим летом, в июле 1928 года, умерла от аппендицита их старшая сестра, Роза, оставив после себя двух маленьких дочерей. Согласно семейным традициям Краснер теперь должна была выйти замуж за своего зятя и воспитывать племянниц. Ее не просили – от нее ожидали этого, как само собой разумеющегося.
Она отказалась.
Место Ли заняла восемнадцатилетняя Руфь, или ее заставили это сделать. Младшая сестра оказалась послушнее, а может быть, не так ясно слышала зов судьбы. Правда, Руфь, по словам биографа Краснер Гейл Левин, «так и не простила сестру».
Ли Краснер. Автопортрет. 1930
Сама Ли Краснер простила себя довольно быстро – и знать это важно.
После смерти Розы, уже в сентябре, Краснер подала документы в Национальную академию дизайна, которая находилась в Верхнем Вест-Сайде в Манхэттене, и была принята. Как в большинстве серьезных художественных школ, студенты этой академии сначала делали наброски с копий античных и ренессансных скульптур и только потом допускались в классы «рисунок с натуры», представив для этого вступительную работу.
Вступительной работой Краснер для курса рисования с натуры стал этот уверенный автопортрет, написанный во дворе родительского дома в сельской части Лонг-Айленда, куда вся семья переехала в 1926 году. «Я прибила зеркало к дереву и все лето писала себя с деревьями на заднем плане, – рассказывала Краснер. – Было сложно – свет в зеркале, жара и жуки». Для ученицы школы, глубоко погруженной в традиционную (другими словами, крайне консервативную) академическую живопись XIX века, это был не только сложный технически, но и очень смелый выбор.
Краснер изобразила себя как серьезную молодую женщину с короткой стрижкой, в грязном фартуке художника и рабочей рубашке с короткими рукавами. Ее пристальный взгляд знаком нам по фотографии на пляже, но здесь она холодно смотрит на саму себя. Пронзительный и даже в чем-то беспощадный взгляд – она не пытается себя приукрасить: большие губы, нос и уши, маленькие глаза. Но есть кое-что и комплиментарное: она вполне осознанно представляет себя как художника. Это я.
Картина помогла ей попасть на курс рисования с натуры (с соблазнительным названием «Живая натура в полном объеме»), где ее даже допустили до обнаженных моделей. Впрочем, преподаватели предупредили: «Когда вы пишете картину в помещении, не стоит придумывать, что она написана на природе». Видимо, они решили, что она зачем-то приписала деревья на заднем плане, хотя в строго натуралистичной манере изобразила нескладные черты собственного лица.
В общепринятом понимании Краснер была далеко не красоткой, что довольно часто отмечалось пишущими о ней. Гейл Левин, знавшая ее лично, писала: «Я никогда не считала Ли уродливой, как некоторые ее современники и авторы, подчеркивавшие это после ее смерти». Однако Левин, подробно распространяясь о великолепной фигуре Краснер, не побрезговала повторить слова студентки Академии дизайна об «исключительно некрасивой, но элегантной и стильной Ли Краснер»: «У нее был огромный нос, обвисшие губы, обесцвеченные волосы, уложенные в длинный гладкий пучок-боб, и ослепительно красивое, сияющее белое тело».
Вы обращали внимание, что никто не обсуждает внешность Пикассо? Хотя он был некрасив. Коротышка ростом 162 сантиметра. Почему-то, когда заходит речь о жизни и творчестве Пикассо, черты его лица и его рост никого не волнуют. Потому что это не важно.
Верно?
И обсуждение работ Джексона Поллока никто никогда, насколько мне известно, не начинал со слов: «Этот облысевший художник выглядит еще вполне сильным мужчиной…»
В первый раз я увидела фотографию Краснер, когда была совсем юной студенткой (см. выше), она стала темой моей исследовательской учебной работы. На фотографии они с Поллоком смотрят друг на друга, Краснер держит большой растрепанный букет ромашек. Это отлично составленная композиция из двух людей и одного букета – неприглаженные, но крепко сколоченные, они все подходят друг другу. Она не сногсшибательна. Он тоже. Ромашки как ромашки. Класс! Теперь, когда я увидела Краснер, она понравилась мне еще больше. И Поллок понравился за то, что ему нравилась она. Неловко признаваться, но в девятнадцать лет для меня стало откровением, что мужчина может испытывать желание к женщине не только из-за ее внешности (обратное было слишком очевидно). Оказывается, талант, увлеченность, ум и преданность делу – все это может притягивать не только правильного мужчину, но даже, как в этом случае, неуравновешенного гения.
В некоторых музыкальных группах, которые мне тогда нравились, встречались женщины, но даже в панк-рок-группах они одевались более откровенно, чем их коллеги-мужчины. Краснер, которую однажды позабавило, когда критик охарактеризовал ее работу с цветом как «панк-рок», подтвердила то, что я уже должна была знать: внешность далеко не главное (или, говоря словами рок-музыкантов, «плюнь на рожу, рифф дороже»).
Если вы слышали что-нибудь о Ли Краснер, вы знаете, что она была женой Джексона Поллока, этого святого мученика первой американской доморощенной церкви модернизма, культа абстрактного экспрессионизма. Аб-экс (как его нежно называют) представлял собой любопытное соединение изысканной европейской философии и прямолинейной американской привычки к действию. Суть абстрактного экспрессионизма, доведенного до совершенства Поллоком, целиком заключалась в созидании. По словам влиятельного критика Гарольда Розенберга, «в определенный момент для американских художников полотно стало ареной действий. На холсте должно было произойти событие, а не появиться картина».
Полотна абстрактного экспрессионизма, покрытые полосами и пятнами краски, несли на себе следы широких, размашистых движений и тяготели к масштабности (то есть были больше человеческого роста). Для абстрактного экспрессиониста холст был прямоугольным полем битвы, наподобие боксерского ринга или борцовского мата. Как правило, это привлекало мужчин. Нет, не так. Скорее, это соответствовало настроениям мужчин – «героев», любящих покричать на стадионах, помахать кулаками и обожающих играть в солдатики.
Однако наш герой не Джексон Поллок. Мы говорим о Ли Краснер, которая была его женой одиннадцать лет, но живописью она занималась дольше – почти двадцать лет до их встречи и еще тридцать лет после его смерти. Если одной из великих целей модернизма было «сделать старое новым» (это слова Эзры Паунда, который, в свою очередь, цитировал китайского императора XVIII века, что несколько обескураживает), то к этой цели Краснер пришла раньше. В первом раунде она побила Поллока.
Ли Краснер. Сидящая обнаженная
Но я забегаю вперед.
Из Академии дизайна Краснер ушла в 1932 году вместе со своим русским любовником, красавцем Игорем Пантюховым (из семьи белоэмигрантов). Ее преследовало одно желание – создавать новую живопись. Как-то раз преподаватель Леон Кролл посоветовал ей «пойти домой и прочистить себе мозги». Она пошла… и шагнула сразу в авангардизм.
Краснер и Пантюхов стали жить вместе (они не женились, вероятно, потому, что его родня принадлежала к старому дворянскому роду и была настроена антисемитски, а ее еврейская семья, спасаясь от антисемитских погромов, бежала из Старого Света). Вместе они часто бывали в закусочной Jumble Shop, где собирались серьезные художники, от Аршила Горки до Виллема де Кунинга, и где, по словам Краснер, «нельзя было получить место за столиком, если вы не считали, что Пикассо – бог».
Как де Кунинг, Горки, да и сам Пикассо, Краснер пока еще не перешла к полному абстракционизму. Но ее картина «Сидящая обнаженная» показывает, что она усвоила сложные уроки кубизма под руководством Ганса Гофмана. Немецкий художник Гофман был легендарным учителем, преподававшим эстетику движения через двумерную плоскость картины и ее переупорядочение через напряженные отношения между упрощенными элементами (цвет и форма), противопоставляя традиционной «иллюстрации» сцены.
Это о чем?
Возможно, объяснить вышеизложенный пассаж, воспринятый как полная бессмыслица, помогут слова самого Гофмана: «Упрощать – значит устранять ненужное, чтобы нужное могло обрести голос». После трех лет занятий у Гофмана, посвященных раскрытию простого и нужного, Краснер совершила прорыв к абстрактному искусству – прорыв, который она назвала «реальным переломом в своей работе».
Кстати, о бессмыслице. Увы, слово это порой связывают (может быть, и не порой, а часто) с абстрактным искусством. Думаю, нам следует прямо сейчас разобраться со слоном, которого все так старательно не замечают в комнате (может быть, и не со слоном, а беспредметным прямоугольником). Действительно, в обществе довольно широко распространено мнение, будто абстрактное искусство – это какая-то злая шутка, которую художники и критики сыграли с легковерной публикой, заставив ее всерьез воспринимать эту галиматью. Теперь они смеются над глупцами, прикрываясь своими шелковыми платочками. Но вы должны мне поверить: художники, критики, искусствоведы и галеристы относятся к абстракционизму совершенно серьезно. Даю вам честное слово.
Но даже высокообразованные обозреватели, такие как, например, Том Вулф в «Раскрашенном слове» (The Painted Word), утверждали, будто абстракционизм не что иное, как шарлатанство, придуманное ленивыми и жадными художниками, сговорившимися морочить наивную публику. И все-таки рождение абстрактного искусства – причины его появления – как нельзя более далеки от злого умысла. На самом деле оно глубоко связано с духовностью. Это новые духовные представления новой эпохи.
После множества революционных свершений XIX века – появление железных дорог, фотография, дарвинизм, феминизм – разве могло традиционное западное искусство с его обнаженными греческими богами или Спасителем на кресте отразить духовное состояние современного общества? Импрессионизм решил эту проблему подчеркнутым отказом от духовных тем – его занимал исключительно материальный мир. Постимпрессионисты пытались найти в материальном мире некое символическое значение (вспомните подсолнухи или волнующееся ночное небо Ван Гога). К началу ХХ века художники захотели пойти еще дальше, они искали способ поднять завесу известного мира и увидеть, что лежит за его пределами.
Абстрактное искусство иногда называют отходом от реальности, но лучше сказать, что оно стремится выразить другую реальность. Реальность за нашим видимым миром. Неважно, кто мы – суеверные мракобесы или убежденные рационалисты, я думаю, все мы можем согласиться, что такая реальность существует. Музыка, например.
Вы не считаете джазового музыканта мошенником, который пытается обмануть вас, заставив думать, что этот шум – настоящая музыка. Нет, потому что вы чувствуете музыку интуитивно: ваш дух и душа (и даже тело) понимают ее послание. То же самое вы сможете сказать об абстрактном искусстве, если уделите ему время и внимание. Хорошее искусство обязательно заговорит с вами. Конечно, нельзя забывать и о личных вкусах. Вы можете предпочитать Джона Колтрейна Джону Кейджу. Вы можете предпочитать одни абстрактные картины другим – у меня на этот счет есть свое твердое мнение. Я не собираюсь сейчас вас им утомлять, но вы все равно будете точно знать, что эти картины созданы с искренним рвением, с надеждой выразить некую истину, некий смысл.
Впрочем, я отвлеклась.
В ноябре 1941 года влиятельный украинский художник и импресарио Джон Грэм (разумеется, это псевдоним, его настоящее имя Иван Домбровский) пригласил Краснер принять участие в общей выставке вместе с такими знаменитостями, как Матисс, Брак и Пикассо, а также с незнакомым художником по имени Поллок. Вскоре они встретились, и она узнала в нем того парня, с которым танцевала на вечеринке Союза художников в 1926 году. Легенда (Краснер настойчиво пыталась от нее избавиться) гласит, что Поллок тогда спросил ее: «Ты любишь трахаться?» Но если в 1926 году она совсем не была им очарована, то теперь, увидев его работу, просто потеряла голову – это чувство она позже описала как «дикий энтузиазм». Вскоре они стали парой.
К моменту знакомства Краснер с Поллоком ее русский эмигрант весьма кстати отбыл во Флориду, где окончательно отбросил модернистские тенденции и стал светским портретистом и неизменным спутником богатых южных леди. Краснер же работала в отделе монументальной живописи в Управлении общественных работ (позже она стала начальницей Поллока) и ходила по клубам со своим героем Питом Мондрианом – «Мы оба были без ума от джаза», – который, как и многие выдающиеся европейские художники, бежал от Гитлера в Нью-Йорк.
Работы Поллока показали Краснер совершенно новый подход к абстракционизму: не формальный извне, как было принято в европейском модернизме, а изнутри. В свою очередь, она дала ему поддержку и связи. После того как Краснер открыла Поллока (да, я имею в виду именно это), она познакомила с ним и его работами выдающихся художников и критиков, в том числе Клемента Гринберга, который больше прочих сделал все, чтобы Поллока провозгласили спасителем американской живописи.
Кроме того, она представила Поллока Гофману. В классах Гофмана всегда использовали модель: посмотрите на «Сидящую обнаженную» Краснер – эскиз сделан с натуры. Гофман считал природу источником, художественным императивом даже при создании абсолютно абстрактной живописи. Выдающийся преподаватель оглядел мастерскую Поллока и, не увидев никаких следов моделей, натюрмортов или прежних зарисовок, скептически поинтересовался: «А вы работаете с натурой?»
Ответ Поллока говорит о многом: «Я и есть натура».
И колесо повернулось.
Они поженились в 1945 году. При финансовой поддержке Пегги Гуггенхайм – которая настолько же любила Поллока, насколько ненавидела Краснер (хотя это он мочился в ее камин на вечеринках), – они купили дом в Спрингс на Лонг-Айленде. Там, в большом сарае, который Поллок использовал как мастерскую, он создавал свои революционные капельные картины, блестящее воплощение жеста, действия и абстракции в одном потрясающем взрыве великолепно упорядоченной краски на холсте.
Краснер использовала в качестве мастерской маленькую спальню на верхнем этаже дома и тоже работала в новой технике. Просто, как бы это сказать, в меньшем масштабе. Как и Поллок, она не стояла перед мольбертом, а двигалась над холстом и капала на него краской. Но там, где он делал выпады и танцевал, словно фехтовальщик, парирующий удары противника, она работала с «контролируемым хаосом». «Композиция» – одна из тридцати картин из серии «Миниатюры» (1946–1950), созданной в спальне в Спрингс. Здесь Краснер накладывает один за другим толстые слои краски и от края до края покрывает холст белыми клубками, складывающимися в десятки (сотни?) небольших изображений, напоминающих иероглифы в египетской гробнице. И, словно египетские иероглифы, они рождают дразнящее чувство, что мы могли бы расшифровать этот таинственный язык, если бы у нас был правильный ключ. В то же время в их форме есть нечто универсальное, нечто интуитивно воспринимаемое как важное, свойственное человечеству, вневременное. Многие комментаторы связывали серию «Миниатюры» с каббалой и еврейским мистицизмом, или, более прозаично, с ивритом, который она учила в детстве. Вероятно, в трудные годы после Второй мировой войны иудаизм занимал немалое место в ее мыслях и сердце.
Ах, сердце Краснер.
Ли Краснер. Композиция. 1949
Она знала, что жизнь с Поллоком будет беспокойной. Еще в период ухаживания она вместе с его братом ездила за ним в Белвью, где он приходил в себя после жестокого запоя, вызванного приездом в город его матери. Безусловно, Поллок был алкоголиком и в пьяном виде вел себя грубо и агрессивно. Уже довольно, чтобы задуматься, но Краснер была готова терпеть все это ради искусства и любви.
Критик Амей Уоллах сказала о Поллоке и Краснер: «Его энергия была лирической, ее – громогласной. Он был Моцартом, она – Вагнером». Я улыбнулась, впервые прочитав это, потому что часто представляла Краснер как Сальери, а Поллока как Моцарта (в поп-культурном смысле, то есть как в кино). Не потому, что Краснер питала опасную зависть или была коварна, но потому, что она, как и Сальери, была превосходным художником и находилась довольно близко к гению, чтобы узнать его с первого взгляда. Много было сказано о том, как неутомимо Краснер продвигала Поллока и до, и после его смерти, однако она никогда не прекращала заниматься собственным творчеством. Никогда. Как художники они стояли плечом к плечу и делали свою работу. В отличие от Сальери в фильме, Краснер не желала смерти своего Моцарта. Она желала, чтобы он писал и жил.
Ли Краснер. Молочай. 1955
Но, как известно, Поллок не сделал ни того ни другого.
В последний год своей жизни Поллок совсем забросил живопись, хотя Краснер старалась заставить его работать и блюсти трезвость. Ее стали считать раздражительной и сварливой, возможно справедливо. Впрочем, у нее действительно были причины для недовольства.
Но ее собственная работа к этому не имела отношения. Летом 1956 года, когда Поллок погиб в автокатастрофе, управляя машиной в нетрезвом состоянии (еще одна молодая женщина погибла вместе с ним, его любовница выжила), Краснер завершила серию впечатляющих коллажей из разорванных старых картин, которые до этого сочла неудачными, а теперь заново собрала на холсте. Представленный здесь «Молочай» (и другие работы из этой серии) ставит Краснер ровно посередине между Матиссом и Мазервеллом, в ту точку, откуда открывается доступ к прошлому и настоящему, к ее личной истории и всей истории современного искусства. Краснер нашла свой путь, работая изнутри и извне. Это была вершина ее творчества.
Краснер давала своим картинам-коллажам ассоциативные названия уже после завершения работы. Поэтому «Молочай» изображает не растение как таковое, а чувство, дух, цвет и форму, связанные с ним, по крайней мере в ее сознании. Что касается значения «Молочая» или любого другого произведения Краснер, она говорила: «Я думаю, моя живопись автобиографична, если кто-то возьмет на себя труд ее прочитать».
На мой взгляд, коллажи – самая очевидная автобиографическая работа Краснер. Что такое автобиография, как не избранные фрагменты прошлого, искусно перемешанные и заново собранные в настоящем? Краснер, конечно, подразумевала не только этот механический акт. Она имела в виду, что работы, которые она продолжала создавать еще тридцать лет после серии «Миниатюры» и коллажей, постепенно набирая размах, цвет и динамику, полны ее радостей и горестей. Краснер была неутомимой и многогранной художницей, она менялась и росла до самого конца. У нее не было детей; она больше не выходила замуж. Она рисовала. Само искусство было всей ее жизнью.
Через шестнадцать лет после ее смерти Марша Гей Харден получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в биографическом фильме «Поллок» (2000). Я знала о фильме много лет, еще до того, как он был снят. Сценарий писала Сьюзен Эмшвиллер, дочь моей замечательной первой литературной наставницы Кэрол Эмшвиллер. Отличный фильм. Но титул лучшей актрисы второго плана – убийственная ирония. Если вы хотите узнать Краснер, взгляните на ее искусство.
Глава 11. Луиза Буржуа
В моем искусстве я убийца.
ЛУИЗА БУРЖУА
Искусство – гарантия психического здоровья.
ЛУИЗА БУРЖУА
ИНОГДА О КНИГЕ действительно судят по обложке. Наверное, нам всем хоть раз случалось слышать сладкозвучный зов картины, пробуждающей в нас какую-то ненасытную потребность (на ум сразу приходит «Щегол» Фабрициуса). В те дни, когда не было ни Amazon, ни Google, вы могли ничего не знать о книге или альбоме и все-таки хотеть заполучить их потому, что обложка приковывала взгляд.
Именно это произошло со мной в конце 1990-х годов. Находясь в Нижнем Ист-Сайде, я заглянула в книжный магазин Saint Mark’s и увидела книгу Люси Липпард «Из центра» (From the Center). Вышла я уже с ней, прижатой к животу под застегнутой на молнию кожаной курткой. Нет, книгу я не украла – просто шел дождь, и хотелось уберечь обложку, из-за которой, собственно, я ее купила.
Так мне впервые довелось встретиться с французско-американской художницей Луизой Буржуа и ее картиной Femme Maison, входящей в серию, сделанную в конце 1940-х годов. На картинах этой серии головы обнаженных женских фигур закрыты домами или превращены в дома. Потом я видела много похожих образцов оформления, но обложка книги Липпард по-прежнему остается самой любимой.
Контрастными черными линиями на белом фоне изображена обнаженная женская фигура с пышными бедрами, но вся верхняя часть ее туловища заключена в коробкообразный, состоящий из прямых линий дом (хотя на первом этаже видны две U-образные формы, подразумевающие грудь). Это тяжкий груз. Не пригородный домик с белым заборчиком, а настоящий замок с большой лестницей в центре и римскими арками на двух этажах, как в мини-Колизее. Левая рука фигуры свободно опущена вдоль тела, правая рука радостно воздета – или мне тогда так показалось? Она как будто махала рукой. Подзывала меня? Позже мне пришло в голову, что этот жест можно истолковать иначе, вроде: «Эй, послушай! Можешь снять с меня этот дом?» Очертания стены над безвольно висящей левой рукой подозрительно напоминают гроб.
Луиза Буржуа. Femme Maison. 1984
Именно так я открыла для себя Луизу Буржуа, мать и художницу, которой тогда было около восьмидесяти лет. Она жила всего в паре кварталов к западу от того места, где я впервые увидела ее работу, и продолжала неутомимо создавать великолепные произведения искусства.
Femme Maison буквально переводится как «женщина-дом», но на самом деле это означает «домохозяйка». В годы, когда Буржуа создавала свою серию, она сама была домохозяйкой, и довольно хорошей. Можем ли мы представить, что это своего рода автопортреты? По словам Буржуа, Femme Maison «не знает, что она полуголая, и не знает, что пытается спрятаться. Скажем так, это чистый самообман, поскольку она выставляется напоказ в тот момент, когда ей кажется, будто она прячется».
Тогда я ничего не знала о художнице, но в ее Femme Maison было все, чем женская судьба пугала (или тайно влекла?) меня – молодую женщину, только вступающую в жизнь. Что, если дом поглотит меня, разрушит важнейшую часть моей личности, моего интеллекта, то есть попросту снесет мне крышу? И вместе с тем не могло не мелькать в уме: слушайте, да это же шикарный дом! Может, и у меня когда-то такой будет?
Ах, эти девичьи грёзы – такие противоречивые.
Я благополучно донесла книгу Липпард под моросящим дождем до квартиры, которую делила с подругой и сокурсницей Мартой, невероятно стильной, с низким голосом, тонким чувством юмора и бесподобным умом. Я еще не до конца рассталась со стереотипами средней школы и втайне надеялась, что ее ум и манеры каким-то образом перейдут ко мне – просто потому, что мы живем вместе. Хотя между нами лежала непреодолимая пропасть. Я красила волосы в черный цвет и слушала Ramones – Марту природа наделила золотистыми локонами, придававшими ей сходство с ангелом Рафаэля. Она была из академического Андовера, ее отец работал в Гарварде. Я была из Монтаны и с побережья Калифорнии, мой отец был юристом продуктового магазина. Она занималась Средневековьем, я – модернизмом. Но нас обеих интересовала история искусства с точки зрения феминизма (подзаголовок книги Липпард был «Феминистские очерки о женщинах и искусстве»). Я изучала женщин-художниц, научная работа Марты была гораздо глубже. Пока я писала об Аделаиде Лабий-Гийар, она писала о ранах Христа как символических изображениях вагины и тому подобных образах. Но мы обе были – могу же я себе польстить – своего рода бунтарями. Я считала ее своей сестрой в искусстве и соучастницей в прегрешениях.
Я купила книгу Липпард отчасти потому, что представляла, как мы обе будем ее читать. Не могу вспомнить, дала ли я Марте ее, и не знаю, где книга сейчас. Не могу найти ее среди своих многочисленных книжных полок и коробок. Память о ней заканчивается на моменте покупки.
Но Луиза Буржуа помнила все. Удобное свойство для художника, как убедительно показывает ее творчество. Нам никак не обойтись без краткого знакомства с ее биографией, поскольку работы Буржуа некоторым образом связаны с ее жизнью, причем речь идет о масштабном наследии, создававшемся на протяжении семидесяти лет из самых разных материалов, с процентом отбраковки близким к нулю.
Буржуа появилась на свет в Париже в Рождество 1911 года. «Мое рождение стало неприятной неожиданностью», – рассказывала она. Семье пришлось прервать праздничный ужин с шампанским и устрицами. Стоит ли говорить, сколько неудобств она доставила врачу. Если верить ее работам – и ее словам, – это отношение как к досадной помехе преследовало ее все детство. Особенно со стороны отца.
Ее назвали в его честь (Луи Буржуа) – отчасти потому, что он хотел мальчика. И отец не стеснялся жестоко дразнить ее, намекая на то, чего ей не хватало. Не поленитесь, посмотрите на YouTube фильм «Луиза Буржуа. Паук, любовница и мандарин» (Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and the Tangerine), где в конце второй части есть фрагмент «Луиза Буржуа чистит мандарин» (Louise Bourgeois peels a tangerine) – жуткое свидетельство того, как нанесенная в детстве травма отдается болью даже в увенчанной славой старости. Рассказ художницы о том, как отец – с помощью мандарина и столового ножа – обвинял ее в зависти к пенису, производит сюрреалистическое впечатление. Неудивительно, что, став взрослой, Буржуа создала наводящую ужас композицию под названием «Уничтожение отца».
В Первую мировую войну, когда отец был на фронте, она жила с семьей матери, занимавшейся поиском и восстановлением старых гобеленов – масштабных текстильных изделий со сложным плетением, живописными сценами, замысловатыми бордюрами и фонами. Их реставрацию в равной мере можно считать и ремеслом, и искусством.
Вернувшись домой с войны, отец Буржуа занялся поисками гобеленов в деревнях (где их нередко использовали как занавески, чтобы разделить на части сарай, или как попоны, чтобы укрывать лошадей холодными ночами), а ее мать управляла домашней мастерской, в которой работало двадцать пять женщин. Мать, практичная и художественно одаренная женщина, могла и управлять большой мастерской, и воссоздавать прекрасные произведения прошлого. У нее было множество достоинств, однако крепкое здоровье к ним не относилось. Во время Первой мировой войны она с трудом пережила эпидемию испанки, погубившую около сорока трех тысяч солдат. Большую часть своего детства Буржуа провела в заботах о здоровье матери.
Луиза Буржуа. Fillette. 1968
Она говорила, что хочет быть незаменимой, и во многих отношениях ей это удавалось. В десять лет Буржуа дорисовывала недостающие места на гобеленах. Огромные тяжелые гобелены часто переносили, волоча за собой по земле, и их нижняя часть стиралась. «Я стала специалистом по рисованию ног и ступней, – говорила Буржуа. – Это показало мне, что искусство может быть интересным и полезным. Так оно началось – мое искусство». В швейной комнате в мастерской, сидя среди женщин, которым кропотливая работа не мешала свободно болтать и сплетничать, Буржуа выяснила, что у отца есть любовница – живущая в их доме гувернантка, молодая англичанка. Ярость, вызванная этим известием, питала ее творчество еще много десятков лет.
Отец считал современных художников «паразитами», но, когда мать Буржуа умерла в 1932 году (опять эти мертвые матери), она внезапно переключилась с изучения математики в Сорбонне на изучение искусства. Для нее эти два занятия были не так уж далеки друг от друга. «Скульптура как уравнение, которое нужно решить, – говорила Буржуа. – И мне нравится находить решение». Она училась в отличных студиях, обменивая свои навыки переводчика на художественные уроки (у американцев водились деньги, и за свой английский она могла бы поблагодарить ненавистную гувернантку). Буржуа была знакома со многими художниками-сюрреалистами, но отказывалась играть роли, которые они предлагали, – обычно натурщицы или любовницы.
Она познакомилась в 1938 году с американским искусствоведом Робертом Голдуотером, которому продала гравюру Пикассо в своей небольшой галерее, устроенной в фамильной гобеленовой мастерской в Париже. «Где-то между разговорами о сюрреализме и последних тенденциях, – сказала она, – мы поженились».
Брак с Голдуотером привел ее из Парижа в Нью-Йорк – весьма кстати, поскольку на горизонте маячила Вторая мировая война. И – что не менее кстати – он помог ей оставить позади груз европейской истории искусств вместе с социальными и семейными ограничениями.
Буржуа стала настоящей домохозяйкой (une vrai femme maison), в 1941 году у нее было трое маленьких сыновей и муж, уважаемый нью-йоркский интеллектуал. Она продолжала заниматься искусством, хотя далеко не все знали, что жена профессора Голдуотера – художница. У них дома иногда собирались сюрреалисты, бежавшие из Европы. Буржуа они не нравились. «Я спорила с ними, – рассказывала она. – Они были высокомерными и напыщенными». Тень отца. И безусловно, тень мужской привилегии, которую она опровергала и даже уничтожала в своих работах.
Шестидесятисантиметровый латексный пенис, возможно, представляет определенный порнографический интерес (символизирует исполнение мужских желаний?), но по замыслу Буржуа он скорее забавен. Бульбообразный, морщинистый, больше любых возможных размеров, в сущности, он и есть не что иное, как раздутая величина. Эту мысль подчеркивает название работы – Fillette («Маленькая девочка»).
Не такой уж ты могучий, мистер Пенис. Можно сказать, милашка. Именно так он представлен на знаменитой фотографии Буржуа, сделанной Робертом Мэпплторпом в 1982 году. Буржуа, ухмыляясь, весьма довольная собой, небрежно держит Fillette под мышкой, правой рукой поддерживая головку пениса, словно мордочку маленькой собачки – скажем, таксы, – выглянувшей из-под рукава ее шубы. На ее месте могла быть любая: женщина, обедающая в центре города; модная дама, повсюду берущая с собой свою малютку-собачку. Как будто «Дама с горностаем» Леонардо появилась в Манхэттене восьмидесятых, только вместо горностая она нежно поглаживает фаллос.
Буржуа создала свою Fillette в 1968 году и представила ее публике после очень долгой паузы, в течение которой она не выставлялась и не принимала активного участия в художественной жизни. Серия Femme Maison была сделана за 1946–1947 годы, но вскоре после этого она окончательно забросила живопись. Еще в Париже Буржуа брала уроки у Фернана Леже, сказавшего однажды ей: «Вы не художник. Вы скульптор».
Ее первыми скульптурами стали высокие абстрактные фигуры, вырезанные из легкого бальзового дерева. Она называла их Personages («Персоны»).
«Вы можете иметь семью и делать работу из дерева, – объяснила она. – Оно не пачкается. Оно не шумит. Это скромный, практичный материал». Тотемные Personages, не имевшие собственных оснований и прикрепленные болтами прямо к полу, небольшой толпой стояли на ее первой персональной выставке в 1949 году.
Смерть отца, случившаяся в 1951 году, потрясла ее до глубины души. Такая резкая реакция мешала ей выставлять свои произведения, хотя Буржуа продолжала работать.
Голдуотер преподавал историю искусств в Институте изящных искусств; одной из его учениц была Люси Липпард. Молодой критик Липпард курировала новаторскую выставку 1966 года Eccentric Abstraction. Буржуа давно не выставлялась, но Липпард, узнав о работах жены своего бывшего профессора, пришла в ее подвальную мастерскую. Увиденное поразило Липпард. «Многие художники уничтожают свои произведения не потому, что они плохи, а потому, что они не успешны – потому, что другие люди не интересуются ими», – говорила Буржуа. Плоды многих лет непрерывного творческого труда заполняли все свободное пространство ее мастерской.
Липпард включила Буржуа в состав выставки вместе с другими художниками, на десятки лет младше нее. Пожилая художница стала сенсацией.
Момент был выбран идеально. Феминистское движение набирало обороты, и Буржуа вписывалась в него как нельзя лучше: талантливая провидица, несправедливо обойденная вниманием. В 1973 году умер ее муж Роберт. «Я была беглянкой, и Роберт спас меня», – сказала она в интервью New Yorker в 2002 году. За время своей долгой деятельности Буржуа всегда говорила правду и всегда оставалась признательной мужу. И все-таки после его смерти она сама и ее творчество пережили бурный расцвет.
Буржуа умерла в 2010 году в возрасте девяноста восьми лет. Она успела прославиться как художник и скульптор и продолжала работать до самого конца.
Через четыре года после смерти Буржуа, в 2014 году, я впервые за десять лет встретила Марту. Нам обеим было около пятидесяти; наши волосы приобрели одинаковый тускло-светлый цвет и одинаковую длину до плеч; у обеих было по двое детей-подростков – старший мальчик и младшая девочка. Мы обе вышли замуж за тех мужчин, с которыми ходили на свидания двадцать пять лет назад, отцов наших детей. Мы обе знали, что такое быть femme maison – как Буржуа, совмещавшая воспитание детей с творческой деятельностью. Мы оказались более похожими, чем я могла себе представить. Разве что Марта все-таки получила свою докторскую степень и стала профессором, а я ушла из Института изящных искусств, чтобы заниматься литературой.
Мы снова очутились в Нью-Йорке и, разумеется, решили навестить наш институт. Заглянули в старую комнату для семинаров с большим круглым столом и в соседний лекционный зал, бывший бальный зал старого особняка, с зеркалами, позолоченными пилястрами и люстрами. Пересекли главный зал с изогнутой лестницей и многоярусным гобеленом, при виде которого я могла бы вспомнить о Луизе Буржуа, если бы она тогда занимала мой ум.
Мы заглянули в Дубовую комнату, где после лекций по пятницам подавали вино и чай, потом прошли в Мраморную комнату, стены которой сплошь отделаны золотистым камнем, – здесь мы перекусывали, шутливо ругались и сплетничали. Сколько часов я провела в этой комнате? Пожалуй, больше, чем в любой аудитории, где шли лекции или семинары.
«Смотри», – сказала Марта. У стены на подставке в открытой витрине стояла модель здания, в котором мы находились, с подвижными овальными зеркалами сверху и по бокам.
«Я и забыла об этом», – сказала я, подходя. Я видела пресс-релиз, выпущенный, когда институт получил это произведение в подарок, но больше не вспоминала о нем. Буржуа создала и подарила Институту изящных искусств объект, назвав его просто «Институт». Совершенно буквальная его копия и совершенно непохожий на поразительные видения Буржуа, он казался почти чужим среди остальных ее работ.
Позже я прочитала статью выпускницы Института изящных искусств, феминистки и искусствоведа Линды Нохлин, цитировавшей Буржуа: «Институт сыграл важную роль в моей жизни. Мой муж, Роберт Голдуотер, много лет преподавал там. Пятничные дневные лекции и чай в четыре часа доставляли мне много удовольствия». О, мне тоже.
Это напоминало сцену из «Алисы в Стране чудес»: я была внутри Института изящных искусств и смотрела на произведение искусства под названием «Институт», изображавшее именно то, что подразумевало название – Институт изящных искусств. Я как будто проглотила волшебную таблетку, и все вокруг увеличивалось, уменьшалось и снова увеличивалось. И время тоже раскрывалось и сжималось вокруг меня.
Луиза Буржуа. Институт. 2002
Я снова была с Мартой в Мраморной комнате, как много лет назад.
Мы поворачивали зеркала вверх и вниз, чтобы посмотреть с высоты птичьего полета на крышу и углы боковых стен, но так и не смогли заглянуть внутрь здания. Отлитые из серебра окна «Института» показывали лишь наши отражения. Буржуа всегда безошибочно выбирала материал. Серебро – холодный металл. Конечно, «Институт» можно разобрать на части – снять один за другим этажи и рассмотреть их как трехмерный лабиринт с помещениями и переходами. Но если просто смотреть на него снаружи (как делает большинство зрителей), вы ничего не увидите. Он кажется замкнутым, таинственным, предназначенным не для всех.
Примерно так я себя и чувствовала, когда училась в нем. Благодаря магии зазеркалья я как будто снова пробралась туда, где мне не было места.
Или было?
Линда Нохлин рассказывала о своей молодости в институте: «Было трудно, но не всегда – порой сама борьба вызывала восторг и заряжала энергией. Поздние работы Буржуа среди прочего напоминают мне о противоречивых аспектах исчезнувшего прошлого».
Меня охватило чувство столкновения прошлого с настоящим. «Я скучаю по всему этому», – сказала я.
Луиза Буржуа. Мама. 1999
Марта рассмеялась своим хрипловатым смехом кинозвезды 1940-х годов. «Оно все еще принадлежит тебе», – ответила она, как будто это было очевидно, и жестом показала, что пора уходить. Я последовала за ней, надеясь, что она права.
Эту книгу я начала вскоре после того, как Марта произнесла эти слова. Закончив один многолетний проект, я вдруг поняла, что в следующую очередь хочу написать о женщинах-художницах.
Вероятно, самая известная и самая любимая из поздних работ Буржуа – «Мама», огромный девятиметровый паук. Оригинал отлит из стали, после него было сделано шесть бронзовых копий. Восемь темных, грубо вылепленных ног паука, легко балансирующего над землей, невероятно далеки от блестящей архитектурной строгости «Института», хотя оба произведения были созданы с разницей всего в несколько лет. В воображении Буржуа всегда обитало множество образов.
Под брюхом паука кладка из двадцати шести мраморных яиц. Но гигантский паук ничуть не похож на жуткого персонажа фильма ужасов, он излучает странную благожелательность. Когда его выставляют в разных уголках мира, у него под ногами играют дети, а занятые горожане останавливаются, чтобы улыбнуться и сделать фотографию.
На взгляд Буржуа, привлекательность «Мамы» объясняется легко: «Паук – это ода моей матери. Она была мне лучшим другом. Она была ткачихой, как пауки… Подобно паукам, мама была очень умна. Пауки – существа дружелюбные. Они едят комаров, а комары, как известно, переносчики болезни, потому мы и не любим их. Другими словами, пауки приносят пользу и защищают, как моя мама».
Пауки похожи на матерей, по крайней мере на мать Буржуа. Кроме того, они похожи на художников – ткут, созидают, восстанавливают. В этом смысле Буржуа тоже своего рода мама, благожелательная мать для всех нас.
Глава 12. Рут Асава
Каждый раз, когда выпадала свободная минута, я садилась и немного работала. Скульптура вроде сельского хозяйства. Если настойчиво чем-то заниматься, можно сделать довольно много.
РУТ АСАВА
ВЕСНОЙ 1942 ГОДА Рут Айко Асава, родившаяся и выросшая в Норуолке (штат Калифорния), уложила вещи в один небольшой чемодан и вместе с матерью и пятью из шести своих братьев и сестер отправилась на ипподром Санта-Анита. В декабре прошлого года Япония совершила налет на Перл-Харбор. Младшая сестра Рут, Нэнси (Кимико), гостила в Японии у родственников и была вынуждена остаться там на время войны. Отец Рут, Умакити Асава, фермер-огородник (независимый, местный, мелкий), закопал или сжег все семейное имущество, бывшее слишком японским, в том числе экипировку для кэндо, кукол и книги по декоративному искусству. Но, как старый бизнесмен из местной японской общины, он все еще оставался под подозрением. В феврале 1942 года агенты ФБР его арестовали, а затем отправили в лагерь для военнопленных в Нью-Мексико. Полгода Асава не знала, жив ее отец или нет. В следующий раз она увидела его только через шесть лет.
В Санта-Аните семью Асавы поселили в бывших конюшнях ипподрома. «Нам отвели два стойла, – рассказывала Асава. – Мои братья жили в одном, мы в другом. Нам дали армейское одеяло, подушку и раскладушку. Матрасы из соломы мы делали себе сами».
Позднее Асава, молодая женщина, чей мир внезапно оказался разбит вдребезги, сказала интервьюеру: «На самом деле мы очень хорошо проводили время. Мне нравилось».
Вот оно как!
В Санта-Аниту, где находилась Асава, интернировали еще около восемнадцати тысяч человек японского происхождения, живой сгусток культуры и таланта. Раньше Асава училась в государственной школе (впрочем, на удивление многонациональной), теперь она брала уроки у американцев японского происхождения, сумевших достичь вершин в своей профессиональной деятельности. На трибунах ипподрома устроили импровизированную школу, в ней Асава впервые познакомилась с профессиональными художниками: бывшим директором Лиги студентов-художников Лос-Анджелеса, как минимум одним художником из Управления общественных работ и тремя аниматорами студии Диснея.
«Не каждому в шестнадцать лет могло так повезти», – говорит Асава.
Всегда жизнерадостная и не склонная таить злобу, Асава все-таки не была наивной оптимисткой. Когда в центре переселения Ровер в Арканзасе, куда ее семью отправили после шести месяцев пребывания в Санта-Аните, потребовалось дать клятву верности флагу США, она произнесла вместе с одноклассниками весь текст, а после слов «свобода и справедливость для всех» дерзко и громко от себя добавила: «Кроме нас!»
Окончив среднюю школу в лагере для интернированных в Арканзасе, Асава воспользовалась правительственной программой, предоставлявшей оплаченный автобусный билет до любого колледжа Среднего Запада (американцам японского происхождения был закрыт путь на побережье). Она уже поняла, что хочет заниматься искусством, но знаменитый Чикагский институт искусств оказался слишком дорогим. Получив стипендию в Квакерском фонде, она выбрала самое дешевое учебное заведение – Висконсинский государственный педагогический колледж Милуоки.
В семнадцать лет Асава одна приехала в Милуоки, готовая получить специальность учителя рисования. Три года все шло хорошо, но на четвертом курсе ей нужно было пройти педагогический практикум. Кураторы отказались направить ее в одну из государственных школ Милуоки, поскольку неприязнь к японцам в обществе была еще сильна. Асава ушла из колледжа, так и не получив степень. (Много лет спустя колледж пытался присвоить ей звание почетного доктора, но Асава настояла, чтобы ей дали степень бакалавра, которую она когда-то заработала.)
По счастью, летом предпоследнего года учебы в Милуоки Асава ездила на автобусе в Мексику со своей старшей сестрой Лоис (Масако), изучавшей испанский язык. В Мехико Асава наблюдала за работой Хосе Ороско, расписывавшего стены общественных зданий. Там же она посещала уроки рисования в Университете Мексики вместе с Кларой Порсет, кубинской беженкой и подругой немецкого художника-беженца Джозефа Альберса. Альберс тогда преподавал в экспериментальном художественном колледже Блэк-Маунтин (штат Северная Каролина). Клара Порсет рассказала Асаве об Альберсе и его школе.
Не имея возможности пройти до конца учебную программу в Милуоки, Асава подумала об Альберсе. «Если бы педагогический колледж Милуоки не отказал мне и не вынудил бы меня перейти на альтернативный курс в колледж Блэк-Маунтин, я до самой пенсии работала бы учителем рисования», – сказала она. Мексика и колледж Блэк-Маунтин сыграли в жизни Асавы судьбоносную роль.
На следующее лето после начала занятий в Блэк-Маунтине Асава вернулась в Мексику, где преподавала рисование детям в Толуке. У жителей деревни она научилась плести корзины из проволоки – эта техника позволяла эффективно использовать любые подручные материалы. Не более сложная, чем вязание крючком, она отлично сочеталась со многими принципами, которые Асава восприняла во время обучения у Альберса.
До войны Альберс учился и преподавал в Баухаусе – влиятельной немецкой Высшей школе строительства и художественного конструирования. Как направление в архитектуре баухаус повлиял на многие аспекты европейского модернизма: от живописи, скульптуры и архитектуры до ремесленного и промышленного дизайна. Благодаря Альберсу (и многим другим, включая его жену, известного текстильного дизайнера Анни) американским художникам передались рациональные идеалы Баухауса – утонченная простота, элегантность, внимание к материалу.
Осенью, вернувшись в Блэк-Маунтин, Асава начала создавать собственные работы из проволоки. «Вы берете линию, двухмерную линию, потом переходите в пространство и получаете трехмерную фигуру. Это как рисование в пространстве», – говорила она. Она открыла простой способ создавать из промышленных материалов такие же элегантные формы, какие создавала сама природа. Подвесные кольчужные корзины Асавы выглядят так, словно они родились в какой-нибудь модифицированной чашке Петри. Они, очевидно, сделаны руками человека и вместе с тем производят впечатление стихийных, живых частиц мира природы.
Они пульсируют и дышат, парят и раскачиваются в воздухе, отбрасывая сложные, бесконечно меняющиеся тени.
Рут Асава. Без названия. Ок. 1955
О Рут Асаве я узнала из истории колледжа Блэк-Маунтин. Кроме нее там учились такие влиятельные художники, как Рэй Джонсон и Роберт Раушенберг, и преподавали самые разные талантливые люди: художник Джейкоб Лоуренс, композитор Джон Кейдж, хореограф Мерс Каннингем, архитектор и конструктор Бакминстер Фуллер – последний стал ее учителем и другом на всю жизнь.
Рут Асава. Фонтан Андреа. 1968
Поэтому я с уважением относилась к Асаве, но мало что знала о ней, пока не переехала в Сан-Франциско, где она была известна как «леди фонтанов». Упомянутые фонтаны, признаюсь, несколько ошеломили меня. Один фонтан был в виде русалок, одна из которых, сидя на спине морской черепахи, кормила грудью морского младенца; другой – в виде бронзового цилиндра, на поверхности которого теснились в духе horror vacui (от лат. «боязнь пустоты») городские достопримечательности, вылепленные местными детьми. Вот это и есть произведения Блэк-Маунтина?
Они не нравились мне, но что с того? Многие их обожали. Когда компания Apple задумала снести фонтан с достопримечательностями и построить на общей площади на Юнион-сквер свое новое здание, в защиту фонтана собрались толпы народа.
Итак, я «не принимала» Рут Асаву. До тех самых пор, пока однажды в воскресенье не пришла в Мемориальный музей де Янга с сыном-подростком. В школе ему дали задание: найти произведение искусства, которое ему понравится, и задокументировать свой выбор, то есть встать рядом и сфотографироваться. Он захотел, чтобы я пошла с ним. Меня заинтересовало это, и я приготовилась подсказывать и давать советы.
И вот неожиданность! Все пошло не так, как я себе представляла. Я указала на потрясающего живописного Ричарда Дибенкорна – уклончиво пожал плечиком. Я перешла на территорию стильного поп-арта и показала на Уэйна Тибо – ноль реакции. И так далее, и так далее по всем современным галереям. И только в одном из отстойных по своей скучности залов искусства XIX века он нашел то самое. Сын протянул мне свой телефон. Я навела на него камеру, продолжая не верить своим глазам. Потом сделала еще одну фотографию уже своим телефоном и отправила мужу с подписью: «Что мы сделали не так?!»
Наш сын, худой, взъерошенный, с длинными волосами, в черной футболке с надписью «Псих из Сан-Франциско», улыбался, стоя перед картиной Фредерика Чёрча «Сезон дождей в тропиках» – романтическим пейзажем с розоватым туманом и радугой.
– Что тебе понравилось в этой картине? – спросила я.
Он пожал плечом, как будто объяснять мне, чем хорош Фредерик Чёрч, было так же бесполезно, как рассказывать о достоинствах игрушки «Вселенная Warcraft». («Они связаны, – мудро заметил позже мой муж. – Представь себе Средиземье Толкина».)
Я сдалась и предложила перед уходом пойти полюбоваться видом со смотровой башни. Стоял редкий ясный день – отличная возможность взглянуть с высоты на наш прекрасный город, в котором не так уж много высоких зданий.
По дороге к атриуму с лифтами мы круто повернули за угол, и у меня перехватило дыхание. Над нами и вокруг нас висело более десятка произведений из проволоки. Одни были похожи на длинные корзины, другие – на звездные вспышки из колючего металла, третьи – на мерцающие кольчужные каскады. Свет играл в слоях и формах, переливающиеся тени скользили по стенам, по полу и потолку, как будто мы были под водой. Я мгновенно влюбилась.
– Как насчет этого? – спросила я.
Мой сын уклончиво кивнул.
– Нормально, – ответил он и нажал кнопку вызова лифта.
История моего первого похода в настоящий музей, когда я сама была подростком, повторилась с точностью до наоборот. Тогда был июль, и мы проехали всю дорогу от Монтаны до округа Колумбия в машине без кондиционера. Поэтому Смитсоновский институт – огромный, прохладный и просторный – показался мне настоящим раем. Я почти сразу заметила огромную картину Сая Твомбли (теперь я знаю, как звали автора). Полотно серовато-зеленого цвета, сплошь заполненное округлыми белыми письменами, выглядевшими словно буквы, но их невозможно было прочитать. Картина говорила о чем-то на каком-то языке, которого я не знала, но все равно полюбила – точно так же, впервые услышав французскую речь, я ничего не поняла, кроме того, что это восхитительно, даже если смысл слов мне совершенно непонятен. Я хотела рассмотреть картину, но друзья семьи торопили, поскольку им не терпелось показать нам «настоящую живопись».
Это был огромный горный пейзаж Бирштадта с зеркальным озером, в котором отражались скалистые пики, окруженные закатной розовой дымкой. К берегу озера вышла на водопой семья пугливых оленей, невинных, но настороженных. Пейзаж был очень похож на Монтану.
Имоджен Каннингем. Рут Асава за работой с детьми. 1957
Почему тогда мне куда больше понравилась первая картина, которую я даже не совсем поняла? Попробую перефразировать Ли Краснер, сказавшую когда-то о своем учителе Гансе Гофмане: «Он дал мне урок абстракционизма, и я его усвоила», – так вот: в ту минуту я получила первый опыт созерцания абстрактного искусства, и оно мне сразу понравилось.
С моим сыном все оказалось совершенно иначе: величественный пейзаж перевешивал любое абстрактное произведение живописи или скульптуры. Он придержал двери лифта, и я быстро сфотографировала табличку на стене. В башне, пока он рассматривал виды, я глянула в телефон. Работы в атриуме принадлежали Рут Асаве. Теперь я приняла ее.
Перед тем как мы уехали, я купила каталог работ Асавы. Мне было стыдно за мое прежнее равнодушие. В ее творчестве скрывалось намного больше, чем я думала.
В Блэк-Маунтине Асава познакомилась с Альбертом Ланье, молодым студентом-архитектором с юга, и они начали встречаться. Ланье слышал, что в сан-францисском районе Норт-Бич хороший ужин с бутылкой вина стоит меньше доллара, поэтому в конце лета 1948 года он отправился на запад и открыл мастерскую в Сан-Франциско. Той осенью Верховный суд Калифорнии отменил законы, запрещающие межрасовые браки. Летом 1949 года Асава и Ланье поженились в Сан-Франциско. За десять лет у них родилось шестеро детей.
За год до свадьбы Асава выставила свои первые проволочные «корзины» в колледже Блэк-Маунтин. Через год после свадьбы, в 1950 году, она показала похожие произведения на ежегодной выставке творческого объединения в Музее современного искусства в Сан-Франциско. В том же году она родила первых двух детей. Ни брак, ни дети не мешали ей работать.
Потрясающая фотография Асавы с детьми, сделанная ее подругой, знаменитым фотографом Имоджен Каннингем, показывает, как ей это удавалось: она просто делала это. Создавала искусство, воспитывала детей, занималась разными делами. Я скопировала фотографию из каталога и носила ее с собой в блокноте. Если Асава, словно «Мадонна в скалах» Леонардо, могла работать, окруженная детьми, причем один из этих четверых детей был младенец без подгузника, сосущий из бутылочки, если она могла в это время работать не поднимая головы над новым произведением (а готовые работы в это время парили вокруг ее семьи, словно домашние боги), то и я могла хотя бы немного писать, пока ждала дочь во время футбольной тренировки на другом конце города.
Разумеется, Асава могла отвечать только за себя. Вряд ли она была в состоянии контролировать оценки, которые критики давали ей и ее искусству. В журнале TIME в 1954 году появилась статья, посвященная работам Асавы; ее автор описал художницу так: «Рут Асава, 28 лет, домохозяйка из Сан-Франциско, мать троих детей», далее упоминается, что она «училась у абстракциониста Джозефа Альберса в колледже Блэк-Маунтин». Упоминается лишь для того, чтобы сравнить ее работы с произведениями другого американского скульптора японского происхождения, Исаму Ногути, который, как отмечается в статье, учился у Константина Бранкузи. Оба они были американцами, оба учились у европейцев, однако рецензент настаивает: «В творчестве Ногути и Асавы прослеживается одна общая черта, которая присуща восточному искусству и которой часто не хватает западным художникам: экономия средств. Их японские предки немало потрудились, чтобы единственный штрих кисти выглядел как произведение искусства». Кто бы мог подумать – искусство передается по наследству, и серьезная учеба у европейских художников, чьи работы полностью подчинены принципам экономии и радикальной простоты (см. «Птица в пространстве» Бранкузи или «Во славу квадрата» Альберса), здесь совершенно ни при чем.
Рут Асава. Без названия. Ок. 1962
Асава много лет изучала возможности проволоки, следуя за линией в пространстве, куда бы та ни вела, не оглядываясь на прошлые успехи и не боясь исследовать новые стили.
Однажды в 1960-е годы друзья привезли ей из Долины Смерти пустынное растение причудливой космической формы. Друзья хотели порадовать Асаву – и угадали. Оно ей понравилось. Она попыталась нарисовать растение, но выяснилось, что его необычное строение трудно передать в двух измерениях, и Асава решила обратиться к скульптуре. Так родился новый стиль «связанной» проволочной скульптуры, закрепленной в центре и простирающейся в пространстве одновременно вверх и вниз.
В каком-то смысле эти проволочные скульптуры были автопортретами.
Практически с самого начала ее творческая деятельность вышла на государственный и даже международный уровень. К концу 1950-х годов Асава уже выставлялась по всей стране, в том числе в Нью-Йорке (галерея Перидот и Музей американского искусства Уитни), принимала участие в Выставке американского искусства в Чикагском институте искусств – ее работа украсила обложку каталога выставки. Всего через шесть лет после окончания колледжа она выставила одну из своих подвесных скульптур на Международном фестивале искусства в Сан-Паулу 1955 года.
Искусство Асавы охватывало широкую аудиторию; ее корни уходили глубоко не только в семью, состоявшую из десятка с лишним внуков и правнуков, но и в жизнь общества. Кроме городских фонтанов, стенных росписей и мозаик, Асава создала и возглавила художественную мастерскую «Альварадо» для школьников – этот успешный проект вскоре стал муниципальной программой, благодаря которой были сохранены уроки по искусству в финансово ограниченных государственных школах Сан-Франциско. Асава сыграла важную роль в создании первой на Западном побережье средней муниципальной школы искусств, которая теперь носит ее имя: Школа искусств Рут Асавы в Сан-Франциско.
Дочь фермеров, Асава имела потрясающий дар: в ее руках росло все – искусство, дети, крепкий, долгий брак, глубокие основательные перемены в государственном образовании. Она сама была силой природы.
Глава 13. Ана Мендьета
Она была взволнована и полна оптимизма. Она сказала мне, что собирается бросить пить и курить, потому что женщины-художницы дожидаются признания только в старости. Она сказала, что хочет прожить довольно долго, чтобы успеть насладиться славой.
РУБИ РИЧ
Возможно, она помешалась на своем изгнании.
ДЖОН ПЕРРО
ЖАРКИМ РАННИМ УТРОМ 8 сентября 1985 года швейцар, работавший в Гринвич-Виллидж в ночную смену, услышал пронзительный женский голос, кричавший: «Нет, нет, нет, нет!» – а через несколько секунд поблизости раздался звук, как будто с высоты упало что-то большое.
Тридцатишестилетняя художница Ана Мендьета, менее года назад ставшая женой знаменитого скульптора Карла Андре, которому было пятьдесят два года, выпала из окна спальни соседнего многоквартирного тридцатичетырехэтажного дома и от удара скончалась на месте.
Поскольку Мендьета прославилась как автор потусторонних автопортретов, напоминающих меловые силуэты с места преступления, – она называла их Siluetas – и поскольку полиция не сделала никаких фотографий, мы можем сами вообразить эту сцену. Я хотела бы представить Мендьету не изуродованной, а такой, какой она была в самой первой Silueta: обнаженное тело, покрытое белыми цветами, зрелость и чистота, соединяющие ее творческую силу с силой Великой богини. И может быть, ее руки были подняты над головой в древнем молитвенном жесте, как у Silueta Muerta.
Ана Мендьета. Silueta Muerta. 1976
Но эта история таит в себе не только жутковатое символическое значение. Оператору службы 911 Андре после падения Мендьеты сообщил, что они с женой художники и они поспорили о том, «больше ли он известен публике, чем она», ситуация накалилась и «она вышла в окно». Словно Ана Мендьета внезапно вспорхнула и улетела прочь, как маленькая птичка. Она действительно была маленькой – рост сто пятьдесят два сантиметра и вес всего сорок два килограмма. Она с трудом дотягивалась до высокого окна в спальне.
Приехавшие полицейские обнаружили дикий беспорядок в комнате и свежие царапины на лице и руках Андре. Он показал полицейским книгу о себе и сказал: «Я очень успешный художник, а она нет. Может быть, ее это злило, и в этом смысле, может быть, я ее убил».
Стоит отметить две вещи. Во-первых, Мендьета, недавно работавшая в Американской академии в Риме и получившая там престижную Римскую премию, была весьма успешной. Во-вторых, оба художника злоупотребляли алкоголем и в ту ночь очень много выпили.
Кажется, даже сам Андре точно не знает, что произошло, – за эти годы он дал три совершенно разных описания событий. Первую версию он изложил оператору службы 911, вторую – полиции, третью – журналу New Yorker. В интервью, данном журналу в 2011 году, Андре сказал Кэлвину Томкинсу, что теплой ночью внезапно похолодало, Мендьета встала с постели, чтобы закрыть окно, и «просто потеряла равновесие».
Андре арестовали и некоторое время держали под стражей. В профессиональном сообществе немедленно возникли группировки: одни выступали в его защиту, другие – против. Конечно, у Андре были связи и деньги. Друзья художника внесли залог, чтобы его выпустили из тюрьмы, в 1988 году он был оправдан. Этот эпизод совершенно не омрачил ни репутации, ни блестящей карьеры Андре, одного из знаменитых первых скульпторов-минималистов.
Я узнала о Мендьете только в 1992 году, когда музей Гуггенхайма открыл новый (ныне недействующий) филиал в Сохо неподалеку от галереи, где работал мой муж.
Я несколько недель следила за новостями об открытии филиала, а потом прочитала в статье Роберты Смит в New York Times: «В четверг вечером, на предварительном осмотре музея Гуггенхайма, в Сохо собралось четыреста протестующих. Их возмущение вызвано тем, что среди художников, представленных в экспозиции, – всего лишь одна женщина и ни одного представителя меньшинств. Кроме того, на выставке представлены работы г-на Андре, признанного невиновным в убийстве по делу о смерти своей жены, художницы Аны Мендьеты».
Подождите, вы о чем?
«Как показывают эти протесты, – продолжила Смит, – музей Гуггенхайма выбрал не самый дипломатичный способ заявить о себе миру искусства в центре города».
Протестующие в Сохо несли большой плакат с надписью:
«Карл Андре в Гуггенхайме. Где Ана Мендьета? ¿Dónde estás Ana Mendieta? (исп. «Где ты, Ана Мендьета?»)».
О минималистических скульптурах Карла Андре я слышала с тех пор, как начала изучать историю искусств. Его имя и его работы были повсюду: в музеях, галереях, манхэттенских апартаментах – вместе с работами его современников Дональда Джадда, Сола Левитта и Роберта Раймана.
Но кем была Мендьета? Мне требовалось найти о ней хоть что-то.
Прежде всего я узнала все о ее смерти, а затем на собственной книжной полке обнаружила книгу об искусстве 1970-х годов, в которой наконец увидела ее Siluetas. Это были призрачные очертания, казавшиеся сразу и вневременными, и сиюминутными – будто кричавшими: я здесь. Мендьета создавала Siluetas в течение семи лет, воспроизводя в природных материалах очертания женского тела – часто собственного. Нередко она оставляла отпечаток своего тела прямо на земле, на камнях, в грязи, на листьях, на могилах. Siluetas были эфемерными по своей природе, но Мендьета бережно сохраняла их на фотографиях и пленке.
Чем больше я узнавала о Мендьете, тем сильнее удивлялась, как много она сделала. Инсталляции Siluetas положили начало новой мощной форме искусства, сочетавшей в себе ленд-арт, перформанс, концептуальное искусство, арт-феминизм, фотографию и кино. Где была Ана Мендьета? Она была повсюду, если только вы знали, куда смотреть.
Она родилась на Кубе; в 1961 году в возрасте двенадцати лет приехала в Соединенные Штаты Америки со своей четырнадцатилетней сестрой Ракелин. Девочки были совершенно одни: их мать и младший брат остались на Кубе, их отец, когда-то убежденный революционер, при Кастро попал в тюрьму. В ходе операции «Питер Пэн» под эгидой католической церкви четырнадцать тысяч кубинских детей перевезли в Соединенные Штаты. Когда Мендьета сошла с самолета в Майами, она поцеловала землю.
Но ее роман с Америкой был недолгим. Сестер отправили в Айову, и там они кочевали, не всегда вместе, по детским домам, приемным семьям и исправительным заведениям. Девочки из известной кубинской семьи, гордившиеся своей длинной родословной и испанскими предками, были совершенно ошарашены расизмом, с которым столкнулись в Айове. «Нам никогда не приходило в голову, что мы цветные», – рассказывала Ракелин. Изоляция и издевательства, перенесенные в подростковом возрасте, сделали из Мендьеты бунтаря – она отчаянно гордилась тем, что она кубинская женщина.
В Университете Айовы она изучала искусство и осталась в магистратуре. Именно там, еще будучи студенткой, Мендьета создала из невзрачной почвы Среднего Запада новую форму искусства.
Мендьета написала в 1981 году в своем манифесте художника: «Я веду диалог между природой и женским телом (чаще всего своим). Полагаю, это прямое следствие того, что меня в ранней юности оторвали от моей родины, от Кубы. Меня не оставляет чувство, будто я изгнана из чрева, отторгнута от природы. Искусство помогает мне восстановить связь со Вселенной. Оно возвращает меня к материнскому источнику». Иногда Мендьета заполняла Siluetas спиралями, лабиринтами или делила их надвое выпуклыми линиями. А иногда сначала делала холм с подобием кратера и внутри него формировала Silueta, словно небольшую фигурку самой себя в лоне земли.
В начале 1970-х годов, когда Мендьета приступила к работе с природными материалами, в американской скульптуре набирало обороты мощное новое течение ленд-арт. Вероятно, самой известной из ранних работ ленд-арта стала «Спиральная дамба» Роберта Смитсона (1970): в Большом Соленом озере в штате Юта художник создал из камней и земли закрученную против часовой стрелки спираль длиной четыреста пятьдесят семь метров.
Ленд-арт тяготел к масштабности и маскулинности, для его создания требовались большие механизмы и соразмерное эго. Такие произведения, как «Двойной негатив» Майкла Хейзера и «Поле молний» Уолтера де Марии, служат прекрасным примером грандиозного размаха этого стиля. Если бы у нового искусства существовал древний прототип, это был бы Стоунхендж, построенный в эпоху неолита, впечатляющий и вечный хотя бы в силу своих колоссальных размеров. Творчество Мендьеты скорее отсылает к иным неолитическим источникам: обмазанным глиной черепам из Иерихона и множеству найденных по всему миру изображений Великой богини.
По мнению искусствоведа Джейн Блокер, Мендьета создала более двухсот произведений, используя в качестве ключевого компонента землю. «Я делаю скульптуры на природе. Поскольку у меня нет родины, я чувствую необходимость соединиться с землей, вернуться в ее лоно».
Нигде земля как лоно не представлена так ярко, как в ее серии «Вулканы». «Вулканы» напоминают одновременно вагину и матку, они подразумевают секс, творчество, плодородие и – благодаря тому, что она делала с ними, – трансформацию.
Кроме земли Мендьета часто использовала кровь и порох – ключевые элементы в ритуалах сантерии, афро-кубинской религии, которая зачаровывала ее. Мендьета искренне верила в таинственный потенциал искусства. В студенчестве она отказалась от живописи, посчитав ее не слишком выразительной: «Я поняла, что мои картины недостаточно реальны – образы не передают того, что я хочу передать. Образы должны быть реальными, то есть иметь силу, иметь магию». Возможно, эти слова звучат несколько эзотерически и даже слегка безумно, но Мендьета любой вздор переплавляет в энергию, не оставляя места для сомнений. Она была неистовой.
Она художница-шаманка. На следующей странице показана ее вторая работа из серии «Вулканы» 1979 года. Мендьета вылепила из земли холм нужной формы, сделала в нем отверстие, очертаниями напоминающее богиню, заполнила порохом и подожгла. Превращение светоносного, брызжущего искрами, активного и живого пороха в мертвый пепел своего рода преображение материи. Единственно, она, как художник, совершала это из земли и на земле.
Ана Мендьета. Серия «Вулканы» № 2. 1979
Ана Мендьета. Серия «Вулканы» № 2. 1979
Ана Мендьета. Без названия. 1985
Творила магию.
Мендьета в 1983 году поступила в Американскую академию в Риме. Город стал для нее откровением. Он заставил ее по-новому взглянуть на свое латинское наследие. По словам Роберта Каца, Рим был «в географии ее души чем-то средним между Кубой и Америкой, не материнской землей и не отцовской, но своего рода сестринской землей, где она чувствовала себя сильной и свободной».
В Риме Мендьета впервые начала работать в помещении. Ее последние произведения были одновременно первыми, предназначенными для показа в галерее именно в том виде, в котором она их создала, – вещами в себе, осязаемо неизменными. Похожие на тотемные столбы вертикальные объекты созданы из массивных выпуклых фрагментов стволов упавших деревьев. Ее арт-дилер упоминает в письме «проект со щитами», частью которого, вероятно, они являлись.
Это довольно грустная история.
Итальянский коллега Мендьеты рассказал племяннице художницы (режиссер Ракель Сесилия Мендьета), что выпуклый деревянный объект когда-то имел ручку с обратной стороны – его можно было использовать для защиты. На деревянной поверхности Мендьета выжгла порохом темные фигуры. Загадочные символы напоминают магические печати, которыми украшали щиты в далеком прошлом. Например, на щитах у воинов императора Константина была нарисована хризма – символ Христа. С этим символом они более полутора тысяч лет назад вышли на битву у Мульвийского моста, находившегося недалеко от мастерской Мендьеты в Риме, и победили.
Но, увы, по словам Ракель Мендьеты, «эти щиты не защитили Ану».
Прошло тридцать лет после смерти Аны Мендьеты, и в городке Биконе (штат Нью-Йорк) в музее частной художественной организации «Диа» (от греч. diá – «через, посредством») открылась ретроспектива работ Карла Андре. Протестующие выкрикивали в залах выставки: «Мы оплакиваем Ану Мендьету!» – и писали «Ана» искусственной кровью на снегу на улице. А около музея другие участники акции стояли с обрызганными куриной кровью плакатами: «Хотим, чтобы Ана Мендьета была жива».
Конечно, ее не хватает. Многие с грустью думают, сколько еще она могла бы создать. Но посмотрите, как много она успела сделать.
Большинство ее работ задуманы как «эфемерные», недолговечные, но Мендьета неустанно документировала каждый этап их создания. В ее обширное творческое наследие входит более ста пленок (многие из них обнаружены совсем недавно) – перформансы на тему изнасилования, истребления животных, трансформации и перерождения, автопортреты, в которых ее обнаженное тело искажается, прижатое к большому листу стекла, автопортреты с мужской растительностью на лице и многое другое.
Канадская художница Элиза Расмуссен в последние годы посетила множество мест, где Мендьета создавала свои произведения, – в Айове, Мексике и на Кубе. И хотя ей снова и снова говорили, что от них почти ничего не осталось, она нашла очень многое. Судя по всему, на это и надеялась Мендьета.
В статье, опубликованной в журнале New Inquiry, Хейли Млотек цитирует кубинско-американского куратора Ольгу Визо, говорившую об интересе Мендьеты к «остаточным следам» своих работ: «Ей нравилось представлять, как люди, путешествующие по этой местности, обнаружат один из ее побитых временем Siluetas и решат, что наткнулись на доисторическое захоронение или наскальный рисунок».
В этом есть смысл. В Silueta Muerta и многих других работах Мендьета провозглашает себя частью земли, частью самого времени. Разносторонняя и плодовитая, как многие художники ее поколения, она создала мощное искусство, до сих пор живущее в мире.
Где Ана Мендьета? Она повсюду вокруг нас.
Глава 14. Кара Уокер
Часто я сама удивляюсь, как мне такое могло прийти в голову – мне, такой примерной пай-девочке.
КАРА УОКЕР
Мамочка делает отпадные вещи.
ДОЧЬ КАРЫ УОКЕР
УВЫ, Я ПРОПУСТИЛА одно из величайших событий в американском искусстве XXI века. Представьте себе эпоху шестидесятых – и вы не попадаете на Вудсток; представьте, что вы из поколения пятидесятых, – и вы пропускаете поэтические чтения, вошедшие в историю как «Галерея шести», на которых Аллен Гинзберг впервые представил на суд свою поэму «Вопль» (Howl). А я свой «Вудсток» проморгала. Прозевала эпохальное культурное явление. Упустила безвозвратно. Навеки. И это весьма печально.
В начале мая 2014 года художница Кара Уокер представила в Бруклине настоящего истукана. Шероховатая, искрящаяся на свету, белая фигура женщины в обличье сфинкса с чертами лица типичной негритянской мамушки. Двадцать три метра в длину и почти одиннадцать метров в высоту. На фотографиях видно, как огромное белое туловище уверенно заполняет собой темные просторы производственного помещения. Тело сфинкса припало к земле; лицо сфинкса бесстрастно; вокруг головы платок, завязанный впереди традиционным для мамушек узлом; выпуклые соски выпирают; зад приподнят. Фигура сфинкса и прекрасна и ужасна; она незабываема, тошнотворна и смешна. И она сделана из сахара.
В названии выставки-инсталляции нет слов мамушка или сфинкс. Это было бы слишком просто. Название звучит почти так же эпично, как выглядит сама скульптура. Огромная надпись, сделанная на стене завода у входа на выставку, гласит:
По заказу Creative Time Кара Уокер изготовила эту «Деликатность, или Изумительную сахарную детку» как дань уважения мастерам, которые неустанно услаждают вкус сладкоежек, вкалывая на производстве сахара – от тростниковых плантаций до кухонь Нового Света, – но по случаю сноса сахарорафинадного завода «Домино» не получают никакой платы за свой изнурительный труд.
Кара Уокер. Деликатность, или Изумительная сахарная детка. 2014
Можно написать целую главу об одном этом тексте, в котором так много скрытых смыслов, а анализ всей инсталляции вполне потянет на увесистый том. Слышите постукивание клавиатур? Это полным ходом уже пишутся трактаты.
Мы ограничимся беглым взглядом, не претендующим на обстоятельность.
Итак, «Деликатность, или Изумительная сахарная детка».
Инсталляция создана по заказу некоммерческой организации Creative Time, занимающейся масштабными общественными художественными проектами. По первому впечатлению «Деликатность» может быть чем угодно, но только не «общественным» и не «художественным» явлением. Но это только на первый взгляд. Оказывается, деликатностями когда-то называли сложные сахарные скульптуры, которые изготавливали для украшения стола в домах очень богатых людей. Кто бы мог знать?
Уокер знала. Она не только воздвигла надгробный памятник бывшему сахарному заводу «Домино», создав свой монумент из материала, переработкой которого завод занимался с конца позапрошлого столетия, – кстати, «Домино» отдал на скульптуру почти восемьдесят тонн продукта, – но и привлекла внимание к темному прошлому сахара, сравнив его с сегодняшними «кровавыми алмазами». «Сахар имеет глубокое символическое значение; процесс кристаллизации тростникового сырья как бы воплощает в себе дух черной Америки. Он символизирует не только рабский труд прошлого, но и идею о том, чтобы “отбелиться”. Ведь белый означает “чистый”, белый приравнивается к “истинной норме”. Требуется большой запас энергии, чтобы превратить коричневую массу в белые кристаллы. Требуется сильное давление».
«Сахарная детка» белая, хотя у нее лицо чернокожей женщины. Призрак прошлого Америки.
В свое время сахарный завод «Домино» перерабатывал более половины сахара-сырца в Соединенных Штатах. Это было оживленное предприятие в процветающем промышленном городе. Теперь все в прошлом. Здание XIX века с его огромными пространствами и пересекающимися высоко под потолком балками, своего рода храм индустриальной эпохи, собирались снести вскоре после демонстрации «Деликатности». На его месте планировали возвести дорогостоящие высотки с фешенебельными квартирами, построить коммерческие центры, парк и набережную для прогулок.
В своем отчете о событии газета New York Times писала: «Вас сразу накрывает сладкий запах с горьковатым привкусом, словно от тысячи сгоревших зефиров». Этот запах, этот белый сахарный истукан невольно заставляют вспомнить наводящего на жителей города ужас гигантского Зефирного человека из фильма «Охотники за привидениями» (того старого фильма, 1984 года). «Я делаю то, что чувствую, а то, что я чувствую, чудовищно, – сказала Уокер в беседе с режиссером Авой Дюверней. – И я делаю это как можно более приятным образом».
Древнегреческий сфинкс, чудовище женского пола (не путать с древнеегипетским сфинксом мужского пола), – существо злобное и мстительное, но сахарное создание Уокер совсем другое. Фигура ее сфинкса, огромная и величественная, внушает трепет и благоговение, словно изваяние древнего божества. Это царственное, исполненное благородства существо – явно сдержанное и несуетливое – всегда остается над схваткой, невзирая даже на свое незавидное положение и недвусмысленную позу.
Как и следовало ожидать, в Instagram и Twitter появилось множество вульгарностей. Некоторые посетители фотографировались не перед скульптурой, а сзади, тыча пальцами и кривляясь на фоне огромного влагалища Сахарной детки. Уокер реагирует на это философски: «Я показала миру гигантскую трехметровую вагину. Люди реагируют на гигантскую трехметровую вагину каждый по-своему. В этом нет ничего неожиданного». Как правило, характер ответов Уокер резко контрастирует с льющейся из социальных сетей бранью. В сущности, она спокойно пытается передать простую мысль: наша жизнь, наша история, наши вожделения, вся наша жизнедеятельность, все наши привязанности очень и очень многогранны и запутанны.
Сахарная детка обнажила такую до отвращения животную сущность исторического прошлого, явила собой такое пренебрежение общественными нормами, что многие пришли в ярость. Инсталляция породила огромное число и обсуждений, и осуждений, и возражений – причем протесты выказывали не только через социальные сети, но и лично автору. Однако наряду с этим случилось и настоящее извержение самых восторженных похвал.
Признание ее достоинств вовсе не удивительно, ведь в свои двадцать семь лет Уокер заслужила стипендию Макартуров – награду, которую часто называют «грантом для гениев», – причем она стала вторым из самых молодых лауреатов (первому было восемнадцать лет) за всю историю Фонда Макартуров.
Те из вас, кто читает эту книгу подряд, а не выборочно, сейчас поймут, что мы снова возвращаемся к исходной точке. Каждый раз мы открываем для себя простую истину: во все времена, начиная с истории Артемизии Джентилески, подавляющее большинство художниц росли под влиянием своих отцов-художников. Не стала исключением и Кара Уокер: «Одно из моих первых воспоминаний – я сижу на коленях у отца в его мастерской, в гараже нашего дома, и смотрю, как он рисует. Я помню свои мысли: “Я тоже хочу этим заниматься”».
Первые тринадцать лет жизни Уокер прошли в Калифорнийской долине, в городе Стоктон, где в Тихоокеанском университете преподавал и заведовал кафедрой искусств ее отец Ларри Уокер. По мнению отца (вполне справедливому), Стоктон находился на задворках художественного мира, и это мешало его карьере. Но дочь провела там в 1970-е годы вполне счастливое детство, насыщенное увлекательными делами, наполненное общением с интересными людьми и, самое главное, свободное от расовых предрассудков. Конечно, она была черной, но ведь все люди были какого-то цвета.
Все резко изменилось, когда в 1983 году Ларри перевез семью в Атланту, чтобы занять такую же должность заведующего кафедрой искусств в Университете штата Джорджия, более крупном учебном заведении в гораздо более крупном городе. Даже в 1980-х годах расовая дискриминация на юге Америки не окончательно ушла в прошлое. Еще свежи были в памяти детские убийства в Атланте, в соседнем парке стояли памятники солдатам армии Конфедерации, куклуксклановцы оставляли пугающие послания на машине белого приятеля Уокер. Но она жила без особых рефлексий: только наблюдала и накапливала опыт. Тема черных и белых пришла в ее жизнь и творчество позже – пришла сама собой.
Уокер училась в колледже искусств Атланты, затем поступила в магистратуру в Школе дизайна в Род-Айленде. Именно там произошел качественный прорыв. Критик журнала New York Джерри Зальц вспоминал, как впервые увидел ее работы в общей студии: «Я ощутил словно удар молнии в самое темечко. Это вызвало смесь отвращения, трепета и ужаса».
Практически идеальное описание моей собственной первой встречи с творчеством Уокер, которая произошла в Центре рисунка в Сохо в 1994 году, когда она еще училась в Школе дизайна в Род-Айленде. Это было все равно что попасть на один из первых концертов Beatles в гамбургском клубе Indra – наблюдать за революцией из первого ряда.
Утром я пришла в галерею, где мой муж готовил новую выставку и проверял недавно развешанные картины Байрона Кима. Они оказались фантастически хороши. Серия монохромных полотен натуральных оттенков: коричневого, персикового, желтоватого и песочного – нежные и чистые краски, будто тебя окружали свитера фирмы J. Crew самых благородных расцветок. Да, они были прекрасны и при этом обладали странной притягательностью, хотя я не могла сказать, в чем именно она заключалась. Не кричаще абстрактные и не живописные в традиционном смысле слова, они почему-то выглядели именно такими, как нужно.
Кара Уокер. Исчезнувшие. Исторический роман времен Гражданской войны, случившийся между смуглыми бедрами одной молодой негритянки и ее сердцем. 1994
«Напоминает Брайса Мардена», – сказала я мужу (это была высочайшая похвала).
Он кивнул, а может быть, и нет. Пока я рассматривала картины, он носился взад и вперед у меня за спиной – в отличие от меня муж был здесь на работе. На очередном вираже он вдруг обронил: «Это портреты его друзей и семьи. Их цвет кожи».
Теперь они понравились мне еще больше. Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как хороший портрет. Сочетание абстракционизма и портретной живописи (казалось бы, невозможное), на мой взгляд, было близко к совершенству. Я стояла перед ними словно одуревшая.
Рядом оказался художник Гленн Лайгон (мне только сейчас пришло в голову, что, возможно, это его картины перевешивал мой муж, пока я зависала у работ Кима). Он меня увидел или услышал (надеюсь, что ошибаюсь) и подошел. Мы вместе повосхищались картинами Кима, а потом он сказал что-то вроде «Если они вам нравятся, вам стоит увидеть работы Кары Уокер». Я начала выспрашивать подробности, но он сказал, что лучше просто пройти чуть дальше по улице и взглянуть самой.
Поэтому я беспечно вошла в Центр рисунка, ожидая снова увидеть абстрактные картины. Ничего подобного – и мне это пришлось по душе. Здесь не было концептуального искусства, неоэкспрессионистских полотен, граффити и всего того, что можно было ожидать в Сохо 1994 года. Я совершенно неожиданно столкнулась с чем-то вроде исторической живописи, масштабной, смелой, уверенной и… красивой. Пятнадцать метров изящных резных силуэтов на белой поверхности стены.
Потом я пригляделась получше. И следующей моей мыслью было: матерь божья!
«Исчезнувшие. Исторический роман времен Гражданской войны, случившийся между смуглыми бедрами одной молодой негритянки и ее сердцем» – откровенно говоря, эта работа внушала ужас.
Силуэты Уокер выполнены почти в натуральную величину. Я чувствовала себя одной из участниц сцены, вовлеченной в происходящее. Я не до конца понимала, что именно здесь происходит, но, что бы то ни было, оно выглядело очень тревожно.
Если смотреть слева направо, события развиваются примерно так: под типично южным замшелым деревом белая женщина в платье с кринолином встает на цыпочки, чтобы поцеловать джентльмена с саблей на поясе. Отставленная назад сабля мужчины почти колет в зад черного ребенка, который держит в руке большую птицу со свернутой шеей. Перед ним плывет на лодке черная женщина (возможно, сросшаяся с лодкой). Позади нее скалистый обрыв, на вершине которого черный ребенок делает фелляцию белому мужчине. Белый мужчина в экстазе поднимает руки, как бы указывая на летящего у него над головой чернокожего с надутым, словно воздушный шар, пенисом, уносящим его вверх. Под ним справа черная девушка приплясывает над экскрементами, а черную женщину с платком на голове и метлой в руке поднимает вверх белый мужчина, спрятавший голову у нее под юбкой.
Как я узнала, кто из них белый, а кто черный, если все они были вырезаны из черной бумаги? Стереотипы. Белые персонажи – женщина, одетая как Скарлетт О’Хара, и южные «джентльмены» в облегающих брюках и фраках. Черные персонажи – худые, с косичками или курчавыми волосами, в висящих лохмотьях. «Силуэт может рассказать о многом, давая крайне мало информации. Точно так же работает стереотип, – сказала Уокер, объясняя свой фирменный стиль. – Так я поняла, что силуэт и стереотип связаны между собой».
Выбитая из колеи, оцепенев, я стояла посреди выставочного пространства, и вдруг мне вспомнился вечер в доме у Роберта Розенблюма (он иногда приглашал студентов к себе). На стене висел как бы парафраз «Едоков картофеля» Ван Гога, где вместо голландских крестьян за столом сидели чернокожие земледельцы – слишком большегубые, слишком белозубые, с выпученными белыми глазами. В правом верхнем углу картины, словно мигающая неоновая вывеска, светилась надпись: Eat dem taters («Давай-ка жри свою картошку»). Я очень уважала Розенблюма, но никак не могла взять в толк, зачем это висит у него в гостиной. Стоит ли белому искусствоведу, куратору и критику держать дома такую картину, а тем более выставлять ее напоказ? Я не знала, куда девать глаза.
Позднее я обнаружила, что Роберт Колскотт, автор картины Eat Dem Taters, оказал большое влияние на творчество Уокер, особенно в период работы над «Исчезнувшими». Поэтому было много общего в моем оцепенении тогда, в доме Розенблюма, и сейчас, в Центре рисунка.
Грубый черный юмор картины Колскотта перекликается с настроением «Исчезнувших» Уокер, которые, по словам Линды Нохлин, «искрятся задором псевдорококо». Да, я заметила это почти сразу: вся эта расистская жуть, это шоу ужасов щедро приправлено фривольностью рококо. «Исчезнувшие» Уокер – смесь «Бедствий войны» Гойи и «Качелей» Фрагонара. Уокер – плод их любви, родившийся в ХХ веке и одинаково бесстрашно изображающий насилие и секс.
Я была почти уверена, что не следует мне так наслаждаться работой Уокер. Я даже сомневалась, стоит ли мне, двадцатилетней белой девушке, вообще смотреть на это.
Но я не могла отвести взгляд.
Мне не единственной приходили на ум такие мысли: что на это лучше не смотреть. Так же считали Бетье Саар и многие другие художники, даже чернокожие.
Вскоре после того, как Уокер получила стипендию Макартуров, Саар разослала около двухсот писем (бумажных) – о, этот старый аналоговый мир, вот когда был настоящий энтузиазм, причем обходившийся недешево! Она обратилась к художникам и интеллектуалам, в том числе и чернокожим: «Я пишу вам с просьбой помочь мне распространить информацию о негативных образах, создаваемых молодой афроамериканской художницей Карой Уокер». При этом она не просто просила распространить информацию, она призывала подвергнуть работы Уокер цензуре (и как минимум в одном случае этот призыв был услышан). Саар утверждала, что в ее поступке нет ничего личного, хотя ей трудно поверить на слово. «Я ничего не имею против Кары, просто считаю ее молодой и глупой», – говорила она. Саар признавала, что работы Уокер кажутся ей «отвратительными», а намерения сомнительными: «Ее цель – обогащение и слава. В ее творчестве нет искренности, – твердила Саар. – Кара продает нас в рабство».
Кара Уокер. Свидетельские показания. Предводительница восставших. 2004
В собственных знаменитых произведениях Саар тоже нередко обращается к расовым стереотипам – дядя Том, тетушка Джемайма, малыш Самбо, – однако строго придерживается линии партии. Ее самая известная работа, «Освобождение тетушки Джемаймы» (1972), представляет собой витрину с задней стенкой, оклеенной улыбающимися лицами тетушки Джемаймы, которые выглядят как этикетки с коробки оладьев. В витрине стоит фигурка толстой улыбающейся негритянки. К ее животу прислонена фотография негритянки с белым ребенком на руках. В одной руке фигурка держит метлу, в другой дробовик. Тетушка Джемайма все еще улыбается, но больше она не собирается терпеть несправедливость. Ну что сказать? Мы уяснили.
Кара Уокер. Лоялисты Алабамы приветствуют федеральные канонерские лодки. Из «Иллюстрированной истории Гражданской войны в США, сделанной на основе еженедельных выпусков газеты Harper’s Weekly (с комментариями)». 2005
Произведения Уокер совсем другие. Гораздо сложнее, объемнее, страшнее. Ее работы ошеломляют. И они дьявольски смелые. Уокер в то время, когда начались нападки, была беременна и вскоре родила дочь. Без сомнения, эта атака с двух фронтов и психологически и физически подкосила ее, но ничто не могло остановить Уокер на ее отчаянно трудном творческом пути.
Все именно так, даже когда она прибегает к тем же приемам, что и Саар, – например, использует шаблонный образ чернокожей женщины с метлой и ружьем (см. ее видео 2004 года «Свидетельские показания. Рассказ негритянки, обремененной по счастливой случайности»). Насилие не подразумевается, оно осуществляется: дергающиеся бумажные силуэты линчуют белого рабовладельца. В творчестве Уокер присутствует постоянная готовность с холодным рассудком и трезвым взглядом наблюдать за ужасами. Уокер не только сама погружается в мир жестокости, она заставляет нас пройти через него вместе с ней.
Среди резкой критики, обрушившейся на Уокер, с самого начала звучали обвинения, что ее слишком любят влиятельные белые люди. Может быть, так оно и было и есть сейчас, мне неведомо, и все-таки трудно не уловить в этих упреках оттенок досады и даже зависти (хорош виноград, да зелен). Действительно, Уокер вхожа в самые высокие круги – от Фонда Макартуров до Метрополитен-музея.
В истории Метрополитен-музея она стала первой художницей, которую пригласили курировать выставку из собрания постоянной коллекции музея. Гэри Тинтроу, куратор отделов искусства XIX века, нового и современного искусства (подобный диапазон ответственности, лежащей на одном человеке, красноречиво свидетельствует об отношении Метрополитен-музея к «новейшему» искусству), в 2006 году дал Уокер карт-бланш в устройстве выставки. Она могла действовать по своему усмотрению: показать собственные работы, работы другого художника, подобрать разные картины разных художников – все что угодно.
Для «своей» первой экспозиции Уокер, выступавшая как куратор, выбрала злободневную тему воды. Самой выставке она дала название «После потопа». На ней были масштабно представлены довольно пугающие картины, связанные с водной стихией: от малоизвестного голландского офорта XVII века «Прорыв плотины святого Антония» до любимой публикой картины конца XIX века, имевшей постоянное место в Американском крыле, – работы кисти Уинслоу Хомера «Гольфстрим», на которой одинокий темнокожий человек плывет на лодке по штормовому морю, кишащему акулами. Вся выставка, вплоть до названия, была ответом на недавно пережитый ужас урагана Катрина. Уокер продемонстрировала, насколько часто вода, тяжелейшие испытания и расовая дискриминация сходятся в одной точке – как на произведениях искусства, так и в реальной истории. Особенно в искусстве и истории Америки.
Из собственных произведений, хранившихся в коллекции Метрополитен-музея, она включила в выставку печатное портфолио из «Иллюстрированной истории Гражданской войны в США, сделанной на основе еженедельных выпусков газеты Harper’s Weekly (с комментариями)». Уокер выбрала в качестве фона офорты из выпусков газеты Harper’s Weekly (по заказу этой влиятельной еженедельной иллюстрированной газеты Севера с первого дня Гражданской войны фиксировались все события и детали, связанные с армией и сражениями; для создания наиболее полного собрания изображений войны газета привлекала тысячи художников и фотографов, как правило лучших художников Америки, в их числе был и Уинслоу Хомер). Потом она наносила на них – то есть на основной сюжет из мира белых людей – силуэты рабов. Эти чернокожие люди и истории их жизни на фоне войны и деятельности белых людей были так же обойдены вниманием, как маргинальное черное население Нового Орлеана во время и после урагана Катрина, – и то и другое привело к огромным трагедиям.
Но это мои слова, а не Уокер. Она вовсе не утверждает, что в ее творчестве есть какая-то практическая польза, хотя оно развивается мощно, сложно, бескомпромиссно и прекрасно.
«Я не считаю, что мои работы, по существу, относятся к истории, – говорит она. – Полагаю, они либо будут включены в историю, либо будут поглощены ею». Думаю, здесь уместно привести выдержку из ее грандиозного заголовка к одному большому рисунку (сам заголовок представляет собой парафраз известных слов Мартина Лютера Кинга): «Моральная кривая истории в идеале гнется в сторону справедливости, но с той же легкостью возвращается обратно, в сторону варварства, садизма и всеобъемлющего хаоса».
Глава 15. Сьюзен О’Малли
Я хочу вернуться к тому, о чем мечтала в восьмом классе, и стать наконец художницей. Потому что если я не сделаю этого сейчас, то когда?! Зачем тянуть, если сердцем знаешь истину?
СЬЮЗЕН О’МАЛЛИ, 24 ГОДА
Как мы проводим свои дни, так, разумеется, мы проводим и нашу жизнь.
ЭННИ ДИЛЛАРД. ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ (THE WRITING LIFE)
МАТЬ ХУДОЖНИЦЫ СЬЮЗЕН О’МАЛЛИ скончалась в 2014 году от дегенеративного заболевания головного мозга – множественной системной атрофии. О’Малли, ее брат и четыре сестры три года наблюдали за тем, как Лупита О’Малли превращается из энергичной женщины, учившей детей с ограниченными возможностями, в человека, которому самому требуется помощь. Под конец Лупита оказалась прикована к инвалидной коляске, с трудом говорила и писала. Столкнувшись с резким ухудшением здоровья матери и точно зная, что болезнь убьет ее, О’Малли не вспомнила о католической вере своего детства и не начала надеяться на неизвестные чудеса науки.
Сьюзен О’Малли обратилась к искусству. Она занималась искусством вместе с матерью.
В галерее Ромер Янг в Сан-Франциско в 2012 году у О’Малли прошла персональная выставка под названием «Зелен мой исцеляющий сад». Эти слова принадлежали ее матери – она написала их после того, как ей поставили окончательный диагноз. О’Малли попросила ее записать те фразы, которые она часто говорила своим детям. Неровный изломанный почерк Лупиты О’Малли почти неразборчив. Но дочь напечатала эти прыгающие строки на плакатах и вставила в рамки. На белых стенах галереи черно-белые графические изображения выглядели почти как абстрактные жестикуляционные картины, и, только внимательно присмотревшись, можно увидеть, что они складываются в осмысленные утверждения. Я люблю тебя, детка. Обмани свой мозг и улыбнись. Чтобы нахмуриться, нужно больше усилий, – будьте счастливы.
Оптимистичные, пронзительные, глубоко человечные послания.
Сьюзен О’Малли. Я люблю тебя, детка. 2012
«Я так благодарна, – писала О’Малли о своей матери, – не только за то, что она согласилась заниматься со мной искусством, но и за бесконечное вдохновение и пример, как нужно жить – с любовью, милосердием и чувством юмора».
То же самое можно сказать о самой О’Малли. И о ней действительно так говорили.
Когда я составляла свою краткую подборку историй женщин-художников, меня поразило, сколько из них теряли матерей. Матери Артемизии Джентилески, Аделаиды Лабий-Гийар, Эдмонии Льюис, Ванессы Белл и Луизы Буржуа умирали, когда их дочери были еще детьми или подростками. О’Малли на момент смерти ее матери было около сорока лет. И не забудем о Пауле Модерзон-Беккер, которой было всего тридцать, когда она умерла вскоре после того, как стала матерью, оставив после себя новорожденную дочь.
Возможно, дело совсем не в том, что общие переживания заставили девушек, оставшихся без матерей, обратиться к искусству. Может быть, это просто совпадение, может быть, дело в том, что меня привлекают определенные жизненные истории, а может быть, это простой исторический факт: если взять какое-то количество женщин, живших до какого-то времени, они неизбежно столкнутся с ранней смертью родителей.
В жизни О’Малли было несколько иначе: борьба матери с неизлечимой болезнью действительно помогла дочери сосредоточиться на творчестве. О’Малли уже состоялась как художница – энергичная, продуктивная, известная публике, – кроме того, она служила куратором и заведующей галереей в Институте современного искусства в Сан-Хосе. Когда человек искусства занимает такие должности, как куратор, заведующий, редактор, издатель, он часто бывает вынужден усмирять собственное творческое начало в угоду творческой природе других людей. Нередко так приходилось поступать О’Малли, чтобы зарабатывать на жизнь.
И все-таки болезнь матери подстегивала дочь заниматься искусством более активно, поэтому у О’Малли все шло хорошо. Ее работы широко выставлялись на престижных калифорнийских площадках, таких как Центр искусств Монтальво в Саратоге и Центр искусств Йерба-Буэна в Сан-Франциско, а также за рубежом: в Англии, Дании и Польше. Более того, она начала работать над своей первой книгой.
В Монтальво в 2013 году прошла выставка «Счастье есть». О’Малли участвовала в ней вместе с художницами Кристин Вон Яп и Лией Розенберг. По словам куратора выставки Донны Конуэлл, «это был по-настоящему совместный проект», не в последнюю очередь благодаря О’Малли, так как «ее рабочий процесс оказался невероятно открытым». О’Малли продолжила сотрудничество с Розенберг в 2014 году на триеннале в Центре искусств Йерба-Буэна – что-то вроде северокалифорнийской версии биеннале Уитни. Однако открытость ее творчества распространялась не только на коллег-художников, но и на зрителей.
О’Малли готовила работы для выставки Happiness Is («Счастье есть») в то время, когда умирала ее мать. Это могло бы выглядеть горькой иронией, если бы не ее «Исцеляющая прогулка», ставшая одной из самых впечатляющих работ выставки. Монтальво площадью семьдесят один гектар покрыт сетью популярных туристических пешеходных маршрутов. На крутой тропе О’Малли установила девять табличек наподобие тех, что стоят в заповеднике Мьюир Вудс на севере. Но таблички О’Малли не рассказывают о флоре, фауне и истории места – они посвящены процессу осознания себя и присутствию в настоящем. «Это прекрасный момент». «Твой разум спокоен». «Ты смотришь вверх». «Ты здесь, и ты полон сил».
В «Божественной комедии» Данте опирался на число девять. Его поэма тоже начинается с прогулки: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины…» (перевод М. Л. Лозинского). Проводником Данте был поэт Вергилий; в «Исцеляющей прогулке» наш проводник – художница О’Малли. Вергилий ведет Данте через ад, а затем по крутой тропе вверх, где они видят звезды. Прогулка с О’Малли тоже заканчивается на вершине с видом на тихий и успокаивающий природный пейзаж.
«Прогулка» принесла исцеление и ей, и многим другим людям. Ее искусство всегда отличалось щедростью.
Лупита О’Малли умерла в 2014 году. К этому времени Сьюзен О’Малли оставила работу и полностью посвятила себя искусству. Вскоре после смерти матери она сосредоточилась еще на одном захватывающем творческом проекте: она была беременна девочками-близнецами. О’Малли переполняли творческие и созидательные силы – когда-то это состояние великолепно выразила на холсте Паула Модерзон-Беккер.
Жизнь О’Малли в молодости вряд ли можно назвать особенно благоприятной для начинающего художника. Она выросла в невзрачном, совершенно непримечательном с художественной точки зрения пригороде Сан-Хосе. С отличием окончила среднюю школу и отправилась в Стэнфорд (выпуск 1999 года), где, по словам ее подруги и сокурсницы Кристины Амини, было «очень мало профилирующих дисциплин, связанных с изобразительным искусством, – может быть, пять из полутора тысяч». О’Малли не выбрала ни одну из них. Она начинала как специалист по биологии человека, но становиться врачом не собиралась и уже на первом курсе поняла, что ей хватает зачетных единиц для перевода на отделение урбанистических исследований. Поэтому она перешла туда, и ей это понравилось. «Меня поразило, что существует наука о том, как мы живем, – писала О’Малли через несколько лет после выпуска. – Что конструкции, которыми мы себя окружаем, влияют на взаимодействие между людьми. Сама концепция сообщества и то, как наши разработки сплачивают сообщество или вредят ему. И как все эти идеи взаимодействуют между собой».
Особенность таких мест, как Стэнфорд (на случай, если вы этого не знали), заключается в повышенном внимании к успеху. Для О’Малли успех был чем-то вроде обязанности: «Я понимаю, что это оставляет не так много возможностей совершать и признавать серьезные ошибки. Но серьезные ошибки – это часть процесса обучения и роста». После Стэнфорда она пошла по традиционному пути пассионариев и переехала с друзьями в Нью-Йорк. Она прожила там меньше двух лет, прежде чем признала свою ошибку. Она не хотела «добиваться успеха» – она просто хотела создавать искусство.
Поэтому О’Малли вернулась к матери, устроила мастерскую в гараже и начала брать уроки рисования в соседнем колледже Футхилл.
Возможно, все это выглядит почти провалом: в двадцать четыре года, окончив Стэнфордский университет, жить с мамой и учиться в местном колледже. Но О’Малли смирилась с этим. Она решила стать художником-резидентом, то есть работать по месту жительства (окрестности Уиллоу-Глен в Сан-Хосе), облагораживать среду обитания и служить своим творчеством на благо соседям. Ее интерес к урбанистике – и юмор – хорошо видны уже в самых ранних работах.
О’Малли вовсе не собиралась эпатировать буржуа, к которым ее «забросила судьба». Нет, она клала соседям в почтовые ящики вежливые сообщения, что, возможно, уложит листья на их газонах или определенным образом свернет садовый шланг. Соседи присылали в ответ доброжелательные записки и электронные письма. Прохожие иногда спрашивали, не она ли их новый местный художник. Один домовладелец создал на газоне собственный узор из листьев.
С самого начала в искусстве О’Малли прослеживаются характерный стиль и остроумное очарование: большое кольцо скошенной травы на лужайке перед домом, похожее на загадочные круги фей или инопланетян; листья, расчищенные вдоль оси потенциальной тени дерева, как будто оно нарисовано на земле; сад камней, в котором белыми декоративными камнями выложено слово «Газон» (напоминает рекламу 1970-х годов: сумки, шляпы, аспирин – дешевые продукты без товарных знаков). Работа раскрыла ее способность к созданию сообщества, к поддержке окружающей среды: городской, пригородной, лесной, сельской – и, возможно самое главное, к поддержке людей, соседей, чью жизнь и чье жизненное пространство она считает достойными искусства.
Сьюзен О’Малли. Газон. 2008
В ее короткометражных фильмах «Как стать художником-резидентом» и «Несколько дворов в Сан-Хосе» особенно хорошо заметно, насколько сама О’Малли была частью окружающего пространства. Она не анархистка, одетая в стиле панк-рок; не измазанная краской художница не от мира сего – обычная молодая женщина с гладкими каштановыми волосами средней длины, в самых обычных синих джинсах, футболке и кроссовках.
О’Малли делает свою работу: раскладывает камни и листья, скручивает шланги так же просто, как Энди Голдсуорти. А еще обнимает пожарный гидрант и моет руки в птичьей поилке. Наблюдая за ней, я вспоминаю Йозефа Бойса, еще одного исследователя своих истоков и творца собственных мифологий. Представьте, если бы в свое время Бойс не стал пилотом Люфтваффе и вместо того, чтобы разбить свой бомбардировщик в крымской степи и попасть в заботливые руки своих спасителей – крымских татар, обмазавших его животным жиром и обернувших войлоком, воспитывался бы себе спокойно вместе с четырьмя сестрами и братом в пригороде Сан-Хосе.
История Бойса немного похожа на волшебную сказку (в мрачном немецком духе), в истории О’Малли тоже есть что-то сказочное, но уже в более светлом американском духе. Она выросла в дружной семье и поступила в Стэнфорд. Там она встретила самую близкую подругу Кристину Амини и познакомилась с будущим мужем Тимом Каро-Брюсом. Если в истории О’Малли вычленить лейтмотивы, то это будут ее творчество и ее умение налаживать отношения, а также талант объединить одно с другим. «Есть что-то волшебное в нарушении безмолвного пространства между незнакомцем и мной, – говорила она. – У меня есть своя концепция, что люди ждут, чтобы их о чем-то спросили и чтобы выслушали их ответ».
Она не стеснялась задавать вопросы. В магистратуре Калифорнийского колледжа искусств О’Малли организовала команду, назвав ее «Группа поддержки ободряющим словом» (Pep Talk Squad). Команда состояла из О’Малли и Амини – обе одетые в одинаковые клетчатые «вансы» (кеды фирмы Vans) и красные спортивные куртки с надписью Pep Talk Squad на спине. «Мы были придурковатыми двадцатилетними девчонками, – вспоминала Амини. – Наши глупые наряды располагали людей подходить к нам».
И люди подходили. Услышав вопрос: «Вас нужно в чем-нибудь поддержать или приободрить?» – многие рассказывали о реальных и сложных личных проблемах. Каждый сеанс состоял из искреннего разговора, продолжавшегося около пятнадцати минут. Как отметила журналистка Бонни Цуй, О’Малли воплощала редчайший тип человека, умеющего и поговорить, и выслушать собеседника, – этакий «экстраверт и хороший слушатель». Другими словами, она идеально подходила для своей задачи.
Одна из них задавала вопросы, другая в это время печатала ответы на портативной пишущей машинке, сразу на двух листах через копирку, по экземпляру себе и обратившемуся за помощью. Внимательно выслушав проблему, обдумав ее природу и убедившись, что они могут с ней справиться, команда «Группы поддержки» зачитывала свое «Ободряющее слово», в конце вскидывала руки, как фанаты, пускающие «волну» на стадионе, и кричала: «Вперед, Майк!» (или любое другое имя).
Попробуйте. Пусть кто-нибудь сделает это для вас, или сами встаньте перед зеркалом и поболейте за себя. Почувствуете себя отлично. Держу пари, те, кто обращался к «Группе поддержки ободряющим словом», тоже чувствовали себя отлично. После финальной «волны» ободряемый получал значок с надписью: «Сегодня меня ободрили словом». Где они, те немногие счастливчики?
Выступления «Группы поддержки ободряющим словом» были не только серьезной попыткой (несмотря на девичью эксцентричность) подбодрить других людей, но и своеобразной критикой убийственно серьезного отношения к творчеству, характерного для многих художественных школ. Реакция колледжа говорит сама за себя. Дипломной работой О’Малли в магистратуре стал рекламный буклет для дальнейшего продвижения ее «Группы поддержки». Преподавателей очень интересовало, почему она относит свою работу к искусству, а не, скажем, к таким направлениям, как работа над собой, психология или психотерапия.
В ней и было понемногу от всех направлений. Искусству вообще это свойственно. Может быть, именно это имел в виду Матисс, говоря, что мечтает об «умиротворяющем искусстве, способном дать отдых уму, как хорошее кресло дает отдых уставшему телу».
Я впервые увидела работу О’Малли в году 2013-м. Яркие плакаты со всплывающим текстом встречались в тех местах, где обычно размещают рекламу (у газетных киосков, на остановках общественного транспорта). Плакаты были такие: «То, что надо», «Прямо здесь и сейчас», «Лучше, чем вы себе представляли». Заметив плакат «То, что надо» на Маркет-стрит, я подумала, что речь идет о новом приложении, гаджете или о чем-то в этом роде. Но отсутствие дальнейших объяснений заставило меня присмотреться. В левом нижнем углу я увидела логотип местного художественного альманаха The Thing Quarterly. Я была совершенно покорена. Найти искусство буквально в пасти мамоны – там, где окопались Twitter, Facebook и миллионы стартапов, готовых брать города и страны.
Как объясняла О’Малли, серия плакатов «Мантры для горожан (миг за мигом)» представляла собой «открытое публичное объявление, приглашающее ненадолго остановиться посреди городской суеты». Я не замечала, чтобы многие останавливались перед ее «Мантрами», по крайней мере там, где была я. Но видела, как мимо них проносятся бездомные, хипстеры, студенты художественных колледжей, туристы, гуляющие, водители службы доставки и многие другие – шумная орда обитателей нашего безумно стильного города. И я среди них.
О’Малли понимала эту реальность, но надеялась подтолкнуть нас в другую сторону. «В этих работах выражено мое представление о том, как могла бы измениться жизнь, если бы мы уделяли больше внимания нашему существованию, нашему горю или просто тому, как потрясающе солнце отражается в стеклах зданий именно в это время дня. Если нужно с чего-то начать, то почему бы не начать с этого?»
Художница, писатель, редактор и президент комиссии по искусству городского совета Сан-Франциско Джей Ди Белтран считает, что О’Малли это удалось: «[Ее] работы никогда не утратят актуальности и силы, потому что они обращаются к человеческой природе – к тому, что мы говорим себе каждый день, к тому, что побуждает нас жить дальше. И не просто жить, а наслаждаться настоящим и стремиться к тому, что нас вдохновляет».
Белтран участвовала вместе с О’Малли в групповой выставке, устроенной в культурном центре «Перекресток искусств», и купила одну из ее работ – черный прямоугольник с белой надписью: «Ты здесь». Белтран называет ее «своей личной географической картой». Глядя на плакат, она говорит: «Я действительно осознаю, что нахожусь “здесь и сейчас”». Неплохо для нескольких коротких белых слов на черном фоне.
Текстовые произведения О’Малли, нередко очень простые, несут в себе мощный посыл. В следующий раз я увидела ее работу через пару лет после первой. Я не знала, что это сделала она, хотя следовало бы догадаться: в ней были все отличительные черты творчества О’Малли. Ярко-желтый щит с черными буквами (похоже на раскраску смайликов) украшал торец здания в Беркли и был таким крупным и броским, что я легко прочитала надпись, проезжая мимо: «Меньше интернета, больше любви». Это заставило меня улыбнуться.
Сьюзен О’Малли. Меньше интернета, больше любви. 2015
Я ездила к своей подруге Чейли в Окленд и заглянула в Беркли по ее поручению. За пятнадцать лет, прожитых в Сан-Франциско, мне редко доводилось бывать в районе Ист-Бея, но в последние полтора года ситуация изменилась: примерно раз в пару недель я приезжала к Чейли и ее детям. Она была рядом со мной, когда мои дети были маленькими, и я хотела сделать то же самое для нее. Надпись на стене убедила меня, что я двигаюсь в правильном направлении, – человеческий контакт, даже самый эпизодический, всегда лучше электронной почты.
Только вернувшись домой и зайдя в интернет, чтобы побольше узнать об этой работе О’Малли (конечно, это она, я должна была знать), я обнаружила ужасную новость.
За неделю до появления ярко-желтого щита О’Малли приводила в порядок последние дела в своем доме в Беркли, готовясь к запланированной через три дня поездке в больницу, где должны были родиться ее дочери-близнецы. Она отправила несколько электронных писем и опубликовала запись в Facebook, спрашивая, не может ли кто-нибудь помочь перевезти щит с ее новым плакатом. В гости зашел друг-художник, чтобы одолжить книгу, и привел с собой маленькую дочку. Легко представить, что О’Малли подумала в тот момент: как замечательно, что скоро и у нее появятся дочери.
Ее муж в тот день работал в соседней комнате. Вскоре после ухода друга и его дочери он услышал шум. Пришел посмотреть, что случилось, и нашел О’Малли на полу без сознания. Он начал делать ей искусственное дыхание. Скорая помощь приехала через несколько минут, но спасти О’Малли не удалось.
Ее дочери, появившиеся на свет в больнице с помощью кесарева сечения, прожили ровно столько, чтобы отец успел взять их на руки.
Сьюзен О’Малли было тридцать восемь лет. Она скончалась от сердечной аритмии, вызванной недиагностированной опухолью в области сердца.
Это случилось с художницей, главной особенностью творчества которой была сердечность.
Невыразимо. Дико. Немыслимо.
Да, я знаю. Я скрывала эту не укладывающуюся в голове ужасную правду до самого конца. Но я сделала это в надежде хотя бы ненадолго отделить доброе и щедрое искусство О’Малли от душераздирающих обстоятельств ее смерти. Ее искусство должно быть и заслуживает быть оцененным само по себе, во всей его эксцентричности, смелости и красоте.
В Монтальво снова установили «Исцеляющую прогулку» и хотят превратить ее в постоянный объект. Вовсе не потому, что О’Малли умерла, а потому, что она сделала. «Она выдающийся местный художник, – объясняет Конуэлл. – Мы любим Сьюзен, и нам нравится, что у нас есть ее работы, но это не надгробный памятник. Своим творчеством она поможет нам привлечь внимание к важной коллекции». Таким образом, ее совместная работа с миром продолжается.
Последним проектом О’Малли была книга «Советы, которые мы дадим самим себе, когда нам стукнет восемьдесят». Она вышла через год после ее смерти, и эти слова и образы до сих пор меняют мир.
Воспользовавшись своим даром наводить мосты, О’Малли попросила более ста человек разных возрастов из разных слоев общества представить, что они перенеслись в будущее и встретили самих себя в возрасте восьмидесяти лет. Какой мудрый совет могло бы дать их восьмидесятилетнее я? Из этих ответов и состоит книга – большие яркие страницы с крупными буквами. Среди них есть очень специфические: «Правильно сделал, что купил жилой автофургон» или «Все нормально, чай уже с сахаром»; назидательные: «Не бойся» и «Никогда не лги»; явно заимствованные: «Сердце имеет доводы, которых не знает разум» (слова Паскаля) – но все ответы объединяет непоколебимая вера в мудрость, которую каждый из нас может найти в себе, если будет слушать свое сердце. Да, в книге есть и такое: «Делай то, что считает важным сердце».
Единственный совет в книге, напечатанный черно-белой краской, – мой любимый. Белые буквы на черной странице гласят: «Сначала искусство, потом посуда».
Сьюзен О’Малли. Сначала искусство, потом посуда. 2014
Я верю в это. И стараюсь поступать соответственно. Благодарение богу, нам очень повезло, что так поступала и О’Малли.
Наша история началась с того, что в третьем издании «Истории искусств» Хорста Янсона среди всех художников я насчитала шестнадцать женщин. В этой книге я рассказала о пятнадцати. Почему одна отсутствует?
Я оставила место для себя. Для вас. Для всех, кто этого захочет. Впишите сюда свое имя.
В своем революционном труде «Бег с препятствиями» Жермен Грир писала: «Книги заканчиваются. История художниц не имеет конца – можно сказать, она только начинается, – но книга все-таки должна на чем-то остановиться».
Возьмите вместо слова художница любое другое, и смысл не изменится. Поставьте вместо него все, что вам нравится: поэт, архитектор, режиссер, актер, хирург, астронавт – и действуйте. Великие жизни и великие дела бесконечны. Нужно просто уметь видеть их. И конечно, создавать их.
Давайте начнем.
Благодарности
Нет слов, чтобы выразить благодарность перечисленным ниже людям за их роль в моей жизни и просто за их существование. Мне невероятно повезло, что я их знаю.
Спасибо Кэрол Эдгариан, щедрой наставнице и подруге, которая, научив меня смотреть в самую суть, изменила мое творчество и мою жизнь. Спасибо Даниэль Светков за веру, которая поддерживала меня, и за удивительную готовность с головой погрузиться в работу. Огромная благодарность Бриджит Уотсон Пэйн за то, что верила в мою книгу и с такой добротой и рассудительностью воплотила ее в жизнь.
Большое спасибо замечательным сотрудникам журнала Narrative Magazine, особенно Кэрол Эдгариан и Тому Дженксу. Моим коллегам-писателям из творческого объединения San Francisco Writers’ Grotto – не могу передать, какую поддержку и радость я нашла среди вас.
Моим родителям, Джейку и Полли Куинн, – спасибо за все, но особенно за то, что всегда уважали творческую сторону моей жизни. Спасибо сестрам, Падин Куинн и Дайане Риган-Сандбак, за то, что еще в моем детстве показали мне, как выглядят потрясающие женщины. Спасибо братьям, Брендану, Патрику, Тому, Джону, Крису и Биллу, за то, что они такие хорошие люди. Особая благодарность моему племяннику Сэму Хойленду, чья помощь в жизни показала мне, что можно делать свою работу и не сойти с ума.
Спасибо Шарон и Тому Уэлтер за десятилетия безоговорочной любви и за то, что развлекали внуков, пока я пряталась наверху и писала. Спасибо Шейле Шредер и Джейсону Филлипсу за волшебное место в летнем лагере Шатокуа, где было время и для работы, и для развлечений. Спасибо Марте Истон и Марку Троубриджу за то, что были такими замечательными во время учебы в магистратуре и потом, а также за неоценимую помощь в работе над этой книгой.
Спасибо множеству удивительных женщин, чьи дружба и мудрость были для меня так важны: Стейси Хаббард, Аннет Хьюз-Уайт, Рафферти Ате Джексон, Чейли Приете и Талии Приете. Особая благодарность Дженнифер Марч Солоуэй, чьи советы так часто меня спасали. Спасибо Биллу и Синди Фини за десятилетия дружбы и творчества.
Наконец, огромное спасибо Рику, Лукасу и Зузу. Без вас я ничто. С вами – всё.
Избранная библиография
Als Hilton. The Shadow Act: Kara Walker’s Vision // The New Yorker, 2007, October 8.
Als Hilton. The Sugar Sphinx // The New Yorker, 2014, October 8.
Alther Lisa, Gilot Françoise. About Women: Conversations Between a Writer and a Painter. New York: Doubleday, 2015.
Ashton Dore, Hare Denise Brown. Rosa Bonheur: A Life and a Legend. New York: Viking Press, 1981.
Auricchio Laura. Adélaïde Labille-Guiard: Artist in the Age of Revolution. Los Angeles: Getty Publications, 2009.
Blocker Jane. Where Is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile. Durham, NC; London: Duke University Press, 1999.
Boime Albert. The Case of Rosa Bonheur: Why Should a Woman Want to be More Like a Man? // Art History 1981, December, vol. 4, no. 4, p. 384–409.
Broud Norma, Garrard Mary D. The Expanding Discourse: Feminism and Art History. New York: Icon Editions, 1992.
Buck Kirsten Pai. Child of the Fire: Mary Edmonia Lewis and the Problem of Art History’s Black and Indian Subject. Durham, NC; London: Duke University Press, 2010.
Chadwick Whitney. Women, Art, and Society. London: Thames & Hudson, 2012.
Christensen Kate. The Great Man. New York: Doubleday, 2007.
Garrard D. Mary. Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Greenberg Jan, Jordan Sandra. Runaway Girl: The Artist Louise Bourgeois. New York: Harry N. Abrams, 2003.
Greer Germaine. The Obstacle Race: The Fortunes of Women Painters and Their Work. New York: St. Martin’s Press, 1979.
Heartney Eleanor, Posner Helaine, Princenthal Nancy, Scott Sue. After the Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art. Munich; London; New York: Prestel Verlag, 2013.
Heilbrun Carolyn G. Writing a Woman’s Life. New York: Ballantine, 1988.
Hess Thomas B., Baker Elizabeth C. Art and Sexual Politics: Why Have There Been No Great Women Artists? New York: MacMillan Publishing, 1973.
Hoban Phoebe. Alice Neel: The Art of Not Sitting Pretty. New York: St. Martin’s Press, 2010.
Hofrichter Frima Fox. A Light in the Galaxy: Judith Leyster // Singular Women: Writing the Artist / Ed. Kristen Frederickson, Sarah E. Webb. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2003.
Janson H. W. History of Art. 3rd edition. New York: Harry N. Abrams, 1986 (издана на рус. яз.: Хорст Янсон, Энтони Янсон. Основы истории искусств. СПб.: ИКАР, 1996).
Kóvskaya Maya, Qi Zhu. Louise Bourgeois: Alone and Together. Copenhagen; Beijing: Faurschou Foundation, 2012.
Lee Hermione. Biography: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2009.
Lee Hermione. Virginia Woolf. New York: Vintage Books, 1999.
Levin Gail. Lee Krasner: A Biography. New York. William Morrow, 2011.
Lewison Jeremy, Walker Barry, Garb Tamar, Storr Robert. Alice Neel: Painted Truths. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.
Lurie Alison. The Truth about Lorin Jones. New York: Avon Books, 1979.
Malcolm Janet. Forty-one False Starts: Essays on Artists and Writers. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013.
Merz Beatrice, Gambari Olga, Mendieta Raquel Cecilia, Montano Linda M. Ana Mendieta: She Got Love. Milan: Skira Editore, 2013.
Messud Claire. The Woman Upstairs. New York: Vintage Books, 2013.
Mlotek Haley. Tracing Ana // The New Inquiry, 2014, March 24.
Nochlin Linda. Women, Art, and Power and Other Essays. New York: Harper & Row, 1988.
O’Malley Susan. Advice from My 80-Year-Old Self: Real Words of Wisdom from People Ages 7 to 88. San Francisco, CA: Chronicle Books, 2016.
Parker Rozsika, Pollock Griselda. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. New York: Pantheon Books, 1981.
Perry Gillian. Paula Modersohn-Becker. London: The Women’s Press, 1979.
Radycki Diane. Paula Modersohn-Becker: The First Modern Woman Artist. New Haven, CT; London: Yale University Press, 2013.
Reilly Maura. Women Artists: The Linda Nochlin Reader. New York: Thames & Hudson, 2015.
Salenius Sirpa. Sculptors, Painters, and Italy: Italian Influence on Nineteenth-Century American Art. Padua, Italy: Il Prato, 2011.
Saltz Jerry. An Explosion of Color, in Black and White: Kara Walker’s silhouettes don’t just broach America’s touchiest subject – they detonate it // New York magazine, 2007, November 1.
Sandel Cora. Alberta Alone. Athens, OH: Ohio University Press, 1984.
Sandel Cora. Alberta and Freedom. Athens, OH: Ohio University Press, 1984.
Schjeldahl Peter. A Woman’s Work: The brief career of Judith Leyster // The New Yorker, 2009, June 29.
Shone Richard. The Art of Bloomsbury. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.
Shone Richard. Bloomsbury Portraits: Vanessa Bell, Duncan Grant and Their Circle. New York: Phaidon Press, 1976.
Slatkin Wendy. Women Artists in History: From Antiquity to the 20th Century. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1990.
Smith Roberta. Kara Walker Makes Contrasts in Silhouette in Her Own Met Show // The New York Times, 2006, March 24.
Sontag Susan. Against Interpretation and Other Essays. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1966 (издана на рус. яз.: Сонтаг Сьюзен. Против интерпретации и другие эссе / Под ред. Б. Дубина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014).
Spalding Frances. Vanessa Bell. New Haven, CT; New York: Ticknor & Fields, 1983.
Stokstad Marilyn. Art History. 2nd edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.
Straussman-Pflanzer Eve. Violence and Virtue: Artemisia Gentileschi’s «Judith Slaying Holofernes». New Haven, CT; London: Yale University Press, 2013.
Tsui Bonnie. Trick Your Brain and Smile // San Francisco Magazine, 2015, December 21.
Walker Kara, Walker Larry. [Interview] // BOMB Magazine, 2014, May 8.
Wallach Amei. The Lee Krasner Who Was Herself and Only Herself // The New York Times, 1999, October 3.
Welu James A., Biesboer Pieter. Judith Leyster: A Dutch Master and Her World. New Haven, CT; London: Yale University Press, 1993.
Winterson Jeanette. Art objects: essays on ecstasy and effrontery. New York: Alfred A. Knopf, 1996.
Woolf Virginia. A Writer’s Diary. San Diego; New York; London: Harcourt Brace & Company, 1982.
Источники иллюстраций
АРТЕМИЗИЯ ДЖЕНТИЛЕСКИ
Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Ок. 1620. Холст, масло. 199×162,5 см. Галерея Уффици, Флоренция. Alinari / Art Resource, NY.
Сусанна и старцы. 1610. Холст, масло. 170×119 см. Частная коллекция / Bridgeman Images.
Автопортрет в образе аллегории Живописи. 1638–1639. Холст, масло. 98,6×75,2 см. Британская королевская коллекция, Виндзор / © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2015.
ЧЕЗАРЕ РИПА
Иконология. Фрагмент иллюстрированной титульной страницы с изображением Живописи. 1644. Британская библиотека, Лондон. © British Library Board / Robana / Art Resource, NY.
ЮДИТ ЛЕЙСТЕР
Веселое общество. Деталь картины с монограммой. 1630. Холст, масло. 68×55 см. Лувр, Париж. Erich Lessing / Art Resource, NY.
Автопортрет. Ок. 1630. Холст, масло. 74,6×61,5 см. Национальная галерея искусств, Вашингтон / Bridgeman Images.
Предложение. Ок. 1631. Панель, масло. 30,8×24,2 см. Королевская галерея Маурицхёйс, Гаага. Scala / Art Resource, NY.
Тюльпан. 1643. Пергамент, акварель, серебряная краска. 39,7×28,5 см. Музей Франса Халса, Харлем. Фотоснимок: Mooie Boeken. Приобретено при поддержке Rembrandt Society.
АДЕЛАИДА ЛАБИЙ-ГИЙАР
Автопортрет с двумя ученицами, мадемуазель Мари-Габриэль Капе (1761–1818) и мадемуазель Каро де Розмон (ум. 1788). 1785. Холст, масло. 210,8×151,1 см. Дар Джулии А. Бервинд, 1953 (53.225.5). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Права на изображение: © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, NY.
Портрет мадам Аделаиды. 1787. Холст, масло. 278,3×194 см. Национальный музей дворцов Версаля и Трианона, Версаль. Фотоснимок: Gérard Blot / Jean Schormans. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
Портрет Франсуа-Андре Венсана. 1795. Холст, масло. 73×59 см. Лувр, Париж. Фотоснимок: Jean-Gilles Berizzi. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
ПЬЕТРО АНТОНИО МАРТИНИ
Экспозиция Салона в Лувре в 1787 году. 1787. Гравюра. 32,2×49,1 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк / Christoph Irrgang / Art Resource, NY.
МАРИ-ДЕНИЗ ВИЛЬЕР
Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь. 1801. Холст, масло. 161,3×128 см. Собрание мистера и миссис Айзек Д. Флетчер. Дар Айзека Д. Флетчера, 1917 (17.120.204). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Права на изображение: © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, NY.
Молодая женщина, сидящая у окна. 1801. Холст, масло. 26×18,5 см. Частное собрание. Courtesy of Sotheby’s.
Этюд женщины на природе (также известен как «Портрет мадам Сустра»). 1802. Холст, масло 146×114 см. Лувр, Париж. Фотоснимок: Jean-Gilles Berizzi. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
МАРИ-ВИКТУАР ЛЕМУАН
Интерьер ателье художницы. 1789. Холст, масло. 116×89 см. Дар миссис Торнайкрофт Райл, 1957 (57.103). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Права на изображение: © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, NY.
РОЗА БОНЁР
Портрет Буффало Билла Коди. 1889. Холст, масло. 47×39 см. Исторический центр Буффало Билла, Коди / The Art Archive at Art Resource, NY.
Ярмарка лошадей. 1852–1855. Холст, масло. 245×507 см. Дар Корнелиуса Вандербильта, 1887 (87.25). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Права на изображение: © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, NY.
Пахота в Ниверне. 1849. Холст, масло. 134×260 см. Музей Орсе, Париж. Фотоснимок: Gérard Blot. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
ЛУИ-ЭДУАРД ДЮБЮФ
Портрет Розы Бонёр. 1857. Холст, масло. 130,5×95 см. Национальный музей дворцов Версаля и Трианона. Фотоснимок: Gérard Blot. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.
ЭДМОНИЯ ЛЬЮИС
Смерть Клеопатры. 1876. Мрамор. 160×79,4×116,8 см. Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон. Права на изображение: Smithsonian American Art Museum, Washington, DC / Art Resource, NY.
Навеки свободные (Утро свободы). 1867. Мрамор. 104×56×43 см. Художественная галерея Говардского университета, Вашингтон. Право на изображение: Howard University Gallery of Art, Washington, DC.
Сватовство Гайаваты (Старый стрелоделатель и его дочь). 1872. Мрамор. 54, 5×34,5×34 см. Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон. Права на изображение: Smithsonian American Art Museum, Washington, DC / Art Resource, NY.
ГЕНРИ РОЧЕР
Фотопортрет Эдмонии Льюис. Ок. 1870. 9,2×5,2 см. Национальная портретная галерея, Смитсоновский институт, Вашингтон. Права на изображение: National Portrait Gallery, Smithsonian Institution / Art Resource, NY.
ПАУЛА МОДЕРЗОН-БЕККЕР
Автопортрет в возрасте тридцати лет на шестой день свадьбы. 1906. Картон, темпера. 101,8×70,2 см. Музей Паулы Модерзон-Беккер, Бремен.
Портрет Клары Рильке-Вестхофф. 1905. Холст, масло. 37×52 см. Гамбургский кунстхалле / Elke Walford / Art Resource, NY.
Лежащая мать с ребенком II. 1906. Холст, масло. 82,5×124,7 см. Музей Паулы Модерзон-Беккер, Бремен.
Автопортрет с янтарным ожерельем II. 1906. Холст, масло. 61×49,5 см. Художественный музей, Базель / Martin P. Bühler.
ВАНЕССА БЕЛЛ
Вирджиния Вулф. 1912. Масло, дерево. 40×34 см. Национальная портретная галерея, Лондон. © National Portrait Gallery, London. © Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett.
Фредерик и Джесси Этчеллс за работой. 1912. Масло, дерево. 51,1×53 см. Галерея Тейт, Лондон / Art Resource, NY. © Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett.
Пляж в Стадленде. 1911. Холст, масло. 76,2×101,6 см. Галерея Тейт / Art Resource, NY. © Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett.
Обложка первого издания романа Вирджинии Вулф «Волны». 1931. Частная коллекция / The Stapleton Collection / Bridgeman Images. © Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett.
ЭЛИС НИЛ
Портрет Элис Нил выполнен по фотографии: © The Estate of Alice Neel / Courtesy David Zwirner, New York/London.
Автопортрет. 1980. Холст, масло. 135,3×101 см. Национальная портретная галерея, Смитсоновский институт, Вашингтон / Art Resource, NY. © The Estate of Alice Neel / Courtesy David Zwirner, New York/London.
Фрэнк О’Хара. 1960. Холст, масло. 85,7×40,6 см. Национальная портретная галерея, Смитсоновский институт, Вашингтон / Art Resource, NY. © The Estate of Alice Neel / Courtesy David Zwirner, New York/London.
Джеки Кёртис и Ритта Редд. 1970. Холст, масло. 154,3×108,9 см. Кливлендский художественный музей, Кливленд / Leonard C. Hanna Jr. Fund / Bridgeman Images. © The Estate of Alice Neel / Courtesy David Zwirner, New York/London.
Кейт Миллет. 1970. Холст, акрил. 101×72,4 см. Национальная портретная галерея, Смитсоновский институт, Вашингтон / Art Resource, NY. © The Estate of Alice Neel / Courtesy David Zwirner, New York/London.
ЛИ КРАСНЕР
Портрет Ли Краснер выполнен по фотографии: © Fred W. McDarrah / Getty Images.
Автопортрет. 1930. Холст, масло. 76,5×63,8 см. Еврейский музей, Нью-Йорк / Art Resource, NY. © The Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York.
Сидящая обнаженная. 1940. Бумага, уголь, 63,5×48 см. Дар Констанс Б. Картрайт. Музей современного искусства, Нью-Йорк / Licensed by SCALA / Art Resource, NY. © The Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York.
Композиция. 1949. Холст, масло. 96,7×70,6 см. Художественный музей Филадельфии, Филадельфия / Art Resource, NY. © The Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York.
Молочай. 1955. Коллаж. Холст, бумага, масло. 209,23×146,69 см. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало / Art Resource, NY. © The Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York.
ЛУИЗА БУРЖУА
Портрет Луизы Буржуа выполнен по фотографии: © Satoshi Saikusa / Trunk Archive.
Femme Maison. 1984. Версия 2 из 2, единственный оттиск, вариант. Фотогравюра, техника шин-колле, бумага. 25,6×11,2 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © The Museum of Modern Art / Licensed by VAGA, NY / Art Resource, NY.
Fillette. 1968. Латекс, гипсовая основа. 59,69×27,94×19,05 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © The Museum of Modern Art / Licensed by VAGA, NY / Art Resource, NY.
Институт. 2002. Сталь, стекло, дерево, зеркала. 178×102×61 см. Институт изящных искусств, Нью-Йоркский университет, Нью-Йорк / Christopher Burke / © The Easton Foundation / Licensed by VAGA, NY.
Мама. 1999. Нержавеющая сталь, бронза, мрамор. 9, 3×891×1024 м. Современная галерея Тейт, Лондон. Фотоснимок: Manuel Cohen / The Art Archive at Art Resource, NY.
РУТ АСАВА
Портрет Рут Асавы выполнен по фотографии: Nat Farbman / Getty Images / Ruth Asawa Estate. Courtesy Christies.
Без названия. Ок. 1955. Железо, оцинкованная стальная проволока. 312×41×41 см. Музей изобразительных искусств Сан-Франциско, Сан-Франциско. Дар Жаклин Хефер.
Фонтан Андреа. 1968. Бронза. 2,3×4,9 м. Площадь Гирарделли, Сан-Франциско. Фотоснимок и художественное оформление: © Estate of Ruth Asawa.
Без названия. Ок. 1962. Оцинкованная стальная проволока. 61×61×61 см. Музей изобразительных искусств Сан-Франциско, Сан-Франциско. Дар Рут Асавы.
ИМОДЖЕН КАННИНГЕМ
Рут Асава за работой с детьми. 1957. Фотография. Imogen Cunningham Trust.
АНА МЕНДЬЕТА
Портрет Аны Мендьеты выполнен по фотографии: © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Courtesy Galerie Lelong, New York.
Silueta Muerta. 1976. Фотоснимок: The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art Resource, NY. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Courtesy Galerie Lelong, New York.
Серия «Вулканы» № 2. 1979. Музей искусства округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. © LACMA. Licensed by Art Resource, NY. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Courtesy Galerie Lelong, New York.
Серия «Вулканы» № 2. 1979. Музей искусства округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. © LACMA. Licensed by Art Resource, NY. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Courtesy Galerie Lelong, New York.
Без названия. 1985. Музей Дэвиса, колледж Уэллсли, Уэллсли / Art Resource, NY. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Courtesy Galerie Lelong, New York.
КАРА УОКЕР
Портрет Кары Уокер выполнен по фотографии: © Michele Asselin / Contour / Getty Images / Sillema Jenkins & CO, New York.
Деликатность, или Изумительная сахарная детка. 2014. «По заказу Creative Time Кара Уокер изготовила эту “Деликатность, или Изумительную сахарную детку” как дань уважения мастерам, которые неустанно услаждают вкус сладкоежек, вкалывая на производстве сахара – от тростниковых плантаций до кухонь Нового Света, – но по случаю сноса сахарорафинадного завода “Домино” не получают никакой платы за свой изнурительный труд». Сахар, пенопласт, патока, пластмасса. 23,0×10,82 м. Проект Creative Time. Сахарорафинадный завод «Домино», Бруклин, Нью-Йорк, 10 мая – 6 июля 2014 года. © Kara Walker, courtesy of Sikkema Jenkins & Co, New York. Фотоснимок: Jason Wyche.
Исчезнувшие. Исторический роман времен Гражданской войны, случившийся между смуглыми бедрами одной молодой негритянки и ее сердцем. 1994. Бумага (бумажные силуэты на стене). 396,2×1524 см. © Kara Walker, courtesy of Sikkema Jenkins & Co, New York. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © The Museum of Modern Art / Licensed by SCALA / Art Resource, NY.
Свидетельские показания. Предводительница восставших. 2004. Бумага (бумажный силуэт), карандаш, самоклеящаяся лента, металлические скрепки на картоне. 45,7×36,8 см. © Kara Walker, courtesy of Sikkema Jenkins & Co, New York. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © The Museum of Modern Art / Licensed by SCALA / Art Resource, NY.
Лоялисты Алабамы приветствуют федеральные канонерские лодки. Из «Иллюстрированной истории Гражданской войны в США, сделанной на основе еженедельных выпусков газеты Harper’s Weekly (с комментариями)». 2005. Бумага, офсетная печать, шелкография. 99,1×134,6 см. © Kara Walker, courtesy of Sikkema Jenkins & Co, New York. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © The Museum of Modern Art / Licensed by SCALA / Art Resource, NY.
СЬЮЗЕН О’МАЛЛИ
Портрет Сьюзен О’Малли выполнен по фотографии: © Christina Amini. Courtesy of the Susan O’Malley Estate.
Я люблю тебя, детка. 2012. Общий план выставки «Зелен мой исцеляющий сад» в галерее Ромер Янг; кроме трех работ «Я люблю тебя, детка», на фотографии видна работа «Я лечилась и полностью исцелилась + Боже, я дома». © Estate of Susan O’Malley.
Газон. 2008. © Estate of Susan O’Malley.
Меньше интернета, больше любви. 2015. © Estate of Susan O’Malley.
Сначала искусство, потом посуда. 2014. © Estate of Susan O’Malley.
