Нёкк бесплатное чтение
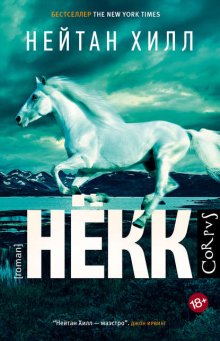
© Nathan Hill, 2016
© Ю. Полещук, перевод на русский язык, 2018
© ООО “Издательство Аст”, 2018
Издательство CORPUS ®
Посвящается Дженни
Некогда правитель Шравасти призвал к себе слугу и велел собрать всех слепорожденных, которые жили в городе. Слуга исполнил приказ, и тогда король велел подвести к слепцам слона. Одним дали потрогать голову, другим ухо, третьим бивень, четвертым хобот, тело, ногу, зад, хвост и пучок шерсти на конце хвоста. И каждому из слепцов говорили: “Это слон”.
Слуга доложил царю, что выполнил приказ. Тогда царь подошел к слепцам и сказал: “Расскажите мне, слепцы, каков же слон?”
Те, кто трогал голову слона, ответили: “Ваше величество, слон похож на кувшин с водой”. Те, кто трогал ухо, сказали: “Слон похож на плетеное решето”. Те, кому дали потрогать бивень, возразили: “Слон совсем как лемех”. Те, кто ощупывал хобот, заметили: “Слон – как рукоять плуга”. Те, кто ощупывал тело, сказали: “Слон похож на кладовую”. И все остальные описывали слона как ту часть, которой касались руками.
А потом слепцы с криками “Нет, слон не такой, а вот такой! Слон не такой, а вот такой!” набросились друг на друга с кулаками.
Царь же, глядя на них, веселился.
Священные изречения Будды
Пролог
Конец лета 1988 года
Знай Сэмюэл, что мать собирается от них уйти, он, может, серьезнее отнесся бы к происходившему. Слушал бы ее внимательнее, пристальнее бы за ней наблюдал, записывал бы самое главное. Вел бы себя по-другому, иначе говорил и был бы другим человеком.
Был бы ребенком, ради которого стоило остаться.
Но Сэмюэл не знал, что мать задумала уйти. Он понятия не имел, что она уже много месяцев подряд уходила от них – тайно, понемногу. Одну за другой выносила из дома вещи. Платье из шкафа. Фотографию из альбома. Вилку из ящика со столовыми приборами. Стеганое одеяло из-под кровати. Каждую неделю забирала что-то еще. Свитер. Пару туфель. Елочную игрушку. Книгу. Постепенно ее присутствие в доме становилось все менее ощутимым.
Она выносила вещи почти год, когда Сэмюэл с отцом наконец что-то почуяли, какую-то зыбкость, непонятное, тревожное, порой даже гнетущее чувство оскудения. Иногда они с изумлением смотрели на книжный шкаф и думали: “У нас вроде было больше книг?” Или, проходя мимо буфета, осознавали, что чего-то не хватает. Но чего именно? У них никак не получалось определить ощущение, будто мелочи жизни кто-то меняет местами. Им и в голову не приходило, что они больше не едят блюда, приготовленные в медленноварке, потому что медленноварки уже нет в доме. И если книжная полка казалась пустой, то лишь потому, что мать лишила ее поэзии. А в буфете появились свободные места, потому что оттуда забрали две тарелки, две миски и заварочный чайник.
Их очень медленно грабили.
– Вроде тут было больше фотографий, – щурился отец Сэмюэла, глядя на стену снизу, от подножия лестницы. – Разве там не висел снимок из Большого каньона?
– Не висел, – отвечала мать Сэмюэла. – Мы его убрали.
– Точно? Что-то я этого не припомню.
– Ты же сам так решил.
– Правда? – озадаченно уточнял отец. Ему казалось, что он сходит с ума.
Спустя много лет, на уроке биологии в старших классах, Сэмюэл услышал историю об одном виде африканских черепах, которые переплывали океан, чтобы отложить яйца в Южной Америке. Ученые не могли найти объяснения такому далекому путешествию. Зачем черепахам плыть за тридевять земель? Согласно самой распространенной теории, началось все в незапамятные времена, когда Южная Америка и Африка еще были единым целым. Вероятно, тогда эти континенты разделяла всего лишь река, и черепахи плавали откладывать яйца на дальнем берегу. Но потом континенты стали отдаляться друг от друга, с каждым годом река становилась шире примерно на дюйм, на что черепахи, разумеется, не обращали внимания и продолжали плавать на старое место, на дальний берег реки. Каждое новое поколение проплывало чуть больше предыдущего. Сотни миллионов лет спустя река превратилась в океан, а черепахи этого даже не заметили.
Вот так уходила мать, подумал Сэмюэл. Вот так она покидала дом – незаметно, медленно, по чуть-чуть. Сводила свое присутствие на нет, пока наконец ей не осталось забрать последнее – саму себя.
В день своего исчезновения мать ушла из дома с одним-единственным чемоданом.
Часть первая. Нападение на Пэкера
Август 2011 года
В один прекрасный день на новостных сайтах практически одновременно появляется заголовок: “НАПАДЕНИЕ НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!”
Спустя несколько мгновений подключается телевидение: вещание прерывает анонс экстренного выпуска новостей. Сосредоточенно глядя в камеру, ведущий говорит: “Наши корреспонденты в Чикаго передают, что на губернатора Шелдона Пэкера было совершено нападение”. Некоторое время больше ничего не известно: лишь то, что на него напали. Несколько минут все в ошеломлении задают себе два вопроса: жив ли Пэкер? И есть ли видеозапись нападения?
Наконец приходят первые известия с места событий от репортеров, которых выводят в эфир с мобильных телефонов. Корреспонденты сообщают, что Пэкер давал в чикагском “Хилтоне” ужин, на котором произнес речь. После приема он вместе со свитой возвращался через Грант-парк, пожимая руки встречным, целуя детей и проделывая прочие популистские штучки, которые в ходу у политиков во время предвыборной кампании. Вдруг из толпы на него напали – непонятно, человек или группа лиц.
– Как именно напали? – уточняет ведущий. Он сидит в залитой красно-бело-синим светом студии с блестящими черными полами. Лицо у него гладкое, как глазурь на торте. За столами позади ведущего работают его коллеги. – Вы можете описать момент нападения? – допытывается ведущий.
– В него чем-то кинули, – отвечает репортер, – больше мне пока ничего не известно.
– Чем кинули?
– Пока непонятно.
– И попали? Губернатор ранен?
– Да, кажется, попали.
– Вы видели нападавших? Сколько их было? Тех, кто бросал?
– Там поднялась паника, люди закричали.
– Предметы, которыми бросили в губернатора, были большие или маленькие?
– Думаю, сравнительно небольшие, раз поместились в руке.
– Крупнее бейсбольного мяча?
– Нет, помельче.
– Значит, размером с мяч для гольфа?
– Да, примерно так.
– Острые? Тяжелые?
– Все произошло слишком быстро.
– Нападение было спланированным? Быть может, это преступный сговор?
– Сейчас все задают себе те же вопросы.
На экране появляется заголовок: “Теракт в Чикаго”. Вжик – и он оказывается возле уха ведущего и трепещет, как флаг на ветру. На огромном телевизоре с сенсорным экраном показывают карту Грант-парка – расхожий прием, который регулярно используют в современных выпусках новостей: диктор в телевизоре рассказывает о чем-то с помощью другого телевизора, то увеличивая, то уменьшая руками на сенсорном экране объекты в высоком разрешении. Выглядит все это очень круто.
Дожидаясь, пока поступят новые сообщения, ведущий и репортер обсуждают, увеличит ли это происшествие шансы губернатора на пост президента или же, наоборот, повредит его репутации. Сходятся на том, что увеличит, поскольку сейчас имя губернатора неизвестно практически никому, кроме его немногочисленных сторонников, ярых консерваторов-протестантов, одобрявших деятельность Пэкера на посту губернатора Вайоминга, где он строго-настрого запретил аборты и обязал не только учеников, но и учителей каждое утро перед Клятвой верности читать в школах Десять заповедей, сделал английский официальным и единственным законным языком штата, а всем, кто плохо говорит по-английски, запретил владеть недвижимостью в Вайоминге. Во всех заповедниках штата разрешил применять огнестрельное оружие. А еще вынес постановление, согласно которому законы штата отменяли федеральное законодательство во всех вопросах, – шаг, который, если верить специалистам по конституционному праву, означал бы санкционированный выход Вайоминга из состава Соединенных Штатов. Пэкер носил ковбойские сапоги. Проводил пресс-конференции у себя на ранчо. Ходил с настоящим оружием: в кожаной кобуре у него на бедре висел револьвер.
В конце своего первого и единственного срока Пэкер заявил, что на второй переизбираться не будет, поскольку хочет сосредоточиться на вопросах первостепенной государственной важности. СМИ, разумеется, истолковали его слова в том смысле, что он собирается баллотироваться в президенты. Пэкер оттачивал прочувстованную риторику проповедника тире ковбоя и делал ставку на антиэлитистский популизм, находивший отклик у простых работяг, белых консерваторов, недовольных нынешней рецессией. Иммигрантов, отнимающих у американцев рабочие места, губернатор сравнивал с волками, которые режут домашний скот, причем слово “волки” произносил с ударением на последнем слоге. “Капитолий” в его устах превращался в “Капутолий”. Вместо “устал” Пэкер говорил “упахался”. А еще “ихний” и “ложить”.
Сторонники Пэкера уверяли, что именно так и говорят простые жители Вайоминга, не какая-нибудь там элита.
Критики губернатора не упускали случая отметить, что, поскольку суды отклонили почти все предложения Пэкера, польза от его законодательной деятельности фактически равна нулю. Но все это не имело никакого значения для тех, кто исправно платил по пятьсот долларов за участие в званых ужинах, сбор от которых шел на оплату предвыборной кампании (Пэкер, кстати, называл их “обжираловкой”), по десять тысяч долларов за лекцию и по тридцать долларов за его книгу “Сердце истинного американца”: так он формировал “военный бюджет”, как называли это репортеры, “для будущих президентских выборов”.
И вот на губернатора напали, хотя никто не знает, как напали, с чем напали, кто напал и пострадал ли он в результате нападения. Телеведущие рассуждают о том, что будет, если попасть в глаз подшипником или стеклянным шариком. Они говорят об этом добрых десять минут, сопровождая беседу схемами, на которых мелкий объект на скорости почти в сто километров в час проникает в жидкую мембрану глаза. Когда тема исчерпана, прерываются на рекламу. Анонсируют документальный фильм, снятый к десятилетию теракта 11 сентября: “День террора, десятилетие войны”. Ведущие ждут.
Наконец происходит то, что выводит передачу из оцепенения, в которое она погрузилась: в кадре снова появляется ведущий и объявляет, что некий очевидец снял произошедшее на видео и выложил ролик в интернет.
На экране появляется ролик, который в последующие недели покажут по телевизору несколько тысяч раз, а еще он наберет миллионы просмотров в интернете и станет третьим по популярности видео месяца – после нового музыкального клипа восходящей поп-звезды, юной Молли Миллер, на песню “Нужно из себя что-то представлять”, и семейного видео, на котором малыш, едва научившийся ходить, падает от смеха. И вот что происходит.
Сперва мы видим белый экран и слышим свист ветра в микрофоне, потом раздается шуршание: чьи-то пальцы накрывают микрофон, и свист ветра стихает до еле слышного шума, как будто к уху приложили морскую ракушку. Камера регулирует экспозицию, и белизна становится голубым небом, видно размытое зеленое пятно (видимо, трава), раздается мужской голос – слишком громкий из-за близости к микрофону: “Пишется? Что-то непонятно”.
Изображение обретает резкость: мужчина направляет камеру себе под ноги и говорит раздраженно: “Оно записывается или нет? Как понять?” Ему отвечает спокойный мелодичный женский голос: “Посмотри там сзади. Что там написано?” Ее муж, парень или кто он ей, не способный удержать камеру ровно, чтобы изображение не прыгало, бросает: “Лучше бы взяла да помогла” так резко и сердито, что сразу ясно – это она виновата в том, что у него ничего не получается. На экране все это время крупным планом видны его ботинки: изображение так мельтешит, что кружится голова. Мужчина обут в дутые высокие кроссовки. Белехонькие, супермодные. Он стоит на столе для пикника.
– Что там написано сзади? – уточняет женщина.
– Где сзади?
– На экране.
– Я понял, – отвечает он. – Где на экране?
– В правом нижнем углу, – невозмутимо поясняет женщина. – Что там написано?
– Там буква R.
– Значит, записывается. Запись идет.
– Идиотизм какой-то, – бесится мужчина. – Почему бы просто не написать “вкл”?
На экране мелькают то его ноги, то группа людей неподалеку.
– Вон он! Смотри! Это он! Вон он! – кричит мужчина, направляет камеру перед собой и, когда ему наконец удается сделать так, чтобы она не прыгала, в кадре появляется Шелдон Пэкер, примерно в тридцати метрах от мужчины, в окружении охраны и сотрудников своего предвыборного штаба. Рядом небольшая толпа. Те, кто ближе всего к губернатору, наконец догадываются, что что-то происходит, рядом какая-то знаменитость. Мужчина, снимающий на камеру, кричит:
– Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор!
Изображение снова скачет – видимо, этот парень прыгает, машет руками или и то, и другое сразу.
– Как сделать ближе? – спрашивает он.
– Нажми на зум, – отвечает женщина.
Изображение увеличивается, из-за чего снова возникают проблемы с резкостью и экспозицией. Вообще же эту запись показали по телевизору лишь потому, что в конце концов мужчина со словами: “На, давай сама” отдает камеру спутнице и убегает пожать руку губернатору.
Впоследствии всю эту болтовню вырежут, так что ролик, который сотни раз покажут по телевизору, начнется здесь, с паузы: редакторы новостей обвели красным кружком женщину, сидящую на скамейке с правой стороны экрана. “По всей видимости, это и есть нападавшая”, – поясняет ведущий. Седая, лет шестидесяти на вид, женщина читает книгу: зрелище ничем не примечательное. Незнакомка просто заполняет кадр, как актриса массовки в кино. На ней голубая рубашка поверх черной майки и черные эластичные леггинсы. Острые прядки взъерошенных коротких волос падают ей на лоб. Сложена как спортсменка – худая, но мускулистая. Женщина замечает, что происходит вокруг. Видит приближающегося губернатора, закрывает книгу, встает и смотрит. Она с самого края кадра и явно пытается решить, что делать дальше. Подбоченилась. Прикусила губу. Похоже, взвешивает все варианты. Вся ее поза – словно немой вопрос: “А надо ли?”
Наконец она срывается с места и стремительно направляется к губернатору. Книгу женщина оставила на скамье. Незнакомка идет большими шагами, как покупатели из пригородов, которые наматывают круги по торговым центрам. Вот только она стиснула кулаки и прижала руки к бокам. Женщина приближается к губернатору на расстояние броска, и тут толпа вдруг расступается, так что с того места, где стоит оператор, заметно, что губернатор оказывается в пределах прямой видимости незнакомки. Она стоит на посыпанной щебнем дорожке. Женщина опускает глаза, наклоняется и подбирает горсть щебня. Вооружившись таким образом, она издает вопль – он слышен очень четко, поскольку в этот самый момент ветер стихает, толпа умолкает, как будто все знают, что сейчас произойдет, и изо всех сил стараются ничего не упустить, – женщина кричит: “Ах ты свинья!” – и бросает камни в губернатора.
Сначала в толпе неразбериха: одни оборачиваются, пытаясь рассмотреть, кто кричал, другие вздрагивают и отшатываются, потому что в них попали камешки. Женщина подбирает новую горсть щебня и бросает в губернатора, подбирает и бросает, подбирает и бросает, как ребенок, играющий в снежки. Невольные зрители пригибаются, матери закрывают детям лица, а губернатор складывается пополам, схватившись за правый глаз. Женщина продолжает швыряться щебнем, пока охранник губернатора не сбивает ее с ног. Или скорее не сбивает, а обхватывает руками и вместе с ней валится на землю, точно усталый борец.
Вот и все. Запись длится меньше минуты. Вскоре после передачи становятся известны кое-какие факты. Называют имя женщины: Фэй Андресен-Андерсон, причем в новостях ее фамилию ошибочно произносят как “Андерсон-Андерсон”, видимо, проводя параллель с другими печально известными двойными фамилиями, а именно Серхан Серхан[1]. Быстро выясняется, что она работает помощницей учителя в местной начальной школе, и этот факт становится оружием отдельных аналитиков, которые утверждают: мол, это доказывает, что в системе государственного образования нынче правит бал радикальный либерализм. Заголовок меняется на “УЧИТЕЛЬНИЦА НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!” и остается таким около часа, пока не удается отыскать фотографию, на которой вроде бы запечатлена эта женщина на демонстрации протеста в 1968 году. На снимке она сидит на поле с тысячами других протестующих – огромная размытая толпа народа, многие с самодельными флагами или плакатами, кто-то размахивает над головой американским флагом. Женщина сонно глядит на фотографа сквозь большие круглые очки. Она клонится вправо, как будто прислонясь к тому, кто почти не попал в кадр: видно только плечо. Слева от нее сидит длинноволосая женщина в военной куртке и угрожающе смотрит в кадр поверх серебристых очков-авиаторов.
Заголовок меняется на “РАДИКАЛКА 1960-х НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!”.
И, словно история еще недостаточно пикантна, к концу рабочего дня происходят две вещи, из-за которых интерес к случившемуся взлетает до небес: теперь во всех офисах страны ни о чем другом не говорят. Во-первых, сообщают, что губернатору Пэкеру делают срочную операцию на глазном яблоке. А во-вторых, всплывает снимок из полицейского досье, на котором ясно указано, что в 1968 году женщину арестовали – хотя обвинения не предъявили и виновной так и не признали – за проституцию.
Это уже чересчур. Как уместить все эти невероятные подробности в одном заголовке? “УЧИТЕЛЬНИЦА, БЫВШАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ХИППИ И ПРОСТИТУТКА, НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА И ОСЛЕПИЛА ЕГО!”
В новостях снова и снова крутят фрагмент ролика, в котором щебень попадает в глаз губернатору. Изображение увеличивают так, что лезут пиксели и зерно: журналисты, не жалея сил, стараются показать зрителям тот самый миг, когда острый кусок щебня влетает Пэкеру в роговицу правого глаза. Аналитики рассуждают о цели этого нападения и о том, представляет ли оно угрозу для демократии. Одни называют женщину террористкой, другие говорят: это лишь демонстрирует, как низко опустился уровень политических дебатов, третьи замечают, мол, губернатор сам напросился, нечего было так рьяно защищать право граждан носить огнестрельное оружие. Проводят аналогии с “Синоптиками” и “Черными пантерами”[2]. Национальная стрелковая ассоциация выступает с заявлением, что, будь губернатор Пэкер вооружен, нападения бы не случилось. Тем временем журналисты за столами позади телеведущего работают, как и прежде, не быстрее и не медленнее.
Не проходит и сорока пяти минут, как какой-то ушлый копирайтер придумывает фразу “Щебень для Шелдона”, которую охотно подхватывают все телеканалы и вставляют в заставки к репортажам о нападении.
Женщину между тем до суда держат в тюрьме в центре города, так что прокомментировать инцидент она не может: изложение событий складывается без нее. Мнения и предположения вкупе с немногочисленными фактами образуют предысторию, которая закрепляется в памяти публики: женщина – бывшая хиппи, ныне радикальная либералка, которая так сильно ненавидит губернатора, что подкараулила его в парке и напала на него.
Вот только во всей этой теории зияет огромная логическая дыра: прогулка губернатора по парку была чистой импровизацией, о которой заранее не знала даже его охрана. Следовательно, и женщина не могла знать, что он сейчас пройдет мимо, и ждать в засаде. Однако эта неувязка теряется среди новых сенсаций, поэтому никто и никогда толком не пытается в этом разобраться.
Сэмюэл Андерсон, преподаватель, сидит в темноте в своем тесном университетском кабинете. Лицо его в свете монитора кажется землистым. Жалюзи на окнах закрыты. Щель под дверью заткнута полотенцем. Мусорную корзину он выставил в коридор, так что ночной уборщик не зайдет и не помешает. Андерсон надел наушники, чтобы никто не услышал, чем он занят.
Он заходит на сайт с игрой. Загружается заставка с привычной картинкой сплетенных в битве орков и эльфов. Раздается тяжелая музыка: трубы звучат победоносно, воинственно, дерзко. Он вводит пароль, куда более затейливый и сложный, чем пароль к его банковскому счету. В “Мире эльфов” он регистрируется не как Сэмюэл Андерсон, старший преподаватель английского языка и литературы, но как Плут, Эльфийский вор, и чувствует себя при этом так, словно вернулся домой. После долгого рабочего дня вернулся домой к тому, кто рад тебя видеть: вот из-за этого ощущения он заходит на сайт и играет по сорок часов в неделю, готовясь к таким вот рейдам, когда они с безымянными онлайн-друзьями собираются, чтобы убить какое-нибудь чудище.
Сегодня это дракон.
Игроки сидят в подвалах, офисах, тускло освещенных кабинетах, рабочих кабинках и станциях, публичных библиотеках, общагах, гостевых комнатах, они выходят в сеть с ноутбуков на кухонных столах, с компьютеров, которые жарко жужжат, щелкают и трещат, как будто у них внутри, в пластмассовых башенках системных блоков, что-то жарится. Они надевают наушники с микрофоном, регистрируются, материализуются в мире игры, и вот они снова вместе, как каждую среду, пятницу и субботу вечером последние несколько лет. Большинство живет в Чикаго и ближайших окрестностях. Сервер, на котором они играют – один из тысяч по всему миру, – находится в бывшем складе мороженого мяса в районе Саут-Сайд, а чтобы не было задержек и простоев, “Мир эльфов” всегда отправляет игрока на ближайший к нему сервер. Так что все они, можно сказать, соседи, хотя никогда не встречались в реальной жизни.
– Привет, Плут! – приветствует кто-то Сэмюэла, когда он входит в игру.
“Привет”, – пишет он в ответ. Он никогда не разговаривает. Все думают, что у него нет микрофона. Но на самом деле микрофон у него есть, просто он боится, что, если во время очередного сражения он что-нибудь скажет, кто-нибудь из проходящих по коридору коллег услышит, как он говорит о драконах. Так что гильдия о нем толком ничего не знает, кроме того, что он не пропускает ни одного рейда и пишет слова целиком, не пользуясь принятыми в интернете сокращениями. Он действительно пишет “сейчас вернусь” вместо куда более распространенного BRB. Он пишет “я отойду” вместо AFK[3]. Никто не знает, почему он так упорно использует эти псевдоанахронизмы. Все думают, что “Плут” – сокращение от “Плутон”, на деле же это отсылка к Диккенсу[4]. Оттого, что никто не понимает намека, Сэмюэл чувствует себя умнее и лучше остальных игроков: это нужно ему, чтобы компенсировать стыд от того, что он проводит столько времени за игрой, в которую играют двенадцатилетние мальчишки.
Сэмюэл постоянно напоминает себе, что так делают миллионы людей. Во всем мире. Двадцать четыре часа в сутки. Каждую минуту в “Мир эльфов” играет столько народу, сколько живет где-нибудь в Париже, говорит себе время от времени Сэмюэл, когда его разрывает при мысли о том, во что превратилась его жизнь.
Он не рассказывает никому из реального мира о том, что играет в “Мир эльфов”, еще и потому, что его могут спросить, в чем смысл игры. И что тут ответишь? “Мочить драконов, убивать орков”.
А если играешь за орков, тогда смысл игры в том, чтобы мочить драконов и убивать эльфов.
Вот и все, в этом вся соль, основополагающий принцип, фундаментальный инь-ян.
Он начинал эльфом первого уровня и продвинулся до девяностого: на это у него ушло десять месяцев. Все это время у него были приключения. Он путешествовал по миру. Встречался с разными людьми. Отыскивал сокровища. Проходил квесты. Потом, на девяностом уровне, создал гильдию и объединился с новообретенными собратьями по гильдии, чтобы убивать драконов, демонов и особенно орков. Он убил кучу орков. А когда он ранит орка в какое-нибудь жизненно важное место – шею, голову или сердце, – на экране загорается надпись “КРИТИЧЕСКИЙ УДАР!” и раздается негромкий звук: это орк кричит от ужаса. Сэмюэл полюбил этот крик. Он балдеет от этого крика. Класс его персонажа – воры, а значит, он ловко лазит по карманам, делает бомбы и умеет становиться невидимым. Он обожает тайком пробраться на территорию, где полным-полно орков, и зарыть на дороге динамит, чтобы орки подорвались, когда там поедут. Потом он обыскивает тела врагов, забирает их оружие, одежду, деньги и оставляет их валяться голыми, побежденными и мертвыми.
Он и сам не знает, почему это так ему нравится.
Сегодня двадцать вооруженных эльфов в доспехах будут сражаться с одним-единственным драконом, потому что это очень большой дракон. С острыми-преострыми зубами. К тому же еще и огнедышащий. И покрытый чешуей, плотной, как лист металла: это нетрудно разглядеть, если видеокарта позволяет. Дракон, похоже, спит. Свернулся калачиком, точно кот, на полу, под которым в пустом кратере вулкана кипит магма. Потолок у логова достаточно высокий – дракон может долго летать, и на втором этапе игры чудище взмывает в воздух, кружит над эльфами и обрушивает на их головы огненные снаряды. Это будет четвертый раз, когда они попытаются убить дракона: им пока так и не удалось пройти второй уровень. Им не терпится его прикончить, потому что дракон охраняет гору сокровищ, оружия и доспехов в дальнем углу логова: все это очень пригодится эльфам в войне с орками. Сквозь трещины в каменистой поверхности сверкают ярко-красные прожилки магмы. Они вырвутся на поверхность на третьем и последнем этапе сражения, том самом этапе, которого эльфы еще не видели, потому что у них никак не получается увернуться от огненных шаров.
– Все посмотрели ролики, которые я прислал? – спрашивает лидер рейда, воин-эльф по имени Павнер. Аватарки нескольких игроков кивнули. Он прислал им обучающие видео, в которых показывают, как убить дракона. Павнер хотел, чтобы они внимательно изучили, как правильно проходить второй уровень: секрет в том, чтобы постоянно двигаться и стараться не сбиваться в кучу.
“ВПЕРЕД!!!” – пишет Секирщик, чей аватар сейчас елозит по скале, словно пытается ее изнасиловать. Несколько эльфов пританцовывают на месте, пока Павнер в очередной раз объясняет им ход боя.
Сэмюэл играет в “Мир эльфов” с рабочего компьютера, потому что тут быстрее интернет, а значит, во время такого рейда, как сегодня, можно нанести врагам на два процента больше урона – разумеется, если не возникнет проблем со скоростью соединения, как бывает, когда студенты записываются на занятия. Он преподает литературу в маленьком университете на северо-западе от Чикаго, в пригороде, где все бесплатные скоростные шоссе расходятся и заканчиваются у гигантских универмагов и бизнес-парков или переходят в трехполосные дороги, забитые машинами родителей, которые отправили детей учиться в университет Сэмюэла.
Детей вроде Лоры Потсдам – веснушчатой блондинки, которая носит майки с логотипами известных брендов и короткие шорты с разнообразными надписями на заднице. Основная специализация Лоры – маркетинг и коммуникации. Не далее как сегодня она заявилась на введение в литературу, занятие, которое ведет Сэмюэл, протянула ему списанную от начала до конца работу и тут же поинтересовалась, можно ли уйти.
– Если мы пишем контрольную, – пояснила Лора, – я останусь. А если нет, мне надо уйти.
– Что-то случилось? – спросил Сэмюэл.
– Нет. Просто я не хочу пропустить контрольную, за которую ставят оценку. Мы сегодня будем делать что-то, за что вы поставите оценку?
– Сегодня мы будем обсуждать прочитанное. И эта информация вам наверняка пригодится.
– А оценки за нее выставляют?
– Да, в общем, нет.
– Ну тогда мне нужно уйти.
Они читали “Гамлета”, и Сэмюэл по опыту знал, что сегодня ему придется нелегко. От языка пьесы студенты устанут, все мозги себе сломают. Он задал им написать о логических ошибках в мышлении Гамлета, хотя прекрасно понимал, что это полный бред. Студенты спросят его, почему они должны это делать, зачем им читать эту старую пьесу. “Как нам это пригодится в реальной жизни?” – поинтересуются они.
Ему совершенно не хотелось проводить это занятие.
В такие минуты Сэмюэл вспоминает, как прославился. Когда ему было двадцать четыре года, один из его рассказов напечатали в журнале. Да не в абы каком, а в самом крутом. Там вышла статья о молодых писателях. “Пять по двадцать пять”, называлась она. “Новое поколение великих американских прозаиков”. И в эту пятерку вошел Сэмюэл. Это был его первый опубликованный рассказ. И, как оказалось, последний. Там была его фотография, биография и его великая проза. На следующий день ему позвонило чуть ли не полсотни важных шишек из разных издательств. И все они хотели прочесть другие его произведения. Которых у Сэмюэла не было. Больших боссов это не смутило. С Сэмюэлом заключили договор, заплатили кучу денег за книгу, которую он еще даже не написал. Это было десять лет назад, до того как в экономике все стало мрачно и кризис в банковской сфере и жилищном строительстве практически разрушил мировую финансовую систему. Иногда Сэмюэлу в голову приходит мысль, что его карьера проделала примерно тот же путь, что и глобальная экономика: благополучное и беззаботное лето две тысячи первого теперь казалось нереальным, хотя и приятным сном.
“ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕД!!!” – снова пишет Секирщик. Он перестал ерзать по стене пещеры и теперь подпрыгивает на месте. Сэмюэл думает: девятый класс, синдром гиперактивности, жуткие прыщи, рано или поздно вполне может оказаться у меня на занятии по введению в литературу.
– Так что вы думаете о “Гамлете”? – спросил он сегодня студентов, когда Лора ушла.
Стонут. Хмурятся. Парень на задней парте поднимает руки, чтобы все видели, и опускает длинные и мясистые большие пальцы.
– Идиотизм, – говорит он.
– Бредятина, – добавляет другой.
– Слишком длинно, – вставляет третий.
– И это еще слабо сказано.
Сэмюэл задает студентам вопросы, которые, как он надеется, вызовут какое-никакое обсуждение: как вам кажется, призрак был на самом деле или это галлюцинация Гамлета? Как вы считаете, почему после смерти мужа Гертруда так быстро вышла замуж? Как вы думаете, Клавдий действительно убийца или Гамлет просто его ненавидит? Ну и так далее. Ничего. Никакой реакции. Тупо глазеют на свои коленки или в экран компьютера. Они всегда таращатся в компьютер. Над компьютерами Сэмюэл не властен, он не может их выключить. Компьютеры есть за каждым столом в каждом классе, и школа хвастается этим во всех рекламных рассылках родителям: “Наш университет полностью компьютеризирован! Мы готовим студентов к жизни в XXI веке!” А вот Сэмюэлу кажется, что университет учит их тихо сидеть и притворяться, будто работают. Напускать на себя сосредоточенный вид, хотя на самом деле они проверяют счет спортивных соревнований, электронную почту, смотрят видео в интернете или просто тупят. Если подумать, это самое важное, чему их может научить университет, и этот урок наверняка пригодится им в работе: как тихо сидеть за столом, лазить по интернету и не сойти с ума.
– Кто из вас прочитал пьесу целиком? – спрашивает Сэмюэл, и из двадцати пяти человек, присутствующих в классе, лишь четверо поднимают руки. Причем медленно, неуверенно, смущаясь, что выполнили заданное. Остальные, похоже, его осуждают: смотрят презрительно, сидят развалясь и всем своим видом демонстрируют, до чего же им скучно. Как будто это его вина в том, что им наплевать. Не задай он им такую глупость, им не пришлось бы ее игнорировать.
– Вперед, – говорит Павнер и с огромным топором в руках мчится к дракону. Остальные с дикими криками следуют за ним, примерно как в фильмах о средневековых войнах.
Тут надо сказать, что Павнер – гений “Мира эльфов”. И гуру видеоигр. Он управляет шестерыми из двенадцати эльфов, которые участвуют в сегодняшнем рейде. У него есть целая деревня персонажей, из которых он может выбирать, смешивать, выставлять бойцов в зависимости от того, какой бой предстоит. В этой деревне существует собственная независимая микроэкономика. Павнер умеет одновременно играть несколькими персонажами с помощью суперпродвинутой технологии под названием “мультибокс”: для этого нужны несколько подключенных к общей сети компьютеров, связанных с центральным электронным мозгом, который ими управляет. Павнер же всем руководит с главного компьютера с помощью запрограммированных маневров на клавиатуре и игровой мыши с пятнадцатью кнопками. Он знает все, что только можно знать об играх. Он вобрал в себя секреты “Мира эльфов”, как дерево рано или поздно срастается со стоящей рядом оградой. Он истребляет орков, то и дело сопровождая смертельный удар своей коронной фразой: “Я тебя запавнил, нуб!”
На первом этапе боя им в основном приходится следить, как бы не угодить под хвост, которым дракон размахивает и бьет по каменному полу. Несколько минут все дружно рубят чудовище и уворачиваются от хвоста: наконец жизни у дракона остается шестьдесят процентов, и он взлетает.
– Второй этап, – негромко предупреждает Павнер, и его голос в сети звучит как у робота. – Сейчас он дыхнет огнем. Не стойте на пути.
На их отряд обрушиваются огненные шары. Многим игрокам с трудом удается одновременно и уворачиваться от огня, и продолжать рубить дракона, но все шестеро персонажей Павнера справляются с легкостью – отодвигаются на пару кликов влево или вправо, так что огонь проходит в нескольких пикселях от них.
Сэмюэл тоже старается уворачиваться, но в основном голова его занята опросом, который он сегодня проводил в классе. После того как Лора ушла и оказалось, что никто из студентов не прочел заданное, ему захотелось их наказать. Он велел им написать по первому акту “Гамлета” сочинение на двести пятьдесят слов. Студенты застонали. Он не собирался проводить контрольную, но поведение Лоры вызвало у него желание сделать в ответ какую-нибудь гадость. Курс, который читал Сэмюэл, назывался “Введение в литературу”, но Лору заботила не столько литература, сколько оценки. Ее интересовало не содержание курса, а валюта. Это напомнило Сэмюэлу одного брокера с Уолл-стрит, который то покупает фьючерсы на кофе, то ипотечные векселя. Не так важно, чем торгуешь, как то, насколько это ценится. Вот и Лора думала примерно так – только о нижней строчке, об отметке, единственном, что для нее важно.
Сэмюэл ставил студентам оценки, да еще и красной ручкой. Он учил их, чем “класть” отличается от “положить”, когда употреблять “какой”, а когда “который”, чем “аффект” отличается от “эффекта”, а “затем” от “за тем”. И все такое прочее. А потом как-то заправлял машину бензином на бензоколонке возле кампуса – она называется “Мимолетто”, – посмотрел на вывеску и подумал: “А смысл?”
Нет, правда, зачем им сдался этот “Гамлет”?
Сэмюэл провел контрольную и закончил занятие на полчаса раньше. Он устал. Стоя перед равнодушным классом, он чувствовал себя точь-в-точь как Гамлет в первом монологе: так, будто его не существует. Ему тоже хотелось исчезнуть. Чтобы его тугая плоть могла испариться[5]. Последнее время такое случалось часто: Сэмюэл чувствовал себя меньше собственного тела, как будто душа его усохла: он всегда уступал подлокотники кресел в самолетах и дорогу на тротуаре.
Такое ощущение возникает у него каждый раз после того, как он ищет в интернете фото Бетани: это слишком очевидно, чтобы не замечать. Он всегда вспоминает о ней, когда делает что-то, за что потом себя винит, а в последнее время он постоянно делает что-то такое, и вся его жизнь в некотором смысле покрылась непробиваемым слоем чувства вины. Бетани, его самая большая любовь и потеря, по-прежнему, насколько известно Сэмюэлу, живет в Нью-Йорке. Скрипачка, выступает на самых знаменитых концертных площадках, записывает сольные альбомы, гастролирует по всему миру. Погуглить ее – все равно что вытащить из души огромную пробку. Сэмюэл и сам не знает, зачем так издевается над собой, раз в несколько месяцев до глубокой ночи рассматривает фотографии, на которых Бетани в вечерних платьях, со скрипкой в руке, с охапками роз, в окружении поклонников блистает в Париже, Мельбурне, Москве, Лондоне.
Что бы она обо всем этом сказала? Разумеется, расстроилась бы. Решила бы, что Сэмюэл так и не повзрослел и по-прежнему, как ребенок, играет в темноте на компьютере. Что он все тот же мальчишка, каким был, когда они познакомились. Пожалуй, Сэмюэл относится к Бетани так, как другие к Богу. “Осудит ли меня Господь?” Вот и Сэмюэл думает так же, только вместо Бога у него другое великое несуществующее нечто: Бетани. Иногда, если Сэмюэл слишком много думает об этом, он словно падает в яму, и ему кажется, что он рассматривает себя со стороны, отступив на шаг: не живет, а оценивает жизнь, которая по какому-то необъяснимому, злополучному стечению обстоятельств оказывается его собственной.
Ругань собратьев по гильдии возвращает его к игре. Эльфы стремительно гибнут. Наверху ревет дракон, на которого их отряд обрушил град ударов: в чудовище летят стрелы, пули из мушкетов и похожие на молнию снаряды, вырывающиеся из ладоней колдунов.
– Осторожно, Плут, тебя сейчас поджарят, – предупреждает Павнер.
Сэмюэл понимает, что ему вот-вот крышка, и уворачивается. Огненный шар падает рядом с ним. Шкала жизни его персонажа опускается почти до нуля.
“Спасибо”, – пишет Сэмюэл.
Слава богу, дракон приземляется, и начинается третий этап. От двадцати нападавших остается лишь горстка: Сэмюэл, Секирщик, Лекарь отряда и четверо из шести павнеровских персонажей. До третьего этапа они еще ни разу не доходили. Это их лучший результат в бою с драконом.
Третий этап во многом похож на первый, только дракон теперь мечется по пещере, вскрывает под полом каналы, по которым течет магма, и сбивает с потолка огромные сталактиты. На этом обычно заканчивается большинство битв с монстрами в “Мире эльфов”. Тут требуется не столько мастерство, сколько способность запомнить порядок действий и выполнить несколько дел одновременно: уворачиваться от брызг лавы из-под пола и от камней, валящихся с потолка, стараться не попасть дракону под хвост, при этом гоняться за чудищем по пещере и колоть его кинжалом, используя сложную, четко выверенную тактику десяти движений, которая позволяет нанести дракону максимальный урон за секунду, чтобы шкала жизни дракона опустилась до нуля, прежде чем его встроенный таймер, запрограммированный на десять минут, выключится, и дракон “взбесится”, то есть примется убивать всех подряд.
В пылу боя Сэмюэла охватывает азарт. Но едва все заканчивается, даже если они победили, как его охватывает жгучая досада, потому что сокровища, которые им удалось раздобыть, ненастоящие, просто цифровые данные, а захваченное оружие и доспехи сгодятся лишь до поры до времени: как только игроки научатся побеждать дракона, разработчики придумают какое-нибудь новое чудище, одолеть которое станет еще сложнее, и оно будет охранять еще большие сокровища – в общем, бесконечный цикл. По-настоящему выиграть невозможно. Битве этой не видно конца. Иногда Сэмюэла поражает очевидная бессмысленность игры, вот как сейчас, когда он смотрит, как Лекарь борется за жизнь Павнера, шкала жизни дракона медленно ползет к нулю, Павнер кричит: “Да-да-да-да!”, они вот-вот одержат головокружительную победу, но даже в такую минуту Сэмюэл не может отделаться от мысли, что на самом деле несколько одиночек стучат по клавишам в темноте, посылая сигналы на компьютерный сервер в Большом Чикаго, который отправляет обратно клубки данных. Все остальное – дракон, его логово, прожилки магмы, эльфы, их мечи и магия – лишь декорации, маскарад.
“Что я здесь делаю?” – думает Сэмюэл, когда дракон пришибает его хвостом, Секирщика пронзает падающий сталактит, а Лекарь сгорает дотла в расщелине с лавой, так что из эльфов остается лишь Павнер, и они победят, только если ему удастся выжить. Гильдия ликует в наушниках, шкала жизни дракона опускается до четырех процентов, трех процентов, двух процентов…
И даже сейчас, в шаге от победы, Сэмюэл спрашивает себя: зачем мне все это нужно?
Что я тут делаю?
Что бы сказала Бетани?
Павнер отплясывает в гостиной, как футболист после тачдауна в зачетной зоне. Больше всего ему нравится описывать кулаками круги перед собой – кажется, это называется “сбивать масло”.
“Павнер рулит!” – кричит кто-то. Эльфы устроили бы ему бурную овацию, если бы их всех не поубивали. Из колонок его домашнего кинотеатра доносятся крики одобрения. Все шесть компьютерных экранов сейчас показывают под разными углами убитого дракона.
Павнер сбивает масло.
Он энергично вскидывает кулак, как будто заводит газонокосилку.
И делает похабный жест, как будто шлепает кого-то (например, по заднице).
Духи эльфов возвращаются в тела, и его друзья один за другим поднимаются с пола пещеры, воскреснув, как это ведется в видеоиграх, где, умирая, ты никогда не умираешь по-настоящему. Павнер собирает добычу в дальнем углу пещеры и раздает собратьям по гильдии – мечи, секиры, латы, волшебные кольца. Он чувствует себя при этом щедрым и великодушным, как чувак в костюме Санты на Рождество.
Наконец остальные игроки мало-помалу отключаются. Павнер прощается с каждым из собратьев по гильдии, поздравляет с великолепной победой и старается уговорить посидеть в сети еще немного, но они жалуются, что уже поздно, утром на работу, так что он в конце концов соглашается: действительно, пора спать. Павнер выходит из сети, выключает все компьютеры, ныряет в кровать, закрывает глаза, но тут в голове у него вспыхивают искры, и, точно галлюцинация, перед мысленным взором нескончаемым потоком несутся эльфы, орки, драконы, так что он тщетно пытается заснуть после очередного рубилова в “Мире эльфов”.
Он ведь сегодня вообще не собирался играть. И уж точно не думал играть так долго. Сегодня должен был быть первый день его новой диеты. Он поклялся, что с сегодняшнего дня начнет правильно питаться: фрукты, овощи, постные белки, никаких трансжиров и полуфабрикатов, только умеренные порции, тщательно сбалансированная пища высокой питательной ценности, вот прямо сегодня. И он начал новую жизнь с самого утра, когда на завтрак расколол бразильский орех, прожевал его и проглотил, потому что эти орехи были в списке “Пяти самых полезных продуктов, которые нужно есть чаще”, если верить руководству по здоровому питанию, которое он купил, готовясь к сегодняшнему дню, а еще купил продолжение книги, планы питания для этой диеты и мобильные приложения: все они отстаивали пользу рациона, состоящего преимущественно из животных белков и орехов – диеты охотника-собирателя. И он думал обо всех этих необходимых для сердца хороших жирах, антиоксидантах и микронутриентах в составе бразильского ореха, которые сейчас текут по его телу и приносят пользу – например, убивают свободные радикалы, снижают уровень холестерина и придают сил (хотелось бы надеяться), потому что у него еще масса дел.
Кухня срочно нуждалась в ремонте: ламинат столешницы потрескался, вздыбился по краям, посудомойка вышла из строя прошлой весной, измельчитель отходов не работает уже около года, три из четырех конфорок не горят, а холодильник как с ума сошел: холодильная камера то и дело вырубалась, из-за чего хот-доги и колбаса протухали, скисало молоко, морозилка же, наоборот, как с цепи сорвалась и превращала полуфабрикаты в кусок вечной мерзлоты. Из шкафчиков надо выкинуть пожелтевшие от времени наборы пластиковых контейнеров, забытые мешочки сухофруктов, орехов, чипсов и целый арсенал круглых баночек с травами и специями, геологические пласты которых сформировались в результате его прежних попыток сесть на диету: каждый раз он покупал новые наборы трав и специй, потому что за время, прошедшее с последней серьезной попытки, старые травы и специи успевали слежаться в камень, так что использовать их, разумеется, было уже нельзя.
Он знал, что нужно распахнуть шкафчики, выбросить из них всё и посмотреть, нет ли там колоний бактерий или жучков, обитающих в самых дальних и темных углах, но ему совершенно не хотелось открывать шкафчики и искать жучков: он боялся, что именно их и найдет. Ведь тогда придется завесить все полиэтиленом, провести дезинсекцию и разобрать комнаты, чтобы расчистить место под “склад”, куда он поставит все необходимое (новую кухонную мебель и паркетные доски, новую бытовую технику и инструменты, всевозможные молотки, пилы, ящики с гвоздями, шурупы, поливинилхлоридные трубы и прочую фигню, необходимую для ремонта кухни), хотя, оглядев дом, понимал, как трудно будет это сделать: в гостиной, например, ничего складывать нельзя, потому что к нему могут заглянуть на огонек нежданные гости (то бишь Лиза), и залежи инструментов едва ли покажутся им уютными или романтичными, то же самое в спальне, там ничего нельзя хранить по той же причине, хотя, конечно, Лиза давненько к нему не заезжала, в основном потому, что считала необходимым “соблюдать дистанцию” на этом новом этапе их отношений, впрочем, это решение ничуть не мешало ей то и дело просить отвезти ее то на работу, то в магазины, куда ей надо по делам, ну и что, что она с ним развелась, это же не значит, что он бросит ее на произвол судьбы без прав и машины: большинство мужчин именно так бы и поступило, но его-то не так воспитывали.
Так что единственным местом, где можно хранить останки старой кухни, оставалась гостевая спальня, но, к сожалению, и туда тоже ничего нельзя положить, потому что комната и так ломилась от барахла, выкинуть которое не поднималась рука – коробки со школьными наградами, значками, кубками, медалями, похвальными грамотами и под всем этим где-то черный кожаный блокнот с первыми страницами романа, который он пообещал себе вот-вот продолжить писать, – так что придется разобрать все эти коробки и составить опись содержимого и тогда уже расчистить место для хранения на время ремонта, необходимого, чтобы наконец начать питаться правильно.
Ну и бюджет тоже не резиновый. На какие деньги покупать все эти новые полезные продукты, если он и так уже по уши в долгах, поскольку приходится платить за несколько аккаунтов в “Мире эльфов” и за новый смартфон. Со стороны-то, конечно, виднее, он и сам понимает, что смартфон за четыреста долларов с тарифным планом, куда входит неограниченное количество СМС и трафика, – расточительство для человека, которому по работе не нужно постоянно быть на связи, да и эсэмэски ему после покупки приходят в основном от изготовителя этого самого смартфона – тот спрашивает, доволен ли он приобретением, рекламирует разные планы страхования, предлагает попробовать другие фирменные программы и оборудование, – да несколько эсэмэсок от Лизы о том, что ее неожиданно вызвали на работу, в отдел “Ланком” в магазине, или она уходит из отдела “Ланком” пораньше, или, наоборот, задержится в отделе “Ланком”, или сегодня ее не нужно забирать, потому что ее пригласил “куда-нибудь сходить один коллега”, после таких сообщений его вообще колотило от ревности, бесила их двусмысленность, он сворачивался калачиком на диване, грыз и без того ломкие ногти и гадал, где заканчиваются границы Лизиной верности. Разумеется, он уже не вправе ждать от нее моногамии, и все же, хотя он и сознавал, что развод придал определенную законченность их отношениям, знал он и то, что у нее никого нет и он по-прежнему играет в ее жизни серьезную роль, и в глубине души надеялся, что, раз он любезен, полезен и регулярно напоминает Лизе о себе, она никогда по-настоящему от него не уйдет, а следовательно, без смартфона никак нельзя.
А для новой диеты совершенно необходимы программы для смартфона, подсказывающие, как правильно питаться и делать упражнения: отмечаешь, сколько и чего съел и выпил за день, программа все это анализирует и отправляет тебе отчет по калориям и питательной ценности. Вот, например, он записал, что обычно съедает за день, чтобы принять этот список за точку отсчета и сравнивать с ним будущие свои успехи в правильном питании, и оказалось, что три эспрессо (с сахаром) на завтрак в сумме составили сто калорий, латте и брауни за ланчем – еще четыреста, так что у него осталось полторы тысячи калорий из дневного максимума в две тысячи, а значит, на ужин можно себе позволить две, а то и три упаковки замороженных фахитос с лососем, в каждой пачке нарезанные ровными полосками овощи и пакетик соленой красной приправы под названием “юго-западные специи”, к которой он обычно добавляет примерно столовую ложку соли (приложение в смартфоне отмечает, что в соли ноль калорий, и он считает это огромной победой с точки зрения вкуса), и быстро сжевать эти три упаковки мороженого лосося, стараясь не обращать внимание на то, что они разогрелись в микроволновке настолько неравномерно, что кусочки перца обжигают язык, а крупные ломти рыбы внутри ледяные и распадаются на волокна, точно сырая древесная кора, на вкус – жуткая гадость, но он все равно будет забивать холодильник упаковками фахитос с лососем, и не только потому, что на коробке написано “Минимальная жирность!”, но и потому, что в “Сэвен-Илевен” на них всегда отличная скидка, упаковка в десять коробок за пять долларов (максимум можно купить десять).
В общем, смартфон проанализировал потребленные им питательные вещества и микронутриенты, сравнил их с дозировками жизненно важных витаминов, кислот, жиров и прочих веществ, рекомендованными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и показал результат в виде графика, который должен был быть зеленым, если он все сделал правильно, но вышел красным, как аварийная кнопка, потому что в его рационе отчаянно не хватало продуктов, сколько-нибудь полезных для здоровья основных органов. Да, действительно, нужно признать, в последнее время его глазные яблоки и кончики волос приобрели пугающий желтоватый оттенок, ногти стали более тонкими и ломкими, так что, когда он принимался их грызть, неожиданно раскалывались пополам чуть ли не до основания, а недавно и вовсе перестали расти, как и волосы, которые местами поредели или вились на концах, а на запястье, там, где носят часы, появилась сыпь. Так что, хотя обычно он не добирал до ежедневного максимума в две тысячи калорий, это были явно не те калории, что содержатся в свежих органических цельных продуктах и необходимы для “правильного питания”: для него это немыслимо дорого, такие продукты он не мог себе позволить, учитывая, что каждый месяц ему приходилось выплачивать долги по кредитной карте за смартфон и тарифный план. Он смирился с этим противоречием, с этой насмешкой судьбы: он платил за аппарат, который учил его, как правильно питаться, и из-за этого у него не было денег на правильное питание, к тому же за все это он расплатился кредитной картой, и долги по ней скопились астрономические, так что возможность когда-либо с ними рассчитаться медленно уплывала, точно дрейфующий континент. Росли и платежи по ипотеке, потому что несколько лет назад, еще до того, как их город (и весь американский рынок недвижимости в целом) оказался в глубокой жопе, риелтор убедил его рефинансировать кредит с помощью какой-то “отрицательной амортизации”. Тогда эти свалившиеся как с неба деньги пришлись очень кстати: он смог позволить себе новый телевизор высокого разрешения, прикупил несколько крутых игровых видеоприставок, дорогую компьютерную рабочую станцию для дома, но теперь выплаты по кредиту проделали в его бюджете огромную брешь, поскольку процентные ставки росли как снежный ком, а вот стоимость его дома, по последней оценке, упала до такого мизера, как будто дом чудом уцелел после пожара в подпольной лаборатории по производству метамфетамина.
Все это вкупе с прочими материальными трудностями ввергало его в уныние, нервировало так сильно, что сердце чудило, подпрыгивало и трепетало, как будто кто-то ощупывал его грудную клетку изнутри. “Здоровье потерял – все потерял”, – говаривала Лиза: именно этим он и оправдывал то, что вкладывает деньги в вещи, которые помогали справиться со стрессом, то есть в навороченную технику и видеоигры.
К ним-то он сегодня и обратился. Прежде чем взяться за дела, без которых невозможно начать новую диету, он решил разобраться с другими, теми, что ждали его в “Мире эльфов”: двадцать заданий, которые он выполнял каждый день, благодаря чему заработал в игре разные клевые штуки (например, грифонов, верхом на которых можно было летать, секиры огромного размера, изящные сюртуки и панталоны, в которых щеголял его аватар). Эти квесты – обычно нужно было убить какого-нибудь не самого опасного врага, доставить известие на вражескую территорию или отыскать какую-нибудь важную утерянную штуку – необходимо было проходить каждый день по сорок дней кряду, чтобы получить награду в ближайшее теоретически возможное время, что само по себе было наградой, потому что всякий раз, как ему это удавалось, вспыхивали салюты, звучали фанфары, его имя попадало в список лучших игроков в “Мире эльфов”, и все в его списке контактов хвалили и поздравляли его. Все равно что быть женихом на свадьбе, только в игре. А поскольку персонаж у Павнера был не один, а столько, что хватило бы на целую софтбольную команду, то, пройдя двадцать ежедневных квестов для главного героя, он повторял то же для дополнительных персонажей, так что каждый день ему надо было выполнять порядка двух сотен заданий, а то и больше, в зависимости от того, сколько “альтов” он хотел прокачать. Этот процесс отнимал у него до пяти часов в день. Большинство людей играло максимум по пять часов в день, ему же требовалось минимум пять часов, чтобы только подготовиться к настоящей игре, так сказать, размяться – или, если угодно, сперва разобраться с делами, а потом уже развлекаться.
Так что, когда он наконец закончил всю эту тягомотину с квестами, уже стемнело, и у него в голове стоял туман: он ничего не соображал, будто в мозгу образовалась пробка. После пяти часов рутинных квестов у него не осталось ни сил, ни мыслей, ни желания для более сложных дел – например, сходить в магазин, приготовить еду или начать ремонт на кухне. Он остался за компьютером, перекусил замороженным буррито, выпил большую кружку крепкого латте и продолжил игру.
Он играл так долго, что теперь, когда он пытается заснуть, перед глазами вспыхивают особенно яркие искры, так что едва ли в ближайшее время его сморит сон, и единственное, что может сделать Павнер, – выбраться из кровати, снова включить компьютеры, проверить серверы на Западном побережье и пройти рейд еще раз. Несколько часов спустя он играет с австралийскими серверами и снова побеждает дракона. К четырем утра в сеть выходят крутые японские геймеры, а это всегда удача, и вместе с этими ребятами он убивает дракона еще пару раз, так что под конец уже не испытывает никакой радости от победы: подумаешь, убил дракона, обычное дело, скучища. К тому времени, когда просыпается Индия, искры перед глазами расплываются в яркие пятна, он бросает игру, все как в тумане, как будто его лоб где-то в метре от глаз, и он решает, что перед сном неплохо бы расслабиться, ставит один из тех фильмов, которые видел миллион раз (пусть себе идет, он надеется разгрузить голову: фишка в том, что это кино он знает почти наизусть, так что можно тупить, никаких умственных усилий тут не требуется), один из коллекции апокалиптических триллеров, где планета гибнет по ряду самых разных причин – от падения метеоритов, атаки инопланетян или же от того, что под землей вдруг резко нагревается магма, – и сознание его цепенеет в первые же пятнадцать минут: когда герой вдруг узнает тайну, которую хранило правительство, и понимает, что вот-вот случится какое-то большое дерьмо, Павнер отключается, и перед его глазами проносится весь день, он смутно вспоминает, что вроде собирался начать правильно питаться, и, наверное, потому что ему совестно, что он так этого и не сделал, он раскалывает еще один бразильский орех, решив, что диету лучше начинать постепенно, а бразильский орех – своего рода мост между тем, как он живет теперь, и новой жизнью, в которой он наконец начнет питаться правильно, Павнер расслабляется, тупо, как рыба, таращится в экран телевизора, глотает плотную мякоть ореха, смотрит, как уничтожают планету, и с удовольствием представляет, как на Землю падает камень размером с Калифорнию, в мгновение ока убивает всех и вся, скелеты плавятся, конец всему живому, он поднимается с дивана, уже светает, странно, до чего быстро пролетела ночь, думает он, ковыляет в спальню и видит себя в зеркале – с проседью в светлых волосах, с красными от усталости глазами, – ложится в постель и не столько “засыпает”, сколько проваливается в густую тьму, которая обступает его внезапно, как после удара по голове. В этом похожем на кому состоянии он цепляется за воспоминание о том, как танцевал в гостиной.
Он хочет запомнить ту безбрежную радость, что испытывал в этот миг. Он впервые победил дракона. Все друзья из Чикаго его поздравляли.
Однако чувство, которое заставило его пуститься в пляс, никак не приходит. Павнер пытается представить, как танцует, но ему кажется, что все это было не с ним – как будто он давным-давно видел это по телевизору. Сейчас ему уже не верится, что он действительно сбивал масло, заводил газонокосилку и шлепал кого-то по заднице.
Завтра, обещает он себе.
Завтра я сяду на диету – по-настоящему, всерьез. Ну а сегодня была разминка, тренировка, фальстарт перед первым днем новой диеты, который вот-вот наступит. Совсем скоро в один прекрасный день он проснется пораньше, приготовит полезный завтрак и примется за кухню: разберет шкафчики, купит продукты, а к компьютеру даже не подойдет, и наконец-то весь день будет совершать только правильные поступки.
Он клянется. Обещает. Не сегодня-завтра он начнет новую жизнь.
То есть вы считаете, что это плагиат? – спрашивает Лора Потсдам, студентка второго курса университета, которая списывает систематически, постоянно. – Вы думаете, что я все списала? Это я-то?
Сэмюэл кивает. Он притворяется, будто вся эта ситуация его огорчает, как родитель, которому надо наказать ребенка. Всем своим видом он старается показать, будто ему это куда неприятнее, чем ей, но на самом деле это вовсе не так. В глубине души ему нравится валить студентов. Своего рода месть за то, что приходится их учить.
– Я вам раз и навсегда объясняю: НИЧЕГО Я НЕ СПИСЫВАЛА, – говорит Лора Потсдам о сочинении, которое списано практически полностью.
Сэмюэл знает об этом благодаря компьютеру: университет подписан на уникальный пакет программ, те анализируют студенческие сочинения и сравнивают их с данными, которые хранятся в обширном архиве работ, когда-либо написанных студентами и проанализированных программой. Мозг программы в буквальном смысле состоит из миллионов слов, написанных старшеклассниками и студентами колледжей, и Сэмюэл порой шутит с коллегами, что, если бы программа достигла того уровня искусственного интеллекта сознания, который описывают в научной фантастике, она немедленно отправилась бы на весенние каникулы в Канкун.
Программа проанализировала сочинение Лоры, и оказалось, что это на девяносто девять процентов плагиат: списано все, кроме подписи “Лора Потсдам”.
– Значит, в программе какой-то сбой, – не сдается Лора, студентка второго курса из Шаумбурга, штат Иллинойс, специализация – маркетинг и коммуникации, рост сто пятьдесят семь-сто шестьдесят сантиметров, светло-русые волосы в зеленоватом полумраке кабинета Сэмюэла кажутся бледно-желтыми, как линованные страницы блокнота, тонкая белая футболка с рисунком, похожим на рекламу вечеринки, которая состоялась еще до того, как Лора появилась на свет. – Интересно, почему она глючит. И часто она так ошибается?
– То есть вы хотите сказать, что это ошибка?
– Ну не знаю. Странно как-то. С чего программа выдала такой результат?
Волосы у Лоры такие всклокоченные, словно она мылась в аэродинамической трубе. На ней старенькие фланелевые шортики размером с фильтр для кофеварки, и это невозможно не заметить. Как и загорелые ноги. Лора в тапочках, пушистых, как маппеты, светло-зеленых, как капуста, с бурым слоем грязи вокруг подошвы, оттого что в них слишком часто ходят по улице. Сэмюэла вдруг осеняет, что она в буквальном смысле заявилась к нему в пижаме.
– Программа не ошибается, – отвечает он.
– То есть никогда? Никогда-преникогда не ошибается? Вы хотите сказать, что она идеальна и непогрешима?
Стены добросовестно увешаны разнообразными дипломами Сэмюэла, стеллажи забиты книгами с длинными названиями. В комнате царит полумрак – словом, типичный преподавательский кабинет, не придерешься. Лора сидит в кожаном кресле и легонько дрыгает ногой в тапочке. К двери прикреплены карикатуры из “Нью-Йоркера”. На подоконнике маленькое растение в горшке, которое Сэмюэл поливает из полулитрового пульверизатора. Дырокол. Настольный календарь. Кружка с Шекспиром. Набор красивых ручек. Вешалка с твидовым пиджаком – на всякий случай. Сэмюэл сидит в эргономическом кресле. Его немного порадовало, что Лора правильно употребила слово “непогрешимый”. Воздух в кабинете затхлый – то ли от Лоры так пахнет со сна, то ли это не выветрился его собственный запах после того, как он вчера до ночи играл в “Мир эльфов”.
– Если верить программе, – сообщает Сэмюэл, сверившись с отчетом по сочинению Лоры, – эта работа с сайта FreeTermPapers.com.
– Ну вот видите! В этом-то все дело! Я о нем впервые слышу.
Сэмюэл из тех молодых преподавателей, кто одевается “клево”, как сказали бы студенты. Рубашки навыпуск, голубые джинсы, модные кроссовки. Для одних это доказательство хорошего вкуса, для других – свидетельство внутренней слабости, неуверенности и отчаяния. Иногда на занятиях он использует бранные словечки, чтобы не выглядеть старым занудой. На Лоре фланелевые шорты в красную, черную и темно-синюю клетку. Футболка тонюсенькая, линялая, хотя непонятно, то ли она полиняла от частой носки, то ли ее специально так сделали.
– Не стану же я копировать чью-то дурацкую работу из интернета. Еще чего не хватало, – говорит Лора.
– То есть вы хотите сказать, что это совпадение?
– Я не знаю, почему программа выдала такой результат. Как-то странно?
В конце предложений Лора время от времени повышает голос, так что даже утверждения звучат как вопросы. Сэмюэл отмечает, что поневоле перенимает ее акцент. Еще он отмечает, что ей отменно удается смотреть ему прямо в глаза и спокойно врать, сохраняя непринужденную позу. Лора не делает ни единого непроизвольного жеста, которые выдают лжеца: она дышит ровно, сидит спокойно, не ерзает в кресле, не сводит глаз с Сэмюэла, вместо того чтобы смотреть чуть вверх и вправо – признак, свидетельствующий о том, что активизировалась творческая доля мозга, – она не хлопочет лицом, демонстрируя эмоции: чувства мелькают по ее лицу естественно и уместно, не то что у лжеца, который изо всех сил напрягает мышцы щек, складывая в нужную гримасу.
– Программа определила, что работа, о которой идет речь, была сдана три года назад в средней школе Шаумбурга, – сообщает Сэмюэл и умолкает, чтобы до Лоры дошел смысл сказанного. – Вроде бы это ваш родной город? Вы же из Шаумбурга?
– Знаете что! – возмущается Лора и вытягивает ногу перед собой, что может быть первым внешним физическим признаком стресса. Шорты у нее такие коротенькие, что, когда девушка ерзает в кресле, кожа скрипит, и ягодицы с чмоканьем отлипают от сиденья. – Я не хотела ничего говорить, но вообще-то мне даже обидно. Из-за этого всего?
– Верю.
– Да нууу? Вы спрашиваете меня, не списала ли я? А вам не кажется, что это грубо?
На футболке Лоры (скорее всего, думает Сэмюэл, ее обесцветили искусственно, с помощью краски, химикатов, а может, ультрафиолетового излучения или жестких абразивов) винтажным объемным шрифтом написано “Вечеринка в Лагуна-Бич, лето 1990”; посередине красуется графическая картинка с океаном и радугой.
– Нельзя обвинять людей в том, что они списали, – продолжает Лора. – Не надо вешать ярлыки. Ученые проводили исследования? Чем более часто обвиняешь кого-то во лжи, тем более часто он врет.
Правильнее было бы “чем чаще”, думает Сэмюэл.
– И к тому же нельзя наказывать человека за то, что он списал, – не унимается Лора, – потому что тогда ему опять придется списывать. Чтобы сдать экзамен? Это какой-то, – ее палец описывает в воздухе петлю, – порочный круг?
Лора Потсдам систематически приходит на занятие либо на три минуты раньше, либо на две минуты позже. Садится обычно сзади, в дальнем левом углу класса. В течение семестра разные парни медленно, точно моллюски, перебирались с насиженных мест поближе к Лоре, из правой части аудитории в левую. Большинство сидело рядом с ней две-три недели, а потом вдруг резко перемещалось в противоположный конец класса. Словно заряженные частицы, которые сталкиваются и отскакивают друг от друга в импровизированной психосексуальной мелодраме, которая, как догадался Сэмюэл, разыгрывалась во внеучебное время.
– Вы не писали это сочинение, – заявил Сэмюэл. – Вы купили его в школе и сдали повторно у меня на занятии. И это единственное, что я сегодня намерен с вами обсуждать.
Лора вытягивает ноги. Ее кожа с чмоканьем отлипает от блестящего кресла.
– Это несправедливо, – говорит Лора. То, как легко и свободно она выпрямила ноги, свидетельствует либо о юношеской гибкости, либо о серьезных занятиях йогой, либо о том и другом вместе. – Вы же сами нам задали сочинение по “Гамлету”. Я его вам и сдала.
– Я задал написать сочинение по “Гамлету”.
– Откуда мне было знать? Я не виновата, что у вас такие странные порядки.
– Это не мои порядки. Это обычные школьные правила.
– Неправда. Я вот в школе сдала это сочинение и получила “отлично”.
– Очень жаль.
– Я не знала, что так нельзя. Откуда мне было знать, что так нельзя? Мне никто никогда не говорил, что так нельзя.
– Все вы знали. Вы же мне солгали. Если бы вы не знали, что так нельзя, то не стали бы мне врать.
– Да я вечно вру. Всегда и обо всем. Что тут поделать.
– Постараться не врать.
– Нельзя же меня два раза наказывать за одну и ту же работу. Если уж в школе меня наказали за то, что я списала, то сейчас точно нельзя. За одно и то же дважды не наказывают?
– Вы же вроде бы говорили, что в школе получили “отлично”.
– Ничего такого я не говорила.
– Нет, говорили. Я совершенно уверен, что именно это вы и сказали.
– Я просто предположила.
– Неправда. Я вам не верю.
– Уж мне-то лучше знать, как все было.
– Вы снова врете? Вы пытаетесь меня обмануть?
– Нет.
С минуту они глядят друг на друга, как два блефующих игрока в покер. Так долго они еще ни разу не смотрели друг другу в глаза. На занятиях Лора обычно таращится на свои коленки, где лежит телефон. Она полагает, что, если телефон у нее на коленках, значит, она его ловко спрятала. Ей и невдомек, до чего прозрачен и очевиден этот ее маневр. Сэмюэл ни разу не попросил ее на занятии убрать телефон, в основном чтобы иметь основание занизить ей оценку в конце семестра, когда начисляет баллы “за работу на уроке”.
– В вашем случае – наказывают, – парирует Сэмюэл. – Видите ли, когда вы сдаете работу, по умолчанию предполагается, что это ваша работа. Ваша собственная.
– Она и есть моя собственная, – отвечает Лора.
– Неправда, вы ее купили.
– Вот именно, – кивает она. – И теперь она моя. Моя собственная. Это моя работа.
Сэмюэлу приходит мысль, что если назвать то, как поступила Лора, не “списала”, а “поручила другому исполнителю”, она окажется в чем-то права.
– Другие еще и не такое делают, – добавляет Лора. – Вот хотя бы моя лучшая подруга? Платит репетитору по алгебре, чтобы он делал за нее домашнюю работу. А это ведь куда хуже, правда? И между прочим, ее за это даже не наказывают! Почему меня наказывают, а ее нет?
– Но она ведь учится не у меня, – возражает Сэмюэл.
– А Ларри?
– Кто?
– Ларри Брокстон? Из нашей группы? Я точно знаю: он сдает вам работы своего старшего брата. И вы его не наказываете. Так нечестно. Это куда хуже.
Сэмюэл вспоминает, что Ларри Брокстон – студент второго курса, специализацию пока так и не выбрал, коротко стриженные машинкой волосы цвета кукурузной муки, на занятия обычно приходит в просторных серебристых баскетбольных шортах и черно-белой футболке с огромным логотипом сети магазинов одежды, которые есть практически в каждом торговом комплексе Америки – один из тех парней, кто сперва подкрался к Лоре Потсдам, а потом от нее сбежал. Чертов Ларри Брокстон, чья бледная, болезненно-зеленоватая кожа напоминала цветом гнилую картофелину на срезе, с его жалкими попытками отрастить усы и бороду, которые больше походили на прилипшие к лицу панировочные сухари, сутулый, замкнутый, обращенный внутрь себя, чем-то напоминавший Сэмюэлу папоротник, что может расти лишь в тени, Ларри Брокстон, ни разу на занятиях не раскрывший рта, с непропорционально большими по сравнению с прочими частями тела ступнями, как будто они выросли быстрее всего остального, так что походка получилась расхлябанной, словно у Ларри не ступни, а две плоские рыбины, к тому же он носил черные массивные резиновые сандалии, подходившие, думалось Сэмюэлу, исключительно для общественных душевых и бассейнов, тот самый Ларри Брокстон, который в те десять минут, что Сэмюэл отводил каждой группе на “свободное письмо и мозговой штурм”, лишь машинально и лениво почесывал гениталии, – так вот ему удавалось практически каждый день в те две недели, что они сидели рядом, по пути из кабинета рассмешить Лору Потсдам.
– Я только одно хочу сказать, – продолжает Лора, – если вы завалите меня, вам придется завалить и всех остальных. Потому что все так делают. И тогда вам не будет кого учить.
– Некого будет учить, – поправляет Сэмюэл.
– Что?
– Вам некого будет учить. А не “не будет кого учить”.
Лора бросает на него такой взгляд, словно он обратился к ней по-латыни.
– Так правильно, – поясняет Сэмюэл. – В данном случае нужно сказать “некого”.
– Ну и ладно.
Он прекрасно понимает, что указывать другим на ошибки в речи невежливо и неприлично. Все равно что на вечеринке удивиться, что твой собеседник чего-то там не читал, как было с Сэмюэлом в первую неделю работы, на общефакультетском ужине у декана, дамы, которая, прежде чем ее резко повысили в должности, работала на кафедре английского языка и литературы. Предполагалось, что это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, узнать их получше. Научная карьера декана сложилась типично: она выбрала крайне узкую специализацию и досконально ее изучила (ее интересовали только произведения, написанные во время чумы и о чуме). За ужином она поинтересовалась мнением Сэмюэла о некоем фрагменте “Кентерберийских рассказов”, и когда он замялся, сказала чуть громче, чем следовало: “Так вы их не читали? Боже мой”.
– И между прочим? – говорит Лора. – С вашей стороны нечестно было проводить контрольную.
– Какую контрольную?
– Ту, которую вы сделали вчера? По “Гамлету”? Я вас спрашивала, будет ли контрольная, и вы ответили “нет”. А потом все равно провели.
– Это мое право.
– Вы меня обманули.
Лора произносит это оскорбленно-трагическим тоном, словно позаимствованным из семейных сериалов.
– Не обманул, а передумал, – возражает Сэмюэл.
– Вы сказали мне неправду.
– Не надо было пропускать занятие.
Что же именно в Ларри Брокстоне так его бесило? Почему его буквально тошнило, когда он видел, как они с Лорой вместе сидят, вместе смеются, вместе идут домой? Отчасти это объяснялось тем, что Сэмюэл считал парня ничтожеством – его манеру одеваться, глубокое невежество, лицо с выдающейся челюстью, непрошибаемое молчание во время обсуждений на уроке, сидит себе, не шелохнется, кусок биомассы, который ничего не может дать ни классу, ни миру. Да, все это злило Сэмюэла, и злость его подогревало то, что Лора наверняка ему даст. Позволит себя обнять, нежно ткнется носом в его кожу цвета гнилой картошки, прижмется губами к его запекшимся губам, позволит ему щупать ее тело руками с криво обгрызенными ногтями в капельках застывшей сукровицы. Оттого что она сама стащит с него эти просторные баскетбольные шорты в его убогой комнатушке в общаге, где наверняка воняет потом, лежалой пиццей, коростой и мочой, оттого что она охотно все это позволит и не будет об этом жалеть, Сэмюэл жалел ее.
– Если я и пропустила занятие, – заявляет Лора, – это еще не значит, что нужно меня валить. Это несправедливо.
– Я не поэтому вас валю.
– Это же одно-единственное занятие. Чего сразу так кипятиться?
Но еще сильнее Сэмюэла задевало то, что Лору и Ларри объединила нелюбовь к нему. Ему казалось, что именно поэтому их тянуло друг к другу. Они оба считали его скучным и нудным, а этого вполне достаточно, чтобы завязать разговор, достаточно, чтобы заполнить паузы во время страстного петтинга. Так что в некотором смысле это его вина. Сэмюэл чувствовал ответственность за сексуальную катастрофу, которая разворачивалась на его занятиях, на заднем ряду слева.
– Давайте вот что сделаем, – Лора выпрямилась в кресле и подалась к нему. – Я извинюсь за то, что сдала чужое сочинение, а вы извинитесь за то, что провели контрольную.
– Допустим.
– И в качестве компромисса я перепишу сочинение, а вы зададите мне дополнительную контрольную. И всем хорошо. – Она поднимает руки ладонями кверху и улыбается. – Вуаля, – произносит Лора.
– Какой же это компромисс?
– Давайте больше не будем обсуждать, что я сделала. Лучше поговорим о том, как теперь быть.
– Если вы добьетесь своего – это не компромисс.
– Но вы ведь тоже добьетесь своего. Я целиком и полностью возьму на себя ответственность за свой поступок.
– Это каким же образом?
– Я признаю, что виновата. Скажу, – Лора показывает пальцами в воздухе кавычки, – что “беру на себя ответственность за свой поступок”, – кавычки закрываются.
– Взять на себя ответственность за свои действия – значит принять их последствия.
– То есть провалиться.
– Да, именно так.
– Так нечестно! Почему я должна отвечать за свой поступок, если вы меня все равно завалите? Либо одно, либо другое. Иначе никак. И знаете что?
– Мне ведь даже не нужен этот курс. Мне вообще не следовало на него ходить. Чем мне все это поможет в реальной жизни? Неужели кто-нибудь когда-нибудь спросит меня, читала ли я “Гамлета”? Разве это важно? Ну скажите, когда мне это может понадобиться? А? Скажите, как мне пригодятся эти знания?
– Не в этом дело.
– Нет, именно в этом. Как раз в этом-то все и дело. Потому что вам нечего мне ответить. Вы не можете мне даже ответить, когда мне пригодятся эти знания. А знаете почему? Потому что они мне никогда не понадобятся.
Сэмюэл знает, что, пожалуй, так и есть. Глупо просить студентов найти логические ошибки в “Гамлете”. Но с тех пор как вступил в должность нынешний проректор, одержимый идеей преподавать точные науки и математику в каждом курсе (причина, по которой студентов нужно заставлять учить эти дисциплины, – чтобы они могли конкурировать с китайцами, что-то в этом роде), Сэмюэлу приходится каждый год отчитываться, как именно он внедряет математику в занятия по литературе. Преподавание логики – шаг в этом направлении, и сейчас он жалеет, что преподавал ее спустя рукава: по подсчетам Сэмюэла, за время их разговора Лора допустила что-то около десяти логических ошибок.
– Я же вас не заставляю ко мне ходить, – отвечает Сэмюэл. – Вас сюда никто силой не тащит.
– Нет, заставляете! Из-за вас всех мне приходится читать дурацкого “Гамлета”, который мне в жизни не понадобится!
– Вы всегда можете бросить занятия.
– Не могу!
– Почему?
– Я не могу завалить экзамен, потому что он мне нужен для аттестации по гуманитарным наукам, чтобы осенью можно было пойти на макро– и микростатистику, чтобы к следующему лету, когда мне нужно будет проходить дипломную практику, сдать все досрочно и закончить колледж за три с половиной года, потому что на четыре у моих родителей не хватит денег, хотя раньше их было полно, но они все истратили на адвоката по разводам, а мне сказали, мол, “в трудную минуту всем приходится чем-то жертвовать”, значит, мне придется либо брать кредит на последний семестр, либо рвать задницу, чтобы закончить досрочно, так что, если я буду повторно слушать этот курс, весь мой план полетит к черту. А маме после развода и так-то несладко, а сейчас у нее и вовсе нашли опухоль? В матке? На следующей неделе операция? А я раз в неделю мотаюсь домой, чтобы ее “поддержать”, это она так говорит, хотя мы только и делаем, что играем в банко[9] с ее тупыми подругами. А бабушка после смерти дедушки осталась совсем одна и путает, какое лекарство в какой день принимать, так что мне приходится о ней заботиться и раз в неделю раскладывать таблетки по коробочкам, иначе она впадет в кому или еще чего-нибудь, понятия не имею, кто позаботится о бабушке на следующей неделе, когда мне нужно будет отбыть три дня общественных работ, идиотизм какой-то, на той вечеринке все пили не меньше, но за пьянку в общественном месте задержали почему-то меня одну, я наутро спросила копа, как он определил, что я была пьяная, а он сказал, мол, я стояла посреди улицы и орала во все горло: “Как же я напилась!”, вот напрочь этого не помню. Так мало того, моя соседка по комнате, эта свинота и грязнуха, постоянно берет мою диетическую пепси и никогда не возвращает, даже спасибо не скажет, как ни залезу в холодильник, еще одной банки нету, а еще она шмотки повсюду разбрасывает и вечно достает меня советами, как правильно питаться, хотя сама весит центнер с лишним, но считает, что круто разбирается в диетах, потому что когда-то весила сто пятьдесят и теперь такая: “Знаешь, как похудеть на пятьдесят килограмм?”, а я ей: “Да мне как-то и не надо”, но нет, она, не затыкаясь, трындит о том, как похудела на пятьдесят килограмм и полностью изменила свою жизнь с тех пор, как решила похудеть, и похудение то, и похудение се, я это уже слышать не могу, прям бесит, у нее еще на стенке этот дурацкий календарь похудения, такой огромный, что мне даже постеры повесить некуда, но я ничего не могу ей сказать, ведь я же вроде как должна ее поддерживать? И типа спрашивать, удалось ли ей сегодня сжечь норму калорий, и если да, говорить, ух ты, молодчина, и не приносить никакую самоубийственную пищу, это она так говорит, самоубийственную, чтобы ее не искушать, хотя с какой стати я должна мучиться из-за того, что она жирная, ну да ладно, пусть, я даже больше не покупаю ни чипсы, ни печенье, ни кексики, такие, знаете, полосатые, хотя я их обожаю, но я ведь хочу быть хорошей соседкой, хочу ее поддержать, и единственное удовольствие, которое я себе позволяю в жизни, моя диетическая пепси, между прочим, ей такое вообще нельзя, она же сама говорила, что пока не похудела, газировка для нее была как наркотик, а я ее успокоила, мол, в диетической пепси всего две калории, так что тебе можно. А еще моего папу на той неделе пырнули ножом на пенной вечеринке. Сейчас он уже оправился, а я все равно никак не могу сосредоточиться на учебе, потому что папу чуть не зарезали, и что он вообще делал на пенной вечеринке, он молчит, как воды в рот набрал, а стоит мне об этом заговорить, как он тут же делает вид, что меня нет, как с мамой. А мой парень уехал учиться в Огайо и вечно просит прислать ему голые фотки, чтобы не думать об окружающих красивых телках, а я боюсь, что если не буду ему слать эти фотки, он переспит с какой-нибудь местной шлюхой, и я сама буду в этом виновата, я делаю фотки и шлю ему, я знаю, ему нравится, когда там бреют, я не против, мне не трудно для него побриться, но потом меня закидывает прыщами и все ужасно чешется, выглядит как черт знает что, а один прыщ воспалился, и представьте себе, каково это – объяснять девяностолетней медсестре в студенческой поликлинике, что тебе нужна мазь, потому что ты брила лобок и порезалась. А еще у меня шина на велике спустила, как будто мало мне всего остального, и кухонная раковина засорилась, соседкины волосы валяются по всей ванне, все мое лавандовое мыло в ее волосах, а маме пришлось отдать нашего бигля, потому что куда ей сейчас еще и собаку, в холодильнике диетическая ветчина лежит почти месяц, уже вонять начала, лучшей подруге сделали аборт, а еще у меня накрылся интернет.
Разумеется, Лора Потсдам заливается слезами.
– Меня выгонят из университета! – ревет Лора и монотонно причитает, так что слова слипаются: – Если вы меня завалите, мне перестанут оплачивать учебу, а сама я платить за колледж не смогу, и меня исключат!
Беда в том, что при виде чужих слез Сэмюэла так и подмывает зарыдать. Так было всегда, сколько он себя помнит. Он словно ребенок в детском саду, который плачет от жалости к другим детям. Ему кажется, что тот, кто плачет при посторонних, беззащитен и уязвим, ему становится неловко и стыдно сперва за того, кто плачет, а потом и за себя: в нем просыпается детская ненависть к самому себе, скопившаяся за все время, что он рос таким здоровым плаксой. Все сеансы психотерапии, все детские унижения и обиды – все это при виде чужих слез снова наваливается на Сэмюэла. Его тело словно превращается в сплошную открытую рану, когда даже легкий ветерок причиняет физическую боль.
Лора не пытается сдержать слезы, отдается рыданиям целиком. Всхлипывает, шмыгает носом, икает, нелепо кривит лицо. Глаза покраснели, мокрые щеки блестят, из левой ноздри свисает сопля. Лора понурила плечи, ссутулилась, смотрит в пол. Сэмюэлу кажется, что еще десять секунд – и с ним приключится то же самое. Он не выносит вида чужих слез. Именно поэтому свадьбы коллег и дальних родственников для него сущее наказание: он рыдает несоразмерно степени близости к жениху и невесте. То же самое с грустными фильмами в кинотеатрах: даже если он не видит, как другие плачут, он слышит, как кругом всхлипывают, сморкаются, шмыгают носом, после чего находит аналог услышанного в богатом внутреннем архиве плачей и “примеряет” на себя, и еще хуже, если это происходит на свидании, поскольку он чутко следит за эмоциональным состоянием партнерши и смертельно боится, что она потянется к нему в поисках утешения и обнаружит, что он ревет в десять раз сильнее нее самой.
– И мне придется вернуть все стипендии! – наполовину выкрикивает Лора. – Если я провалюсь, мне придется все выплачивать, моя семья разорится, мы окажемся на улице и будем голодать!
Сэмюэл чует, что это ложь, потому что по стипендиям нет таких правил, но не может и рта раскрыть, поскольку старается подавить рыдания. Они подступают к горлу, давят на кадык, он вспоминает все свои жуткие детские истерики, все испорченные дни рождения, семейные ужины, прекратившиеся на середине, вспоминает, как ошарашенные одноклассники молча провожали его глазами, когда он выбегал из класса, как громко и раздраженно вздыхали учителя, директоры школы и особенно мама – о, как же маме хотелось, чтобы он успокоился, как она во время очередной истерики гладила его по плечам, чтобы он перестал плакать, приговаривая: “Все хорошо, все хорошо”, со всей нежностью, на которую только была способна, не понимая, что именно от ее сочувствия, от того, что она видит, как он плачет, он рыдает еще горше. Сэмюэл чувствует, как слезы теснят грудь, он задерживает дыхание, мысленно повторяя: “Все под контролем, все под контролем”, обычно это срабатывает, но вот уже легкие саднят от нехватки воздуха, глаза болят, словно их раздавили, как оливки, и выхода у него всего два: либо, всхлипывая, разрыдаться при Лоре Потсдам, что само по себе немыслимо, ужасно, стыдно, унизительно, – или заставить себя рассмеяться. Этому трюку научил его психолог в средней школе: “Смех – противоположность слез, поэтому, когда тянет расплакаться, постарайся рассмеяться, и все пройдет: одно вытеснит другое”. Тогда этот совет показался ему глупостью, но, как ни странно, в качестве крайней меры прием срабатывал. Сэмюэл знает, что сейчас это единственная возможность предотвратить дичайшую истерику. Он не думает о том, как истолкуют его смех в такую минуту: лишь о том, что любая реакция в миллион раз лучше слез, так что когда бедная Лора – понурая, несчастная, беззащитная – причитает, всхлипывая: “А на следующий год я не смогу вернуться в университет, у меня не останется денег, мне некуда будет идти, я не знаю, как жить дальше”, Сэмюэл отвечает ей протяжным “Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хаааааа!”
Пожалуй, он совершил ошибку.
Он уже видит, какой эффект произвел его смех. По лицу Лоры скользнуло удивление, но тут же сменилось яростью и даже отвращением: она словно окаменела. Теперь Сэмюэл понимает, что его смех, неискренний и агрессивный, как у киношного злодея, прозвучал жестоко. Лора напряглась, выпрямилась, насторожилась и холодно смотрела на него. От слез не осталось и следа. Не передать словами, как быстро изменилось выражение ее лица. Сэмюэлу пришло на ум словосочетание, которое он видел на упаковках замороженных овощей в продуктовом магазине: “мгновенная заморозка”.
– Зачем вы так? – неестественно ровным, сдержанным тоном спросила Лора. Пугающее спокойствие, от которого веет опасностью, как от наемного убийцы.
– Простите, я не хотел.
Она мучительно долго разглядывает его лицо. Капля, свисавшая с ее носа, исчезла. Невероятная трансформация: ни намека на то, что Лора плакала. Даже щеки сухие.
– Вы надо мной смеялись, – произносит она.
– Да, – признает Сэмюэл. – Все так.
– Почему вы надо мной смеялись?
– Простите, – отвечает он. – Я был неправ. Мне очень жаль.
– За что вы меня так ненавидите?
– Я вас вовсе не ненавижу, что вы, Лора. Честное слово.
– За что все меня так ненавидят? Что я такого сделала?
– Ничего. Вы ни в чем не виноваты. Вы тут ни при чем. Вы всем нравитесь.
– Неправда.
– Вы очень милая. Вы всем нравитесь. И мне вы тоже нравитесь.
– Правда? Я вам нравлюсь?
– Да. Очень. Вы мне очень нравитесь.
– Правда?
– Ну конечно. Простите меня еще раз.
К счастью, Сэмюэла уже не тянет удариться в слезы, так что он расслабляется и слабо улыбается Лоре. На душе у него становится легко от того, что все успокоилось и окончилось так хорошо и мирно, ему кажется, что они только что преодолели серьезную опасность, как два однополчанина на войне или соседи по креслам в самолете после затяжной турбулентности. Сейчас он чувствует душевное родство с Лорой, поэтому улыбается, кивает и, кажется, даже подмигивает ей. Он испытывает такое облегчение, что на самом деле подмигивает Лоре.
– Ах вот оно что, – замечает Лора, кладет ногу на ногу и откидывается в кресле. – Все с вами ясно. Вы в меня влюбились.
– Что?
– Ну конечно, как же я раньше не догадалась.
– Нет, вы меня не так поняли…
– Ладно-ладно. В меня и раньше влюблялись учителя. Это даже мило.
– Нет, вы меня действительно не так поняли.
– Вы же сами сказали, что я вам очень нравлюсь.
– Да, но я совсем не это имел в виду, – оправдывается Сэмюэл.
– Я знаю, что вы сейчас скажете. Либо я с вами пересплю, либо не сдам экзамен. Угадала?
– Ничего подобного, – возражает он.
– Вот к чему все шло с самого начала. Вы все это затеяли, чтобы со мной переспать.
– Нет! – восклицает Сэмюэл.
Обвинение его задевает, как это обычно бывает: даже если ты ни в чем не виноват, все равно смущаешься. Он встает, проходит мимо Лоры, открывает дверь кабинета и говорит:
– Вам пора идти. Разговор окончен.
– Вы не можете меня завалить, – сообщает Лора, явно не намеренная уходить. – По закону вы не имеете такого права.
– Встреча окончена.
– Вы не можете меня завалить, потому что у меня нарушение обучаемости.
– Нет у вас никакого нарушения обучаемости.
– Есть. Мне трудно сосредоточиться, я не могу сдать работу в срок, у меня проблемы с чтением и не получается ни с кем подружиться.
– Неправда.
– Правда. Проверьте, если хотите. У меня и справка есть.
– И как же называется ваше нарушение обучаемости?
– У него пока что нет названия.
– Удобно.
– По закону о Защите прав граждан с ограниченными возможностями вы должны создать особые условия для всех студентов со справкой о нарушении обучаемости.
– Вы говорите, что у вас не получается ни с кем подружиться. Но это не так.
– Так. У меня нет друзей.
– Я все время вижу вас с друзьями.
– Надолго их не хватает.
Сэмюэл вынужден признать, что это правда. Он изо всех сил пытается сообразить, какую бы гадость сказать Лоре. Придумывает оскорбление, которое перевесило бы ее обвинение в том, что он якобы в нее влюбился. Если он как следует заденет Лорины чувства, если обидит ее побольнее, он будет оправдан. Сказав Лоре гадость, он тем самым докажет, что не влюблен в нее: так рассуждает Сэмюэл.
– И на какие же такие, по-вашему, особые условия вы имеете право? – интересуется он.
– Сдать экзамен.
– Вы считаете, что Закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями придумали для тех, кто списывает?
– Тогда переписать сочинение.
– Так какое же у вас все-таки нарушение?
– Я же вам сказала, ему еще не дали названия.
– Кто не дал?
– Ученые.
– И они не могут понять, что же это такое.
– Именно.
– В чем же проявляется ваше нарушение?
– Ой, да это вообще ужас что такое. Каждый день живешь как в аду?
– И все-таки какие у него симптомы?
– Ну, например, я отвлекаюсь через три минуты после начала занятия и не могу сосредоточиться, вообще никогда не делаю, что мне говорят, никогда ничего не записываю, не запоминаю имена, иногда, дочитав до конца страницы, не помню, о чем шла речь. Все время теряю, где читала, перескакиваю строчки через четыре и даже не замечаю, не понимаю большинства графиков и схем, сроду не решила ни одной головоломки, а иногда говорю совсем не то, что хотела сказать. Еще у меня отвратительный почерк, я ни разу в жизни не написала правильно слово “алюминий”, иногда обещаю соседке, что уберу свою половину комнаты, хотя даже не собираюсь этим заниматься. На улице я не могу правильно определить расстояние и, хоть убейте, не знаю, где север. Я понятия не имею, что значит пословица “лучше синица в руке, чем журавль в небе”. В прошлом году я раз восемь теряла мобильный. Я десять раз попадала в аварию на машине. А когда играю в волейбол, мяч то и дело попадает мне в лицо, хотя мне это и неприятно.
– Видите ли, Лора, – произносит Сэмюэл, чувствуя, что минута настала, оскорбление созрело и готово сорваться с его губ, – нет у вас никакого нарушения обучаемости.
– Нет, есть.
– Нет, – отвечает Сэмюэл и делает театральную паузу. Следующую фразу он намерен произнести медленно и внятно, так чтобы до Лоры дошло: – Просто вы не очень умны.
– Как вы можете так говорить? – восклицает Лора, вскакивает и хватает сумку, готовая в негодовании выйти из кабинета.
– Но это правда, – не сдается Сэмюэл. – Вы не очень умны, да и человек вы не очень хороший.
– Вы не имеете права так говорить!
– Нет у вас никакого нарушения обучаемости.
– Я добьюсь, чтобы вас уволили!
– Вы обязаны это знать. Кто-то же должен был вам об этом сказать.
– Да вы просто хам!
Тут Сэмюэл замечает, что крики Лоры привлекли внимание других преподавателей. Тут и там приоткрываются двери, и коллеги выглядывают в коридор. Трое студентов, сидящих на полу среди сумок с книгами (наверно, работали над каким-нибудь групповым проектом), изумленно смотрят на Сэмюэла. Ему тут же становится стыдно, и с него слетает весь кураж. Он произносит с опаской, децибел на тридцать тише прежнего:
– Вам пора.
Лора вихрем вылетает из кабинета в коридор, резко разворачивается и кричит:
– Я, между прочим, плачу за обучение! И очень неплохо! Я плачу вам зарплату, и вы не имеете права так со мной обращаться! Мой отец дает этому университету кучу бабок! Больше, чем вы получаете за год! Он адвокат, он вас всех засудит! Сами напросились, теперь пеняйте на себя! Вы у меня попляшете!
С этими словами она снова разворачивается, стремительно шагает прочь и скрывается за углом.
Сэмюэл закрывает дверь. Садится. Смотрит на растение в горшке – милую маленькую гардению, которая что-то подвяла. Берет пульверизатор и несколько раз спрыскивает растение. Пульверизатор тихонько покрякивает, как уточка.
О чем он думает? Пожалуй, о том, что, скорее всего, сейчас расплачется. А Лора Потсдам наверняка добьется, чтобы его уволили. В кабинете у него до сих пор воняет. Жизнь прожита зря. И как же его бесит слово “бабки”.
– Алло!
– Добрый день! Я бы хотел поговорить с мистером Сэмюэлом Андресеном-Андерсоном.
– Это я.
– Профессор Андресен-Андерсон, сэр, как хорошо, что я до вас дозвонился. Это Саймон Роджерс…
– Можно просто Андерсон.
– Что?
– Сэмюэл Андерсон, и все. Двойную фамилию трудно выговаривать.
– Как скажете, сэр.
– А кто это?
– Как я уже говорил, сэр, это Саймон Роджерс из адвокатской фирмы “Роджерс и Роджерс”. Мы находимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Может, слышали о нас? Мы занимаемся в основном громкими политическими преступлениями. Я звоню по поводу вашей матери.
– Что?
– Громкими политическими преступлениями, которые обычно совершают из благородных побуждений сторонники левых взглядов. Ну вы понимаете. Может, слышали про людей, которые приковывают себя к деревьям? Это наши клиенты. Или когда нападают на китобойные суда, а потом по телевизору показывают об этом репортаж – все это как раз наши случаи. Или, к примеру, стычка с чиновником-республиканцем, ролик с которым в интернете посмотрели миллионы, если вы понимаете, куда я клоню. Мы защищаем фигурантов политических дел, при условии, конечно, что ими интересуются СМИ.
– Вы, кажется, говорили о моей матери?
– Да, о вашей матери, сэр. Я ее адвокат по делу о государственном иске. Принял его от общественного защитника Чикаго.
– Какой еще государственный иск? Какое дело?
– Я буду представлять ее интересы как в суде, так и в СМИ, по крайней мере пока хватит средств, но это мы с вами лучше обсудим потом, сэр, не сегодня, было бы невежливо начинать общение с разговора о деньгах.
– Ничего не понимаю. Каких средств? При чем тут СМИ? Это мать попросила вас позвонить?
– С какого вопроса мне начать?
– Что происходит?
– Как вы, должно быть, уже знаете, сэр, вашу матушку обвиняют в нападении с применением физического насилия. А поскольку, что уж греха таить, все улики свидетельствуют против нее, скорее всего, ей придется признать свою вину, то есть пойти на сделку со следствием.
– Моя мать на кого-то напала?
– Эээ… давайте с самого начала. Я думал, вы уже знаете.
– Что знаю?
– Про мать.
– Откуда мне что-то знать про нее?
– Так в новостях же передавали.
– Я не смотрю новости.
– Об этом рассказывали по местным, кабельным, федеральным каналам, писали в газетах, в новостных рассылках, упоминали в ток-шоу и юмористических передачах.
– Ничего себе.
– Ну и в интернете. Ролик про нападение ходит по сети. Вы разве не заходили ни на какие сайты?
– А когда это было?
– Позавчера. Ролик с вашей матушкой, не побоюсь этого слова, стал вирусным. Превратился в мем.
– На кого она напала?
– На Шелдона Пэкера. Губернатора Вайоминга Шелдона Пэкера. Бросила в него камнем. Точнее, камнями.
– Не может этого быть.
– Впрочем, пока идет следствие, я не стал бы называть орудие нападение “камнями”. Скорее, мелкие камешки, галька или даже, пожалуй, гравий.
– Это ложь. Кто вы?
– Как я уже сказал, Саймон Роджерс из “Роджерс и Роджерс”, сэр, а вашу матушку будут судить.
– За нападение на кандидата в президенты.
– Ну, формально он еще не кандидат, но в целом вы правы. Ролик в буквальном смысле круглые сутки крутят по всем новостным каналам. Неужели вы ничего об этом не слышали?
– Я был занят.
– Вы преподаете “Введение в литературу”. Занятия дважды в неделю по часу. Надеюсь, сэр, вы не сочтете меня слишком назойливым или бестактным за то, что я это разузнал: информация есть на сайте университета.
– Понятно.
– Чем же таким вы занимались остальные без малого сорок часов с тех пор, как произошло нападение?
– Сидел за компьютером.
– И этот компьютер наверняка подключен к интернету?
– Как вам сказать… в общем, я писал. Я писатель.
– Потому что вся страна сейчас думает примерно одно: “Давайте уже поговорим о чем-то другом, кроме Фэй Андресен-Андерсон”. Новость у всех на устах, сэр, поэтому я и удивился, что вы об этом ни сном ни духом, учитывая, что речь идет о вашей матери.
– Видите ли, мы с ней не общаемся.
– Этой истории сочинили броское заглавие: “Щебень для Шелдона”. Ваша матушка произвела сенсацию.
– Вы уверены, что это моя мать? Вообще-то это на нее не похоже.
– Вы Сэмюэл Андресен-Андерсон? Это ваше полное имя по документам?
– Да.
– А вашу маму зовут Фэй Андресен-Андерсон?
– Да.
– Она живет в Чикаго, штат Иллинойс?
– Нет, не в Чикаго.
– А где же?
– Откуда мне знать. Я с ней двадцать лет не общался!
– То есть вы не знаете, где она проживает в настоящий момент. Я вас правильно понял?
– Да.
– Следовательно, она может жить в Чикаго, штат Иллинойс, просто вы об этом не знаете.
– Верно.
– Значит, женщина, которая сейчас в тюрьме, вероятнее всего, ваша матушка. Вот что я хочу сказать. Независимо от того, каков ее нынешний адрес.
– И она напала на губернатора…
– Мы предпочитаем более мягкие термины. Не “напала”. Скорее, воспользовалась правом, которое обеспечивает Первая поправка к Конституции, посредством символического жеста: бросила в губернатора гравием. Судя по щелканью клавиатуры, вы проверяете эти сведения с помощью поисковой системы?
– О господи, да тут миллионы результатов!
– Так точно, сэр.
– И ролик есть?
– Набрал несколько миллионов просмотров. А еще с ним сделали ремикс и наложили на него забавную хип-хоп-песню.
– Глазам своим не верю.
– Лучше вам эту песню не слушать, сэр, по крайней мере, пока рана не заживет.
– Тут в одной статье мою мать сравнивают с боевиками “Аль-Каиды”.
– Да, сэр. Ужасные гадости. Несут что попало. В новостях. Кошмар.
– Что еще о ней пишут?
– Лучше вы сами почитайте.
– Ну хотя бы намекните.
– Видите ли, сэр, ситуация напряженная. Страсти накалились. Все, разумеется, считают, что это политический жест.
– Так что о ней говорят?
– Что она террористка, хиппи, радикалка и проститутка, сэр. Вот вам лишь один пример – гадкий, но очень показательный.
– Проститутка?
– Террористка, хиппи, радикалка, и – да, вы не ослышались, сэр, – проститутка. Вашу матушку, с позволения сказать, поносят последними словами.
– Но почему ее называют проституткой?
– Ее задерживали за проституцию, сэр. В Чикаго.
– Что-что?
– Задержали, но обвинение так и не предъявили. Считаю важным дополнить.
– В Чикаго.
– Да, сэр, в Чикаго, в шестьдесят восьмом. За несколько лет до вашего рождения, так что она вполне могла изменить свое поведение и прийти к Богу, и я об этом непременно упомяну, если дойдет до суда. Да, мы, разумеется, говорим о сексуальной проституции.
– Ну вот, видите? Это невозможно, в шестьдесят восьмом ее не было в Чикаго. Она была дома, в Айове.
– Наши документы свидетельствуют о том, что она провела в Чикаго месяц в конце шестьдесят восьмого года, сэр, когда училась в университете.
– Моя мать не училась в университете.
– Ваша мать его не закончила. Но она была в списке студентов Иллинойсского университета в Чикаго в осеннем семестре шестьдесят восьмого года.
– Неправда, мать выросла в Айове, там же закончила школу, а потом ждала, когда отец вернется из армии. Она никогда не уезжала из родного города.
– Наши документы свидетельствуют об обратном.
– Она впервые уехала из Айовы только в восьмидесятых годах.
– Наши документы, сэр, свидетельствуют о том, что она принимала активное участие в антивоенных демонстрациях шестьдесят восьмого года.
– Это решительно невозможно. Мама сроду не стала бы протестовать против чего бы то ни было – не такой она человек.
– Повторяю вам, сэр: это правда. Есть фотография. То есть фотодоказательство.
– Значит, вы обознались. Спутали ее с кем-то другим.
– Фэй, девичья фамилия Андресен, родилась в тысяча девятьсот пятидесятом году в Айове. Хотите, продиктую девять цифр ее номера социального страхования?
– Нет.
– А то у меня есть номер ее страховки.
– Нет.
– В общем, скорее всего, это она, сэр. Если только улики не докажут обратное и не выяснится, что это чудовищное совпадение, женщина в тюрьме, скорее всего, ваша мать.
– Ну ладно.
– Вероятность очень высока. Девяносто девять процентов. Ни малейших причин сомневаться. Скорее всего, это она, как бы вам ни хотелось верить в обратное.
– Понятно.
– Значит, отныне я называю женщину, которая сидит в тюрьме, вашей матерью. Мы ведь не будем больше об этом спорить?
– Нет.
– Как я уже говорил, едва ли вашу мать признают невиновной, поскольку против нее свидетельствуют, можно сказать, неопровержимые улики. Нам остается лишь уповать на снисхождение суда и мягкий приговор.
– Ну а я-то здесь при чем?
– Вы можете дать показания о характере и моральном облике вашей матери. Напишете судье письмо, объясните, что ваша матушка ничем не заслужила того, чтобы ее посадили в тюрьму.
– С какой статьи судья должен мне верить?
– Скорее всего, он и не поверит. Тем более этот. Судья Чарльз Браун. Он же “Чарли”. Я не шучу, сэр, его действительно так зовут. В следующем месяце он должен был выйти на пенсию, но решил с этим повременить, чтобы участвовать в процессе над вашей матерью. Видимо, потому что дело громкое. Шум на всю страну. А еще почтенный Чарли Браун славится нелюбовью к делам, связанным с Первой поправкой. Он не очень-то терпим к инакомыслию, вот что я вам скажу.
– Но если он меня не послушает, к чему вообще писать ему письмо? Зачем вы мне позвонили?
– Потому что вы занимаете в некотором смысле почетную должность, вы довольно известны, и пока в фонде есть деньги, я испробую все возможные средства. Я своей репутацией дорожу.
– Что еще за фонд?
– Видите ли, сэр, в определенных кругах губернатор Шелдон Пэкер пользуется дурной славой. Некоторые считают вашу матушку героиней, которая подрывает существующие политические устои.
– Из-за того, что она кинула камнем в губернатора.
– На одном из чеков, который я обналичил, было написано: “Отважному борцу с республиканским фашизмом”. Деньги на ее защиту текут рекой. Хватит на оплату моих услуг за четыре месяца.
– А что потом?
– Я верю, что нам удастся достичь соглашения раньше этого. Вы ведь нам поможете?
– С какой стати? Почему я должен ей помогать? Как это на нее похоже!
– Что именно, сэр?
– Вся эта страшная тайна: то, что она училась в университете, ходила на демонстрации протеста, попала под арест, – все, о чем я ни сном ни духом. Еще один секрет, о котором она мне не рассказывала.
– Наверняка у нее были на то свои причины, сэр.
– Мне нет до них никакого дела.
– Должен сказать, что ваша матушка отчаянно нуждается в вашей помощи.
– Я не буду писать письмо, и мне плевать, посадят ее или нет.
– Но это же ваша мать! Она вас родила и, как говорится, вскормила.
– Она бросила нас с отцом. Ушла, не сказав ни слова. И я считаю, что с тех пор она мне больше не мать.
– И вы в глубине души никогда не надеялись с ней помириться? Не тосковали по маме, жизнь без которой так пуста и никчемна?
– Мне пора.
– Она вас родила. Целовала ваши бо-бо. Резала вам бутерброды на маленькие кусочки. Неужели вам не хочется, чтобы в вашей жизни был человек, который помнит день вашего рождения?
– Я кладу трубку. Прощайте.
Сэмюэл слушает, как свистит кофемашина в кафе аэропорта, взбивая пену для капучино, когда ему приходит первое письмо о Лоре Потсдам. От декана, той самой исследовательницы чумы. “Ко мне приходила ваша студентка, – пишет она, – с какими-то странными обвинениями. Это правда, что вы обозвали ее дурой?” Остаток письма Сэмюэл просматривает по диагонали, чувствуя, как его буквально засасывает в кресло. “Поражаюсь вашей бесцеремонности. Мне мисс Потсдам вовсе не показалась глупой. Я разрешила ей переписать работу, чтобы получить положительную оценку. Нам необходимо как можно скорее обсудить эту ситуацию”.
Он сидит в кофейне напротив того выхода, у которого примерно через пятнадцать минут начнется посадка на полуденный рейс в Лос-Анджелес. Сэмюэл встречается здесь с Гаем Перивинклом, своим редактором и издателем. По телевизору, который висит у Сэмюэла над головой, без звука крутят новости, где показывают, как его мать бросает камнями в губернатора Пэкера.
Он старается не смотреть на экран. Слушает звуки аэропорта: в кофейне выкрикивают имена посетителей, чей заказ готов, по громкой связи сообщают об угрозе террористических актов и о том, что нельзя оставлять вещи без присмотра, плачут дети, свистит пар, булькает молоко. Рядом с кофейней – чистка обуви: два высоких, как троны, кресла, у подножия которых сидит чистильщик, чернокожий паренек, и читает книгу. На чистильщике униформа сообразно его занятию: подтяжки, бейсболка, кепка газетчика – условный ансамбль начала двадцатого века. Сэмюэл ждет Перивинкла, который хочет почистить обувь, но не решается.
– Я белый в дорогом костюме, – поясняет Перивинкл, рассматривая чистильщика. – Он – меньшинство в ретро-наряде.
– И при чем тут это? – недоумевает Сэмюэл.
– Не нравится мне эта картинка. Противен сам образ.
Сегодня днем Перивинкл в Чикаго, но проездом в Лос-Анджелес. Его секретарь позвонил Сэмюэлу и сказал, что Перивинкл хочет с ним встретиться, но свободное время у него будет только в аэропорту. Поэтому секретарь купил Сэмюэлу билет в один конец до Милуоки, пояснив, что при желании Сэмюэл, конечно, может туда полететь, но вообще это нужно лишь для того, чтобы охрана пропустила в аэропорт.
Перивинкл не сводит глаз с чистильщика обуви.
– Знаете, что самое противное? Камеры в мобильных телефонах.
– Мне никогда не чистили обувь.
– Нечего носить кроссовки, – не глядя на ноги Сэмюэла, бросает Перивинкл.
То есть за считаные минуты, которые они провели вместе в аэропорту, Перивинкл подметил и запомнил, что на Сэмюэле дешевые кроссовки. И наверняка обратил внимание на что-нибудь еще.
В присутствии Перивинкла Сэмюэл всегда чувствует себя примерно так: по сравнению с издателем он кажется себе невзрачным и убогим. Перивинкл выглядит на сорок, на деле же он ровесник отца Сэмюэла: ему лет шестьдесят пять. Время над ним не властно: с возрастом он становится только круче. Осанка у него царственная, держится Перивинкл прямо и чопорно – несет себя, точно дорогой подарок в красивой тугой обертке. Носы его строгих, похожих на итальянские туфель из тонкой кожи чуть загибаются кверху. Талия сантиметров на двадцать тоньше, чем у любого взрослого мужчины в аэропорту. Галстучный узел тугой и ладный, как желудь. Седеющие волосы острижены под машинку с идеальной точностью – ровно один сантиметр. Рядом с Перивинклом Сэмюэл всегда кажется себе огромным и неуклюжим. Готовая одежда велика примерно на размер и сидит мешком. Безупречный костюм Перивинкла облегает тело, подчеркивая чистые углы и прямые линии. Сэмюэл на его фоне еще больше похож на бесформенный пузырь.
Перивинкл точно прожектор высвечивает все чужие недостатки. Заставляет всерьез задуматься о том, какое ты производишь впечатление. Например, Сэмюэл всегда в кафе берет капучино. При Перивинкле же заказал зеленый чай. Потому что капучино показался ему слишком пошлым, и он решил, что зеленый чай поднимет его в глазах издателя.
А Перивинкл взял капучино.
– Лечу в Эл-Эй, – сообщил он. – На съемки нового клипа Молли.
– Молли Миллер? – уточнил Сэмюэл. – Певицы?
– Именно. Мы с ней работаем. Скажем так. Сейчас она снимает новый клип. Новый альбом. Камео в ситкоме. На подходе реалити-шоу. И мемуары, из-за которых я туда и лечу. Рабочее название “Ошибки, которые я успела натворить”.
– Ей же что-то лет шестнадцать?
– Официально семнадцать. На самом деле двадцать пять.
– Да ладно!
– Да-да. Только никому не говорите.
– И о чем книжка?
– Трудно сказать. Книга должна быть оригинальной, но в меру, чтобы не навредить имиджу, и при этом нескучной, потому что Молли у нас вроде как девушка гламурная. Книга должна быть достаточно умной, чтобы ее не назвали попсой и жвачкой для подростков, но не слишком, потому что подростки, разумеется, главная целевая аудитория. Ну и, конечно же, как в любых мемуарах знаменитостей, в ней непременно должно быть одно громкое признание.
– Непременно?
– А как же! Обязательно должно быть что-то, о чем мы расскажем газетам и журналам перед самым выходом книги, чтобы организовать шумиху. Что-нибудь пикантное, чтобы все заговорили. Я поэтому и еду в Эл-Эй. У нас мозговой штурм. Она как раз снимается в клипе. Выйдет через несколько дней. Песня совершенно идиотская. Припев такой: “Нужно из себя что-то представлять!”
– Легко запоминается. А с признанием вы уже определились?
– Я склоняюсь к невинной истории о лесбийской любви. Школьные эксперименты. Поцелуйчики с близкой подругой. В общем, чтобы и родителей не оттолкнуть, и заслужить одобрение радужного сообщества. Она уже завоевала любовь подростков, может, удастся покорить и геев? – Тут Перивинкл делает жест, как будто случился взрыв. – Ба-бах! – говорит он.
Именно Перивинкл помог Сэмюэлу добиться успеха. Перивинкл вывел его в люди, заключил с ним щедрый контракт на книгу. Сэмюэл тогда учился в колледже, а Перивинкл объезжал университеты по всей стране в поисках новых авторов – юных дарований, чьи имена можно было бы раскрутить. Он ухватился за Сэмюэла, прочитав один-единственный его рассказ. Перивинкл опубликовал этот рассказ в одном из самых популярных журналов. Потом заключил с Сэмюэлом договор на книгу, который принес ему заоблачный гонорар. Сэмюэлу лишь надо было эту книгу написать.
Чего он, разумеется, так и не сделал. Это было десять лет назад. Они с издателем встретились впервые за многие годы.
– Как дела в книжном бизнесе? – поинтересовался Сэмюэл.
– Книжный бизнес. Ха. Забавно. Дело в том, что я больше не занимаюсь собственно книгами. По крайней мере, в традиционном понимании. – Он достает из портфеля визитку. “Гай Перивинкл. Автор сенсаций”. Ни логотипа, ни контактной информации.
– Так что я теперь производством занимаюсь, – поясняет Перивинкл. – Выстраиваю проекты.
– Но не книги.
– И книги тоже, конечно. Но главным образом я отвечаю за сенсации. Интерес. Внимание публики. Соблазн. Книга лишь упаковка, контейнер. Вот что я понял. Те, кто занимается книжным бизнесом, полагают, будто их работа – делать хорошую упаковку. Это ошибка. Издатель, который говорит, что занимается книгами, все равно что винодел, который “занимается бутылками”. На самом деле мы рождаем интерес. А книга – всего лишь форма, которую принимает сенсация, когда мы рассчитали, как лучше ее использовать.
В телевизоре наверху ролик про щебень для Шелдона как раз дошел до того момента, когда телохранители губернатора бросаются на мать Сэмюэла и вот-вот повалят ее на землю. Сэмюэл отворачивается.
– То, чем я занимаюсь, скорее можно назвать мультимодальной межплатформенной синергией, – вещает Перивинкл. – Мою компанию давным-давно поглотило другое издательство, которое, в свою очередь, поглотило еще более крупное издательство, и так далее, как на тех автомобильных наклейках с рыбами. Теперь нами владеет международная группа компаний, которая издает массовую литературу, занимается кабельным телевидением, радиовещанием, звукозаписью, кинопроизводством, политическими технологиями, имиджмейкерством, рекламой и пиаром, журналами, полиграфией и авторскими правами. И вроде бы еще перевозкой грузов. Помимо прочего.
– Как много всего.
– Ну а я что-то вроде центра циклона, вокруг которого крутятся все наши медийные дела.
Перивинкл поднимает глаза и смотрит ролик о нападении на Пэкера, который крутят в десятый раз. В окошечке с левой стороны экрана ведущий передачи, консерватор, что-то неслышно комментирует.
– Эй! – окликает Перивинкл бармена. – Сделайте погромче.
Миг – и появляется звук. Они слышат, как ведущий спрашивает, можно ли считать нападение на Пэкера единичным случаем или же это начало перемен.
– Ну разумеется, начало перемен, – откликается один из гостей. – Вот так и ведут себя либералы, когда их загонишь в угол. Они нападают.
– Все это очень напоминает Германию конца тридцатых годов, – произносит другой. – Сначала пришли за патриотами, но я молчал.
– Именно так! – вторит ему ведущий. – Если мы будем молчать, никто не вступится за нас, когда придут за нами. Пока не поздно, мы должны положить этому конец.
Все согласно кивают. Перерыв на рекламу.
– Ничего себе, – Перивинкл улыбается и качает головой. – Хотел бы я познакомиться поближе с той, что напала на Пэкера. Отличная вышла бы история, и рассказать нескучно.
Сэмюэл отпивает из чашки и ничего не отвечает. Чай перестоял и чуть горчит.
Перивинкл смотрит на часы, переводит взгляд на выход, возле которого уже топчутся пассажиры – еще не в очереди, но готовы, чуть что, броситься и занять в ней место.
– Как ваша работа? – спрашивает Перивинкл. – Все еще преподаете?
– Пока да.
– В том же… месте?
– Да, в том же университете.
– И сколько вы там получаете, тысяч тридцать в год? Так вот вам мой совет. Не возражаете?
– Нет, что вы.
– Сваливайте отсюда.
– Что?
– Поезжайте за границу. Выберите какую-нибудь уютненькую страну третьего мира и рубите бабки.
– Разве так можно?
– Еще бы, конечно. У меня так брат устроился. Работает в Джакарте учителем математики в школе и тренером по футболу. До этого жил в Гонконге. А еще раньше в Абу-Даби. Частные школы. В основном дети членов правительства и бизнес-элиты. Он там получает двести тысяч в год плюс оплата проживания плюс машина и личный шофер. Ваш университет оплачивает вам машину с личным водителем?
– Нет.
– Клянусь богом, любой недоучка, который решает остаться в Америке и преподавать, просто не в своем уме. В Китае, Индонезии, на Филиппинах, на Ближнем Востоке такого специалиста, как вы, с руками оторвут. Выбирай не хочу. В Америке учителя получают мало, работают за двоих, политики регулярно прохаживаются на их счет, а ученики не уважают. Там же вы будете настоящим героем. Вот вам мой совет.
– Спасибо.
– И лучше бы вам его принять, потому что у меня для вас плохие новости.
– Что случилось?
Перивинкл глубоко вздыхает, кивает и, точно клоун, делает кислую мину.
– Мы, к сожалению, вынуждены разорвать с вами договор. Вот это я и хотел вам сообщить. Вы обещали нам книгу.
– И я над ней работаю.
– Мы выплатили вам солидный аванс, а книгу вы нам так и не отдали.
– Вышла заминка. Маленький творческий кризис. Я скоро все допишу.
– По договору издательство имеет право потребовать возместить расходы, если книга не будет написана. В общем, вам придется вернуть нам деньги. Я хотел сообщить вам об этом лично.
– Лично. В кафе. В аэропорту.
– Разумеется, если вы не сможете отдать деньги, нам придется подать на вас в суд. На следующей неделе наша компания обратится в верховный суд штата Нью-Йорк.
– Но книга вот-вот будет готова. Я снова пишу.
– Рад за вас! Потому что мы отказываемся от всех прав на любые материалы, которые имеют отношение к вышеупомянутой книге, так что вы вольны делать с ней что угодно. Мы желаем вам удачи.
– И на какую сумму вы собираетесь предъявить мне иск?
– Аванс плюс проценты и судебные издержки. Хорошая новость в том, что на вас мы ничего не потеряем, чего не скажешь о многих других наших вложениях. Так что не мучьте себя чувством вины. У вас ведь остались те деньги?
– Нет, конечно, откуда? Я дом купил.
– И сколько вы за него должны заплатить?
– Триста тысяч.
– А сейчас он сколько стоит?
– Тысяч восемьдесят.
– Ха! Такое могло быть только в Америке!
– Послушайте, мне ужасно стыдно, что я так затянул с книгой, но я вот-вот ее допишу, обещаю.
– Как бы помягче это сказать? В общем, нам уже не нужна эта книга. Мы заключали с вами договор в другом мире.
– Почему в другом?
– Ну, во-первых, о вас уже все забыли. Железо надо было ковать, пока горячо. А ваше железо, мой друг, давным-давно остыло. И дело не только в вас – сама страна изменилась. Ваша причудливая история о детской любви была уместна до событий 11 сентября, а сейчас… Сейчас она малость скучна и нелепа. Да и сами вы ничем не примечательны, уж не обижайтесь.
– Спасибо.
– Не поймите меня неправильно. Тот интерес, о котором я говорю и которым занимаюсь, представляет один человек из миллиона.
– Боюс
