Магия книги. Эссе о литературе бесплатное чтение
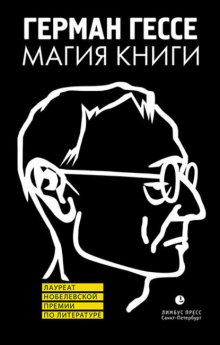
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1970
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin
© Г. Снежинская, состав, перевод, предисловие, 2018
© ООО «Издательство К. Тублина», 2017
© А. Веселов, оформление, 2018
«В этот край я снова возвращаюсь…»
В 1945 году Герман Гессе писал: «Область всемирной литературы, что посещал я в течение моей жизни чаще и узнал лучше прочих, – это литература Германии, бесконечно далекой от нас сегодня, да пожалуй, уже ставшей легендой Германии 1750–1850 годов, столетия, центр и вершину которого являет собой Гете. В этот край, где не подстерегают меня ни разочарования, ни сенсации, я снова и снова возвращаюсь из всех путешествий по древним временам и дальним странам, возвращаюсь к поэтам и писателям, авторам писем и биографий, ибо все они – истинные гуманисты, и вместе с тем почти все они были верны духу своего народа и своей земли».
И с этим волшебным краем, и с древностью, и с далекими от Европы областями всемирной литературы Гессе был неразрывно связан всю жизнь не только как писатель, и не только как страстный книгочей, но в значительной мере и как рецензент, автор очерков, вступительных статей и послесловий, сопровождающих издания произведений художественной литературы, и, что немаловажно, как автор статей и эссе, в которых отразились его философские размышления о судьбах книги, типах читателя и характере чтения в двадцатом веке. В чем магия книги? Ведь в наше время книги сделались общедоступными, книги – даже Библия! – необычайно распространились, вошли в повседневный быт, чтение и письмо перестали быть таинствами, а книга – тайной. Почему так неожиданно порой воскресают давно и, казалось бы, прочно забытые книги и авторы, почему возвращаются в славе некогда отверженные изгнанники, почему, наконец, снова и снова находятся немногие, призванные, наделенные способностью открывать для себя магию книги и устремляющиеся в обитель духа – его храм, святилище, «где тысячи залов и притворов, где витает дух всех времен и народов, в каждый миг ожидающий нового пробуждения к жизни, чтобы стать единым целым, многоголосым хором разнообразнейших явлений»?.. И каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-своему, каждый в нем ищет и находит еще и себя самого. К этим вопросам Гессе постоянно возвращался на протяжении своей долгой жизни.
После окончания гимназии Гессе работал в издательстве в Кальве, затем в книжных магазинах в Эслингене, Тюбингене и Базеле. Свою первую рецензию Гессе напечатал в 1899 г. в газете «Allgemeine Schweizer Zeitung», и с тех пор добрых полвека сотрудничал с издательствами и редакциями многих немецких, австрийских и швейцарских журналов и газет. После Второй мировой войны издательство Петера Зуркампа обратилось к нему, прославленному писателю, награжденному в 1946 г. Нобелевской премией, с предложением составить и издать отдельный, объемистый том его критических и литературоведческих работ, но Гессе, охотно предоставивший Зуркампу свой сборник политических статей и писем («Война и мир»), наотрез отказался – в литературе его привлекало творчество, а не анализ прошлого, свою первейшую задачу он видел в создании романов, повестей, рассказов. По этой же причине и в семитомное собрание сочинений писателя, изданное в 1957 году, ни очерки о литературе, ни рецензии не были включены. Гессе уже восемьдесят, он прославленный мастер немецкой прозы, почта что ни день приносит в его дом пачки писем от читателей, на мнение Гессе то и дело ссылаются, к его авторитету апеллируют – зачастую вне контекста, неверно или неточно, или утрируя и искажая его взгляды. Публикация в собрании сочинений критических работ могла бы лишь ухудшить ситуацию, которая и без того тяготила Гессе, считавшего, что обнародовать свои индивидуальные суждения и оценки – значит навязывать их всем и каждому, а это бессмысленно, так как обречено на провал в отличие от вдумчивого и тонкого воспитания вкуса отдельной личности. В то же время в одном из очерков он настоятельно советует: если вы любите писателя, не упускайте возможности познакомиться с его письмами и дневниками, с каждой строчкой, вышедшей из-под его пера, это позволит вам лучше, глубже понять его, человека и друга, которого вы уже узнали и полюбили по его книгам. Рецензии и очерки Гессе о книгах и писателях сегодня иногда удивляют тем, насколько не похожи они на его прозу, для которой так характерна выверенная, тщательно продуманная композиция, многослойность и сложность, филигранная тонкость отделки. Критические работы и рецензии, таким образом, дополняют наши представления о художественном творчестве писателя, вернее открывают его интеллектуально-рационалистическую сторону. И если при жизни Гессе эти работы так и не были изданы отдельным сборником, то в двенадцатитомном собрании сочинений Г. Гессе, вышедшем в издательстве «Зуркамп» в 1970 году, впервые опубликованные предисловия и послесловия, очерки и рецензии заняли два тома. Вообще же счет их идет на тысячи, это целая история всемирной литературы, ибо круг чтения Гессе не просто широк – огромен.
В 1927 году Гессе по просьбе издательства Ф. Реклама написал очерк «Библиотека всемирной литературы», в заглавии которого поместил введенное Гете в немецкий язык и немецкую культуру понятие всемирной литературы (Weltliteratur). Гессе не только прослеживает четкую связь (зависимость) подлинной образованности человека с бесконечным изучением всемирной литературы и бесконечным наслаждением ее неисчерпаемыми богатствами, не только дает практические советы тем, кто по-настоящему глубоко хочет понять и освоить прочитанное, но и любовно «составляет» по своему вкусу идеальную библиотеку всемирной литературы.
Любовно – это слово надо считать ключевым в отношении Гессе к книгам, к тому, как их читать, как обращаться с ними, собирая у себя дома, подобно кругу подлинных добрых друзей. Примечательно, что Гессе писал литературно-критические работы исключительно о тех книгах, которые оценивал положительно, – он рекомендовал их читателям, как своих хороших знакомых, иначе говоря, находил в этих книгах добрый пример и образец, нечто положительное и в этом смысле существенное и характерное для той или иной эпохи. Если книга не вызывала доброго чувства, он откладывал ее в сторону. В письме к современнику Гессе отмечает: «Видеть и подчеркивать < в книгах > положительное начало и щедрый дар всегда казалось мне главной задачей того, кто выступает как посредник между книгами и читателями. Поэтому я лишь в очень редких случаях публично высказывал свое отрицательное отношение к какой-либо книге. Если похвалить не за что, я молчу». Поэтому и некоторые написанные по заказу издательства рецензии Гессе читаются как поэтичные лирические эссе, искренние признания в любви – к Новалису, Гофману, Андерсену, Стендалю, китайцам, которых Гессе, открыв для себя сравнительно поздно, ценил необычайно высоко. Вместе с тем встречаются и довольно сдержанные отзывы, такова, например, заметка о Готфриде Бенне, однако и здесь Гессе прежде всего старается вникнуть, как можно лучше понять Бенна, а самому себе объяснить, в чем же заключалась причина неприязни и каковы те условия и обстоятельства в жизни великого поэта, что лишали его «воздуха, пригодного для дыхания». Эти моменты порой открываются только при знакомстве с дневниками или письмами поэтов и писателей, и Гессе настоятельно советует издателям их печатать, читателям же – не игнорировать, а наоборот – коль скоро речь идет о любимом писателе – отдавать свидетельствам «из первых рук» предпочтение перед научными монографиями или специальными критическими работами.
Его отзывы позитивны, в них не стоит искать полемику с автором. Напротив, критика эпохи сплошь и рядом находит себе место на страницах литературных заметок Гессе, и почти всюду ее предметом оказывается общий культурный и политический фон, на котором книга, составляющая собственный предмет разговора с читателем, выделяется самым выгодным образом. Принцип Гессе – говорить только о добром, вещи неудачные или такие, о каких он не хочет высказываться, он не обсуждает, категорический тон ему несвойствен – слишком часто сам он, как автор, страдал от безапелляционной самоуверенности критиков-профессионалов. При этом «ранг» писателя, его принадлежность к «первому» или «второму» ряду, не говоря уже о списках номинантов и лауреатов, ему абсолютно безразличны. Очерки и заметки Гессе знакомят с автором, побуждают к чтению, помогают сориентироваться в огромном потоке книжной продукции, причем Гессе не скрывает своего намерения обеспечить хорошей книге как можно более многочисленную читательскую аудиторию.
Выбранные для настоящего издания очерки и заметки Гессе лишь в небольшой степени отражают все богатство этого пестрого собрания. Из рецензий представлены те, в которых Гессе не ограничивается сугубо информационной, условно говоря – энциклопедической справкой о книге и авторе и – неизменно положительным – отзывом. В первую очередь интересны очерки, в которых воплощен глубокий тезис Гессе: чтение и письмо – это магическое занятие, волшба, это процессы, благодаря которым дух овладевает природой, подчиняет себе природу. «Сегодня, – пишет Гессе в 1930 году, – все не так. Мир книги… и духа, открыт всем и каждому, – так мы думаем, – и уже нет магической ауры, уже исчезло волшебство». Не стало тайны, происходит, набирая темпы, вульгаризация духа, девальвация духовных ценностей. Безрадостная картина, но на вопрос, исчезнут ли книги, потеснят ли их кино и радио (появление новых, более хитроумных, комбинированных СМИ Гессе также предвидит), – он решительно отвечает: «Нет!» Кинематограф, радиопередачи и прочее удовлетворяют совсем другие потребности людей, прежде всего, потребность в развлечении, они служат, разумеется, и для просвещения, но все это вещи иного рода, и к книге вернутся, убежден Гессе, ее достоинство и авторитет. Потому что у книги другие задачи и другое назначение. Потому что слово, выражающее мысль, слово, облеченное в письменную форму, – это единственное средство фиксировать ход Истории и творить Историю, единственное средство самосознания, каким располагает человечество, а других средств у него нет и не будет. Что касается функций, которые радио, кино и т. п. могут присвоить себе, забрав у книги, – жалеть о них не придется, так как не они составляют ее сущность. Итак, «древнее волшебство еще живо? <…> И понятие «магия книги» не ушло в прошлое безвозвратно, не обратилось в легенду?» Конечно, нет, – отвечает Гессе, – потому что законы духа столь же неизменны, как законы природы, их нельзя «упразднить» в ходе технического «прогресса». По существу – пишет он, – в духовном мире ничего не изменилось за то время, что прошло после перевода Лютером Библии и изобретения Гутенбергом печатного станка. Магия книги по-прежнему существует. Духом владеет группа избранных, адептов, но это не те люди, кто правит бал в СМИ, и не те, кто формирует общественное мнение, потому что представляемые ими виды деятельности не тождественны и не могут быть тождественны творчеству. Эта мысль сказывается и в самих словах, которые Гессе использует для именования творца. Гессе последовательно и строго разделяет понятия Dichter, то есть поэт, писатель, художник слова, артист, и Schriftsteller – литератор, писатель; есть у него в запасе еще и Literat, в устах Гессе – малопочтенное обозначение пишущего на потребу публике сочинителя дешевых романчиков вроде «Тарзана» (его он особенно недолюбливает). Таково неизбежное «разделение труда».
Наиболее активный период журналистской и издательской деятельности Гессе приходится на годы Первой мировой войны, которая стала для писателя глубочайшим потрясением, что, вместе с целым рядом других причин, привело в 1916–1917 годах к тяжелому душевному кризису. Как во время самой войны, так и в начале двадцатых годов, Гессе работал не щадя сил: он основал центр помощи немецким военнопленным (их было около полумиллиона человек), издавал в Швейцарии благотворительные газеты и журналы, формировал многотомные книжные серии, антологии и отдельные издания.
В это время Гессе снова и снова задается вопросом о последствиях катастрофической массовой бойни, прежде всего – ее духовных последствиях. Сын миссионера, убежденный и страстный пацифист, он высказал свою позицию в целом ряде газетных и журнальных статей, призывая писателей и художников «не расшатывать фундамент будущей Европы». С событиями войны и революции связано пристальное внимание Гессе к России и двум гигантам ее литературы, Толстому и, особенно, Достоевскому, чье влияние ощутимо в некоторых повестях Гессе (в первую очередь это «Клейн и Вагнер», 1919). Очерки о творчестве русского писателя Гессе издал под многозначительным заглавием «Взгляд в хаос», имея в виду попытку заглянуть в новую эпоху, идущую следом за войной и революцией. Достоевский – пророк и провидец эпохи хаоса – карамазовщины. Анализируя романы Достоевского, Гессе прежде всего задается вопросом, волновавшим западноевропейскую интеллигенцию: что отличает русских от европейцев, каких угроз ждать Европе от России, что порождает хаос, который уже надвигается на добропорядочную, приверженную традициям морали и культуры Европу? Зерна «хаоса», то есть варварства и аморализма, он уверенно различает в тех моментах, когда князь Мышкин готов принять в свою душу как добро, так и зло, когда добро и зло с легкостью могут поменяться местами и все моральные ценности становятся относительными и утрачивают реальный смысл. Полное же и цельное воплощение опасного русского типа являют собой, по Гессе, братья Карамазовы, они, все четверо, вместе, в совокупности своих полярно противоположных черт, и представляют «русского человека». Хаос и губителен, прежде всего для культуры, и, одновременно, плодотворен, так как из него должны родиться новые формы, но он может сокрушить европейскую цивилизацию, если та не будет прислушиваться к «потаенной России» и ее «восточным» добродетелям, которые состоят в душевности, древней христианской любви и по-детски наивной жажде спасения. Мысль о недопустимости отторжения России и ее духовной культуры от Европы и единого человечества особенно отчетливо высказана в статье «Толстой и Россия». (Так рассуждал Гессе в 1915 году, в статьях же 20-х годов о Достоевском его отношение к России существенно изменилось в свете охватившего весь мир кризиса духовной культуры). Если Достоевский – пророк и провидец грядущего хаоса, то Толстой, с которым Гессе сближает нравственная беспощадность к себе (ее мы находим в повести Гессе «Душа ребенка»), Толстой, соединивший в себе противоречивые и ярко характерные русские черты, – глубокий мыслитель, неустанно борющийся за постижение истины, последним итогом которого является любовь.
Глубоки и многосторонни отзывы Гессе о современниках, писателях его поколения и более молодых, без которых мы сегодня не мыслим себе историю западноевропейской литературы. В этом плане поразительны вкус и зоркость Гессе-критика, в огромном многообразии книг и журнальных публикаций безошибочно верно выбиравшего произведения, которые впоследствии выдержали проверку временем. Так, он открыл немецким читателям Кафку и Сельму Лагерлеф, одним из первых горячо поддержал Марселя Пруста, Андре Жида, Томаса Манна, Тракля и Музиля, Георга Гейма, Элиаса Канетти, Анну Зегерс, Макса Фриша, Арно Шмидта и многих других. Особое место в гессевской «истории литературы» принадлежит, естественно, немцам и австрийцам.
В ряде очерков Гессе отдал дань глубокого уважения умам, существенно повлиявшим на развитие культуры в XX веке, – достаточно назвать хотя бы такие имена, как Кьеркегор и Фрейд, Шпенглер и Эрнст Юнгер. Здесь, так же, как в литературно-критических статьях и заметках, прежде всего нас привлекают размышления большого художника и мыслителя, проницательно распознавшего многие важнейшие тенденции в развитии современной культуры.
Легко заметить, что тексты, вошедшие в этот сборник[1], возникли в иной последовательности, чем та, в какой они расположены здесь. Собрание получилось чуть ли не калейдоскопически пестрым, но оно и не могло получиться иным. Как сказано, эти очерки, заметки, рецензии Гессе писал на протяжении всей своей долгой жизни, которая была бесконечным поиском духовности и открытием новых духовных миров: христианского и буддистского, даосского и индуистского, идеалов романтиков и гуманизма классиков, нравственного учения Толстого, бездн Достоевского и т. д. Некоторые очерки или заметки датированы дважды, поскольку автор возвращался к ним, подготавливая для нового издания, и это исключило хронологический принцип расположения. Лишь в некоторой степени удалось сгруппировать тексты тематически. Наверное, вполне закономерно, что живую мысль Гессе, обращенную к книгам, их авторам и читателям, к тому же часто связанную с глубоким анализом сложнейших проблем истории и современной эпохи, невозможно втиснуть в строгие формальные рамки.
«…Будь я сегодня молод и полон сил, я не занимался бы ничем, кроме издания книг», – это написано Гессе в 1945 году. Коротко говоря, весь смысл своего творчества он видел в неустанных «трудах во имя непрерывной жизни духа».
Г. Снежинская
I
Любимые книги
Бесконечно часто мне задавали вопрос: «Что вы любите читать больше всего?»
Нелегко ответить на этот вопрос, если любишь всю мировую литературу как таковую. Думаю, я прочитал десятки тысяч книг, иные – неоднократно, а некоторые и много раз, и я в принципе не согласился бы исключить из моей библиотеки и из области, к которой я причастен, или как-никак интересуюсь, ту или иную литературу, направление или автора. Вопрос тем не менее оправдан, и на него, пожалуй, все-таки можно дать ответ. Кто-то считает себя благодарным и нетребовательным едоком, отдающим должное и черному хлебу, и жаркому из оленины, и простой морковке, и форели, однако и у него есть три-четыре любимых блюда. Кто-то, размышляя о музыке, в первую очередь вспомнит Баха, Генделя и Глюка, однако не сбросит со счетов Шуберта или Стравинского. Вот и я, поразмыслив хорошенько, в каждой литературе нахожу области, эпохи, тональности, которые мне ближе и милее всех прочих. Так, у греков Гомер мне ближе, чем трагики, Геродот – ближе, чем Фукидид. К тому же я, надо признаться, всегда, когда читаю сочинения патетические, должен что-то преодолевать в себе, и в сущности, я их не люблю, мое глубокое уважение к их авторам, будь то Данте или Геббель, Шиллер или Стефан Георге, остается несколько принужденным.
Область всемирной литературы, что посещал я в течение моей жизни чаще и узнал лучше прочих, это литература Германии, бесконечно далекой от нас сегодня, да, пожалуй, уже ставшей легендой Германии 1750–1850 годов, столетия, центр и вершину которого являет собой Гете. В этот край, где не подстерегают меня ни разочарования, ни сенсации, я снова и снова возвращаюсь из всех путешествий по древним временам и дальним странам, возвращаюсь к поэтам и писателям, авторам писем и биографий, ибо все они – истинные гуманисты, и вместе с тем почти все они были верны духу своего народа и своей земли. Особенно живо затрагивают меня книги, если ландшафт, народ и язык в них близки и милы мне с детских лет; это чтение дарит особое ощущение счастья, так как от меня не ускользают тончайшие нюансы, легчайшие намеки, нежнейшие созвучия. Трудно и даже болезненно дается мне расставание с такой книгой, если я принимаюсь после нее за сочинения, которые вынужден читать в переводе, или за какую-нибудь книгу, в которой не звучит эта органичная, истинная, зрелая речь и эта музыка. Конечно же, ощущение счастья дарит, прежде всего, немецкий язык южных и западных областей Германии, в его основе лежат алеманский и швабский диалекты, – достаточно назвать имена Мерике и Гебеля – но наш язык несказанно радует меня и при чтении почти всех прочих немецких и швейцарских авторов того благословенного столетия: от молодого Гете до Штифтера, от «Юности Генриха Штиллинга» до Иммермана и Дросте-Хюльсхофф, а если огромное большинство этих великолепных, чудесных сочинений ныне прозябает лишь в нескольких общедоступных или частных библиотеках, это, по-моему, один из самых тревожных и отвратительных симптомов нашей ужасной эпохи.
Но родной народ, земля и язык – еще далеко не все в литературе, как, впрочем, и в жизни; кроме них, есть целое человечество и есть возможность, снова и снова радостно изумляющая, – в самом дальнем и самом неродном открыть родное, полюбить и близко узнать то, что прежде казалось наглухо замкнутым и недоступным. Я понял это в молодости благодаря знакомству с духовными сокровищами индийцев, а в более поздние годы – и китайцев. К индийцам привели меня заранее начертанные пути – ведь мои родители и дед жили там, изучали индийские языки и отчасти восприняли дух Индии. Но только прожив на свете больше тридцати лет, я узнал, что существует чудесная китайская литература и особенная, китайская ветвь человеческого рода и человеческого духа, которая стала для меня дорогой и любимой, и не только – она даровала духовный приют и вторую родину. Это было совершенно неожиданно: мне, из всей литературы Китая знавшему только «Шицзин» в переложении Рюккерта, благодаря переводам Рихарда Вильгельма и других открылся китайско-даосский идеал мудрости и блага, и без него я уже не представляю своей жизни. Мне, ни слова не понимавшему по-китайски и никогда не бывавшему в Китае, посчастливилось, ибо в китайской литературе, отделенной от нас двумя с половиной тысячелетиями, я нашел подтверждение своих догадок и обрел еще один духовный мир и еще одну родину, помимо тех, что были назначены мне рождением и родным языком. Китайские учителя и мудрецы, о которых рассказывают великолепный Чжуан-цзы, а также Ле-цзы и Мэн Кэ, оказались полными антиподами патетиков: удивительно простые, близкие к народной и будничной жизни, они не позволяли водить себя за нос и любили жизнь в добровольной безвестности, непритязательную и скромную, а слогу их, манере выражения, изумляешься и радуешься без конца. Скажем, о Конфуции, великом противнике Лао-цзы, стороннике системы и моралисте, законодателе и охранителе нравственности, единственном из мудрецов древности, склонном к некоторой торжественности стиля, говорится: «Не тот ли он, кто знает, что дело не пойдет, и все же берется за дело?» Других примеров подобной безмятежности, юмора и простоты я в литературе не знаю. Я часто вспоминаю эти слова, а также некоторые другие изречения, когда размышляю о событиях в мире или слышу речи тех, кто намерен править миром в ближайшие годы или десятилетия, дабы довести его до совершенства. Они делают свое дело, как Конфуций, великий человек, однако не понимают, в отличие от него, что «дело не пойдет».
Нельзя мне позабыть и о японцах, хотя они не так сильно занимали меня и менее щедро, чем китайцы, давали пищу уму. В Японии, которая нам сегодня, как и Германия, представляется страной воинственной, и только, вот уже много столетий существует нечто столь великое и вместе с тем курьезное, столь одухотворенное и вместе с тем решительно, даже безоглядно устремленное к практической стороне жизни, как Дзэн, этот цветок, произрастающий также на почве буддистской Индии и Китая, но лишь в Японии расцветший во всей своей красе. Дзэн я отношу к ценнейшим благам, какие когда-либо обретали народы, ибо его мудрость и практическое значение достигают тех же высот, что у Будды и Лао-цзы. И еще, в различные, разделенные долгими паузами времена меня очаровывала японская поэзия, в первую очередь – простая форма и краткость японских стихов. Современных немецких поэтов нельзя читать, если перед тем читал японцев: наши стихи покажутся безумно напыщенными и ходульными. Японцы изобрели чудесную вещь, семнадцатисложное стихотворение, ведь они никогда не забывали, что искусству не идет на пользу, а, напротив, приносит вред, если художник упрощает себе дело. Когда-то один японский поэт написал стихотворение всего из двух строк, и сказано в нем, что в заснеженном лесу расцвели цветы на ветвях сливы. Он показал стихи ценителю, и тот сказал: «Вполне достаточно одной ветки». Увидев, насколько точно это замечание и как далеко ему самому до настоящей простоты, поэт последовал дружескому совету, и это двустишие не забыто по сей день.
Иногда мы посмеиваемся над огромным перепроизводством книг в нашей маленькой стране. Но будь я сегодня молод и полон сил, я не занимался бы ничем, кроме издания книг. Эти труды во имя непрерывной жизни духа нам нельзя отложить до того времени, когда государства залечат раны, нанесенные войной, нельзя и заниматься этой работой второпях, идя на поводу у конъюнктуры, не заботясь о том, чтобы быть щепетильно совестливыми. Ибо для мировой литературы не меньшую опасность, чем война и ее последствия, представляют плохо и наспех изданные книги.
1945
Магия книги
Величайший из всех миров, какие человек создал силою своего духа, а не получил в дар от природы, – это мир книг. Впервые рисуя на грифельной доске буквы и пытаясь что-то прочесть, ребенок совершает первый шаг в этом искусственно созданном и чрезвычайно сложном мире – столь сложном, что целой жизни не хватит, чтобы постичь его и научиться безошибочно применять его законы и правила игры. Без слова, без письменности и книг нет истории, нет понятия «человечество». И если бы кто-то пожелал заключить в небольшом помещении, собрать у себя в доме или комнате историю человеческого духа – он смог бы достичь цели только собрав библиотеку. Сегодня мы уже уразумели, что занятия историей и историческое мышление как таковое небезопасны, в последние десятилетия наше мировосприятие совершило мощный переворот и обратилось против истории, однако именно благодаря этому мятежу стало ясно, что, отказавшись от захвата и присвоения все новых частей духовного наследия, мы никоим образом не сможем вернуть нашей жизни и мысли утраченную ими невинность.
У всех народов слово и письменность священны и связаны с магией, именование вещей и письмо изначально были магическими действиями, колдовством, благодаря которому дух овладевал природой; письмо почиталось как дар богов. В древности у большинства народов письмо и чтение были тайными искусствами, занятиями, дозволенными лишь жрецам, и считалось великим, необычайным событием, если молодой человек решался приступить к изучению столь могущественных искусств. Это было непросто – к тайнам допускались лишь немногие, это право приобреталось ценой самоотречения и жертв. С точки зрения наших демократических цивилизаций, духовные ценности были в те времена большей редкостью, чем ныне, но они почитались как более благородные и священные, дух находился под защитой богов и доступен был не всем и каждому. Тяжкие пути вели к нему, сокровища духа не давались даром. Мы лишь смутно представляем себе, что это означало в иерархических и аристократических культурах – быть человеком, приобщившимся тайн письменности в окружении невежд! Он был особенным, у него была власть, были белая и черная магия, чудесный талисман и жезл волхва.
Сегодня – по видимости – все изменилось. Сегодня мир письменности и духовных ценностей открыт – по видимости – всем и каждому, более того, если кто-то пожелает остаться в стороне, его в этот мир притащат силком. Сегодня – по видимости – знание грамоты мало что значит в сравнении со способностью человека дышать или, в лучшем случае, с его умением ездить верхом. Сегодня – по видимости – письменность и книга уже окончательно утратили особое достоинство, волшебство, магию. Несомненно, в различных религиях по сей день живо понятие о Священном, богооткровенном Писании, однако единственная действительно могущественная религиозная организация Запада, Римско-католическая церковь, не выказывает слишком большого интереса, когда речь идет о приобщении мирян к чтению Библии; священных книг в наши дни нигде уже не осталось, разве что у немногочисленных благочестивых иудеев и в некоторых протестантских сектах. Иногда при вступлении в должность требуется принести присягу на Библии, но сегодня жест возложения руки на священную книгу – это лишь холодный, мертвый пепел, воспоминание о былом огне, его жаре и силе, и в этом жесте, как и в словах присяги, для простых людей уже нет связи с магией. Книга перестала быть тайной, книги всем доступны – по видимости. С точки зрения либеральной демократии, это прогрессивно и разумеется само собой, но, если подойти к делу с других позиций, свидетельствует об обесценивании и вульгаризации духа.
И все-таки мы с полным правом можем чувствовать удовлетворение, поскольку достигли некоторого прогресса, и радоваться: чтение и письмо в наши дни не являются привилегией некой гильдии или касты; с тех пор как изобрели печатный станок, книга постепенно сделалась предметом широкого потребления и предметом роскоши, в то же время книги распространяются огромными массами; благодаря большим тиражам книги недороги, так что любой народ может сделать доступными даже малоимущим лучшие произведения лучших своих писателей (так называемую классику). И не будем слишком огорчаться из-за того, что понятие «книга» почти перестало означать нечто возвышенное, а по милости кино и радио ценность и привлекательность книги, даже в глазах простых людей, еще больше снизилась. Не стоит также опасаться, что в будущем книгам грозит исчезновение, – напротив, чем больше с помощью каких-то новых изобретений будут удовлетворяться потребность в развлечениях и нужды народного просвещения, тем больше достоинства и авторитета будет возвращаться к книге. Ибо, несмотря на ребяческое восхищение идеями прогресса, люди непременно поймут, что письменности и книге свойственны особые функции, которые не исчезнут вовеки. И окажется, что слово и его передача на письме – не просто полезное подспорье, но единственный посредник, благодаря которому человечество имеет историю и непрерывное самосознание.
Сегодня мы еще только подходим к той границе, за которой недавно явившиеся конкуренты – кино, радио и прочее, – смогут, отобрав у печатного слова, выполнять некоторые его функции, причем те, о которых не придется жалеть. В самом деле, почему бы, например, легкие занимательные романчики, ничтожные в художественном отношении, но нашпигованные разными сценами и ситуациями, будоражащие чувства и увлекательные, не распространять в виде серии картинок наподобие кадров кинофильма, не передавать по радио, или в еще какой-то форме, которая в будущем возникнет из этих двух. Тысячи людей, перестав читать подобные книги, сберегли бы массу времени и не портили бы глаза. Меж тем разделение труда, которое пока еще не заявило о себе открыто, уже давно существует в некоторых студиях и мастерских. Уже сегодня мы слышим, что такой-то «поэт» или «писатель» бросил писать книги, забыл театр и пишет для кинематографа. В его случае необходимый и желательный разрыв уже состоялся. Ведь полагать, что «литература» и создание фильмов суть одно и то же или имеют много общего, – заблуждение. Я никоим образом не хочу превозносить «писателей» и представлять, что по сравнению с ними авторы киносценариев неполноценны, подобная мысль мне абсолютно чужда. Но занятие человека, стремящегося отобразить, описать что-нибудь, используя слова и письмо, принципиально иного рода, нежели занятие того, кто, желая поведать нам эту же историю, определенным образом расставляет и снимает на кинопленку группы каких-то людей. Может оказаться, что литератор – жалкий ремесленник, а кинематографист – гений, не в этом дело. Важно, что в кругах творческих людей уже началось то, о чем толпа еще не подозревает, о чем узнает она, пожалуй, лишь спустя долгое время, – началось принципиальное разделение средств, пригодных для достижения различных художественных целей. Конечно, и тогда, когда это разделение произойдет окончательно, будут создаваться дрянные романы и пошлые фильмы, и «творцами» их будут не тронутые культурой таланты, расхитители добра, взявшиеся за дело, в котором некомпетентны. Но если мы хотим прийти к ясности относительно понятий и поддержать как литературу, так и ее нынешних соперников, разделение это необходимо и полезно. И тогда литература пострадает от кинематографа ничуть не больше, чем, скажем, живопись – от фотографии.
Но вернемся к нашей теме. Я упомянул, что книга по видимости лишилась былой магической силы, что неграмотные люди сегодня по видимости встречаются лишь изредка. Почему же только по видимости? Неужели древнее волшебство еще живо? Неужели где-то живы еще священные книги, дьявольские книги, магические книги? И понятие «магия книги» не ушло в прошлое безвозвратно, не обратилось в легенду?
Да так оно и есть! Законы духа столь же неизменны, как законы природы, и точно так же их нельзя «упразднить». Можно упразднить или лишить привилегий духовенство или, скажем, общества астрологов. Можно сделать общим достоянием научные познания и поэтические творения, которые прежде были потаенной собственностью, сокровищем избранных; и даже можно заставить многих людей взять что-то от этих сокровищ. Но все это затронет лишь поверхность, по существу же в духовном мире ничего не изменилось за то время, что прошло после перевода Лютером Библии и изобретения Гутенбергом печатного станка. Магия по-прежнему существует, и духом – тайной – владеет некая иерархически организованная группа избранных, теперь, правда, безымянная. Уже несколько веков письменность и книга у нас являются общим достоянием всех классов общества, пожалуй, так же, как мода, ставшая общим достоянием, когда отошли в прошлое правила о сословных различиях в одежде; однако моду по-прежнему создают единицы, и платье на красавице, стройной и с хорошим вкусом, выглядит совсем по-другому, чем такой же наряд, надетый заурядной особой. К тому же вместе с демократизацией в сфере духа произошло очень забавное, сбивающее с толку смещение: власть, которую выпустили из рук жрецы и ученые, очутилась там, где на ее пути не стало помех и препятствий, но не оказалось и возможности утвердиться законным образом и даже опереться на какой-либо авторитет. Ибо слой людей, которому принадлежит дух и письменность и который в каждую эпоху, по видимости, является направляющей силой, – ведь он формирует общественное мнение или, по крайней мере, формулирует его актуальные лозунги, – этот слой не тождествен слою творческому.
Не будем увлекаться абстракциями. Возьмем наудачу пример из новейшей истории мысли и книги. Представим себе: 1870–1880-е годы, образованный, начитанный немец, например, судья, врач, профессор университета или рантье, любящий книги. Что же он читал? Насколько был знаком с творческой мыслью своей эпохи и своего народа? Как участвовал в жизни своего времени и в жизни будущего? Где сегодня литература, которую критика и общественное мнение тех лет считали доброй, благотворной, интересной? От нее почти ничего не дожило до наших дней. В те годы, когда Достоевский писал романы, когда Ницше, неизвестный и осмеянный, не находил ни единой близкой души в быстро разбогатевшей и жаждущей удовольствий Германии, немецкие читатели, старики и молодежь, люди высокого и низкого звания, зачитывались Шпильгагеном и Марлитт или, в лучшем случае, любили миленькие стихотворения Эммануила Гейбеля, издававшиеся тиражами, каких с тех пор не знавал ни один поэт, да еще знаменитого «Зеккингенского трубача», который тиражами и популярностью обскакал и эти стишки.
Подобным примерам несть числа. Мы видим: духовность стала демократичнее – и духовные сокровища эпохи, как кажется, принадлежат всякому, кто выучился читать. Но в действительности нечто значительное всегда происходит потаенно, незримо; где-то в катакомбах, верно, укрылись жрецы или заговорщики, и, храня свои имена в тайне, они в своем подполье вершат судьбы духа и отправляют в мир своих посланцев, переодетых, без верительных грамот, но наделенных властью и взрывной силой, воздействующей на целые поколения, а вдобавок пекутся о том, чтобы общественность, довольная, ибо ее просвещают, не заметила чудес, которые творятся прямо у нее под носом.
Но и не углубляясь в столь далекие и сложные области, нетрудно заметить, что судьбы книг сказочны и необычны, что книги то властно чаруют нас, то чудесным образом скрывают что-нибудь от наших глаз. Писатели живут и умирают в безвестности или признанные лишь немногими, и вдруг после смерти, нередко спустя десятилетия, их творения воскресают в сиянии славы, неподвластные времени. Мы изумленно увидели, как единодушно отвергнутый своим народом Ницше, некогда исполнивший свою духовную миссию для маленькой когорты людей духа, сегодня, с запозданием в несколько десятилетий, стал одним из любимейших авторов, которого, сколько ни печатай, все будет мало; мы увидели, что стихотворения Гельдерлина вдруг, спустя сто с лишним лет после их создания, наполнили восторгом души студентов; что из всей сокровищницы древней китайской мудрости вдруг, спустя тысячи лет, в послевоенной Европе открыли одного лишь Лао-цзы, его скверно переводили и не лучше читали, а затем он, кажется, вошел в моду, как Тарзан или фокстрот; но в живом творческом слое людей духа его влияние огромно.
И еще мы видим: каждый год тысячи и тысячи детей идут в первый класс, учатся буквам и слогам, и мы постоянно замечаем, что для большинства детей чтение быстро становится делом обычным и вовсе не замечательным, тогда как других с каждым годом, с каждым десятилетием их жизни все более очаровывает и удивляет это умение пользоваться волшебным ключом, которое им дала школа. Навык чтения сегодня могут приобрести все, но лишь немногие понимают, какой могущественный талисман им доверен. Ребенок, гордый тем, что выучил азбуку, учится читать стихи или изречения, потом одолевает первый короткий рассказ, первую сказку, со временем же большинство, не имеющее призвания, прилагает свое умение читать лишь к репортажам или коммерческим статьям в газете, и только немногие избранники остаются во власти чар и удивительного волшебства букв и слов (ведь каждое слово некогда было волшебным, магическим заклинанием). Эти-то немногие и станут читателями. В детстве они открывают для себя несколько стихотворений и рассказов из хрестоматии – строки Клаудиуса, рассказ Гебеля или Гауфа; научившись читать, они, не пренебрегая этими произведениями, будут идти все дальше в мире книг, вновь и вновь удивляясь тому, как этот мир просторен, как многолик и отраден! На первых порах они думали, что перед ними хорошенький детский садик, с клумбой тюльпанов и прудом, где плавают золотые рыбки, но вот этот сад становится просторным парком, окрестностью, частью света, миром, это и Эдемский сад, и Берег Слоновой Кости, он манит все новыми чудесами, расцветает все новыми красками. И то, что вчера казалось садом или парком или вековым лесом, сегодня или завтра предстанет храмом, святилищем, где тысячи залов и притворов, где витает дух всех времен и народов, в каждый миг ожидающий нового пробуждения к жизни, чтобы стать единым целым, многоголосым хором разнообразнейших явлений. И каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-своему, каждый в нем ищет и находит еще и себя самого. Один робко движется от детских сказок или книжек об индейцах к Шекспиру и Данте, другой – от главы о звездном небе, прочитанной в школьном учебнике, к Кеплеру и Эйнштейну; третий – от смиренной детской молитвы к священной прохладе, разлитой под сводами, возведенными святым Фомой или Бонавентурой, или к возвышенной экстравагантности талмудистской мысли, или к светлым, полным весенней свежести притчам Упанишад, к трогательной мудрости хасидов, к лапидарным и в то же время столь милым, столь добронравным и светлым поучениям писателей Древнего Китая. Тысячи дорог ведут через вековой лес к тысячам целей, и ни одна цель не бывает конечной – за каждой раскрывается новый простор.
От мудрости или же от удачи истинного адепта будет зависеть, заблудится он и погибнет в дебрях своего книжного мира или найдет путь и пережитое при чтении сделается для него пережитым в действительности и принесет пользу в жизни. Те, кому волшебство книжного мира чуждо, судят о нем, как люди, лишенные музыкального слуха, о музыке, и часто с укором говорят, мол, чтение – это нездоровая, пагубная страсть, ведущая к беспомощности в жизни. Отчасти они, пожалуй, правы; однако для начала надо бы определить, что мы понимаем под жизнью, понять, правда ли можно считать жизнь лишь противоположностью духа, и напомнить, что очень многие мыслители и наставники, от Конфуция до Гете, в практической жизни промаха не давали. Что ж, книжный мир и в самом деле небезопасен, что прекрасно известно педагогам. Страшнее ли его опасности, чем те, какими грозит жизнь, не знающая необъятных просторов книжного мира, – поразмыслить об этом я по сей день не нашел времени. Я и сам ведь читатель, один из подпавших под колдовские чары книг еще в детстве, и если бы мне выпала судьба легендарного гейстербахского монаха – на несколько столетий пропасть в храмах и лабиринтах, пещерах и океанах книжного мира, – то я и не заметил бы, что в земном мире что-то потерял.
А меж тем я даже не говорю, что во всем мире сегодня число книг неуклонно возрастает! Но и не прибавься ко всем прежним книгам ни одной новой, всякий истинный читатель мог бы десятилетиями, столетиями неустанно изучать эти сокровища, бороться и радоваться благодаря им. Каждый новый изученный язык обогащает душу, а языков на свете гораздо больше, чем тех, о которых нам рассказывали в школе. На свете есть не только испанский, или итальянский, или немецкий, да и каждого из языков не по одному (даже не по три – с учетом пресловутых трех периодов – древнего, средневекового и современного) – о нет, их сотни; на свете столько немецких, испанских, английских языков, сколько у детей этих народов различных образов мышления и нюансов в ощущении жизни, нет, еще больше – их столько, сколько у народа оригинальных мыслителей и поэтов. В одно время с Гете жил и, к сожалению, не был им сполна оценен, Жан Поль (Фридрих Рихтер), он писал на совершенно ином – но также немецком – языке. И все эти языки, в сущности, не переводимы! Попытка народов, достигших высокого культурного уровня (немцы как раз на высоте), перевести, то есть сделать своим достоянием всю мировую литературу, чудесна, в отдельных случаях она принесла великолепные плоды, и все же эта попытка не вполне удалась, да это и в принципе невозможно. Не написаны еще немецкие гекзаметры, которые зазвучали бы и впрямь как гомеровские. Великая поэма Данте за последние сто лет переводилась у нас десятки раз, но каков результат? Автор последнего по времени перевода – самый большой поэтический талант из всех наших переводчиков Данте, – видя, что передать средневековые стихи средствами современного языка не удастся, специально выдумал для своего Данте особый язык – некий язык некоей средневековой поэзии; этим переводчиком мы можем лишь восхищаться.
Впрочем, и не изучая новых языков, и не знакомясь с новыми, прежде ему не известными литературами, читатель может бесконечно заниматься чтением одних и тех же книг, бесконечно находить в них все новые тонкости, вникать глубже, узнавать больше. Каждая прочитанная книга философа, каждое стихотворение поэта через несколько лет являют читателю новый, изменившийся лик, и другим становится их восприятие, другие отклики они будят в душе. В юности я, далеко не все понимая, прочитал «Избирательное сродство» Гете, и это была книга, ничуть не похожая на «Избирательное сродство», которое сегодня я перечитываю, кажется, пятый раз! В таком чтении есть тайна и сила: чем внимательнее к мыслям и чувствам, чем вдумчивее и глубже наше чтение, тем явственней предстает нам неповторимое, индивидуальное и строго обусловленное в каждой мысли и каждом произведении, тем лучше мы понимаем, что вся красота, вся прелесть заключаются именно в индивидуальности и неповторимости; и в то же время мы все более ясно видим, что сотни тысяч голосов разных народов взывают к одному и тому же, что все эти народы поклоняются одним и тем же, по-разному именуемым, богам, лелеют те же мечты, претерпевают те же страдания. И за сложнейшими сплетениями бесчисленных языков и книг, созданных за многие тысячи лет, читателю в моменты озарения предстает удивительно возвышенное и сверхреальное видение – лик человека, тысяча противоречивых черт которого претворены в единое целое магией книги.
1930
Общение с книгами
Не существует списка книг, которые непременно нужно прочесть, без которых невозможно спасение и совершенствование! Но у каждого человека есть несколько книг, которые именно ему, именно этому человеку, приносят удовлетворение и наслаждение. Постепенно отыскивать такие книги, поддерживать с ними отношения в течение долгого времени, пожалуй, и обладать ими – и в прямом смысле, и принимая их в свою душу – такова личная задача каждого человека, и он не может пренебречь ею, если не хочет нанести значительного ущерба своей образованности и своим удовольствиям, а стало быть и ценности своего бытия.
Дерево или цветок, особенно любимый тобой, ты впервые встретил не в учебнике ботаники, и точно так же ты находишь и познаешь любимые книги не в трудах по истории литературы и не в теоретическом курсе наук. Тот, кто уже научился уяснять себе цель в каждом деле своей повседневной жизни (а это уяснение и есть основа любого образования), очень скоро научится применять важнейшие законы и проводить важнейшие различия также и при чтении, даже если довольствуется поначалу одними газетами и журналами.
Сам я ценю те или иные книги совершенно независимо от их известности и популярности. Книги существуют не для того, чтобы какое-то время все их читали, обсуждали, найдя в них приемлемую тему для беседы, а потом забыли как последние спортивные новости или сообщения о грабеже или убийстве, – книги требуют, чтобы ими наслаждались, чтобы их любили спокойно и глубоко. Лишь тогда они раскрывают нам свою сокровенную красоту и силу.
Воздействие многих книг поразительно возрастает, когда их читают вслух. Впрочем, это верно, пожалуй, только по отношению к стихам, небольшим повестям, изящным коротким эссе и тому подобному. Если вот такие, подходящие для чтения вслух вещи читают хорошо, можно узнать из них удивительно много, особенно же ощутим при этом скрытый ритм прозы, то есть то, что составляет основу всякого индивидуального литературного стиля.
Книгу, которую ты однажды прочел с наслаждением, непременно надо приобрести, пусть и стоит она не дешево.
Если средства не позволяют, все-таки выход есть – можно покупать только книги, которые посоветовали очень близкие друзья, или книги, которые ты уже знаешь и ценишь, книги, которые ты, вне всякого сомнения, прочтешь не один раз.
Тот, кто питает к какой-то книге сердечное, доброе чувство, без конца ее перечитывает, всякий раз находя в ней новую радость и новое наслаждение, пусть доверяется только своему чувству и никаким критикам не дает отравлять себе радость! Есть люди, чье любимое чтение – сказки, а есть люди, которые отбирают книги сказок у своих детей или прячут их. Прав всегда лишь тот, кто не следует каким-то раз и навсегда установленным нормам и правилам, а прислушивается к своему чувству и потребностям сердца.
О творчестве великих писателей (таких, как Шекспир, Гете, Шиллер) лучше ничего не читать, а если уж читать, то немного, и в любом случае только после того, как узнаешь их самих, познакомившись непосредственно с произведениями. Слишком усердствуя в изучении ученых трудов литературоведов и писательских биографий, легко разрушить то чудесное наслаждение, какое получаешь, когда познаешь сущность человека в его творениях, когда сам рисуешь себе его образ. И помимо произведений, не упускайте возможности прочесть письма, дневники, записи разговоров, например с Гете! Коль скоро источник близок и доступен, зачем принимать что-то из вторых рук. Во всяком случае, читать следует только самые лучшие биографии, плохим же имя легион.
1907
О чтении книг
Одно из врожденных свойств нашего ума – стремление выявлять среди людей типы и соответственно им разделять все человечество. Это желание создавать типологии прослеживается от «Характеров» Теофраста и учения древних о четырех темпераментах и вплоть до современной психологии. И каждый человек так же, порой безотчетно, всех в своем окружении разделяет на типы, по сходству с теми людьми, чьи характеры имели важное значение для него самого в детстве. Разумеется, подобные классификации, основанные на личном опыте либо стремящиеся к научному типологическому подходу, ценны и полезны, но иногда уместен и плодотворен другой взгляд – рассмотрение всего нашего опыта под иным углом зрения, который позволяет увидеть, что у всякого человека есть черты любого из типов, у всякой личности – признаки различных характеров и темпераментов, и они представляют собой ее состояния, разные в разное время.
Выделяя в дальнейшем три типа, вернее, три ступени, для читателей книг, я не хочу сказать, что на данные три категории можно разделить всех на свете читателей, причем так, что один читатель попадет в один класс, а другой – в другой. Каждый из нас в какое-то время относится к одной, а в какое-то – к другой группе.
Прежде всего, есть читатель наивный. Каждый из нас порой бывает таким. Этот читатель поглощает книги, как едок блюда, он только берет, он ест, насыщается, и не важно, кто этот читатель – мальчуган, зачитавшийся приключениями индейцев, или горничная, увлеченная романом из жизни графинь, или студент, изучающий Шопенгауэра. У этого читателя отношения с книгой не такие, как у одной личности с другой, а, скажем, как у лошади с яслями и даже как у лошади с возницей: книга направляет, читатель идет за нею. Содержание книги он воспринимает как некую объективную данность, считает реальным. Но не только содержание! Есть читатели очень образованные, даже рафинированные, это читатели художественной литературы, однако их вполне можно отнести к «наивным». Конечно, они не ограничиваются содержанием и ценят, например, роман не за то, что его автор описывает смерти или свадьбы, – они воспринимают как объективную реальность и самого автора, и эстетические особенности книги, их пронизывают те же токи, что и автора, они всецело проникаются его отношением к миру и безоговорочно разделяют толкования, которые сам писатель дает своим вымыслам. Если простодушный читатель ценит содержание, описание жизни, ее условий, развитие сюжета, то читатель другого типа, приобщенный к культуре, воспринимает как нечто существующее объективно, как последнюю и высшую ценность художественного произведения само мастерство автора, его слог, его образованность, его духовный мир; и на все это он смотрит как на реальность, в точности так же, как юный поклонник Карла Мая считает реальными ценностями, подлинной действительностью приключения Старого Шэттерхэнда[2].
В своем отношении к чтению наивный читатель вообще не является личностью, самим собой. Описанные в романе события он оценивает по тому, каковы их напряженность, опасность, их эротизм, их блеск или нищета, или, в другом случае, он оценивает писателя, прилагая к его творчеству мерило эстетики, хотя она всегда в конечном счете условна. Такой читатель неколебимо верит, что книга существует лишь для того, чтобы ее внимательно прочитали и по достоинству оценили ее содержание или форму. Как хлеб – для еды, а кровать – для спанья.
Но ко всему на свете, стало быть, и к книге, можно относиться совершенно по-иному. Стоит лишь человеку внять голосу своей природы, а не образованности, он становится ребенком и начинает играть с вещами; хлеб превращается в гору, и он роет в ней туннель, а кровать – в пещеру, сад, заснеженное поле. Толику этой ребяческой простоты и этого гения игры мы находим у читателей второго типа. Для этого читателя единственные и важнейшие достоинства книги – не ее содержание и не форма. Этот читатель знает, как знает дитя, что каждая вещь может иметь десятки и сотни разных значений. Этот читатель, наблюдая, например, за тем, как усердствует поэт или мыслитель, убеждающий и себя самого и читателей в правильности своего понимания смысла и ценности вещей, может с насмешкой усмотреть в мнимом произволе и свободе писателя лишь его подневольность и принуждение. Этот читатель успел постичь то, о чем все еще не ведают профессора и литературные критики: что никакой свободы относительно содержания и формы у автора вовсе нет. Если литературовед говорит: «Шиллер в таком-то году, избрав такой-то сюжет, задумал воплотить его, обратившись к пятистопному ямбу», – то читатель второго типа знает, что поэт не был волен выбрать ни сюжет, ни ямбы, и удовольствие для этого читателя состоит не в том, чтобы видеть, как поэт овладевает материалом, а как раз наоборот – как поэт покоряется материалу. При таком взгляде на вещи почти перестают что-то значить так называемые эстетические достоинства и, напротив, величайшую притягательность и ценность в глазах читателя могут иметь огрехи и слабости автора. Ибо этот читатель не идет за автором, как лошадь в поводу, он идет за ним, точно охотник за добычей, и внезапно открывшаяся взгляду изнанка мнимой свободы писателя, его зависимость и подневольность, пожалуй, вызовут у такого читателя большее восхищение, чем любые изощрения прекрасного мастерства и выпестованного словесного искусства.
На этом же пути, но уже на следующей ступени, мы находим наконец последний, третий, тип читателя. Вновь следует подчеркнуть, что никто из нас не обречен всегда принадлежать только к одному из указанных типов, но каждый читатель сегодня принадлежит к первой, завтра – к третьей, а послезавтра – ко второй категории. Итак, третья, и последняя, ступень. Этот читатель, по видимости, – полная противоположность тому, кого принято называть «хорошим» читателем. Он в такой мере является личностью, в такой мере самостоятелен, что в своем отношении к книге совершенно свободен. Он не стремится пополнить свои знания или развлечься чтением, он обращается с книгой не иначе, чем с любой другой вещью, для него она – только отправная точка, она служит лишь побуждением для его собственных мыслей. Что читать ему, в сущности, все равно. Труд философа он читает не с тем, чтобы поверить автору, согласиться с его теорией, и не с тем, чтобы враждовать с ним, подвергать критике; художественные произведения он читает не для того, чтобы их автор дал ему свое истолкование мира. Он сам дает миру истолкования. Он, если угодно, сущее дитя. Он со всем играет – а в известном смысле нет ничего более плодотворного и полезного, чем игра со всем на свете. Если такой читатель находит в книге прекрасную сентенцию, мудрость, истину, он для начала попробует перевернуть ее с ног на голову. Он давно знает, что в духовном противоположность всякой истины – это также истина. Он давно знает, что всякая идеальная точка зрения – это полюс, у которого есть противоположный полюс, столь же значимый. Он дитя постольку, поскольку высоко ценит ассоциативное мышление, однако он признает и мышление иного рода. И поэтому такой читатель, вернее каждый из нас, в те часы, когда он находится на третьей ступени, может читать все что вздумается – роман, учебник грамматики, расписание движения транспорта, типографские листы с пробами печати. Ведь в часы, когда наша фантазия и ассоциативное мышление достигают пика своих возможностей, мы уже не читаем написанного на бумаге – мы плывем в потоке побуждений и идей, которые устремляются к нам из прочитанного. Их рождает текст, но может породить и самый вид печатных знаков. Газетная реклама может стать откровением. Самая радостная, самая жизнеутверждающая мысль может возникнуть из совершенно безразличного слова, если мы его перевернули, если мы затеяли игру с его буквами, как с детской мозаикой. И тут сказку о Красной Шапочке можно прочесть как космогонию или философский трактат или как сочное эротическое описание. Можно даже надпись «Colorado Maduro» на ящике от сигар прочесть вот так, играя словами, буквами, созвучиями, и при этом в воображении посетить бесчисленные царства знания, воспоминаний и мысли.
Но, возразят мне, разве это чтение? Разве человек, который читает прозу Гете, не задумываясь о взглядах и целях Гете, а так, словно перед ним объявление или случайный набор букв, разве это вообще читатель? Разве стадия, которую ты называешь третьей и последней, не является низшей, ребяческой, варварской? Где для такого читателя – музыка Гельдерлина, страстность Ленау, воля Стендаля, безмерность Шекспира? Возражение справедливо. Человек, задержавшийся на этой ступени, – уже не читатель. Он вскоре перестает читать, ибо орнамент ковра или расположение камней в кладке стены для него имеют такую же ценность, как прекраснейшая страница со стройными рядами букв. Ему хватило бы одной-единственной «книги» – листка, заполненного буквами алфавита.
Так оно и есть: на последней ступени читатель вообще не читатель. На Гете ему наплевать! Шекспир ему не нужен. Читатель на последней ступени не читает вовсе. Зачем ему книги? Если весь мир – в его душе?
Тот, кто надолго задержался бы на этой стадии, перестал бы читать. Впрочем на ней никто не остается долго. Но и тот, кто совсем не знаком с этим состоянием, – читатель плохой, незрелый. Он так и не узнал, что вся поэзия и вся мудрость мира живут и в нем самом, что даже величайший поэт черпает из единственного источника, того, каким располагает каждый из нас, – источника в своем существе. Хотя бы раз в жизни – хотя бы день, хотя бы час – побудь на этой третьей ступени, шагни дальше, за чтение, и ты (вернувшись назад, а это легко!) станешь стократ лучшим читателем, лучшим слушателем и истолкователем всего, что ни написано другими. Хотя бы раз взойди на эту ступень, где камень при дороге имеет в твоих глазах не меньшее значение, чем Гете и Толстой, – и у Гете, Толстого, у всех писателей ты с этих пор будешь открывать несравнимо больше ценностей, соберешь больше сладкого меда, обретешь больше утверждений жизни и твоего собственного бытия. Ибо творения Гете – это не Гете, и тома Достоевского – не Достоевский, а лишь попытка, сомнительная, так и не достигшая цели попытка покорить многоголосый, многозначный мир, центр которого есть сам писатель.
Попытайся хотя бы раз поймать череду мыслей, пришедших тебе где-нибудь на прогулке. Или, что вроде бы легче, – сон. Ночью тебе снилось, что некто грозил тебе палкой, но затем вдруг наградил тебя орденом. Кто же он? Ты вспоминаешь и находишь у него черты друга или отца, но не только – в том человеке было еще что-то, иное: женственное; что-то в нем необъяснимым образом напоминает тебе сестру или возлюбленную. А палка, которой он замахивался на тебя, изогнутый посох, напоминает твою трость, с которой ты в школьные годы впервые отправился в поход по окрестностям… и вдруг тебя захлестывают сотни, тысячи воспоминаний, и когда ты пытаешься поймать, воплотить содержание этого немудреного сна, хотя бы сокращенно, в бессвязных, но самых важных словах, ты, еще не дойдя до момента вручения ордена, напишешь, пожалуй, целую книгу, две книги, а то и десяток. Ибо сон – это окно, в котором тебе открылось то, что наполняет твою душу, а содержание твоей души – это мир, не больше и не меньше, целый мир, и в нем все – от твоего рождения и до сего дня, от Японии до Гибралтара, от Гомера до Генриха Манна, от Сириуса до Земли, от Красной Шапочки до Бергсона… И так же, как твоя попытка записать сон соотносится с миром, включающим в себя твой сон, творчество писателя соотносится с тем, что он хотел высказать.
Вот уже сто лет ученые и простые любители толкуют вторую часть гетевского «Фауста», предлагая иногда прекрасные, иногда откровенно глупые, иногда поразительно глубокие, иногда самые пошлые трактовки. Однако в каждом поэтическом произведении – в сокровенной его глубине – таится неизъяснимая многозначность, или, выражаясь языком современной психологии, «избыточная символическая детерминация». Не осознав, пусть даже один-единственный раз, ее бесконечного обилия и невозможности окончательного истолкования, ты останешься ограниченным в своем отношении к любому поэту и мыслителю, ты будешь считать целым лишь малую часть целого, принимать на веру трактовки, которые касаются не существа дела, а лишь того, что лежит на поверхности.
Переходить с одной из ступеней чтения на другую способен любой человек в любой области – это разумеется само собой. Между ними множество промежуточных стадий, и на каждой ты можешь задержаться, к чему бы ты ни обращался – зодчеству или живописи, зоологии или истории. И всюду третья ступень, на которой ты более всего и есть ты сам, будет означать твое исчезновение как читателя, исчезновение поэзии, исчезновение искусства, исчезновение всемирной истории. Однако, пока у тебя не возникнет хотя бы догадки о том, что происходит на этой ступени, все книги, все творения наук и искусств ты будешь читать лишь так, как школяр читает грамматику.
1920
О стихах
Когда я был десятилетним школьником, мы однажды на уроке читали стихотворение из хрестоматии, называлось оно, кажется, «Сынишка Шпекбахера». Там рассказывалось о героическом мальчике, который то ли сражался вместе со взрослыми, то ли под градом пуль собирал патроны, в общем, совершал нечто героическое. Мы, мальчишки, были в восторге, и когда учитель спросил, не без иронии: «Как, по-вашему, это хорошие стихи?» – все закричали: «Да!» Он же, усмехаясь, покачал головой и возразил: «Нет, стихи плохие». И был прав, стихи, с точки зрения канонов поэзии и вкусов нашего времени, были не хороши, не изящны, не подлинны – ремесленная поделка. И все-таки, нас, мальчиков, они словно омыли великолепной волной восхищения.
Спустя десять лет я, двадцатилетний человек, мог с легким сердцем выставить оценку любому стихотворению; бегло пробежав его, я мог сказать, хороши стихи или никуда не годятся. Не было ничего проще. Бросил взгляд, вполголоса пробормотал первые попавшиеся строчки, и все ясно…
С тех пор минуло еще несколько десятилетий, за это время я прочитал или хотя бы бегло познакомился с огромным количеством стихотворений, и вот, сегодня, если меня просят отозваться о стихах, я опять теряюсь и не понимаю, могу ли я их оценить. А стихи мне часто показывают, и обычно они написаны молодыми людьми, которым хочется выслушать «приговор» своим творениям и найти издателя. И эти юные поэты всегда бывают удивлены и разочарованы, увидев, что старший коллега – как они полагали, опытный – вовсе не имеет опыта, нерешительно листает рукопись и не осмеливается что-то сказать о качестве стихов. Задача, которую я, двадцатилетний, весьма уверенно решил бы за две минуты, теперь стала трудной, вернее не трудной – неразрешимой. Кстати, «опыт» это ведь тоже свойство, о котором в юности думаешь, что оно появится само собой. Но опыт не приходит сам. Есть люди одаренные в смысле опытности, у них опыта хоть отбавляй, они были опытными, если не в утробе матери, то уж наверняка на школьной скамье. А есть люди – я из их числа, – которые проживут сорок, или шестьдесят, или сто лет и наконец умирают, так по-настоящему не узнав и не постигнув, что же это такое в самом деле – «опыт».
Уверенность, с которой я, двадцатилетний, оценивал стихотворения, объяснялась тем, что в то время я сильно и, можно сказать, безраздельно любил некоторые стихотворения нескольких поэтов; каждую новую книжку стихов я немедленно сравнивал с ними. Если в ней я находил нечто похожее на мои любимые стихотворения, значит, книжка хороша, считал я, если же нет – никуда не годится.
Сегодня у меня также есть несколько особенно любимых поэтов, и некоторые из них – те, кого я любил и в молодости. Но сегодня у меня вызывают сильнейший скепсис как раз те стихи, которые своим звучанием напоминают кого-нибудь из моих любимых поэтов.
Впрочем, не берусь судить о поэтах и поэзии вообще, речь пойдет только о «плохих», то есть о тех, кого все, все, за исключением самого стихотворца, сразу сочтут посредственными, незначительными, никчемными. За всю свою долгую жизнь я прочитал немало подобных стихов, и в молодости я был вполне уверен, что это плохие стихи, и знал, чем они плохи. Сегодня я в этом далеко не уверен. К тому же, как всегда случается со всем привычным и хорошо известным, сама эта уверенность однажды показалась мне сомнительной, мое знание вдруг стало скучным, сухим, неживым, в нем обнаружились пробелы, во мне поднялся протест против этого знания, и наконец оно предстало вовсе не как знание, а как что-то отжившее, оставшееся в прошлом, и никакой ценности в нем я уже не находил.
Сегодня я нередко, прочитав какое-то несомненно «плохое» стихотворение, чувствую, что мне хочется его похвалить, а то и превознести, а хорошие, даже замечательные стихи вызывают сомнение.
Такое чувство иногда возникает у нас по отношению к какому-нибудь профессору, чиновнику или сумасшедшему: обычно ты знаешь наверняка, ты убежден, что господин чиновник – безупречный гражданин, не вызывающее нареканий чадо Божие, правильно пронумерованный и полезный элемент человечества, а безумец – бедняга, несчастный больной, его терпят, жалеют, но никакой ценности его особа не представляет. Однако в иные дни, или хотя бы часы, – скажем, когда вопреки обыкновению долго имеешь дело с чиновниками, профессорами или сумасшедшими, – вдруг понимаешь, что истинно прямо противоположное: оказывается, безумец это тихий, уверенный в себе счастливец, мудрец, любимец Бога, цельный характер, в своей вере вполне довольный собой; профессор же и чиновник кажутся никчемными, заурядными типами, безликими, блеклыми фигурами, каких найдется двенадцать на дюжину.
Нечто похожее происходит у меня и с плохими стихами. Они вдруг перестают казаться плохими, у них появляется аромат, своеобразие, ребяческая наивность, а их несомненные изъяны и слабые стороны так трогательны, оригинальны, милы и восхитительны, что прекрасное стихотворение, которое вообще-то любишь, по сравнению с ними кажется бледным и шаблонным.
С тех пор как появились экспрессионисты, в творческой манере многих наших молодых поэтов можно заметить нечто подобное – они принципиально не пишут «хороших» или «красивых» стихов. Они полагают, что красивых стихов уже достаточно и они, поэты, рождены на свет не для того, чтобы писать новые изящные стихотворения и продолжать этот пасьянс, начатый прежними поколениями. Вероятно, они правы, и их стихи иногда кажутся мне такими же трогательными, какими раньше я находил только безусловно «плохие» стихи.
Причину этого отыскать нетрудно. Всякое стихотворение рождается как нечто совершенно однозначное: как выплеск, зов, крик, вздох, жест, как реакция глубоко взволнованной души, когда душа отбивает натиск нахлынувшего чувства, переживания, события, или – осознает их. В этой первичной, изначально важнейшей своей функции стихотворение попросту не допускает никаких оценок. Ведь в первую очередь оно о чем-то говорит только самому поэту, это его вздох, его вопль, его греза и его улыбка, его буйный порыв. Кто возьмется оценить сновидения с точки зрения их эстетической ценности, движения рук или глаз, мимику и походку – с точки зрения целесообразности? В движении младенца, тянущего в рот палец своей ручки или даже ножки, столько же смысла и толка, сколько и в привычке автора грызть карандаш или в повадке павлина, распускающего хвост. Ни один тут не поступает лучше, чем другой, и ни один не более прав, чем другие, – и не менее.
Иногда случается, что стихотворение не только снимает бремя с души своего автора, но еще и радует, волнует, трогает душу других людей, – иногда случается, что стихотворение прекрасно. Наверное, это бывает тогда, когда в нем выражено нечто, присущее многим и возможное для всех людей. Но, конечно, наверняка этого знать нельзя.
Здесь начинается небезопасное движение по кругу. «Красивые» стихи приносят поэту популярность, и посему появляется множество стихотворений, у которых только одна цель – быть красивыми, в них нет даже тени изначального, первобытного, священного и чистого назначении поэзии. Такие стихи авторы с самого начала сочиняют не для себя, а для слушателей и читателей. Это уже не грезы и не танец, не крик души, не реакция души на переживание, и не сбивчивые речи страсти и не колдовское заклятье, не взор мудреца и не гримаса безумца – намеренно сфабрикованная продукция, тщательно выверенные изделия, сласти для публики. Они сделаны для сбыта, на продажу, их потребляют, чтобы потешить, побаловать себя чем-то возвышенным или развлечься. И как раз такие стихи имеют успех. Они не требуют углубленного, любовного внимания, не становятся ни мукой, ни потрясением, но можно в благостном спокойствии с приятностью отдаваться их мерным ритмам.
Однако эти «красивые» стихи могут вызвать неприязнь и недоверие, как все прирученное и к чему-нибудь приспособленное, скажем, как профессора и чиновники. Бывает, что весь добропорядочный мир тебе невыносим, и ты готов бить фонари, поджигать храмы, и вот тогда кажется, что все «красивые» стихи, не исключая и священной классики, подчищены цензором, кастрированы, не в меру благонадежны, смирны и добронравны, как старые тетушки. И тогда нас тянет к «плохим» стихам. И тогда, чем они хуже – тем лучше.
Но разочарование подстерегает и здесь. Читать плохие стихи – удовольствие эфемерное, они скоро приедаются. Так зачем же читать? Разве любой из нас не способен сам сочинять плохие стихи?
Попробуйте, и вы увидите, что кое-как состряпанный вами плохой стишок приносит куда больше радости, чем чтение самых прекрасных чужих.
1918; 1954
Чтение и собирание книг
Нынче уже устарел тот взгляд, что каждый клочок бумаги с печатным текстом представляет ценность, что все, что печатается, рождено духовным трудом и заслуживает уважения. Лишь изредка можно еще встретить где-нибудь в горах или у моря людей, чью жизнь не захлестнули бумажные потоки; календарь, ученая статейка, даже газета все еще остаются для них ценностью, достоянием, которое надобно сохранять. Мы привыкли бесплатно получать с почтой целую гору печатных листков и посмеиваемся над китайцами, для которых священна всякая исписанная или покрытая типографской печатью бумажка.
И все-таки высокое уважение к книге осталось. Совсем недавно книги начали раздавать даром, и кое-где они превратились в бросовый товар. Но в целом как раз в Германии людей, по-видимому, все больше радует обладание книгами.
Конечно, при этом зачастую еще отсутствует правильное понимание того, что это значит – обладать книгами. Несть числа тем, кто не согласится потратить на книги хотя бы десятую часть того, что они оставляют в пивных и кафешантанах, для других людей, старомодных, книга – святыня, и посему она пылится у них в гостиной на плюшевой подушке. В сущности, каждый настоящий читатель всегда и книголюб. Ведь если ты способен всем сердцем полюбить книгу, то наверняка ты хочешь владеть и распоряжаться ею как своей собственностью, перечитывать и быть уверенным, что она всегда рядом и никуда не денется. Позаимствовать книгу, прочесть и вернуть – дело нехитрое, прочитанная книга в этом случае забывается скоро, чуть ли не раньше, чем ее вернут владельцу. Иные читатели способны проглатывать по книге за день – это неработающие женщины, и библиотечный абонемент – лучший источник книг для них, ведь они не находят сокровищ, не приобретают друзей и не обогащают свою жизнь, а лишь удовлетворяют некую потребность. Этого рода читатели, так хорошо описанные Готфридом Келлером, пусть предаются своему греху.
Читать книгу – для хорошего читателя это значит постигать существо другого человека, его образ мыслей, это желание понять другого человека и, может быть, сделать своим другом. Особенно читая поэзию, мы узнаем не только маленький кружок лиц и немногие события, но прежде всего – самого поэта, его видение жизни, его темперамент, его внутренний облик, наконец, его слог, его художественные средства, ритм его мысли и речи. Читатель открывает для себя подлинное воздействие книги, только если какое-то произведение его захватило, если он начинает понимать автора, узнает его, завязывает с ним отношения. Такой читатель не отдаст книгу и не забудет ее, он оставит ее у себя, то есть приобретет, чтобы потом, когда захочется, опять перечитывать ее и жить в ней. Человек, покупающий книги с этой целью, причем – лишь те, чей тон, чья душа однажды тронули его сердце, уже не будет поглощать чтиво без разбора и цели, со временем он соберет у себя круг милых и дорогих ему сочинений, найдет в них друзей и знания, и в любом случае это принесет ему больше пользы, чем случайное, без рекомендации чтение всего, что подвернется под руку.
На свете не существует ни тысячи, ни сотни «лучших» книг – у каждого человека своя подборка, и эти книги сродни ему самому, понятны и дороги. Поэтому хорошую библиотеку нельзя собрать по заказу – каждый должен следовать своим потребностям и своей любви, так он постепенно соберет свою библиотеку, подобно тому, как подбирает круг друзей. И тогда маленькое собрание будет для него целым миром.
Лучшими читателями всегда были как раз те, кто обходился совсем небольшим количеством книг, и какая-нибудь крестьянка, которая знает и хранит в своем доме только Библию, вычитала в ней, почерпнула больше знаний, утешения и радости, чем какой-нибудь избалованный богач, владелец огромной ценной библиотеки.
Воздействие книг таинственно. Любой отец и воспитатель не раз замечал, что посоветовав своему ребенку, мальчику или подростку соответствующее его возрасту, замечательное, умное чтение, потом приходил к выводу, что ошибся и книгу выбрал неверно. Дело в том, что каждый, взрослый человек или юнец, сам должен найти свой путь в мир книг, хотя подсказка или дружеский совет и много значат. Иным уже в ранней юности привольно и радостно открывать для себя поэтов, тогда как у других уходят долгие годы, пока они не поймут, какое чудесное наслаждение – читать стихи. Можно, начав с Гомера, прийти к Достоевскому, или наоборот; можно взрослеть вместе с поэтом и только на закате дней приступить к чтению философов, или наоборот, – здесь сотни путей. Но есть только один закон и только один путь сформировать себя и духовно вырасти благодаря книгам – уважение к тому, что читаешь, терпеливое стремление понять автора, скромное приятие другой личности и внимание к ней. Читающий ради времяпрепровождения, пусть даже читает он очень много и только очень хорошие, лучшие книги, будет прочитывать их и забывать, а в конце концов останется бедняком, каким был. Но если читать книги так, как мы слушаем речи друзей, они раскроются тебе и станут твоими. Прочитанное не ускользнет и не затеряется в памяти, но останется с тобой, будет тебе принадлежать, будет радовать и утешать так, как это умеют только друзья.
1908
О чтении
Большинство людей читать не умеет, большинство даже не знает толком, зачем читает. Одни полагают чтение по большей части трудоемким, но неизбежным путем к «образованности», и при всей своей начитанности эти люди в лучшем случае станут «образованной» публикой. Другие считают чтение легким удовольствием, способом убить время, в сущности, им безразлично, что читать, лишь бы скучно не было.
Господин Мюллер читает «Эгмонта» Гете или мемуары графини Байрейтской, дабы пополнить свое образование и ликвидировать кое-что из пробелов, которые, как он подозревает, имеются в его знаниях. Уже то, что он с испугом замечает пробелы в своих знаниях и пытается их устранить, симптоматично: господин Мюллер понимает, что к образованности можно приблизиться «со стороны», и рассматривает ее как нечто приобретаемое трудом, иначе говоря, он знает, что всякое образование, сколько ни учись, для него самого останется мертвым и бесплодным.
А господин Майер читает «для удовольствия», что значит – от скуки. Временем он располагает – рантье, досуга предостаточно, он ищет, чем бы его заполнить. Вот писатели пусть и помогают ему коротать долгие часы. Читать Бальзака для него все равно что курить сигару, читать Ленау – все равно что пролистывать газеты.
Однако в других вопросах господа Мюллер и Майер, а также их жены, сыновья и дочери далеко не столь же мало разборчивы и несамостоятельны. Без основательных причин они не покупают и не продают ценные бумаги, они знают из опыта, что тяжелая пища на ужин дурно сказывается на самочувствии, физическим трудом они занимаются не больше, чем, по их мнению, необходимо для обретения и поддержания бодрости тела. Иные даже занимаются спортом, догадываясь о тайных сторонах этого странного времяпрепровождения, при котором умный человек может не только развлечься, но даже помолодеть и окрепнуть.
Наверное, господину Мюллеру следовало бы читать в точности так же, как он занимается гимнастикой или академической греблей. От времени, посвящаемого чтению, он, очевидно, ожидает приобретений не менее, чем от времени, которое отдает профессиональной деятельности, и книга не удостоится его уважения, если не обогатит его каким-то переживанием, не улучшит хотя бы на йоту здоровье, не придаст бодрости. Образование, очевидно, столь же мало заботит господина Мюллера, как получение профессорской должности, а знакомство с разбойниками и подонками со страниц романа, должно быть, ощущается им как не менее зазорное, чем общение с подобными мерзавцами в действительной жизни. Однако обычно читатель мыслит далеко не столь просто, он либо считает мир печатного слова безусловно более высоким миром, в котором нет ни добра ни зла, либо внутренне презирает его как нереальный, выдуманный сочинителями мир, куда он приходит лишь от скуки и откуда не выносит ничего, кроме ощущения, что довольно приятно провел несколько часов.
Несмотря на свое неверное понимание и низкую оценку литературы, Мюллеры и Майеры читают даже чересчур много. Занятию, которое совершенно не затрагивает их душу, они нередко отдают больше времени и уделяют больше внимания, чем своим профессиональным делам. Стало быть, они смутно догадываются, что в книгах все же скрывается какая-то ценность. Вот только отношение их к книгам отличается пассивной несамостоятельностью, которая в деловой жизни быстро привела бы их к разорению.
Читатель, желающий приятно провести время и отдохнуть, как и читатель, заботящийся о своей образованности, предполагает наличие в книгах неких скрытых сил, способных оживить и возвысить дух, однако определить эти силы более точно, оценить по достоинству такой читатель не умеет. Поэтому он поступает подобно неразумному больному, который знает, что в аптеке наверняка найдется множество полезных лекарств, и хочет перепробовать их все, берет в руки склянку за склянкой, обшаривает ящик за ящиком. Однако, как в настоящей аптеке, так и в книжной лавке или библиотеке, каждому следует найти единственно необходимое ему снадобье, и тогда, не отравляя себя, не переполняя организм никчемными веществами, каждый обретет здесь то, что подкрепит его дух и телесные силы.
Нам, авторам, приятно видеть, что люди читают так много, и, наверное, только неумный автор говорит, что читают слишком много. Но профессия со временем перестает радовать, если видишь, что всеми она понимается превратно; десяток хороших, благодарных читателей, пусть даже денежное вознаграждение автора уменьшится, лучше и отраднее, чем тысяча равнодушных.
Поэтому осмелюсь все же сказать, что читают слишком много и избыточное чтение не служит к чести литературе, а наносит ей ущерб. Книги существуют не для того, чтобы способствовать все меньшей самостоятельности людей. И тем более не для того, чтобы человеку нежизнеспособному предлагать дешевый обман и подделку жизни. Напротив, книги ценны лишь тогда, когда ведут к жизни и служат жизни, полезны ей, и каждый час чтения, я полагаю, пущен на ветер, если читатель не воспринял в этот час искру силы, молодости, дыхание свежести.
Чтение – это чисто внешний повод, побуждение, чтобы сосредоточиться, и нет ничего более ложного, чем чтение с целью «рассеяния». Если человек не болен душевно, ему незачем рассеиваться, он должен быть сосредоточенным, всегда и везде, где бы ни был и что бы ни делал, о чем бы ни размышлял, что бы ни чувствовал, он должен всеми силами своего существа сосредоточиться на занимающем его предмете. Потому и при чтении прежде всего необходимо ощущать, что всякая достойная книга есть средоточие, соединение и нарочитое упрощение сложно взаимосвязанных вещей. Всякое крошечное стихотворение уже является таким упрощением и сосредоточением человеческих чувств, и если я, читая, не ощущаю желания во всем этом соучаствовать и сопереживать автору, то я плохой читатель. И пусть ущерб, который я, плохой читатель, причиняю стихотворению или роману, не является непосредственным. Плохим чтением я наношу урон прежде всего самому себе. Я трачу время на что-то никчемное, отдаю свое зрение и внимание вещам, которые не важны для меня, которые я заведомо собираюсь вскоре забыть, я утомляю свой мозг впечатлениями, которые бесполезны и даже не будут мной усвоены.
Многие говорят, что в плохом чтении повинны газеты. Я же считаю, что это совершенно неверно. Прочитывая ежедневно одну или несколько газет, можно быть сосредоточенным и деятельным, более того, выбирая и комбинируя новости, можно выполнять таким образом очень полезное и ценное упражнение. В то же время можно прочесть «Избирательное сродство» Гете глазами образованца, любителя развлекательного чтения, и ничего ценного такое чтение не даст.
Жизнь коротка, в горнем мире не спросится, сколько книг ты осилил в своем земном бытии. Поэтому неумно и вредно тратить время на бесполезное чтение. Я имею в виду не чтение плохих книг, а прежде всего качество самого чтения. От чтения, как от каждого шага и каждого вздоха, нужно чего-то ждать, нужно затрачивать силы, и тогда сил станет больше, нужно терять свое «я», и тогда вновь обретешь его, мыслящее более глубоко. Знание истории литературы лишено ценности, если каждая прочитанная книга не стала нам радостью или утешением, источником силы или душевного покоя. Бездумное рассеянное чтение – то же что прогулка в прекрасной местности с завязанными глазами. Но читать надо не для того, чтобы забывать о самом себе и своей повседневной жизни, а напротив, чтобы более сознательно и зрело, крепко брать в руки собственную жизнь. Мы не должны идти к книгам так, как робкие школяры к строгому наставнику, и не тянуться к чтению, как выпивоха к бутылке, надо почувствовать себя покорителем вершин, совершающим восхождение в Альпах, воином, шагающим в арсенал; не искать прибежища, подобно беглецам и мизантропам, а с добрыми помыслами идти к книгам, как к своим друзьям или помощникам. Если бы все происходило так, сегодня едва ли читали бы одну десятую того, что читают, но зато все мы стали бы в десятки раз радостнее и богаче. И если бы это привело к тому, что наши книги перестали бы пользоваться спросом и мы, авторы, в итоге, писали бы в десятки раз меньше, то миру это не причинило бы ни малейшего вреда. Ибо с писательством дела обстоят, разумеется, не лучше, чем с чтением.
1911
О писательской профессии
Человеку, который в силу множества жизненных случайностей и может и должен существовать за счет своего прирожденного литературного дарования, надо постараться свыкнуться с этой сомнительной «профессией», ибо профессией она в действительности не является. Труд так называемого свободного писателя нынче считают профессией, а ведь в истории никогда такого не бывало. Наверное, так сложилось потому, что занимаются этим ремеслом многие люди, не имеющие призвания к данному роду деятельности. Мне кажется, случайное, ни к чему не обязывающее сочинение милых вещиц, совокупность которых у нас называют литературой, не может быть трудом всей жизни и не заслуживает звания профессии в обычном смысле этого слова. «Свободный» писатель, коль скоро он порядочный человек и в какой-то мере художник, профессии не имеет, как раз напротив, он бездельник и частное лицо, а при случае, под настроение, в благоприятной обстановке он что-то создает.
Но каждому свободному писателю очень трудно найти свое место где-то между частным лицом и несвободным писателем, то есть журналистом. Профессия, которая профессией не является, не всегда приносит радость. Кто-то попросту не способен вести бездеятельную жизнь, вот он и пишет все больше и больше, выходит за пределы своего природного дарования и в итоге становится писакой. Кого-то другого соблазняют свобода и безделье комфортной жизни, ведь человеку, вовсе не имеющему профессии, легко погибнуть. И все они – как усердные, так и ленивые – страдают неврастенией и прочими недугами недостаточно занятых и слишком зависящих от себя самих людей.
Но я не об этом хотел повести речь, не об этих вопросах, которые каждый решает самостоятельно, в одиночку. Сами писатели пусть как им угодно понимают свою «профессию», это их дело. Однако у общественности совсем иное представление о писательской профессии, чем у поэтов и писателей, чьи размышления о собственном труде по большей части проникнуты самоиронией.
Общественность, пресса, народ, члены различных союзов и объединений, короче говоря, всякий, кто сам не писатель, подходит к этой профессии и обязанностям писателя гораздо проще. И потому с литератором, в точности как с любым врачом или судьей, или чиновником, случается, что он составляет себе представление о существе и характере своей профессии на основании претензий, которые к нему предъявляют посторонние. Каждый писатель, достигший некоторой известности, ежедневно узнает из приходящей в его дом почты, что о нем думают и чего от него хотят издатели, публика, пресса и коллеги.
Публика и издатели обычно единодушны и весьма скромны в своих претензиях. От автора удачной комедии они ожидают новых удачных комедий, от сочинителя романа из сельской жизни – таких же романов, от автора книги о Гете – новых книг все о нем, о Гете. Порой автор и сам ничего другого не желает, в таком случае ко всеобщему удовольствию воцаряется согласие. Автор «Тирольской красавицы» продолжает в том же духе и пишет «Девчонку из Тироля», автор «Картин солдатской жизни» сочиняет «Картины казарменного житья-бытья», а вслед за «Гете в рабочем кабинете» появляются «Гете при дворе» и «Гете на улице».
Поступающие подобным образом авторы – и в самом деле имеют профессию писателя, они и в самом деле занимаются ремеслом. Они не гонятся за наживой, у них есть тайные значки писательского цеха или настоящих цеховых писателей, это «бесценные перья».
«Бесценные перья» – изобретение редактора, к сожалению, пожелавшего остаться неизвестным; это он несколько десятков лет тому назад заявил, мол, так называемый «личный элемент» опасен, мол, это «злокачественная опухоль журналистики». На место личности он поставил «имя», а всякому годному в дело «имени» пожаловал титул «бесценное перо» и, всемерно щадя авторское тщеславие, все заказные работы научился навязывать «бесценным перьям». Эта метода сегодня в ходу во всех газетных отделах культурной жизни – тех, конечно, где культ всего, что не отмечено печатью личного, не принял более благородную форму – полной анонимности.
И вот поэтому, например, сочинитель удачного романа может нежданно-негаданно получить такую телеграмму из редакции знаменитой на весь мир газеты: «Пришлите срочно что-нибудь простенькое, набросанное вашим бесценным пером, о перспективах развития авиационной техники. Гонорар по высшей ставке гарантирую». Дело в том, что всякого мало-мальски известного автора редактор ценит только в качестве «имени» и строит расчет: читателям хочется интересных и актуальных заголовков, а еще им приятно видеть известные имена, ну что ж, скомбинируем то и другое! И совершенно безразлично, что будет написано в заказанной статье: если автор – бесценное перо, то его болтовню о творчестве Герхарда Гауптмана вполне можно предварить декоративным пассажем о Цеппелине. Есть перья абсолютно бесценные, которым недурно живется за счет подобной надувательской практики.
Примерно таковы требования прессы к свободным писателям. Сюда же относятся и «опросы», в которых профессора высказываются о театре, актеры о политике, поэты об экономической жизни страны, гинекологи об охране памятников старины, – мы словно попадаем на костюмированный бал. В общем-то безобидная и приятная практика, никто не относится к ней серьезно, и она никому не причиняет большого вреда. Хуже те требования прессы, в основе которых лежит расчет на тщеславие литераторов и зависимость их от рекламы, под девизом: «Manus manum lavat»[3]. К этой недостойной возне я отношу также публикацию в журналах и воскресных выпусках газет коротких, украшенных портретом рекламных заметок и автобиографий.
Писатель постепенно учится судить о своем мастерстве по этим предложениям и публикациям и, если он почему-либо в данный момент не занимается настоящей работой, то, конечно, может наполнить пустые дни этой, в сущности, никому не нужной перепиской. А затем начинают приходить уже совсем неожиданные частные письма, с каждым годом их все больше, и характер их меняется. О прошениях ничего не скажу – их получают все. А вот немало удивило меня, когда некий вышедший из тюрьмы человек, имевший в целом тридцать пять судимостей, предложил мне приобрести у него за единовременное вознаграждение в размере тысячи марок его рассказ о собственной жизни и право на любое литературное использование этой биографии. Не радует и то, что каждая маленькая библиотека и некоторые бедные студенты полагают, будто автор всегда рад пачками дарить им свои книги. Странно, далее, что все союзы и объединения Германии свой ежегодный, а все muli[4] Германии – свой выпускной праздник непременно желают украсить выступлениями немецких писателей. По сравнению с этим, просьбы собирателей автографов – пустяки, даже если вам поневоле приходится отвечать на них, так как к просьбе прилагается почтовая марка для ответа.
Однако даже все на свете издатели, редакции, союзы, абитуриенты, восторженные девицы отнимают у писателя меньше времени, чем его коллеги, начиная с шестнадцатилетнего школьника, который присылает сотни криво-косо написанных стихотворений с просьбой дать им подробнейший разбор и оценку, до набившего руку на своем деле старика-литератора, который чрезвычайно учтиво просит вас дать благоприятный отзыв о его новой книге и при этом прозрачно намекает, дескать, откажетесь вы или согласитесь, он при любом исходе в долгу не останется. Что касается издателей и газетчиков, попрошаек и простаков – к ним можно относиться спокойно и с юмором. Но бессовестное делячество и своекорыстная назойливость никому не нужных самозваных писателей, как правило, не вызывают ничего, кроме отвращения и досады. Чрезмерно учтивый юнец, который сегодня присылает тебе свои стихи и напыщенное льстивое письмо, полное заверений, мол, он внимательно прислушается к твоим оценкам и последует советам, возможно, завтра на твое письмо, тщательно продуманное, приветливое, но отклоняющее его просьбу, ответит злобной клеветой в местном еженедельнике. Я и раньше был хорошо знаком, и сегодня дружу со многими писателями, которых высоко ценю, и каждый из нас все это знает, и ни один никогда не сделал и шага по этому пути попрошаек и вымогателей. Так что можно, наверное, заключить тем, что ценность этой неистребимой породы льстецов и попрошаек, набивающихся нам в коллеги, низка, и, думаю, ни одного честного человека и ни одного гения мы не обидим, если все эти ежедневно поступающие назойливые письма, не читая, будем попросту бросать в корзину, куда отправляются и не связанные с литературой прошения, и рекламные объявления.
А под конец, завершая круг, видишь, что занятие, вроде бы похожее на профессию и работу, оборачивается, если писатель за него берется, сплошными глупостями и никчемным бумагомаранием, а его настоящую работу нельзя, вопреки всем противоположным мнениям, как-либо регламентировать и сделать профессией. Наша профессия – это пребывание в тишине, с широко открытыми глазами, в ожидании нашего доброго часа; когда же он настает, наша работа, пусть даже она доводит до изнеможения бессонными ночами, драгоценна и перестает быть «работой».
