По дорогам бесплатное чтение
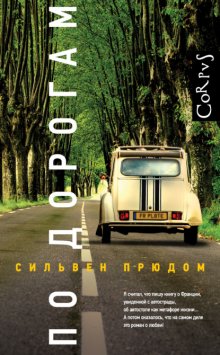
SYLVAIN PRUDHOMME
PAR LES ROUTES
Фото автора на обложке Francesca Mantovani © Editions Gallimard 2019
© Éditions Gallimard, Paris, 2019
© И. Кузнецова, главы 1–19, перевод на русский язык, 2022
© И. Стаф, главы 20–45, перевод на русский язык, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022
© ООО “Издательство АСТ”, 2022
Издательство CORPUS®
1
Я снова встретился с автостопщиком лет шесть или семь назад в маленьком городе на юго-востоке Франции по прошествии пятнадцати с лишним лет, когда, не забывая его совсем (автостопщик не из тех, кого можно забыть), я хотя бы думал о нем не так часто, как раньше. Я называю его автостопщиком, потому что этим прозвищем, существовавшим только в моих мысленных к нему обращениях, о которых он ничего не знал, я постоянно именовал его про себя все те годы, когда мы тесно общались, и потом, когда мы друг от друга отдалились, а я все-таки продолжал вспоминать его время от времени как некий этап, или – есть у моряков одно слово, уместное в данном случае благодаря некоторой своей неоднозначности, хотя сами они не связывают с ним ничего тревожного, – узел.
Поселившись в Н., я узнал, что он тоже там живет.
Я уехал из Парижа, чтобы начать новую жизнь. Я изо всех сил хотел переменить обстановку. Деконструкция, реконструкция – такова была моя программа на грядущие дни, а возможно годы.
Я приближался к сорокалетию. Я уже много лет писал книги. В Париже работал дома, куда-то ходил, снова возвращался работать. Чего-то добивался, что-то само шло в руки. Общался с людьми. Некоторые становились мне дороги. Влюблялся. Переставал любить. Не знаю, возможно, естественный ход существования – это быть сначала независимым, одиноким кочевником, потом постепенно связать себя более крепко, осесть, создать семью. Если это так, то я удалялся от цели. Мои маршруты становились короче. Любовные истории длились меньше. Случались реже. Меня находили неуживчивым. Или я сам с годами утратил терпимость, разучился заботиться о других.
Наверно, стал равнодушнее. Или просто любовь теперь интересовала меня меньше.
Одиночества я не боялся. У меня всегда бывали в уединении острые моменты радости, которые чередовались, разумеется, с острыми моментами тоски, и все-таки в целом я по натуре своей предрасположен к счастью.
Меня привлекает и одновременно страшит мысль, что существует некая теневая черта. Невидимая граница, которую мы переходим ближе к середине жизни, граница, за которой мы уже не можем стать, а можем только быть. Конец обещаниям. Конец умозрениям на тему, что мы решимся или не решимся совершить завтра. Нам известно, какое пространство мы нашли в себе силы исследовать, какой кусок мироздания в состоянии были охватить. Половина отпущенного срока прошла. Она теперь там, позади, вся как на ладони, и уже ясно, кто мы есть, какими были до сих пор, на что способны или неспособны были отважиться, что нас огорчало, что радовало. Мы можем убеждать себя, что линька не завершена, что завтра мы переменимся, что тот или та, кем мы на самом деле являемся, еще покажут себя, – поверить в это все труднее, и даже если такое произойдет, срок жизни, отпущенный этому новому человеку, с каждым днем уменьшается, зато увеличивается возраст теперешнего, того, кем мы так или иначе были в течение стольких лет, что бы ни произошло в дальнейшем.
В городе Н. я рассчитывал вести жизнь спокойную. Собранную. Прилежную. Я мечтал об отдыхе. О свете. О более подлинном существовании. Мечтал о подъеме. О легкости. О книге, которая придет сразу, за несколько недель самое большее. Об озарении, которое внезапно случится, став наградой за месяц терпения. Я готов был ждать. Мне нравилась идея усердия. Я преклоняюсь перед такими вещами, как воля, выдержка, упорство.
Я выбрал Н., потому что это город маленький. Потому что говорили, что он красивый и там хорошо жить. Потому что у меня там всего двое-трое знакомых, и общаться с ними будет легко и приятно – мой двоюродный брат, лицейский учитель, я его любил, хотя мы виделись редко. И друзья друзей, с которыми ничто не обязывало меня встречаться.
Я помнил, как дважды ездил в Н. на уикенд летом, когда – я хорошо это знал – город, целиком отданный туристам и их удовольствиям, демонстрирует лишь одно из своих лиц, самое привлекательное, самое поверхностное. Мне захотелось увидеть другое. Город долгих зимних ночей. Синего, ледяного январского небосвода. Я смотрел на переполненные террасы кафе, на фасады домов с широко распахнутыми окнами и думал: а через три месяца? А когда все разъедутся? А когда на улице ноль и свет падает на безлюдные площади и закрытые кафе?
Мне захотелось этого покоя. Показалось, что в Н. я сумею вновь обрести сосредоточенность, аскетизм, которых мне уже много лет не хватало. Разумную дозу уединения, чтобы наконец собраться, прийти в себя, быть может, возродиться.
2
Могло пройти много месяцев, прежде чем я встретил бы автостопщика, – нет такого закона, по которому жители одного и того же города, каким бы маленьким он ни был, должны быстро встретиться.
Нескольких часов, однако, хватило.
Я прибыл на вокзал Н. около полудня, имея при себе на все про все две сумки с книгами и одеждой. Стояла хорошая погода, было начало сентября. Платаны уже понемногу облетали. Листья отделялись от веток один за другим и падали вниз как огромные стружки, касаясь земли с громким шуршанием. Потом шелестели по асфальту при малейшем дуновении ветра.
Я дошел до центра, миновав ограду коллежа, где стоял гвалт большой перемены. Встретился с хозяином квартиры, снятой по интернету. Мы осмотрели ее, зафиксировали одну-две трещины на потолке, урегулировали вопрос ежемесячных выплат, выпили на ближайшей террасе. Потом он вручил мне ключи, и я проводил его взглядом до конца улицы.
Я снова поднялся в квартиру. Открыл дверь, оглядел свое новое жилище. Две комнаты с паркетным полом, показавшимся мне уютным на фотографиях в интернете. Сейчас комнаты поразили меня в первую очередь невероятно низкими потолками.
Я посмотрел на фисташковые стены – я сам их покрасил, сообщил хозяин. Он с гордостью рассказал, что, добиваясь именно такого оттенка и никакого другого, вынужден был заказать краску в некой лондонской фирме. Я оглядел люстру, висевшую над столом на уровне моей головы. Старую лепнину на потолке. Тяжелые шторы. Потрепанный диван в нише, далеко от единственного окна.
Я подумал: вот я и снова студент.
Улыбнулся.
Поставил сумки в угол, наскоро смахнул с мебели пыль, сделал гораздо быстрее, чем в былые времена, положенные звонки в разные службы – газ, электричество, интернет.
Пошел в магазин – кофе, паста, оливковое масло, вино.
Вернулся. Снова оглядел неподвижные стены, неподвижные шторы, неподвижные люстру и стол. Физически ощутил глыбу тишины в этих стенах. Послушал, как скрипит под ногами паркет. Положил покупки возле раковины. Я пришел в восторг от этого жеста – положить покупки на столешницу в новой кухне. Услышал, как бутылка оливкового масла в пакете тихонько звякнула об дерево. Я узнал этот знакомый звук – стук сумки с продуктами о рабочую поверхность на кухне. На моей кухне.
Подумал: здесь мне будет хорошо.
Я порылся в выдвижном ящике, отыскал нож. Почистил несколько зубчиков чеснока, мелко нарезал, бросил на сковородку. Пошел запах. Я сварил пасту, слил воду, вывалил пасту на сковородку, где томился в масле чеснок. Посмотрел, как извиваются длинные косички. Подождал, пока они поджарятся, пропитаются маслом и чесночным соком, станут хрустящими, как соломка.
Пододвинул стол к окну. Сел. Все съел. Выскреб со дна сковородки жареный чеснок до последней дольки. Поставил варить кофе.
Потом, не откладывая, сел работать.
Я просидел за компьютером до вечера, внимательный, напряженный, счастливый.
Я подумал: здесь время будет наполненным. Здесь каждая неделя будет как месяц.
Около шести вечера мне позвонил Жюльен, мой кузен, которому я заранее сообщил, что должен приехать сегодня. Он пригласил меня к себе на вечеринку.
Я подумал: нет.
Не прямо так сразу.
Я сказал: да.
И снова вернулся к работе.
Около девяти часов я принял душ и взял на кухне купленную днем бутылку вина.
Когда я вышел, оказалось, что сентябрьская ночь уже почти наступила, улицы были пустынны, открыты только редкие рестораны. Ветер усилился, похолодало. Я посмотрел на магазины с опущенными железными шторами, на дома с освещенными кое-где окнами, на сине-зеленые блики телевизора на потолке второго этажа. В одном из нижних окон заметил семью за ужином.
Я подошел к дому, освещенному снизу доверху. Увидел в окнах фигуры людей, стоявших на кухне и в гостиной, услышал музыку, включенную на полную громкость. Жюльен вышел открыть мне дверь.
Саша.
Он поцеловал меня.
Значит, ты и правда приехал.
Он потащил меня в гостиную, познакомил со своей женой Аниссой. Сделал потише музыку и радостно представил меня гостям:
Мой кузен Саша. Рекомендую оказать ему теплый прием.
Не успев опомниться, я уже стоял с бокалом красного и болтал с Аниссой и Жанной, коллегой Жюльена по лицею. Я описал им свой первый день в городе, как приехал с двумя сумками одежды и книг. Мою квартиру с зелеными стенами. Пасту, зажаренную с чесноком.
Они посмеялись.
Будем приглашать тебя иногда, не одной же пастой тебе питаться, сказала Анисса.
Я видел, что Жанна расположена ко мне, что рассказ о моем одиноком приезде ее развеселил. Я догадался, что она тоже живет одна. Анисса оставила нас вдвоем. Жанна рассказала мне, как сама приехала сюда четыре или пять лет назад, после своего первого места работы где-то в районе Бреста. Я объяснил, что меня сюда привело. Хотелось начать с нуля. Сосредоточиться. Жить без суеты.
Мы выпили и налили себе еще. Она спросила, о чем будет книга, которую я собираюсь писать.
А потом – что пришло ей в голову? Что я такого сказал, чтобы у нее возникла эта мысль?
Знаешь, тут в городе есть один человек, надо вас познакомить. Вы наверняка найдете общий язык, да, да. Он забавный, слегка чокнутый, ты увидишь, и тоже любит книги. Он поселился в Н. года, наверно, четыре назад.
Почему я сразу догадался, что это он? То ли потому, что она сказала “слегка чокнутый”. То ли потому, что поселился недавно.
Я почувствовал, как кровь застучала в висках.
Вам надо встретиться, вы сойдетесь, это точно, продолжала Жанна.
И тут она произнесла его имя.
Я, как мог, держал себя в руках. Она ничего не заметила. Ни на миг не заподозрила, в какое смятение меня привела.
Ты должен познакомиться с ними обоими. С ним и его подругой. Со всеми троими. У них маленький сын. Они просто супер.
Я ничего не сказал. Я переваривал это известие. Автостопщик здесь, совсем близко. Живет с подругой. У него сын.
К нам подошел Жюльен.
Саша, как ты тут? Не скучаешь?
Он увидел рядом со мной Жанну. Вытащил пачку сигарет, спросил, показали ли мне террасу. Мы поднялись втроем по узкой крутой лестнице, миновали второй этаж, третий и вышли в темноту на самом верху. Мы стояли там и смотрели на крыши соседних домов, на крону платана совсем рядом, на звезды над нашими головами, на черную воду реки.
Вам, наверно, хорошо здесь, сказал я Жюльену, помолчав.
Он легонько кивнул.
Тебе тоже понравится в Н., вот увидишь.
Ну, за тебя, Саша, сказала Жанна, поднимая свой бокал. С приездом!
Мы все чокнулись.
Я взглянул на луну над крышами. Вслушался в шум праздника на первом этаже.
Я думал об автостопщике. О басне, которую вспомнил однажды, незадолго до того, как попросил его уйти из моей жизни: медный котел не желал зла глиняному горшку, более того, искренне желал ему добра, однако случайным движением разбил его вдребезги. От горшка, водившего слишком тесную дружбу с котлом, остались одни черепки.
Перед лицом судьбы есть два варианта поведения – бороться с ней до изнеможения или уступить. Принять ее сознательно, торжественно, словно бросаясь со скалы. На радость и на горе.
Да будет так, говорят нам почти все религии, и в этом согласии есть какая-то завораживающая сила.
Amen.
Аминь.
Потому что так нужно.
Потому что так все равно должно быть.
3
Я позвонил ему на следующий же день утром. В телефоне повисла тишина.
Саша.
Я сказал ему, что я здесь. Что поселился в Н.
Он выдержал паузу.
Ты тут. Невероятно.
Мы оба молчали, ждали. Мы не виделись, не давали о себе знать больше пятнадцати лет.
Приходи, просто сказал он.
Что ты говоришь?
Приходи прямо сейчас. Приходи к нам. Зачем откладывать.
Голос у него не изменился. Несмотря на удивление, он был спокоен.
Приходи, Мари и Агустин дома, сегодня воскресенье, ты всех увидишь.
Я положил телефон на табурет. Посмотрел на зеленые стены. Подумал, что надо купить стулья. Что тех двух, которые есть, может не хватить, какой бы уединенной ни была моя новая жизнь.
Я посмотрел, как утренний свет вливается в окно, падает на паркет, ложится на него большим золотистым пятном. Увидел пыль, которую вчера не заметил, торопясь сесть за работу. Наклонился и провел пальцем по плинтусу. Кончик пальца стал черным. Я отыскал пылесос в чуланчике под лестницей. Пошел купил жавелевой воды, средство для мытья стекол, сменные мешки для пылесоса, губки, швабру. Поработал пылесосом. Тер. Драил. Скреб. В квартире запахло чистотой.
Бросил взгляд на компьютер, включенный со вчерашнего дня.
Подумал, что поработаю позже.
Через окно, ставшее чистым, я разглядел квартиру напротив: за распахнутыми окнами маленький письменный стол в углу, белые стены, полки, заставленные книгами.
Подумал, что, наверно, в этой комнате хорошо работается. Что соседи напротив, видимо, симпатичные люди, раз так любят книги.
Сварил себе кофе. Запах кофеварки смешался с запахом жавелевой воды. Я задумался, не последует ли химическая реакция, способен ли запах хлорки испортить вкус кофе. Я налил кофе в большую чашку, поднес ее ко рту. Нашел вкус странноватым. Сделал второй глоток, потом третий. Хлорка уже не чувствовалась.
Я распаковал сумки, вытащил одежду. Две пары джинсов, три футболки, рубашка, несколько пар трусов и носков, больше ничего. Положил на единственную секцию стеллажа в квартире, на самом виду. Всё под рукой. Я обычно так поступаю с вещами, когда живу не дома – у друзей или в гостинице. Я порадовался, что мой гардероб состоит теперь лишь из самого нужного. Увидел в этом знак, что я на верной дороге. На пути к той жизни, к которой стремился. Собранной. Воздержанной. Напряженной.
Я снова полез в сумки, достал штук двадцать книг, которые взял с собой. “Корректура” Томаса Бернхарда, “Краткая история портативной литературы” Вила-Матаса. “Георгики” Клода Симона, самая насыщенная, как я всегда думал, из когда-либо написанных книг, самая полнокровно живая, переполненная до отказа неподвижными зимними поездами, вспышками снарядов, колышущимися хлебными полями и часами ночных ожиданий на лошадях, костенеющих от холода. El coronel no tiene quien le escriba[1] Гарсиа Маркеса, где старик, впавший в нищету, ждет, бесконечно ждет свою ветеранскую пенсию, но ее все нет, и он предпочитает сдохнуть с голоду, нежели расстаться со своей последней гордостью – бойцовым петухом. Эссе “В защиту Малерба” Франсиса Понжа, которое мне достаточно пробежать глазами в дни уныния, чтобы снова почувствовать себя на коне. “Мы поехали к морю (13 километров от Кана): почувствовали его сильный и горький настрой, увидели, как растения дюн яростно сопротивляются ветру, цепляясь всего лишь за песок. Мы сами одновременно и море, и дюны и способны вести себя так же. На волне нашего гнева 1 и 2 октября мы найдем нужный тон, чтобы взять слово и оставить его за собой. Мы, затерянные в толпе. Мы, пассажиры третьего класса. Мы, не знающие, как нам жить, и не имеющие вкуса к богеме”.
Я поставил все книги одну за другой на полку, на уровне глаз, на видном месте. Чтобы каждый раз, проходя мимо, получать от них мощный толчок, укол, окрик, призыв к взыскательности и труду.
Я полностью разобрал сумки. Осмотрел свое имущество, намеренно сведенное к необходимому минимуму, аккуратно разложенное передо мной на свету, наготове, подобно инструментам хирурга перед операцией. Я подумал: когда вещей немного, то их видишь лучше. С немногим живется легче. Легче передвигаться, легче соображать, легче принимать решения. Мне понравилась мысль, что отныне вся моя жизнь – вот она, здесь. От груды хлама сорока лет моего существования осталась лишь эта кучка предметов на полках.
Я взял карту Франции, которую всюду вожу с собой, и прикрепил кнопками к стене. Повторил на карте путь, проделанный накануне в поезде: из Парижа, скрещения всех дорог, вниз, через всю долину Роны, через все зеленые, желтые и оранжевые участки, рассеченные за несколько часов скоростным поездом, до точки Н.
Я подумал: ну вот, ты здесь. Ты живешь в этой крохотной точке на карте. Где-то в черноте этой точки под названием Н. находится точка во много тысяч раз меньше – ты сам.
А потом мне пришло в голову другое: где-то в этой точке Н. находится и точка автостопщика. Я прошелся взглядом по карте, охватывая огромные пустые пространства, побродил среди тысяч других точек, где я или он могли бы теоретически решить поселиться. Все-таки это невероятно, размышлял я, что мы оба оказались в Н. Какая-то из ряда вон выходящая случайность. Или не случайность, а что-то другое. Я поставил себя на место автостопщика. Подумал о том, что он мог подумать, узнав, что я здесь. Немыслимо, чтобы он не подумал, что я приехал сюда для того, чтобы его найти. Что этот переезд я затеял из-за него.
Я вспомнил о Ли Освальде, достающем винтовку на верхнем этаже здания, откуда он выстрелит в Кеннеди. Обо всех наемных убийцах в часы, предшествующие убийству, которое они собираются совершить. Об их спокойствии. О точности движений. О том, как тщательно они выбирали место засады. Располагали все принадлежности. Готовились, чтобы в нужный момент все произошло наилучшим образом.
Живи, говорил мне автостопщик. Живи, а потом будешь писать. Не упускай этот дивный солнечный день, говорил он каждый раз, когда видел меня за компьютером. Или если по доброте душевной не говорил, то я все равно чувствовал, что он так думает. И его поступки говорили мне это. Он отправлялся купаться, а я нет. Он собирался на прогулку, а я нет. Он встречал каких-то новых людей в баре, а я нет.
Я допил остатки кофе. Заметил на полке книгу, в последний момент засунутую в сумку. Небольшую книжечку, обнаруженную перед самым отъездом, когда я опустошал стеллажи в моей маленькой парижской комнате. Название гласило: “Автостоп! Веселое и полезное руководство”. Я взял книгу с полки. Почитал начало. Автор – Ив-Ги Бержес, рисунки Сампе. Вспомнил букиниста, у которого купил ее лет двадцать назад в крытом рынке на юге Парижа.
Снова увидел, как стою со своей находкой в руках и показываю ее автостопщику. И как он отреагировал на книгу. Как улыбнулся с высоты своих двадцати лет.
Надо же, учебник по автостопу! Почему бы не написать руководство, как переставлять ноги при ходьбе. Или как правильно ложиться на кровать.
Я принялся листать. Восхитился прелестным посвящением: “Национальной компании французских железных дорог в знак искренней симпатии и почтения”. Я пробежал глазами страницы, выхватывая там и тут по паре фраз: “Что касается меня, то скажу прямо: автомобилистов я обожаю. За свою жизнь я употребил их больше трех тысяч”. Я узнал историю “Большого пальца”, парижской ассоциации, которая в конце пятидесятых придумала достойный всяческих похвал проект облегчения связей между водителями и пассажирами с помощью объявлений – далекий предок современных серверов поиска попутчиков, ни больше ни меньше.
Я почувствовал, как мой тогдашний стыд уступает место сегодняшнему. Сейчас мне стало стыдно за то, что я покраснел за эту книгу, на самом деле хорошую. За то, что так трепетал перед мнением автостопщика. И подумал: а что, если сегодня она ему как раз понравится.
Сунул книгу под мышку. Вышел.
4
Площадь была пуста. Блестели металлические столики бара “У фонтана”. Тротуар устилали листья платанов. Сплющенные ночным дождем, они глухо хлюпали под ногами, как мокрый картон. Воздух приятно посвежел. На подлокотниках алюминиевых кресел горели капли. Болталась ткань закрытых зонтиков. Облака были белыми. Свет вспыхивал, лучился отовсюду. Сверкали крышки люков. Темнели стволы платанов и столбики у края тротуара, отмытые в осенней генеральной уборке.
Я пошел дальше. Прошел мимо закрытых лавок. Издали опознал утреннюю жизнь булочной, мелькание людей в стеклянных раздвижных дверях, балет покупателей с багетами и круассанами в руках. Вошел в пахучее тепло. Купил фугас с маслинами. Я держал перед собой эту ракетку из теста, легкую и широкую. Вдыхал ее аромат, жирный почти до тошноты. Рассматривал сотни запеченных листиков тимьяна, черные пятнышки маслин, раздавленных, почти высушенных. Бурую оберточную бумагу, уже пропитавшуюся маслом.
Я дошел до дома автостопщика. Увидел маленькую улочку, более чем скромную. Школу напротив. Деревянную входную дверь с решеткой, не очень-то приветливой. Я позвонил. Дверь открылась. Появилось детское лицо. Лет восемь. Или девять, я никогда не умел определять возраст детей. Черные волосы. Черные глаза, как у отца. Я дернул за решетку, все еще запертую. Мы стояли, мальчик и я, и рассматривали друг друга сквозь железные прутья.
Привет.
Привет.
Тебя как зовут?
Агустин. А тебя?
Саша.
Мальчик обернулся, позвал отца.
Я видел, как из глубины коридора приближается силуэт автостопщика. Как лицо его расплывается в улыбке.
Он указал на решетку.
Извини, мы еще не выходили сегодня.
Он дважды повернул ключ в скважине. Я успел на него посмотреть. Разглядеть его. Почти не постарел. Черты чуть заметно заострились. Стали более мужественными. Скулы и нос резче очерчены. Лоб шире. Лицо зрелого человека. Одет, как одевался всегда, – обычные джинсы, свитер с воротом на пуговицах, просто и элегантно.
Привет, Саша. Входи.
Мальчик залез на решетку и стал на ней кататься от двери до стены и обратно.
Давай, Агустин, пошли.
Тот словно не слышал.
Давай, Агустин, хватит, пошли.
На сей раз он послушался, автостопщик провел рукой по его волосам, мальчик прошмыгнул между нами и побежал назад в гостиную играть.
Много воды утекло, а?
Мой взгляд скользил по рисункам, прикрепленным кнопками к стенам. Некоторые из них детские – драконы, вулканы, подземелья, изобилующие туннелями, веревочными лестницами, пещерами. И взрослые. Я остановился перед пауком, нарисованным тушью на страницах книги с мелким шрифтом.
А у тебя нет детей?
Я улыбнулся, пожал плечами.
Нет детей, нет настоящей любви уже некоторое время. Лузер.
Он засмеялся.
Пойдем, познакомлю тебя с Мари.
Он повел меня в кухню. Оттуда сквозь застекленную дверь я увидел сад. Старые каменные стены. Два кипариса. Темную листву высокого лавра. Под окном большой белый шар из двух пышных розовых кустов, взлохмаченных дождем, капли воды в лепестках, блестящие листья.
Красиво, сказал я.
Все так и было, когда мы здесь поселились. Прежняя съемщица была помешана на садоводстве.
Я понял: он сказал это, чтобы я услышал слово “съемщица”. Чтобы не заблуждался.
Он сделал несколько шагов по саду, поднял голову к окну над нами. Я проследил за его взглядом и увидел Мари, сидевшую на втором этаже у окна за маленьким письменным столом.
Мари, познакомься, это Саша.
Мари опустила экран ноутбука и высунулась. Улыбнулась мне.
Привет, Саша. Сварите себе кофе, я скоро спущусь, я уже почти все доделала. Мне нужно еще минут пятнадцать, не больше.
Кофе или пройдемся? – предложил автостопщик, поглядев на небо. Похоже, проясняется. Может, погуляем? Агустин, не хочешь пойти с нами показать гостю наш канальчик?
Мальчик обулся, и мы втроем тронулись в путь.
Маленькими улочками мы дошли до бульвара, прошли под железнодорожными путями, зашагали дальше вдоль небольшого канала через квартал уже не новых коттеджей, по большей части окруженных садами с большими деревьями.
Теперь дома попадались реже. Мы миновали футбольное поле, вышли из города. Канал стал шире. Бетонные плиты на дорожке закончились. Гравий под ногами сменился травой, землей, грязными лужами. Открылся простор. Сады. Фруктовые сады. Поля под паром, которые, наверно, тоже со временем поглотит город.
Агустин нашел у дороги муравейник, попорченный ночным дождем. Он нагнулся и начал травинками ковырять вход.
Тебе тут нравится? – спросил я автостопщика, когда мы обогнали Агустина метров на десять.
Он кивнул, глядя прямо перед собой.
В целом да.
Мне кажется, вам здесь хорошо живется.
Он сказал да.
Это не значит, что не бывает моментов, когда начинаешь задыхаться, когда хочется перемен, хочется уехать, как все. Но в целом нам тут хорошо.
Внизу вдоль берега канал порос тростником. Большие стрекозы сновали над водой туда-сюда, садились на толстые стебли, снова взлетали, их синие крылья гудели в тишине. Кое-где в тростнике плавали пластиковые бутылки.
Мы обернулись и увидели, что Агустин тычет в траву носком ботинка.
Что он там делает?
Мальчик вытянул ногу, поднес к какому-то растению и вздрогнул от раздавшегося хлопка.
Что это?
Семенная бомба, сказал автостопщик. Не знаю точно, как они называются, но смотри, как смешно.
Он выбрал шарик потолще и коснулся его ногой. Шар взорвался как петарда, и оттуда взлетели вверх семена, рассыпавшись над нашими головами.
Он улыбнулся.
С ума сойти! Да еще после дождя! Обычно даже громче хлопает.
Я посмотрел на почти сорокалетнего мальчишку, который все эти годы не переставал забавляться. Я подумал, что он, в сущности, не изменился. Снимает дом, уже не квартиру. Стал отцом. Но его веселая непосредственность, обаяние и непредсказуемость никуда не делись.
Мы двинулись дальше вместе с Агустином. Город остался далеко. Запах земли, мокрой травы сделался сильнее. Оглянувшись, я увидел позади башни. Архиепископство. Бывший лицей. Строящееся здание культурного фонда, сверкающее, непомерно огромное, которое будет теперь торчать тут всегда.
Я почувствовал, что он мнется.
Я прочел твою последнюю книгу.
Это было сказано веселым тоном, искренним, дружеским.
У меня запульсировала кровь, словно я ждал, что сейчас упадет нож гильотины.
Это здорово. Действительно здорово. Мне страшно понравилось.
Я перевел дух. Поблагодарил. Подождал продолжения. Не добавит ли он что-нибудь, что разом сведет на нет доброжелательность первого вердикта. Ложки дегтя не последовало.
Мари тоже прочла. У нас есть все твои романы, как же иначе. Мы их не пропускаем, когда они выходят. Я каждый раз диву даюсь, как это тебе удается. У меня писать не получается вообще. Сесть за стол, сидеть часами и клацать по компьютеру, извлекать все это из себя. Еще тогда, давно, помню, я смотрел, как ты часами пашешь не вставая, и говорил себе: он псих. Чувствовал, что мне это недоступно, что все мое тело восстает против этого. Я тебе завидовал.
Я помотал головой в знак протеста. Вдали заурчал мотор трактора. Мы смотрели, как он пробирается по равнине на горизонте, временами буксует на колдобинах, потом ползет дальше – этакий хрущ, передвигающийся беспорядочными рывками.
А ты, сказал автостопщик.
Что я?
Как ты живешь? Ты счастлив?
Я вдруг почувствовал себя беспомощным. Неспособным ответить.
Сказал да. Скорее счастлив. Пожалуй, да.
Он кивнул. Искренне порадовался за меня. Как будто моего ответа ему было достаточно. Как будто он ни на миг не усомнился в том, что я говорю правду.
Трудно, по-моему, утверждать однозначно, улыбнулся я.
Да, все эти слова немного дурацкие. Счастлив, несчастлив. Извини.
Дурацкие, и все-таки иногда мы знаем.
Согласен, сказал он, помолчав. Знаем.
Я понял, что моя фраза его кольнула. Словно он принял ее на свой счет в большей степени, нежели я хотел.
Я обернулся, посмотрел на городские башни – они уже были далеко. На удивление далеко – всего за двадцать-то минут пешего хода.
К нам подбежал Агустин.
Пап, смотри.
Он раскрыл ладонь, показал огромную саранчу.
Я взглянул на насекомое, на его лапки, на всю его амуницию из шипов, усиков и надкрылий. И это в руке девятилетнего мальчика, нисколько не испуганного.
Можно я возьму ее домой?
Если хочешь, Агустин.
Я подумал, что автостопщик почти всегда говорил “да”. “Да” – на всё. На приглашения. На предложения встретиться. Я подумал, что “нет” тоже неплохо. Что я так никогда и не написал бы ничего, если бы всегда говорил “да”.
Возникла пауза. Я вытащил из сумки руководство по автостопу.
Смотри. Нашел у себя на полке, освобождая квартиру.
Он взял книгу. Полистал. Улыбнулся, наткнувшись на абзац, где автор сравнивает автостоп с рыбалкой: “Такое же терпение, такая же деликатность при подсекании и ни в коем случае никакой резкости. Такое же счастье, когда поймал”.
Он прочел вслух: “В Кадильяке есть дороги, похожие на реки, кишащие щуками”.
Мы посмеялись. Он хотел вернуть мне книгу. Я отстранил его руку.
Не надо. Это тебе.
Ты уверен?
На память о том, как ездили вместе.
Он поблагодарил кивком.
Интересно, это сработало бы сейчас, все эти поездки автостопом?
Конечно, сказал он твердо. Потом через мгновение: это по-прежнему работает.
Я посмотрел на него, пытаясь понять, что он имеет в виду.
Продолжаешь кататься? – спросил я.
Время от времени, невозмутимо ответил он. Конечно, не тогда, когда мы путешествуем втроем, для этого у нас есть машина Мари. Но иногда уезжаю один.
Он оглянулся, увидел, что Агустин отстал на сотню метров, сложил руки рупором, позвал: Агустин! Мы подождали, пока мальчик нас нагонит, он порхал как воробей, останавливался то тут, то там поднять камешек или улитку.
Мы пошли дальше. Уверенный, что разговор на этом не оборвется, я молчал, чтобы автостопщик продолжил сам.
Это работает даже лучше, чем в прежние времена. Вопреки тому, что люди думают, ситуация никогда еще не была такой благоприятной: машин больше, они комфортабельнее, быстрее. И конкуренции почти никакой.
Я всмотрелся в его лицо. Улыбнулся, прочтя на нем то же лукавство, что и раньше.
Самое невероятное, что даже водители, которые останавливаются и подсаживают меня, в этом сомневаются. Я сижу у них в машине, а они на полном серьезе спрашивают: “А что, автостоп еще существует?”
Он нагнулся, подобрал пустую раковину улитки, продул ее, положил в карман.
А ты ездишь куда? – спросил я. Когда ты отправляешься в дорогу, ты ездишь куда?
Он задумался.
Обычно в Париж и обратно. Или в Лилль. В Брест. В Безансон. Стараюсь разнообразить.
По делам?
Необязательно, он пожал плечами. Иногда да, иногда нет. Я выезжаю на автостраду и еду от одной придорожной зоны отдыха до другой. Я говорю водителям правду – что на самом деле мне наплевать, куда я в итоге приеду. Что мне все равно – Париж, Лилль или Брест. Что я делаю это ради удовольствия.
Ради удовольствия?
Думаю, так оно и есть. Раз я к этому все время возвращаюсь. Раз на меня регулярно накатывает желание уехать.
Я попытался представить себе сорокалетнего автостопщика, колесящего по дорогам ради удовольствия, с поднятым большим пальцем возле заправки где-нибудь на автостраде в Шампани или Бургундии.
А когда ты им это говоришь, что они отвечают?
Некоторые смеются. Кто-то не верит. Кто-то считает, что я слегка с приветом.
А кто-то – что натуральный псих, засмеялся я.
Да, есть и такие, правда.
Мы помолчали некоторое время.
Они не просят тебя выйти?
Я же им не сразу это говорю. Пусть сначала отъедут. Жду, пока они вырулят из зоны отдыха, заблокируют двери. Снова поедут со скоростью сто тридцать, чтобы вокруг замелькали поля, потянулось барьерное ограждение, понеслись навстречу синие указатели. Тогда я говорю им правду. Что поехал, главным образом, чтобы увидеть их. Обычно возникает пауза. Я замечаю, как они прикидывают на навигаторе, сколько осталось ехать, высматривают километраж до ближайшего съезда. Я стараюсь их успокоить. Говорю, что они замечательные люди, раз меня подсадили. Что для меня это высший класс гостеприимства – открыть дверь своего автомобиля совершенно чужому человеку. Не побояться оказаться в тридцати сантиметрах от незнакомца, понятия не имея, приятный ли он тип, разделяет ли ваши взгляды, хорошо ли от него пахнет и будет ли соседство с его семьюдесятью килограммами, отделенными от вас только рычагом ручного тормоза, приятным или раздражающим. Я говорю им, что хочу встретить как можно больше таких людей, как они, способных на это.
Тем временем Агустин нагнал нас, заинтересовавшись разговором. Он шел совсем рядом, навострив уши. Автостопщик вынул из кармана ракушку и протянул ему. Агустин, ни слова не говоря, взял. Я подумал, не пытается ли автостопщик сменить тему, чтобы избежать продолжения в присутствии сына. Но он почти сразу заговорил снова.
Часто они бормочут в ответ, что для этого есть “БлаБлаКар”[2]. Спрашивают, почему я не даю объявление в интернете. С “БлаБлаКаром” тоже можно встретить интересных людей, говорят они. И слегка смущаются, думают, что это я из-за денег. Я разубеждаю их, говорю, что уже ездил по “БлаБлаКару”, все было отлично, но это не то же самое. Потому что в “БлаБлаКаре” можно выбирать. Потому что есть договоренность. Потому что с самого начала каждый знает, что не останется внакладе ни по времени, ни по деньгам.
Мы дошли до конца тропы. Впереди берег обрывался, перерезанный шоссе. Внизу была окружная дорога, автомобили мчались со скоростью девяносто. Агустин примостился на склоне. Мы с автостопщиком плюхнулись на траву, вытянув ноги. Мы сидели лицом к открывшейся панораме и смотрели на голую равнину за автострадой. Делянки, покрытые черным пластиком. Длинные туннели из прозрачной пленки на участках с теплицами. Очертания панельных строений торговой зоны.
На дорогу выехал ярко-красный “пунто”, сердитый, шумный, торопливый. Мы успели разглядеть лицо пожилой тетки за рулем, поймать ее взгляд, устремленный на нас и как бы вопрошающий, какого черта мы тут делаем. Вылетела другая машина, черная, спортивная, с музыкой на полную громкость. За рулем молодой парень в спортивном костюме поднял руку в знак приветствия и одобрительно погудел нам.
Автостопщик придвинулся ко мне.
Ну, как тебе Прованс? Что скажешь?
Я посмотрел на пивные бутылки и коробку от пиццы под откосом, поднял взгляд, чтобы охватить окрестности. Прислушался к рокоту приближающегося автомобиля.
Вы часто приходите сюда? – спросил я.
Каждый день после школы, засмеялся он. Нет, конечно. Это первый раз. Мы никогда так далеко не забредали.
Появилась еще одна машина. В меня вперились глаза водителя. Суровые глаза. Возмущенные тем, что мы торчим в таком месте.
Все нас пугаются.
Автостопщик подождал следующую машину, как бы желая проверить реакцию на наше присутствие.
На сей раз водитель проехал, не глядя на нас.
В любом случае нам пора. Надо возвращаться, сегодня за готовку отвечаю я.
Агустин встал, отряхнул шорты. В волосах у него застряла соломинка.
Салат из грунтовых помидоров вас устроит?
Агустин сказал да.
А тебя, Саша? – спросил он.
Я замялся. Агустин поднял голову в ожидании моего ответа.
Помидоры, Саша, тебя тоже устроят.
Автостопщик улыбнулся.
Видишь, у тебя нет выбора.
5
В тот день я пробыл у них до вечера. Когда-то мне было необходимо сжечь мосты. А в то воскресенье я понял, что, похоже, это навсегда – этот контакт, мгновенное взаимопонимание. Интуитивное угадывание мыслей друг друга.
Вернувшись, мы обнаружили Мари на кухне, помидоры уже были нарезаны толстыми, мясистыми ломтями. Плита работала, пахло пирогом или пиццей.
Привет, Саша, сказала Мари, когда я вошел. Знаменитый Саша.
Я почувствовал у своего лица ее прохладные щеки. Ее поцелуи, энергичные, радостные. Ощутил запах ее волос, еще влажных после душа, явно принятого совсем недавно.
Почему знаменитый, улыбнулся я. Никакой не знаменитый.
Ну, давайте за стол, все уже почти готово.
Мы отнесли тарелки и салат на маленький металлический столик посреди сада. Придвинули четыре табурета. Налили себе вина. Принялись за помидоры. Мари с веселым видом повернулась ко мне.
Я читала твою последнюю книгу. Он меня заставил.
Она, смеясь, указала на автостопщика.
Я улыбнулся.
Он мне говорил. Я тронут.
У нас она не одна, продолжала Мари. Минимум две или три.
Все! – притворно возмутился автостопщик. У нас есть все. Даже самая первая.
Мари позабавило, что он так завелся. Она посмотрела на нас обоих.
Сколько вы не виделись?
Порядочно. Сколько? Наверно, лет пятнадцать.
Шестнадцать, поправил я. Даже семнадцать, если быть уж совсем точным.
Семнадцать лет! – воскликнула Мари.
Интересно, рассказал ли он ей все. Знает ли она, что в свое время нас разлучило. Мне показалось, что нет.
Но вы снова сидите тут вместе, и это прекрасно.
Мы покивали. Агустин тоже посмотрел на нас, как бы пытаясь понять, что его мать находит в этом зрелище прекрасного. Я подумал, что он, вероятно, станет расспрашивать нас об этих семнадцати годах молчания. Но ему это не пришло в голову, или он не решился.
Я положил себе еще помидоров, опустошил тарелку быстрее, чем в первый раз, вычерпал сок до последней капли. Моя прожорливость вызвала у Мари улыбку.
Ты вроде переводишь с итальянского? – сказал я ей.
Она кивнула.
Романы в основном.
Ты этим была занята, когда мы пришли?
Я начала перевод новой книги. Последнего романа Лодоли, ты, может быть, знаешь. Марко Лодоли. Он живет в Риме.
По моим глазам она поняла, что это имя мне ничего не говорит.
Ты никогда не читал Лодоли?
Я сказал нет. Жалкое нет.
Она злорадно добила меня, объявив, что Лодоли – один из лучших ныне живущих итальянских писателей, один из лучших ныне живущих писателей вообще. Что я обязательно должен прочесть Лодоли. Что он изменит мою жизнь, да, да, изменит мою жизнь, она выпалила это как рекламный слоган, и наш обед чудеснейшим образом ознаменовался общим взрывом смеха – все были счастливы видеть Мари в таком хорошем настроении.
Я спросил, о чем книга.
Все о том же. О жизни, которая проходит. Об ускользающем времени. Все просто, ничего сенсационного. Просто люди, мужчины и женщины, рождаются на свет, вырастают, хотят друг друга, становятся взрослыми, любят, перестают любить, отказываются от своей мечты или, наоборот, цепляются за нее, стареют. Постепенно уходят, их сменяют другие.
А о чем еще стоит рассказывать? – спросил я. Это единственное, о чем надо рассказывать.
Автостопщик вскочил.
Твоя пицца!
Через окно мы слышали, как он торопливо открыл духовку, вытащил оттуда горячую форму. Он вернулся, неся в руках тонкий корж с перцами и баклажанами, разложил пиццу по тарелкам. Я ощутил, как густая мякоть баклажанов наполняет рот, сок перцев обволакивает нёбо, обжигает десны.
Потрясающе, восхитился я.
Мари улыбнулась.
Баклажаны могли бы быть чуть-чуть поподжаристее, сказал автостопщик.
Он был освистан и, смеясь, посмотрел на меня.
В следующий раз, Саша, я сделаю тебе пиццу сам. Тогда увидишь.
Мы выпили за встречу, посидели немного молча, удивленные все четверо этим почти семейным обедом. Моим присутствием за этим столом – вот так сразу.
Мы дошли до конца канала, сказал автостопщик. Берег вдруг в какой-то момент обрывается. Там внизу окружная.
Мы нашли семенные бомбы, сказал Агустин.
Немного помолчали. Мари посмотрела на меня.
А новая книга будет о чем?
Я замялся. Книги, о которых много говорят до того, как они написаны, редко доводят до конца.
Может быть, это бестактный вопрос.
Я ответил нет.
Это история старой дамы, она путешествует, ездит из города в город, от встречи к встрече. Она на пенсии, у нее нет никаких обязательств, связанных с работой. Нет мужа. Нет детей. Она может делать целыми днями что хочет, может уехать из Парижа, отправиться куда-то. Решить поселиться в Н.
В общем, о тебе.
Точно. С той только разницей, что она путешествует, а я нет. В сущности, это неплохое резюме моей жизни, ты права – я одинокая старая дама, которая даже не путешествует.
Агустин посмотрел на меня со смехом. Мари помолчала.
А почему она старая, дама эта? Почему ты не выбрал женщину нашего возраста? Почему не мужчину? Почему не себя?
Я задумался.
Потому что жадный интерес к жизни волнует меня больше у тех, кто живет давно. У них он мог бы притупиться, смениться скепсисом. Но нет. Огонь не гаснет. Не слабеет.
Но она в кого-нибудь влюбляется, твоя старая дама? – спросила Мари.
Я ответил, что нет.
Вот поэтому она у тебя и старая, поддела меня Мари. Это решает вопрос влечения.
Я запротестовал. Сказал, что видел почти столетних женщин, которые влюблялись. И у некоторых были любовники.
А в твоей книге? – спросила Мари.
В моей – нет. Любовник моей старой дамы – это мир. Она весь земной шар хочет обнять.
Прошло несколько секунд. Повиснув в воздухе, мои слова показались мне фантастически идиотскими. Любовник моей старой дамы – мир. Что за бред! Какая-то полная бессмыслица.
Агустин ушел. Мы с автостопщиком и Мари пили кофе, продолжая сидеть в саду и передвигая стол вслед за движением тени большого лавра. Потом на небо набежала туча. Стало пасмурно.
Это знак, сказала Мари. Всё, я иду в дом.
Она поднялась наверх. Автостопщик встал.
Пошли, сказал он мне. Пошли, покажу кабинет, который я себе соорудил.
Он повел меня к маленькой комнатушке, прилегавшей к кухне. Толкнул застекленную дверь и шагнул внутрь. Мы очутились в помещении из голого бетона, похожем на гараж. Я увидел стеллажи из кирпичей и неструганых досок. На полках книги. Секция романов. Секция поэзии. Еще одна с эссеистикой – автостопщик всегда предпочитал эссеистику. Я оглядел другие стеллажи, отведенные под инструменты, ящики, стройматериалы, у стен стояли мешки со штукатуркой и цементом.
Мне стало интересно, чем он тут занимается в четырех стенах. Как проводит время в комнате почти без окон, холодной даже в это сентябрьское воскресенье и, видимо, совсем ледяной в зимние месяцы.
Ты много мастеришь.
Случается. Я работаю на стройках. Делаю самую разную работу. Какое-то время был плотником. Это был нон-стоп, все время сыпались заказы, и все дальше и дальше от дома. Строительство обычно длится долго, мне надоело. Я занялся электрикой, сантехникой. Теперь я сам себе хозяин. Делаю всё – каменно-строительные работы, полы, ванные комнаты, кухни. Никакого тебе больше начальства, с этим покончено.
Я посмотрел на его руки. Такие же, как я их помнил. Может, слегка загрубели. Ладони чуть шире.
Он открыл ящик стола, вынул толстый крафтовый конверт, протянул мне. Я засунул туда руку, нащупал маленькие пластиковые квадратики. Подцепил десяток и выудил на свет посмотреть.
Полароидные снимки. Пожилая пара в кабине кемпинг-кара на бретонском побережье. Водитель фуры, маленький, сухонький, как старое дерево, с поднятым большим пальцем за рулем своего десятитонника. Дюжий бородач в розовом поло на парковке зоны отдыха. Лысый губастый старик, весь в морщинах, брови вразлет, улыбается за рулем купе.
Кто это?
Люди, с которыми я знакомлюсь.
Которые тебя подсаживают?
Которые берут меня к себе в машину. Мы какое-то время общаемся.
Ты их всех фотографируешь?
Стараюсь. Иногда забываю. Или они останавливаются в опасном месте, я едва успеваю выскочить, они должны сразу стартовать. Но каждый раз, когда могу, прошу разрешения их сфотографировать.
И они не отказываются?
Случалось. Раза два-три, не больше.
Я стоял и рассматривал десятки лиц.
И много их у тебя?
Не знаю. Наверно, штук двести. Или триста. Я начал года два назад.
Взгляд мой остановился на снимке, сделанном почти в самом центре Парижа, у метро “Шато-д’О”, рано утром, перекресток был еще пуст. Высокий человек с ухоженной бородой, в роговых очках и несколько чопорном костюме возле серого БМВ.
Этого я встретил около трех утра. Здесь, на фото, уже семь, он только что меня высадил. Трудно поверить, но этот тип оказался моим спасителем. Я был без шансов, застрял ночью на заправке между Анже и Ле-Маном. И ни одной машины, разве что изредка какая-нибудь компания заезжала заправиться и ехала гулять дальше. Ничего подходящего. Я уже почти смирился с тем, что придется там заночевать. И вдруг появился его автомобиль – тонированные стекла, безукоризненная серая краска. Серьезный начальник, вставший за несколько часов до рассвета, чтобы к утру быть в Париже на огромной стройке, где прорвало канализацию. На такого я бы ни сантима не поставил, а он мне тут же открыл дверцу. Не успел я сесть, как сразу уснул, настолько был измотан. Он мог бы обидеться, но нет. Когда я проснулся, мы проезжали Ле-Ман и весь остаток пути проболтали. В полседьмого были уже у Порт-де-Версаль, и поскольку у него еще оставалось время, он благородно подкинул меня на правый берег.
Мы вместе посмотрели другие снимки. Молодой парень с усталой улыбкой, тоже ночью, протягивает к объективу банку “Ред Булла”, как бы чокаясь, лицо озарено вспышкой, глаза красные. Мужчина за рулем белого пикапа, крупный подбородок, флисовая куртка труженика, привычного к холоду.
С этим я встретился в Ниверне. Бывший управляющий лесопилкой, занявшийся прокатом велосипедов. Всю дорогу он показывал мне деревья, рассказывал, сколько им лет, что можно сделать из каждой породы, сколько теряется при рубке бука, ели, дуба, какая бесхозяйственность эта новая мода обтесывать бревна для удобства их транспортировки морем на другой конец света. И еще всякие секреты, о которых я и не подозревал. Как сохраняют дерево с помощью пропитки. Как сушат бочарную древесину. Какими способами можно очистить поверхность от пятен танина. Как происходит до миллиметра точное выпиливание клепок для винных бочек, всегда вдоль, сверху вниз, по волокнам, неудивительно, что это стоит черт-те сколько.
Автостопщик положил фото мужика в куртке и взял другой портрет – хитроватая улыбка, гнилые зубы, впалые глаза, заросшие щетиной щеки, но во взгляде тем не менее что-то светится.
Этот тогда только что освободился из тюрьмы в Тарасконе. Цыган из Сен-Лоран-дю-Вар, сын торговца металлоломом, он рассказывал, как его отец в свое время топором разбивал автомобили на свалках, а потом продавал лом на вес. Сам он в семь или восемь лет чуть не погиб от удушья, играя на большой свалке в прятки. Спрятался в старом холодильнике, дверца захлопнулась, и сколько парень ни вопил, никто не мог его найти. Он слышал, как мать и тетка изо всех сил кричат: “Зеппи, Зеппи, ты где?” Он орал в ответ, до хрипоты орал, но звук наружу не проходил. В конце концов мать увидела кончик шарфа, который застрял в дверце. Она спасла его в последнюю минуту, он уже весь посинел.
Автостопщик замолчал.
Из единственного окна его маленького кабинетика мы видели, как Агустин вышел в сад и принялся лупить мячом об стенку. Хлоп. Он отбивал с лету. Хлоп. При каждом ударе кожаный мяч стукался о каменную стену дома.
Я провел рукой по разложенным на столе снимкам.
Ты их всех помнишь? – спросил я.
Не всё, о чем мы говорили, но какие-то детали. Нравился мне человек или нет. Его манера говорить о жизни. Общее ощущение при расставании в конце. Просто благодарность за оказанную услугу или радость оттого, что мы пересеклись в этой жизни на пару часов.
Женщин совсем немного, заметил я.
Да, правда. Но все-таки есть.
Он порылся в стопке, вытащил фотографию, на которой с ним прощалась девушка нашего возраста. На заднем плане сосны, оливы, каменные дубы, заросли можжевельника. Где-то на Средиземноморском побережье. Красивый свет, слегка золотистый. Предвечерний. У девушки невероятно белая кожа, очень черные волосы. Она смотрит в объектив с вызовом, шутливо позирует, посмеиваясь над собой, солнечные очки съехали на кончик носа, брови нахмурены.
Красивая, сказал я.
Он поднес снимок к маленькой настольной лампе, чтобы получше разглядеть лицо.
Я проехал с ней весь путь от Перпиньяна до Ниццы. Она возвращалась из Испании в Италию. Препод литературы из университета Болоньи. Влюбленная в Лобу Антунеша, в Клода Симона, в кучу авторов, про которых ты мне все уши прожужжал. Не боишься подсаживать незнакомцев вроде меня? – спросил я в какой-то момент. Она засмеялась: Ты что думаешь? Я же выбираю. Раз я тебя взяла, значит, увидела и подумала: годится, давай. Давай, этот мне нравится, хочу ехать с ним вместе.
Он протянул мне снимок, чтобы я на нее посмотрел.
Мы болтали всю дорогу. О жизни. О нас. Я даже задал ей тот же вопрос, что и остальным водилам: что делать? Вопрос ленинский. У Ленина это вопрос стратегии, самый что ни на есть практический. Что надо сделать, чтобы захватить власть здесь и сейчас, в той России, какой она была в 1917-м. А я задаю себе этот вопрос применительно к жизни вообще, сказал я ей. Что делать вообще, как по-твоему? С жизнью. Со смертью. С любовью.
Автостопщик иронически хмыкнул.
Не помню уже, что она ответила. Помню только, что ее ответ мне понравился. То, как она это сказала. Без пафоса. Без громких слов. Посмеиваясь слегка над моими вопросами, чересчур глобальными. Она недавно читала Спинозу и все еще была под сильным впечатлением. Она сказала, что для Спинозы каждый человек – что-то вроде маленького хрупкого облачка, которое в любой момент может столкнуться с другими облачками и рассеяться. Она пояснила, что Спиноза не использовал образ облака, но она так его поняла: жить – это значит сохранять в целости облачко, которое мы собой представляем, несмотря на уходящее время, на то, хорошие или плохие люди рядом с нами. Суметь удержать вместе все эти крохотные капельки пара, которые делают нас нами и никем больше. С тех пор как я прочла Спинозу, я подбадриваю себя, продолжала она, говорю себе: давай, облачко, avanti, смелее, двигайся вперед и оставайся тем облачком, которое есть ты, держись покрепче, храброе, единственное в мире облачко. Иногда я влюбляюсь, встречаю другое облачко, оно мне очень нравится, и это другое облачко меня тормошит, толкает, какие-то наши части неизбежно перемешиваются, и мы оба оказываемся слегка размыты. Я счастлива, я грущу, во мне все взболталось, и нужно время, чтобы привыкнуть к этому новому состоянию. А потом потихоньку я себя восстанавливаю, овладеваю собой в прямом смысле. Кое-как собираю себя по кусочкам. И облачко, которое есть я, продолжает свой путь.
Неплохо, сказал я.
Неплохо, да.
Оказывается, ты это прекрасно помнишь.
Лучше, чем мне казалось, ответил он задумчиво.
Небо за окном очистилось. Вышло солнце, оживив цвет травы.
Я почувствовал, что он сомневается, продолжать или нет.
Во время этой поездки было кое-что красивое, снова заговорил он, помолчав. В какой-то момент девушка вдруг свернула с автострады. Помню ее слова: тут есть одно место, хочу тебе показать. Спокойным, решительным тоном, не оставляя мне выбора. Мы были где-то на уровне Кассиса, я подумал, что она хочет показать мне каланку[3]. Но она свернула на узкое шоссе, ведущее в горы. Минут десять мы петляли по серпантину среди виноградников и оливковых деревьев. Шоссе превратилось в проселок. В конце концов мы остановились в роще каменных дубов. Вышли. Она повела меня к бетонной башне, откуда открывался грандиозный обзор. Это дозорная вышка, я тут дежурила в пожарной охране, сказала она тихо. Вместе с другом. Французом. Лет десять назад. Мы провели здесь целое лето. Следили, не горит ли где. Сообщали о малейшей искорке от барбекю на равнине. О любом костерке у кого-то в саду. Одни целыми днями, без никого. А иногда приезжали друзья. Ставили палатки для ночевки, штук по пятнадцать–двадцать на склоне. Однажды мы сами чуть не устроили пожар, засмеялась она.
Он замолчал. Я представил себе его в этой башне с девушкой, в солнечном свете, среди деревьев. Подумал: интересно, чем закончится рассказ.
Мы стояли там минут десять, дышали смолистым воздухом. Смотрели на море вдали.
А потом?
А потом уехали.
Он повернулся ко мне, посмотрел на меня с безмятежной улыбкой.
Уехали, а через час она высадила меня на заправке недалеко от Ниццы. Посигналила на прощание. И исчезла.
Вы потом с ней виделись? – спросил я, выдержав паузу.
Он мягко покачал головой.
Нет.
У тебя остался ее адрес?
Страшно глупо, но нет. В голову не пришло попросить. Это было два года назад. Теперь я всегда записываю телефон или хотя бы мейл.
Мы замолчали. Я снова посмотрел на девушку на фотографии. Вообразил, как они вдвоем съезжают с трассы, чтобы затеряться между холмов. Мне остро захотелось самому очутиться в машине с этой девушкой.
Мне нравится думать, что она где-то есть на земле, продолжал он. В Болонье. Или еще где-то. Что я никогда больше ее не увижу, разве только чудом. Что она провела в моей жизни только эти несколько часов. Это были прекрасные часы. Настолько прекрасные, что они в моей памяти значат больше, чем куча других состоявшихся отношений.
Мы вышли из мастерской.
Свет снаружи ослепил нас.
Пап, ты идешь? – сказал Агустин, продолжая стучать по мячу.
Автостопщик подошел к нему, получил мяч, ударил три раза и вернул.
Подожди, Саша уходит, я провожу.
Я поднял глаза к окошку Мари. Увидел, что она смотрит на нас.
Все хорошо, мальчики?
Все хорошо, ответил я.
Саша, я положила тебе на кухонный стол последнего Лодоли. Возьми, сделай мне приятное.
Я зашел в кухню. Увидел книгу. Страниц триста–четыреста, обложка белая с синим, мягкая бумага. На обложке я прочел: “Претенденты”. И помельче чуть ниже: “Ночь. Ветер. Цветы”.
Как я вдруг понял, что эта книга перевернет меня?
Я снова вышел в сад поблагодарить Мари через окно. Сказал до свидания всем троим. Вернулся домой.
6
Прошло довольно много времени, прежде чем мы снова увиделись с автостопщиком. Я не звонил ему, не искал встречи. Он тоже. Как будто проведенное вместе воскресенье надолго освободило нас от всяких обязательств друг перед другом.
Я окунулся в свою новую жизнь. Снова принялся за работу, снова начал выгуливать свою старую даму по вокзалам и аэропортам. Я понял, что не все сказал Мари и автостопщику. Что я даже скрыл от них главное, отправную точку всего замысла – знаменитый временной эллипс в последней части “Воспитания чувств”. Флоберу хватило нескольких строк, чтобы отправить Фредерика в путешествие и вернуть обратно годы спустя настолько постаревшим за эти три фразы, что он смог взглянуть на свою прошлую жизнь со стороны. “Он отправился в путешествие. Он изведал тоску пароходов, утренний холод после ночлега в палатке, забывался, глядя на пейзажи и руины, узнал горечь мимолетной дружбы. Он вернулся”[4]. Шок оттого, что клубок лет мгновенно размотан. От перетряски целой человеческой жизни, сведенной непринужденным лаконизмом Флобера к отъезду и возвращению. К путешествию, которое так или иначе должно подойти к концу, как подходит к концу все на свете.
В отличие от Флобера я решил поступить наоборот – задержать время. Затормозить, насколько возможно, его ход, сделать нечто обратное эллипсу – замедлить мгновения, наполнить их до предела, раздвинуть их границы, воспроизводя каждый миг в его многоплановости, неисчерпаемом разбросе деталей, образов, ощущений, реминисценций, ассоциаций. Я сам не понимал, почему не объяснил им в тот вечер, что моя дама оказывается в Котону, в Бенаресе, в Боготе не поочередно, а одновременно, что все эти места сливаются в абсолютном настоящем. Почему не сказал им название – “Тоска пароходов”, сулящее расширение в противовес Флоберу, который стремился к сжатию.
В эти дни я слышал по радио передачу об индийской музыке. Я узнал, что есть раги для каждого времени года, для каждого настроения. Что задача раги не рассказать историю, не потрясти, не зачаровать, а выразить чувство. Передать настроение. Рага как музыкальный эквивалент некоего душевного состояния. Я подумал, что именно это я и должен сделать. Суметь создать текст, который передавал бы это особое ощущение – тоску пароходов. Я отчетливо увидел ее цвет – золотисто-желтый, лучезарный, чуть состаренный. Как подсветка корабельных мачт на заднем плане картин Лоррена. Что-то из прошлого, сияющее, подернутое патиной воспоминаний. Блистающее великолепием былого восхищения, минувших времен, безвозвратно утраченных.
Мне захотелось создать большие настенные панно. Чисто текстовые панно, и как бы запечатлеть в них уплотненное время, сконденсированное, кристаллизовавшееся. Срезы времени, которые можно было бы охватить взглядом.
Я пошел и купил холсты. Начал их покрывать белилами. Взял самую тонкую кисточку, окунул в баночку с ярко-желтой краской, искрящейся как пыльца. На белизне холста я принялся переписывать начало своего текста. Написал целую строчку, потом вторую. И увидел, как прямоугольник холста в верхней своей части становится золотистым.
Через три дня я закончил первое панно. Повесил его посреди гостиной. Отступил на несколько шагов, чтобы взглянуть издали. Попробовал включить люстру, потом выключил, перевесил панно на другую стену, лучше освещенную дневным светом. Искал, под каким углом будет лучше смотреться, пять минут надеялся, что случится чудо, о котором я мечтал. После эйфории, владевшей мной три дня, что-то во мне увяло.
Я снял холст, засунул его за дверь лицевой стороной к стене.
Мне захотелось на воздух.
Выйдя из дому, я с удивлением обнаружил, что на улице жарко. Листья потрескались. Высохли. Почти раскрошились от жары.
Я понял, что провел три дня взаперти, не высовывая носу наружу.
Машинально побрел вниз, к центру. Очутившись на маленькой площади с платанами, подумал, что тут недалеко живет автостопщик. Я дошел до его дома, обнаружил запертую решетку, закрытые ставни. Двинулся дальше, к реке. Увидел ее за бетонным парапетом, неспокойную, бурную, темно-серо-голубую, сердитую. Посмотрел, как весело подпрыгивает солнце на поверхности воды, как ветер подбрасывает сверкающие снопы брызг в контражуре.
У меня в кармане завибрировал телефон.
Я подумал, что он давно не звонил.
Ответил.
Саша.
О, Жанна, привет, как жизнь?
Как у тебя дела? Как идет обустройство? Книга?
Все это непринужденно, весело. Как будто ее звонок – самая обычная вещь на свете.
Я надеялась, что ты позвонишь, но нет, сказала она, смеясь.
Я тоже засмеялся.
Я собирался, пробормотал я.
Собирался – это не считается.
Честное слово, собирался. Я бы позвонил.
Вечером мы пошли с ней ужинать в маленький ресторанчик, который держала одна из ее подруг. Пили. Смеялись. В нашем возрасте великих тайн нет. Уже не ждешь, что тебя захватит по-настоящему. Идешь навстречу. Пытаешься. Это совсем просто. Быть может, намного проще, но и намного сложнее. У нас уже столько всего было. Встряска не такая сильная. Труднее взять разбег. Мы отяжелели. Больше любим себя. Больше держимся за свои привычки. Менее мобильны. Есть и свои плюсы. Больше уверенности. Лучше себя знаешь. Лучше знаешь, что тебе нравится. И что нравится другому. Проигрывая в трепетности и пылкости, выигрываешь во внимательности. Понимаешь, что и это тоже любовь, и хорошо ею занимаешься. Ценишь нежность. Отдаешь щедрее. Принимаешь благодарнее. Лучше знаешь пределы своего тела и тела другого. Лучше держишься на плаву.
Так я думал в тот вечер, глядя на раздетую Жанну около меня в постели с двумя стаканами вина между нами: как же это просто и хорошо. Как мы оба умеем быть приятными. Я подумал, что это идет скорее от нее, чем от меня. Что она на высочайшем уровне владеет искусством сделать так, чтобы время, проведенное вместе, было прекрасным.
Сначала мы просто лежали рядом и пили, оба голые, довольствуясь порой какой-нибудь лаской. Продолжая разговаривать. Позволяя нашим телам спокойно осваиваться, узнавать друг друга.
Я гладил ее плечи, грудь. Ягодицы, красивые и крепкие.
Она играла с моим членом. Смеялась, видя, что он отзывается.
Мы рассматривали книги.
Несколько раз она привставала на колени, чтобы достать какую-нибудь из них с полки. Я смотрел сзади, как поднимается ее попа, рука вскидывается высоко над головой, увлекая в изгиб все тело. Мне хотелось схватить ее, удержать, опрокинуть, не медлить больше.
Я медлил.
Мы залпом допили последний стакан. Она подождала, пока алкогольный разряд пронзит ее насквозь, прикрыла глаза. Потом улыбнулась, легла, раздвинула ноги. Я вошел в нее.
Как хорошо, сказал я.
Еще бы!
Я видел, как она вся отдается наслаждению, ищет его, находит.
Около четырех утра я сварил кофе.
Мы его выпили в постели, слегка пьяные, восхитительно усталые.
Она заметила холст, засунутый за дверь, спросила, что это.
Пришлось встать, показать. Она посмотрела на золотистые буквы на белом фоне, прочла то, что смогла разобрать, – сцену, где старая дама сидит на земле во флуоресцентном свете аэродрома вдали, зажатая в плотной толпе других пассажиров, измученных теснотой, москитами, изнурительным ожиданием отложенного рейса. Я сказал, что это начало. Что я хочу еще написать такие. Найти постепенно правильный размер букв. Точно выверить яркость желтого на белом фоне. Она одобрительно кивнула.
Потом мы заснули.
Открыв глаза, я увидел, что она стоит в пальто, только что после душа.
Саша, я ухожу, одиннадцать часов.
Она подошла к кровати, поцеловала меня.
Созвонимся, сказала она.
Я встал, притянул ее к себе, в утреннем холодке мой член смешно торчал, потершись об ее пальто. Она улыбнулась этой подростковой ласке.
Я посмотрел, как она уходит, захлопывает дверь.
Вернулся в кровать.
Уставился в потолок.
Подумал, что она очень красивая и очень мне нравится.
Но еще я подумал, что позвоню ей не сразу.
Что она тоже не станет торопиться.
Что мы оба дорожим своим одиночеством.
С некотором испугом спросил себя, неужели любовь в моей жизни теперь будет всего лишь вот этим – приятным довеском.
Я встал. Снова сварил кофе. Повесил на стену новое панно. Добавил в баночку из-под йогурта желтой краски.
И снова принялся за работу.
7
Я встретил Мари через три дня. Заметил ее издали на террасе кафе на маленькой площади с платанами. Я подошел, поцеловал ее, спросил, как поживает автостопщик.
Бросил нас, сказала она. Бросил. На следующий день после того, как ты у нас был.
Не знаю, что отразилось на моем лице, какое выражение на нем промелькнуло. Во всяком случае, она рассмеялась.
Прости. Бросил не в том смысле, в каком ты подумал. Просто снова отправился кататься.
Я улыбнулся своей ошибке. Спросил куда.
На запад, наверно, сказала она тихо.
Я смотрел на нее, сидевшую передо мной на утреннем холоде с потрясающе жизнерадостным взглядом. На ее лицо, полускрытое растрепавшимися волосами. На ее глаза, еще слегка заспанные.
Похоже, на него подействовала встреча с тобой. Обычно он исчезает дня на три, максимум на четыре. А сейчас его нет уже почти две недели.
Я сел напротив нее.
Мы заказали еще два кофе.
А как твоя старая дама? Продвигается?
Я сказал да. Потихоньку.
Она посмотрела на меня с улыбкой, прежде чем вскользь ввернуть то, что ей явно не терпелось сообщить с первой же секунды, как она заметила меня на площади.
Я вчера видела Жанну.
Что означало: я все знаю.
Я не пытался ничего скрывать.
Жанна супер. Мы чудесно провели вечер.
Она мне тоже так сказала.
Мы замолчали.
Я подумал, что за три дня ни Жанна, ни я так и не вышли на связь. Что моя фраза ясно выразила все: мы чудесно провели вечер. Прошедшее время, совершенный вид. Обозначает завершенное, законченное действие. Было и прошло.
Я задумался о том, что кроется в словах Мари. Может быть, заговорив о Жанне, она хотела намекнуть, чтобы я ей позвонил. Взгляд открытый, ясный. Не такой, как у человека, который говорит одно, а подразумевает другое. Мари говорила только то, что хотела сказать. Она явно прекрасно меня поняла. И прекрасно поняла Жанну тоже.
Через площадь проехал мальчишка на велосипеде, петляя, чтобы раздавить как можно больше сухих листьев.
Мари увидела его, помахала ему издали.
Вы не собираетесь завести второго? – спросил я.
Мне иногда хочется, улыбнулась она.
А ему?
Думаю, и ему тоже.
Значит, заведете.
Есть вероятность.
Ты имеешь в виду, что он уже на подходе?
Нет! – воскликнула она.
И потрогала живот, словно проверяя.
Во всяком случае, мне это неизвестно.
Нам принесли кофе. Лунго, слишком светлый, в прозрачных стеклянных чашках.
Налетел порыв ветра. Мы пригнулись, кутаясь в пальто, и склонились над чашками. Она весело посмотрела на меня.
Знобко?
Я улыбнулся – я впервые слышал это слово.
Вернувшись в тот день домой, я обнаружил конверт, отправленный из Эперне. Первое настоящее письмо на мой новый адрес. Я пощупал конверт, пытаясь угадать, что там. Открыл.
“Мой последний урожай автостопнутых” – прочел я на клочке бумаги, приложенном к фотографиям.
Я вытряхнул пакет на стол. Оттуда вывалилось штук двадцать полароидных снимков. Портреты поясные или по грудь. Строгие. Простые. Ничего лишнего. Сделанные в первую очередь для того, для чего делаются все портреты на свете, – чтобы сохранить на память. Спасти от забвения.
Я сосчитал лица. Пятнадцать одиноких мужчин. Четыре пары. Три женщины. Я попытался вообразить автостопщика рядом с ними. В тесном пространстве автомобиля.
Я подумал: интересно, где он находился, когда фотографировал. На дорожном указателе я заметил черные заглавные буквы: шатобриан. На другом прочел: ла-флеш. Еще на каких-то снимках узнал нормандских коров, пляж Динана, сланцевые крыши Морбиана. Леса с порыжелой осенней листвой.
Я мысленно видел, как он стоит напротив каждого из этих людей, слышал слова, которые он произносит, щелкая затвором фотоаппарата. Как он вдруг требует внимания, просит улыбнуться. Или нет, скорее ничего не требует, ни внимания, ни улыбки, а наоборот, внезапно сам провоцирует и то и другое, добивается и внимания, и улыбки в нужный момент с помощью какой-нибудь выходки, нелепого жеста. Шутки, намеренно грубоватой, точно рассчитанной на то, чтобы их развеселить.
Я посмотрел на женщину в бирюзовой флисовой куртке: лет пятьдесят, светлые волосы, кожа, раскрасневшаяся от горного холода, полноватые руки на руле. Улыбка дальнобойщицы из Восточной Европы. Она подняла большой палец, как бы говоря: dobro, супер.
Я подумал, что когда-то был бы счастлив оказаться с ними в машине.
Вспомнил себя, охваченного этим энтузиазмом, этим азартом.
А потом с грустью осознал, что он во мне почти угас. Что я задвинул его на задний план.
Я больше не завидовал автостопщику. Если эти снимки задевали меня, затрагивали за живое, то не потому, что у него хватало духу делать нечто, на что у меня теперь кишка тонка. А потому, что его запал не иссяк. Потому что он все еще этим занимался.
Я будто слышал, как он мне говорит: смотри. Смотри, это по-прежнему существует. Смотри, мой кураж не слабеет. Смотри, моя бесшабашность никуда не делась, я все такой же, и проходящие годы никогда этого не изменят.
8
Я снова взялся за работу. Не хотел больше терять ни минуты до возвращения автостопщика.
Я встретил его на следующий день, ближе к вечеру. Он мирно брел вдоль реки. Со счастливым видом. Усталым, но счастливым.
Я не смог разглядеть, насладился ли он моим удивлением. Была ли внезапность его возвращения преднамеренной? Специально рассчитанной ради этого момента. Чтобы в очередной раз поразить меня.
Мы пошли выпить.
Он рассказал мне про свое ночное возвращение, про путь из Амьена в Монтелимар на двух машинах.
Один мужик – больше пятисот километров. Инженер-компьютерщик. Симпатичный. Потом целый час, а то и больше пришлось киснуть на заправке под Оранжем. На жутком холоде.
Наконец машина с подростками, почти что детьми, вытащила его оттуда.
Ты бы их видел! Трое ребят в спортивных костюмах. Волосы все в геле, с масляным блеском. Лет пятнадцать. Шестнадцать самое большее. Восемнадцать с натяжкой тому, кто за рулем. Да и то…
Он отхлебнул пива и иронически покачал головой.
Сначала они только чуть-чуть опустили стекло. Я был настойчив. Спросил, куда они едут. Они проорали: в Марсель. Но в Марсель по другой дороге. Они заржали. Ну дает, сказал водитель. Слыхали, парни? Выходит, мы не туда едем. Спасибо, что ты тут, мужик, а то бы мы без тебя пропали. Он оглядел меня с головы до ног, задержался на моих горных ботинках и уставился на них с глубочайшим презрением. Ладно, будешь садиться или нет? Не хватало еще тебя ждать. Я запрыгнул. Больше они мне ни слова не сказали. Только смотрели, как взлетала стрелка спидометра. Зашкаливала за сто восемьдесят. Обычно я записываю телефоны, адреса, сказал он со смехом. Тут я даже имен у них не спросил. Вжался в кресло и молился.
Помолчали. Я почти допил пиво. Автостопщик откашлялся. А потом произнес эти слова:
А вы тут как?
Сказал спокойно, как нечто очевидное. Как будто само собой разумеется, что Мари, Агустин и я – это некое трио. Надо полагать, трио оставшихся в Н.
Я глазом не моргнул.
Мы хорошо, сказал я.
Тоже спокойным тоном.
Без революций, добавил я с улыбкой. И без гонки на ста восьмидесяти.
Он усмехнулся. И тоже замолчал. Видимо, сам себя услышал: “А вы тут как?” Будто спрашивал, как дела у моих.
И я мгновенно принял это. Подтвердил существование некой общности – блока Мари-Агустин-и-я.
Мы хорошо. Без революций.
Спонтанный ответ. Простая констатация факта, которая повергла в растерянность нас обоих. Так мы и сидели в предвечернем свете друг против друга перед недопитым пивом, вдумываясь в смысл сказанного.
9
Следующие дни мы проводили вчетвером, с Мари и Агустином.
Я пригласил их на ужин в свою крохотную двухкомнатную меблирашку. Они увидели голые фисташковые стены, старый бархатный диван кофейного цвета.
А тут есть во что поиграть? – спросил Агустин.
Я безуспешно поискал карандаши или фломастеры. Нашел работающий шестицветный “бик”. Стопку чистых листов бумаги. Агустин удрученно взглянул на меня, как будто я над ним издевался.
Мари захотела посмотреть панно, над которыми я работал в последнее время.
Я ожидала побольше текстов, сказала она после долгого осмотра. Почти неразличимые россыпи букв, так, чтобы все перемешалось. Все места, куда она ездила. Все путешествия.
Автостопщик стал читать. Вылавливать в нагромождении слов начало фраз. Он узнавал названия городов, где, как он помнил, я бывал. В некоторых мы с ним бывали вместе – Улан-Батор, Бенарес, Вьентьян, Бобо-Диуласо, Агадес, Шикутими.
Через несколько дней они пригласили на ужин меня.
Сказать Жанне, чтобы она тоже пришла? – спросила Мари по телефону.
Жанна пришла. На ней было пальто, расширявшееся книзу, как детский плащик. По-дружески меня чмокнула. Я узнал ее запах. Ощутил близость, которую создавала, хотели мы того или нет, прекрасно проведенная вместе ночь.
Я заметил, что в ее взгляде нет ни упрека, ни смущения. Она не обиделась, что я не звонил. И не считала, что я мог обидеться на то, что не звонит она. Что все в порядке.
Агустин поднялся к себе спать. Мы поужинали, потом долго сидели и разговаривали. Жанна принялась расспрашивать автостопщика о его последней вылазке. Засыпала вопросами о его поездках вообще, причем как-то до смешного бестактно, с бесцеремонностью, на которую ни я, ни Мари никогда бы не отважились.
А ты где спишь, когда разъезжаешь? Где ночуешь?
Нахожу “Формулу 1”, какую-нибудь однозвездочную гостиницу, мотель. Иногда кто-то из автомобилистов приглашает меня к себе. По ситуации. Иногда сплю на природе.
На природе?
Он пожал плечами.
Однажды я провалялся всю ночь в своем спальнике перед опущенной шторой магазина на заправке.
Мари, а тебя не напрягает, что ты не знаешь, где он? Ты не беспокоишься?
Конечно, беспокоюсь, улыбнулась Мари.
А ты можешь объяснить, чего ты ищешь, спросила Жанна, снова поворачиваясь к автостопщику. В смысле, когда ты ездишь, то для чего? Денег это не приносит. Разлучает тебя с Мари и Агустином. Отнимает каждый раз по нескольку дней. Возвращаешься вымотанный. Ты не журналист, не писатель, не фотограф. Не собираешься снимать фильм, устраивать выставку, писать роман, ну, насколько мне известно. Для чего тогда?
Он посмотрел на меня, словно призывая на помощь.
Не знаю.
Помолчал.
Честно, не знаю. Много для чего, конечно. Ради встреч с людьми. Чтобы побыть наедине с собой. Увидеть новые места.
Жанна недоуменно улыбнулась.
Ради встреч с людьми – с ума сойти! Мне так надоели люди. Всю жизнь только и делаю, что с ними встречаюсь. Мечтала бы уже общаться только с теми, кого я люблю. По-настоящему общаться.
Возникла пауза. Я подумал, не пойдет ли наш вечер насмарку.
Автостопщик остался невозмутим.
Мне попадаются самые разные персонажи. За один день могут встретиться лесничий, какой-нибудь мелкий предприниматель, колбасник, землемер.
Жанна посмотрела на него.
И ради этого ты каждый раз уезжаешь? Ты действительно говоришь себе, когда стоишь на выезде из города со своей табличкой: супер, сегодня я, может быть, познакомлюсь, с землемером или колбасником?
Он рассмеялся, мы с Мари тоже. И все вздохнули с облегчением, чувствуя, что атмосфера разряжается.
Жанна открыла новую бутылку вина, как бы давая понять, что разговор только начинается.
Мы ждали. Наблюдали, как автостопщик мнется. Раздумывает над ответом.
Я не могу иначе, сказал он наконец. Думаю, дело в этом. Не могу иначе. Есть люди, которым необходимо заниматься спортом. Есть, которые пьянствуют, веселятся. А мне необходимо ездить. Необходимо для душевного равновесия. Если я слишком долго засиживаюсь на месте, то начинаю задыхаться.
Голос его слегка дрожал, чувствовалось, что ему трудно это проговаривать.
С тобой такое бывает, что ты задыхаешься? – спросил он Жанну. Я имею в виду физически. Когда тебе действительно не хватает воздуха?
Он слегка повысил тон. Жанна кивнула.
И я замечаю, что с тех пор, как я стал сохранять память о людях, с которыми знакомлюсь, это усугубляется. Я вижу, как увеличивается стопка фотографий. Растет список контактов. И это уже сильнее меня. Мне хочется, чтобы их было все больше и больше.
Он поднялся, смущенный своей откровенностью. Мы смотрели, как он стоит перед столом, переминаясь с ноги на ногу, со стаканом в руке.
Подождите, я сейчас приду, сказал он через несколько секунд.
Он скрылся в комнате, которая служила ему мастерской, вышел оттуда с дорожной картой, еще более потрепанной, чем моя. Он сдвинул пустые тарелки и стаканы и разложил ее на столе. Я узнал знакомую паутину автомобильных трасс. Красные главные артерии. Синие вены национальных дорог. Вся страна пронизана капиллярами, сосудистой сетью – департаментальными и коммунальными шоссе, разнообразными дорогами. Зеленые пятна лесов. Белый цвет равнин. Голубой – озер. Сероватый – возвышенностей. Крапинки болот. И по всей карте, среди множества названий, написанных крупно или не очень в зависимости от числа обитателей в населенном пункте, – целые букеты надписей, сделанных черной ручкой. Мелким почерком. Терпеливой рукой. Иногда чуть наискосок. Иногда с помарками. Зачеркнутых. Поверх других пометок, более давних. Зоэ и Клер, Анже – Париж, 13 ноября 2016. Рафаэль, Люневиль – Бельфор, 17 августа 2016. Жан-Франсуа и Том, Брест – Морле, 25 марта 2017. Гвенаэль, Шатобриан – Нант, 14 апреля 2017. Энтони и Аньес, Нант – Анже, 14 марта 2017. Некоторые участки уже сплошь исписаны. Иль-де-Франс. Бретань. Основные магистрали. А какие-то зоны еще чистые. Целые забытые департаменты. Канталь, Ланды, Верхняя Сона. Марна.
Я все записываю сюда. Имена, места, даты. Расстояние, которое проехал с каждым.
Как охотничьи трофеи, шепнула Жанна.
Он улыбнулся.
Иногда мне тоже такое приходит в голову. Я мог бы смотреть на эту карту и радоваться. Думать: вот сколько людей я встретил. Но когда я на нее смотрю, происходит совершенно обратное. Я вижу все эти незаполненные области. Смотрю на департамент Канталь, по-прежнему пустой, и говорю себе: в следующий раз поеду в сторону Салера. Смотрю на Верхние Альпы, где я до сих пор не был, и говорю себе: курс на Гап.
Мари молчала. Она подлила нам вина.
В книге, которую я сейчас перевожу, есть персонаж вроде тебя, он все время уезжает, сказала она автостопщику. Он красивый, любит жизнь, любит свою жену и сына. Он ездит по работе, он фокусник, и ему приходится колесить по дорогам, занимаясь своим ремеслом. Жена его понимает. Жена и сын его любят. Мужик этот просто чудесный. Он уезжает, и его возвращения – каждый раз праздник. Он является с кучей подарков. Показывает сыну новые фокусы. Рассказывает о людях, которые ему встретились. Он счастлив, что наконец дома. А потом его отлучки потихоньку становятся все более и более долгими. Он уезжает все чаще и чаще. Все дальше и дальше.
