Кукушата Мидвича. Чокки. Рассказы бесплатное чтение
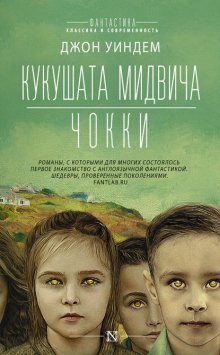
John Wyndham
THE MIDWICH CUCKOOS
CHOCKY
© John Wyndham Estate Trust, 1956, 1957, 1968
© Перевод. Н. Трауберг, наследники, 2018
© Перевод. Р. Померанцева, наследники, 2018
© Перевод. В. Ковалевский, наследники, 2018
© Перевод. Н. Штуцер, наследники, 2018
© Перевод. К. Круглов, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
Кукушата Мидвича
Часть первая
Глава 1
Въезд в Мидвич закрыт
Одним из счастливейших событий в жизни моей жены надо считать то, что она вышла замуж за человека, родившегося 26 сентября. Если бы не это, мы, без сомнения, провели бы в Мидвиче ту самую ночь с 26 на 27 сентября, от последствий которой, к моей неизбывной радости, жена оказалась избавленной.
Поскольку это был мой день рождения, а также отчасти из-за того, что накануне я подписал контракт с американским издательством, еще утром 26-го мы отправились в Лондон, чтобы отпраздновать там в скромной обстановке оба указанных события. Все прошло очень мило: несколько приятных визитов, омар и шабли в «Кореннике», последняя постановка Устинова, ужин и возвращение в отель; Джанет отправилась в ванную, где и нежилась с наслаждением, которое она почему-то испытывает при пользовании чужими «удобствами».
Утром мы, не торопясь, отправились в Мидвич. Короткая остановка в Трайне – самом близком к нам торговом центре, там мы запаслись кое-какой бакалеей, а затем по главному шоссе – до деревни Стауч, правый поворот на дорогу второго класса и… как бы не так! Дорога наполовину оказалась блокированной барьером, на котором болталась табличка с надписью «Проезд закрыт», а в оставленном проходе с поднятой рукой стоял полисмен.
Я остановил машину. Полисмен подошел к нам, и я узнал его – он был из Трайна.
– Простите, сэр, но проезд закрыт.
– Вы хотите сказать, что придется делать объезд через Оппли?
– Боюсь, что там тоже закрыто, сэр.
– Но…
Позади прозвучал громкий сигнал.
– Будьте добры, сэр, подайте машину чуть влево.
– В Мидвиче что – революция?
– Маневры, – ответил полисмен. – Проезд закрыт.
– Так не могут же выйти из строя сразу обе дороги? Вы нас знаете, мы ведь живем в Мидвиче, констебль.
– Я знаю, сэр. Только сейчас туда не проехать. На вашем месте, сэр, я бы вернулся в Трайн и обождал там, пока все наладится. А тут стоять тоже нельзя – мешаете движению.
Джанет открыла дверь с другой стороны машины и вытащила свою продовольственную сумку.
– Я пойду пешком, а ты догонишь меня, когда можно будет проехать.
Констебль помялся. Потом почти шепотом сказал:
– Раз уж вы там живете, мэм, я скажу, но вроде как бы конфиденциально… Не стоит и пробовать, мэм. В Мидвич никто попасть не может, это точно.
Тут-то мы уставились на него.
– Это еще почему? – удивилась Джанет.
– А вот это как раз и пытаются выяснить, мэм. А пока, если вы вернетесь в Трайн и остановитесь в «Орле», я проконтролирую, чтобы вас известили, как только дорога откроется.
Мы с Джанет переглянулись.
– Ладно, – сказала она констеблю. – Все это очень странно, но если вы уверены, что проехать никак нельзя…
– Совершенно уверен, мэм. Да и приказ у меня есть. Мы вас известим сразу же.
Ну, если человек упрется, то спорить с ним бесполезно. Этот полисмен выполнял свой долг и к тому же был вежлив.
– Хорошо, – согласился я. – Скажу в «Орле», чтобы мне передали на случай, если отлучусь.
Я дал задний ход и ехал так, пока не выбрался на главное шоссе, но, учитывая слова полисмена, что вторая дорога тоже перекрыта, повернул обратно к Лондону. Как только мы проехали Стауч, я свернул с шоссе на одну из полевых дорог.
– Все это, – сказал я, – очень странно пахнет. Давай-ка дернем пешком прямо через поля и посмотрим, что там такое.
– Да, полисмен вел себя крайне подозрительно. Попытаемся, – согласилась Джанет, выбираясь из машины.
Особую загадочность истории придавало то, что Мидвич имел репутацию места, где никогда и ничего не происходит. Мы прожили там уже почти год и считали эту славу главной чертой Мидвича. В самом деле, если бы у въезда в деревушку на столбах был вывешен знак в виде красного треугольника с надписью: «Мидвич. Не будить», он прекрасно подошел бы к местному колориту. И почему именно Мидвичу было оказано предпочтение перед тысячами других схожих с ним населенных пунктов, видимо, так навсегда и останется тайной.
Постарайтесь проникнуться обыденностью этого местечка.
Мидвич лежит примерно в восьми милях к северо-западу от Трайна.
Главное шоссе от Трайна идет на запад и прорезает деревни Стауч и Оппли, причем в местах пересечений от него отходят две дороги на Мидвич. Сама деревушка образует как бы вершину треугольника, а Стауч и Оппли – два других его угла. Есть еще одна дорога, вернее, проселок, который, причудливо извиваясь на протяжении пяти миль, ведет в Хикхэм, расположенный всего в трех милях к северу от Мидвича.
В центре Мидвича находится треугольный сквер, украшенный пятью прекрасными вязами и прудом, окруженным выкрашенной в белую краску оградой. Памятник погибшим воинам помещается в одном углу сквера, в том, что напротив церкви, а по краям сквера возвышается сама церковь, дом викария, гостиница, кузница, почта, магазинчик миссис Велт и несколько коттеджей. Деревушка состоит из шестидесяти коттеджей и домов, здания муниципалитета, Кайл-Мэнора и Грейнджа.
Церковь подвергалась многочисленным перестройкам, но купель и западная дверь восходят чуть не ко временам норманнов. Дом викария – образец георгианского стиля, Грейндж – викторианского, Кайл-Мэнор имеет фундамент, относящийся ко временам Тюдоров, но верх особняка сильно изменен последующими перестройками. Что касается коттеджей, то спектр их стилей очень пестр и включает все, что возникло между правлениями обеих Елизавет. Самые молодые по возрасту строения – два коттеджа, принадлежащие муниципальному совету, и два производственных крыла, сооруженных в Грейндже, когда некое министерство купило поместье для организации там научно-исследовательской лаборатории.
Причина возникновения Мидвича скрыта во мраке истории. Его местоположение трудно было счесть стратегически важным с точки зрения рынка даже в эпоху вьючного транспорта. Впечатление такое, что поселок возник здесь сам собой, без всяких на то причин. Уже в Книге Судного дня он числится в ранге «селения», в том же качестве пребывает и до сих пор, поскольку железные дороги его обошли так же, как раньше дилижансные пути и судоходные каналы.
Насколько известно, залежей полезных ископаемых под Мидвичем нет; никакой чиновничий глаз еще не уловил тут возможности построить аэродром, полигон для испытания бомб или военное училище. Только министерство вторглось сюда, но переоборудование Грейнджа фактически ничего не изменило в течении сельской жизни. Мидвич живет (вернее сказать, жил) и дремлет на своих плодоносных землях в сельском покое вот уже более тысячи лет, и до 26 сентября не было никаких оснований ожидать, что он не проведет в том же состоянии и другую тысячу.
Не следует, однако, полагать, что из сказанного выше вытекает отсутствие у Мидвича собственной истории вообще. Она, конечно, существует. В 1931 г. тут вспыхнула эпидемия ящура. В 1916 г. сбившийся с курса цеппелин сбросил на Мидвич бомбу, которая упала на вспаханное поле, но, к счастью, не взорвалась. Да и раньше названию деревушки случалось попадать в заголовки газет или листовок, например, когда Черный Нэд – второразрядный дорожный грабитель – был застрелен на ступеньках «Косы и камня» Красоткой Полли Паркер, и хотя данное проявление нрава Красотки имело, скорее, личный, чем общественный характер, имя ее, тем не менее, неоднократно встречается в балладах, написанных в 1768 году.
Известно также сенсационное закрытие расположенного неподалеку аббатства святого Франциска Ассизского и разгон его братии по причинам, ставшим поводом для многочисленных слухов и разговоров, последовавших после 1493 года.
Другие события включают в себя превращение церкви в конюшню солдатами Кромвеля, а также визит Уильяма Вордсворта, коего развалины аббатства подвигли к написанию одного из его самых скучных и нравоучительных сонетов.
Но если все сказанное выше исключить, то время текло над Мидвичем спокойно и равномерно.
Да и местные жители, кроме немногих юнцов и девиц, охваченных возрастной неврастенией, не испытывали желания жить иначе. В самом деле, исключая викария и его жену, чету Зиллейби в Кайл-Мэноре, доктора, фельдшерицу, нас с Джанет и, разумеется, научный персонал Грейнджа, многие поколения аборигенов жили как бы в сонном царстве, ставшем нормой их жизни.
Днем 26 сентября, казалось, ни одна тучка не предвещала будущих бедствий. Возможно, миссис Брант, жена кузнеца, и почуяла что-то зловещее, узрев на своем поле девять сорок, как она впоследствии уверяла; а мисс Огл, почтмейстерша, может быть, и встревожилась зрелищем привидевшегося ей накануне во сне гигантского летучего вампира. Но даже если все это и имело место, то, к сожалению, дурные предчувствия у миссис Брант и страшные сны у мисс Огл случались слишком часто, чтобы сыграть роль надежного предвестника. Никаких других свидетельств, что в понедельник вечером Мидвичу предстояло нечто необычайное, не существовало. Совершенно нормальным он показался и нам с Джанет, когда мы уезжали в Лондон. И тем не менее, во вторник 27-го…
Мы заперли машину; перелезли через калитку и пошли по стерне, стараясь держаться поближе к живой изгороди. Когда изгородь кончилась, перед нами открылось еще одно сжатое поле. Мы пересекли его наискосок и уперлись в следующую изгородь, – причем столь высокую, что пришлось довольно долго идти вдоль нее, отыскивая, где перелезть. Наконец мы поднялись на холм, откуда был виден Мидвич. Точнее, сам Мидвич заслоняли деревья – но мы увидели несколько столбов серого дыма, лениво поднимающихся в воздух, а также церковный шпиль, торчащий над вязами. На соседнем поле виднелись четыре-пять коров, которые, как мне показалось, крепко спали, лежа на земле.
Я не сельский житель, я всего лишь заезжий обыватель, но помню, как в подсознании мелькнуло ощущение какой-то ошибки в этой мирной картине.
Коровы, лежащие на брюхе и лениво пережевывающие жвачку, – дело обычное, а вот коровы, крепко спящие на боку, – это уж извините! Но в тот момент мысль эта еще полностью не сформировалась, возникло только ощущение, что тут что-то не так. Мы пошли дальше. Перелезли через изгородь того поля, где лежали коровы, и пересекли его. Вдруг кто-то окликнул нас – слева, издалека. Я оглянулся и увидел человека в хаки. Он кричал что-то неразборчивое, но по тому, как он размахивал своей палкой, было очевидно, что от нас требуют, чтобы мы убирались прочь. Я остановился.
– Пошли, Ричард! Он же далеко! – нетерпеливо крикнула Джанет, вырываясь вперед.
Я все еще колебался, продолжая рассматривать незнакомца, который потрясал палкой энергичней, чем прежде, а орал еще громче, хотя и ничуть не разборчивее. Потом решил последовать примеру Джанет. К этому времени она опередила меня ярдов на двадцать, но не успел я сделать и нескольких шагов, как Джанет вдруг закачалась и беззвучно рухнула на землю.
Я замер как вкопанный. Рефлекторно. Если бы она упала с вывихнутой коленкой или просто споткнулась, я бы побежал, кинулся к ней. Но все произошло так внезапно, так жутко, что на мгновение мной овладела идиотская мысль, будто Джанет застрелили. Ступор прошел так же быстро, как и возник. Я рванулся с места. Каким-то краем сознания я улавливал, что человек с палкой все еще кричит, но это не остановило меня. Я бежал к Джанет.
И не добежал.
Я вырубился так моментально, что даже не увидел, как вздыбилась земля, чтобы с силой ударить меня по лицу.
Глава 2
В Мидвиче все спокойно
Как я уже говорил, 26 сентября в Мидвиче царило полное спокойствие.
Позже я предпринял собственное расследование и узнал практически обо всех, где они были и что делали в тот вечер.
В «Косе и камне», например, обслуживали завсегдатаев, число которых, вообще говоря, было величиной постоянной. Кое-кто из молодежи отправился в Трайн в киношку; кстати, в большинстве своем это были те же люди, что ездили туда и в прошлый понедельник. Мисс Огл на почте вязала возле коммутатора, как обычно, находя, что бытовые разговоры горожан куда интереснее, чем то, что передается по радио. Мистер Таппер, работавший садовником до того, как выиграл фантастический приз в футбольном тотализаторе, был крайне раздражен неполадками в своем призовом телевизоре, у которого барахлил красный спектр, и поносил его такими словами, что миссис Таппер отправилась спать. В окнах одной-двух комнат лабораторного крыла Грейнджа все еще горел свет, в чем не было ничего необычного: как правило, два-три сотрудника продолжали свои таинственные исследования далеко за полночь.
Все было как обычно, но любой самый непримечательный день может стать для кого-то совершенно исключительным. Как я уже говорил, из-за моего дня рождения окна в нашем коттедже были закрыты и темны. А в Кайл-Мэноре случилось так, что именно в этот день мисс Феррилин Зиллейби доказала младшему лейтенанту Алану Хьюэсу, что помолвка фактически требует участия не двух персон, а большего числа и что было бы правильнее известить об этом событии и ее отца. Алан, после некоторых колебаний и возражений, позволил доставить себя к дверям кабинета Гордона Зиллейби, дабы ознакомить последнего со сложившейся ситуацией.
Он обнаружил седовласого, элегантного хозяина Кайл-Мэнора в глубоком мягком кресле, с закрытыми глазами, откинувшимся на удобную спинку, так что с первого взгляда могло показаться, что он спит, усыпленный дивной музыкой, заполнявшей комнату.
Молча, не открывая глаз, Зиллейби разрушил это впечатление, легким движением руки указав на другое кресло, а затем приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину.
Алан на цыпочках подошел к креслу и сел. Последовала интерлюдия, во время которой все заготовленные ранее фразы, уже державшиеся на самом кончике языка Алана, внезапно исчезли где-то в глотке, и в течение следующих минут десяти Алану пришлось посвятить себя исключительно созерцанию кабинета.
Стены от пола до потолка занимали книги, и лишь дверь, через которую он вошел, нарушала стройность книжных рядов. Книги, книги, книги, расставленные в невысоких шкафах, заполняли комнату по всему периметру, прерываясь лишь широкими французскими окнами, камином, где поблескивал приятный, – но не очень нужный в эту погоду огонь, и отличным проигрывателем.
Один из застекленных шкафов был полностью отведен под «Труды» Зиллейби – в разных изданиях и на всевозможных языках, причем на нижних полках предусмотрительно было оставлено место для будущих поступлений.
Над этим шкафом висел набросок красной сангиной, изображавший красивого молодого человека, в котором легко узнавался Гордон Зиллейби, только моложе лет на сорок. На другом шкафу отличный бронзовый бюст отражал то впечатление, которое двадцатью пятью годами позже Зиллейби произвел на Эпштейна. Несколько подписанных фотографий различных знаменитостей висели на стенах. Каминная полка и стена возле камина отводились домашним реликвиям. Рядом с портретами отца и матери Гордона, его брата и двух сестер располагался очень похожий портрет Феррилин и портрет ее матери (миссис Зиллейби номер один).
Портрет Анжелы – нынешней миссис Зиллейби – украшал центр кабинета – огромный, обитый кожей стол, на котором писались знаменитые «Труды».
Вспомнив о «Трудах», Алан подумал, что его визит, похоже, не совсем уместен – налицо было явное рождение нового «Труда». Этим, видимо, и объяснялся очевидный в момент рождения отрыв Зиллейби от реальной жизни.
«Он всегда становится таким, когда его мысль начинает бурлить, – объясняла ему Феррилин. – Что-то из него уходит. Он отправляется в дальние прогулки, забывает, где находится, звонит, чтобы за ним приехали и забрали домой. В такие минуты с ним бывает очень трудно, но все налаживается, когда он садится за стол писать книгу. Однако до этого за ним приходится строго следить, а то он начисто забывает о еде. Вот так вот».
Комната с комфортабельными креслами, мягким освещением и толстым ковром показалась Алану практическим воплощением взглядов ее хозяина на важность сбалансированного существования. Он вспомнил, что в «Пока мы живы» – единственной работе Зиллейби, которую он прочел, тот рассматривает и аскетизм, и чрезмерное эпикурейство в духе проявлений низкого уровня общественной адаптации. Это была интересная, подумал Алан, но мрачноватая книга; автор, по его мнению, придавал слишком большое значение тому факту, что нынешнее поколение куда динамичнее и куда менее отягощено иллюзиями, чем все предшествующие…
Наконец, поднявшись крещендо, музыка оборвалась. Зиллейби выключил проигрыватель, щелкнув переключателем на подлокотнике кресла, открыл глаза и взглянул на Алана.
– Надеюсь, вы не скучали? – осведомился он. – У меня такое чувство, что уж если играют Баха, то прерывать грешно. Кроме того, – добавил он, бросив взгляд на проигрыватель, – у нас еще не выработался инстинкт обращения с такими новшествами. Делается ли, например, искусство музыканта менее достойным уважения, когда сам музыкант отсутствует? В чем заключается деликатность? В том, что я уступаю вам, вы – мне, а мы вместе – гению, даже если это гений, так сказать, не из первого разряда. Кто знает? Вряд ли мы дознаемся до этого на нашем веку.
Мне кажется, нам плохо удается интеграция технических новаций в общественную жизнь. Мир, который запечатлен в пособиях по этикету, распался на куски еще в конце прошлого столетия, а нового кодекса, определяющего поведение в отношении к новоизобретенным сущностям, еще не появилось. Нет даже правил, нарушение которых могло бы рассматриваться как еще один удар по свободе. Жаль, не правда ли?
– Э-э-э… да, конечно, – согласился Алан. – Я, э-э…
– Хотя, заметьте, – продолжал Зиллейби, – считается demode признавать существование подобной проблемы. Истинное детище нашего столетия не заинтересовано в достижении внутренней согласованности с этими новациями. Оно лишь жадно усваивает их по мере появления. И только когда оно сталкивается с чем-то очень большим, оно проникается сознанием существования социальных последствий, но и тогда, вместо того чтобы искать консенсус, оно бросается на поиск несуществующего простого выхода из сложной ситуации: в виде ограничения, запрещения и тому подобного, как в случае с водородной бомбой.
– Э-э-э… Да, я думаю, вы правы… Но я хотел…
Зиллейби уловил в голосе собеседника явное безразличие к его словам.
– Когда человек молод, – продолжал он задумчиво, – то необычный, неформальный, стихийный образ жизни представляется ему весьма романтичным.
Но не таковы, согласитесь, основы, на которых стоит этот очень сложный мир. К счастью, мы – люди Запада – все еще сохраняем определенный этический каркас, хотя и у нас появились признаки того, что этот скелет уже не может с прежней надежностью выдерживать груз новых знаний. Вы согласны со мной?
Алан тяжело вздохнул. Воспоминания о своих прежних барахтаньях в сетях логических построений Зиллейби заставили его избрать самый прямой путь.
– Видите ли, сэр, я хотел бы поговорить с вами о совершенно другом деле, – сказал он.
Когда Зиллейби встречался с препятствиями, прерывавшими плавное течение его речи, он старался воспринимать их с должной снисходительностью. Поэтому он на время отложил анализ этического каркаса и ответил:
– Конечно, конечно, мой мальчик. Разумеется! О чем же?
– Это… это касается Феррилин…
– Феррилин? Ах, да! Боюсь, что она уехала в Лондон на пару дней, чтобы навестить мать. Должна вернуться завтра.
– Э-э-э… но она же только сегодня вернулась, мистер Зиллейби!
– Вот как! – воскликнул Зиллейби. Потом, подумав, добавил: – Конечно! Она же ужинала с нами! И вы – тоже! – сказал он с торжеством в голосе.
– Да, – ответил Алан и, продолжая настойчиво преследовать представившийся ему шанс, бросился в изложение своих проблем, с отчаянием ощущая, что от заготовленных фраз не осталось камня на камне.
Зиллейби терпеливо слушал, пока Алан продирался к концу своего повествования, завершив его словами:
– И я надеюсь, сэр, что у вас не будет возражений против нашего официального обручения…
Тут глаза Зиллейби округлились.
– Дорогой мой, вы, по-видимому, несколько преувеличиваете мою роль. Феррилин вполне разумная девочка, и у меня нет ни малейшего сомнения, что к настоящему времени и Феррилин, и ее мать знают о вас все, что нужно, и, надо думать, уже приняли глубоко обоснованное решение.
– Но я еще не встречался с миссис Холдер, – возразил Алан.
– Ну, если бы вы были знакомы, то ориентировались бы в ситуации куда лучше. Джейн – великий организатор, – ответил Зиллейби, благосклонно поглядывая на портрет на каминной полке. Затем он встал. – Что ж, свою роль вы сыграли вполне достойно. Значит, и мне следует вести себя так, как полагает нужным Феррилин. Не будете ли вы добры собрать здесь всю компанию, пока я распоряжусь насчет бутылки?
Через несколько минут, когда вокруг него собрались жена, дочь и будущий зять, Зиллейби поднял бокал.
– Выпьем же, – объявил он, – за соединение любящих душ. Правда, институт брака в том виде, в котором он поддерживается церковью и государством, представляет собой удручающе механистический подход к проблеме партнерства и практически мало чем отличается от взглядов Ноя.
Человеческий дух, однако, могуч, и любви нередко удается выжить в окружении грубых социальных институтов и установок. Поэтому будем надеяться…
– Папочка, – прервала его Феррилин, – сейчас уже больше десяти, а Алан должен добраться до своего лагеря вовремя, а то его засунут на «губу» или еще куда-нибудь. Все, что тебе следует сказать, – это: «Долгой жизни и долгого счастья вам обоим!»
– О! – воскликнул мистер Зиллейби. – А ты уверена, что этого достаточно? Мне кажется, это слишком лаконично. Однако, если ты полагаешь, что подобное обращение более соответствует данным обстоятельствам, я так и скажу, дорогая. С большим удовольствием скажу.
Что и сделал.
Алан поставил пустой бокал.
– Боюсь, то, что сказала Феррилин, близко к истине, сэр. Мне пора, – сказал он.
Зиллейби, соболезнуя, покачал головой.
– У вас сейчас тяжелое время. Как долго оно еще продлится?
Алан ответил, что надеется освободиться от службы месяца через три.
Зиллейби снова кивнул.
– Надеюсь, полученный опыт пойдет вам на пользу. Иногда мне жаль, что сам я им не обзавелся. Для первой войны был слишком молод, во вторую был откомандирован в министерство информации, хотя предпочел бы что-нибудь более интересное. Ну, что ж, спокойной ночи, дружок. Это… – Тут он прервал речь, пораженный внезапной мыслью. – Боже мой! Мы так привыкли называть вас просто Аланом, что я, оказывается, даже не знаю вашей фамилии. Может, наведем порядок в этом деле?
Алан назвался, и они снова подали друг другу руки.
Когда Алан и Феррилин вышли в холл, он посмотрел на часы.
– Слушай, мне надо поторапливаться. Увидимся завтра, любимая. В шесть. Спокойной ночи, родная.
В дверях они горячо и торопливо поцеловались, и Алан сбежал по ступенькам к своей красной машине, стоявшей у подъезда. Зажигание сработало четко, мотор взревел. Алан дал газу и, выбросив фонтаны гравия из-под задних колес, умчался.
Феррилин долго смотрела на удаляющиеся красные огни машины. Постояла, прислушиваясь, пока рев мотора не превратился в едва слышный гул, затем закрыла парадную дверь. Входя в кабинет, она заметила, что часы в холле показывают 10 часов 15 минут.
Итак, в 10.15 в Мидвиче ничего неординарного еще не случилось.
С отъездом Алана мирная тишина снова распростерлась над селением, только и мечтавшим поскорее завершить свой трудовой день и приготовиться к наступлению такого же мирного и лишенного потрясений дня завтрашнего.
Окна многих коттеджей еще отбрасывали желтые полосы света в темноту теплого вечера, отражаясь в каплях недавно прошедшего дождя. Внезапные взрывы голосов и смеха, раздававшиеся время от времени, были не местного происхождения. Они исходили из телевизоров и прочей звучащей аппаратуры.
Эти звуки как бы создавали фон, при котором большая часть жителей Мидвича готовилась отойти ко сну. Многие – самые старые и самые юные – уже спали, а хозяйки торопились наполнить кипятком свои постельные грелки.
Из «Косы и камня» выпроваживали последних клиентов, которые оттягивали свой уход, выпрашивая «посошок на дорожку». К 10.15 все, кроме Гарри Кранкхарта и Альфреда Уатта, продолжавших спор о минеральных удобрениях, уже добрались до своих жилищ.
Истекающему дню предстояло завершиться еще одним событием – приездом автобуса, который должен был доставить в Мидвич его самых светских представителей, ездивших в Трайн. После этого у Мидвича откладывать свой сон уже не было оснований.
В доме викария мисс Полли Растон в 10.15 размышляла о том, что если бы она улеглась в постель полчаса назад, то сейчас наслаждалась бы книгой, бесполезно покоившейся у нее на коленях, а не играла бы роль свидетельницы соперничества между дядей и теткой. Ибо в одном углу комнаты дядя Губерт – преподобный Губерт Либоди – пытался участвовать в передававшейся по третьей программе дискуссии о дософокловой концепции эдипова комплекса, в то время как в другом углу тетя Дора беседовала по телефону. Дядя Губерт, справедливо считая, что наука не должна быть утоплена в чепухе, уже дважды увеличивал громкость, причем звуковые возможности телевизора были далеко не исчерпаны. Винить его в том, что он и не догадывался о важности того, что ему казалось лишь пустой женской болтовней, было никак нельзя. Об этом догадаться не смог бы никто.
Звонили из Северного Кенсингтона (Лондон), где миссис Клюи вдруг ощутила нужду в своей старинной подруге миссис Либоди. К 10.15 им наконец удалось добраться до сути дела.
– А теперь, Дора, скажи, но только помни, что мне нужен совершенно откровенный ответ, как ты думаешь, в случае Кэтти что лучше – белый шелк или белая парча?
Миссис Либоди «тянула резину». Ясно, что в таком контексте слово «откровенный» никак нельзя было счесть случайностью, и, зная миссис Клюи, можно было, по меньшей мере, сожалеть, что она не сделала хотя бы легчайшего намека. Вероятно, сатин, думала миссис Либоди, но ей не хотелось ставить на карту столь долгую дружбу. Она попыталась нащупать верный ответ.
– Конечно, для столь юной новобрачной… Хотя Кэтти вряд ли можно считать очень юной, и поэтому…
– Разумеется, не очень юной, – согласилась миссис Клюи и замолчала.
Миссис Либоди мысленно предала анафеме как настойчивость своей подруги, так и третью программу супруга, мешавшую ей трезво мыслить и отыскивать верное решение.
– Что ж, – сказала она наконец. – И тот, и другой материал очаровательны, разумеется, но для Кэтти я бы…
И в это мгновение ее голос в трубке прервался.
Далеко отсюда, в Северном Кенсингтоне, миссис Клюи с нетерпением дожидалась ответа и посматривала на часы. Не дождавшись, она нажала на рычаг, а потом набрала ноль.
– Я хочу принести жалобу, – заявила она. – Меня только что прервали в разгар очень важного разговора.
Станция ответила, что попытается соединить ее снова. Через несколько минут она проинформировала миссис Клюи о тщетности своих усилий.
– Безобразно работаете! – распалилась миссис Клюи. – Я подам на вас письменную жалобу. Отказываюсь оплачивать хотя бы минуту сверх фактического времени разговора. С какой это стати я стану платить за такую работу! Нас прервали точно в десять семнадцать.
Работник станции ответил с подобающим тактом и записал для отчета время окончания разговора:
22.17 мин. 26 сент.
Глава 3
Мидвич уснул
С 10.17 информация из Мидвича поступает эпизодически. Все телефоны отключились. Автобус, следовавший через Мидвич, до Стауча не добрался, а грузовик, отправленный на розыски автобуса, не вернулся обратно. В Трайн поступило сообщение от ВВС о каком-то неопознанном летающем объекте, не принадлежащем ВВС, который был засечен радарами вблизи Мидвича, возможно, в момент посадки. Некто, живущий в Оппли, позвонил, что в Мидвиче пожар, но противопожарных мер, видимо, не принято. Пожарная машина из Трайна выехала, но дальнейших сведений о ней не поступило. Полиция Трайна выслала патрульный автомобиль с целью установить, что же случилось с пожарниками, но и полицейская машина канула в неизвестность. Из Оппли пришло известие о втором пожаре, но, видя, что его не тушат, позвонили по телефону констеблю Бобби в Стауче, который на велосипеде отправился в Мидвич. О нем тоже больше известий не было.
Рассвет 27 сентября больше всего напоминал кучу грязного тряпья, мокнувшего в корыте неба, с просачивающимся через него капля за каплей серым светом. Тем не менее и в Стауче, и в Оппли петухи уже пропели, а другие пташки приветствовали рассвет более мелодичными трелями. В Мидвиче, однако, петухи молчали.
К тому же в Оппли и Стауче, как и всюду, во всех домах уже тянулись из постелей руки, чтобы заглушить звон будильников, тогда как в Мидвиче будильники звенели, пока завод не иссяк.
В других поселках заспанные мужчины уже выходили из домов, приветствуя товарищей по несчастью сонным пожеланием доброго утра. В Мидвиче же никто и никого не приветствовал.
Мидвич пребывал в трансе.
В то время как остальной мир уже принялся наполнять окружающее пространство шумом своей деятельности, Мидвич продолжал спать. Спали мужчины, спали женщины, спали лошади и коровы, спали овцы, спали куры, ласточки, кроты и мыши. Мидвич потонул в глубокой тишине, нарушаемой лишь шепотом листьев, боем церковных часов да плеском воды в речке Оппли, срывающейся с мельничной плотины.
Рассвет еще не окреп и только-только начинал разгораться, когда пикап оливкового цвета с плохо различимой в сумерках надписью: «Почта и телефон» выехал из Трайна с целью восстановить связь между Мидвичем и остальным миром.
В Стауче он ненадолго остановился у будки-автомата, чтобы проверить, не обнаружил ли Мидвич признаков жизни. Мидвич их не обнаружил и продолжал находиться в глубокой летаргии, в коей пребывал с 10.17 прошлого вечера.
Пикап снова двинулся вперед, яростно дребезжа в неуверенном свете разгоравшегося утра.
– Бог ты мой! – сказал линейный мастер своему компаньону-шоферу. – Бог ты мой! Этой, значит, мисс Огл нынче уж не отвертеться от неприятностей с ее величеством королевой из-за ейных грехов.
– Непонятно мне это, – возразил шофер. – Если хочешь знать, то старушонка эта вечно подслушивает разговоры – и днем, и ночью, было бы только кому разговаривать. Так оно и идет одно к одному, – несколько загадочно закончил он.
Выехав из Стауча, пикап круто свернул вправо и примерно полмили или около того трясся по окружному проселку. Затем свернул еще раз и столкнулся с ситуацией, потребовавшей от водителя напряжения всех умственных сил.
Первой обнаружилась почти опрокинувшаяся набок пожарная машина, колеса которой с одного борта глубоко погрузились в кювет; далее виднелся черный лимузин, наполовину въехавший на откос с другой стороны дороги. За ним лежал велосипед и неподвижное тело человека рядом.
Шофер резко вывернул руль, намереваясь описать нечто вроде латинского «S», чтобы избежать столкновения с одной из машин, но закончить этот маневр не смог, так как пикап вынесло на узенькую бровку, проволокло несколько ярдов, и машина боком застряла в зеленой изгороди.
Час спустя первый утренний автобус на большой скорости, так как пассажиры (ребятишки, учившиеся в школе Трайна) на него садились только в Мидвиче, с грохотом выехал на тот же поворот и аккуратно застрял в промежутке между пожарной машиной и пикапом, полностью заблокировав дорогу.
На другой мидвичской дороге, той, что соединяла его с Оппли, аналогичное скопление машин придавало ей некоторое сходство со свалкой изношенных механизмов, вдруг возникшей тут за ночь. На этой стороне первым, кому удалось избежать столкновения, был почтовый грузовичок.
Один из сидевших в нем мужчин вышел и зашагал вперед, чтобы выяснить причину катастрофы. Он уже подходил к задней двери неподвижного автобуса, когда, без всякого предупреждения, как-то странно сломался и рухнул на землю. У водителя отвисла челюсть, и он ошеломленно уставился в пространство. Тут его взгляд упал на лица пассажиров автобуса, сидевших совершенно неподвижно. Водитель дал задний ход, развернулся и помчался в Оппли, чтобы оттуда позвонить по первому попавшемуся телефону.
Почти одновременно то же самое произошло с водителем хлебного фургона на дороге из Стауча, так что примерно через 20 минут на обоих подходах к Мидвичу были предприняты сходные акции. Первыми примчались машины «Скорой помощи», чем-то смахивающие на механизированных сэров Галахадов. Задние двери их распахнулись. Оттуда, на ходу застегивая пуговицы халатов и предусмотрительно гася огоньки сигарет, вышли форменно одетые мужчины. Они оглядели завалы профессиональным, уверенным взглядом, вытащили носилки и собрались идти вперед…
На дороге из Оппли первая пара санитаров достигла лежащего ничком почтальона, но, когда санитар, шедший впереди, поравнялся с телом, он вдруг закачался, согнулся и рухнул на ноги уже имевшейся жертвы. Санитар, что шел сзади, выпучил глаза. Из возгласов, раздавшихся за его спиной, он уловил только слово «газ», молниеносно, словно обжегся, бросил ручки носилок и быстро отступил назад.
Был устроен «военный» совет. Наконец водитель «Скорой помощи», покачав головой, вынес вердикт.
– Не наша это работа, ребята, – заявил он с видом профсоюзного деятеля, вносящего важное предложение. – Я так считаю, что тут нужны пожарники.
– А по мне – так уж лучше солдаты, – откликнулся санитар. – Тут противогазы требуются, а не просто маски от дыма, вот что.
Глава 4
Операция «Мидвич»
Примерно в то время, когда мы с Джанет подъезжали к Трайну, лейтенант Алан Хьюэс стоял рядом со старшим пожарным Норрисом на дороге из Оппли.
Они заинтересованно следили, как один из пожарных пытался достать длинным багром поверженного санитара. Наконец крюк за что-то уцепился и потащил за собой тело. Оно проехало по асфальту ярда полтора, после чего внезапно село и выругалось.
Алану показалось, что он никогда не слышал ничего более прекрасного, чем эта брань. Та острая тревога, с которой он прибыл на место происшествия, несколько улеглась еще тогда, когда выяснилось, что жертвы этого невероятного события потихоньку, но достаточно отчетливо дышат.
Теперь же стало ясно, что, по крайней мере, одна из предполагаемых жертв не обнаруживает никаких явных отрицательных последствий почти полуторачасового пребывания в бесчувственном состоянии.
– Отлично, – сказал Алан. – Если с ним все в порядке, то весьма вероятно, что и со всеми остальными – тоже, хотя все это и не приближает нас к ответу на вопрос – что же все-таки произошло?
Следующим, кого выволокли из зоны, был почтальон. Он пробыл без сознания дольше, чем санитар, но его пробуждение было столь же внезапным и окончательным.
– Граница, видимо, очень четкая и стоит на месте, – добавил Алан. – А кто-нибудь слышал о неподвижном газе, да еще при ветреной погоде? Сущая нелепица!
– Испарением капель, разбрызганных по земле, тоже ничего не объяснишь, – отозвался старший пожарный. – Будто их по голове кто-то трахнул. Я о такой воздушно-капельной инфекции и не слыхивал, ей-богу.
Алан утвердительно кивнул.
– Да, – согласился он, – летучее вещество давно уж унесло бы ветром. Тем более что его должны были бы распылить еще прошлым вечером, чтобы оно могло воздействовать на пассажиров автобуса. Ведь автобус прибывает в Мидвич в 10.25, а я сам проехал этот отрезок шоссе несколькими минутами раньше. Тогда тут все было в порядке. Автобус я встретил, когда въезжал в Оппли.
– Интересно, как далеко вглубь простирается зона поражения? – задумчиво произнес пожарный. – Наверняка она довольно широка, иначе были бы и машины, ехавшие навстречу.
Они с любопытством взглянули на отрезок дороги, ведущей в Мидвич. За машинами дорога была чиста, девственно пустынна, сверкающий асфальт тянулся вплоть до первого поворота. Все было как на обычной дороге, уже почти высохшей после сильного ливня. Теперь, когда утренний туман разошелся, видна стала колокольня мидвичской церкви, возвышающаяся над зелеными изгородями. Если позабыть первый план картины, то ничем таинственным впереди и не пахло.
Пожарные с помощью солдат из взвода Алана продолжали вытаскивать тех, кто лежал поближе. Перенесенное, по-видимому, никаких следов на жертвах не оставило. Каждый, кого вытягивали за черту, немедленно садился и уверенно заявлял, что в услугах «Скорой помощи» не нуждается.
Теперь надо было выволочь трактор, преградивший путь к автобусу с пассажирами. Алан оставил сержанта и старшего пожарного распоряжаться работами, а сам перелез через изгородь. Тропинка за ней взбиралась на небольшой холмик, позволявший получше рассмотреть окрестности Мидвича.
Алан увидел несколько крыш, в том числе крыши Кайл-Мэнора и Грейнджа, верхушку развалин аббатства, а также две струйки дыма. Мирная картина. Еще несколько шагов – и он достиг точки, откуда увидел валявшихся на земле четырех овец. Зрелище встревожило Алана, но не потому, что он опасался за овец, а потому, что это указывало на гораздо большую ширину зоны поражения, чем он рассчитывал. Алан задумчиво смотрел на овец и на ландшафт за ними, и тут, чуть дальше, заметил двух коров, лежащих на боку.
Минуту или две он пристально следил за ними – не шевельнутся ли, а затем повернулся и, погруженный в раздумье, пошел по дороге.
– Сержант Деккер! – позвал он.
Подошел сержант и отдал честь.
– Сержант, – сказал Алан, – я хочу, чтобы вы достали мне канарейку. В клетке, конечно.
Сержант мигнул.
– Э-э-э… канарейку, сэр? – с трудом выговорил он.
– Ну, я думаю, майна тоже подойдет. Что-нибудь в этом духе найдется в Оппли, надо полагать. Возьмите джип. Владельцу скажите, что в случае чего он получит компенсацию.
– Я… э-э-э…
– Поторапливайтесь, сержант. Мне она нужна немедленно, так что давайте.
– Слушаюсь, сэр. Э-э… канарейку? – добавил сержант, дабы убедиться, что не ослышался.
– Именно, – кивнул Алан.
Я чувствовал, что меня волокут по земле, лицом вниз. Это было странно. Только что я бежал к Джанет, а затем, без передышки…
Движение прекратилось. Я сел и обнаружил, что окружен толпой народа.
Какой-то пожарник отцеплял от моей одежды крюк весьма зловещего вида. На меня глядел санитар «Скорой», и в глазах его светилось что-то нехорошее.
Еще тут были: молоденький солдатик с ведром известки, другой – с картой в руках, да еще юный капрал, вооруженный длинным шестом, на конце которого висела птичья клетка. И ничем не обремененный офицер. Дополняла эту сюрреалистическую картину Джанет, лежавшая на том же месте, где упала. Я вскочил на ноги в ту самую минуту, когда пожарный, освободив свой багор, выдвинул его вперед и зацепил крюком пояс ее плаща. Он потащил, пояс, конечно, лопнул, пожарный снова протянул багор и попытался просто перекатить Джанет к нам. Попытка удалась, и она села, очень растрепанная и сердитая.
– Как вы себя чувствуете, мистер Гейфорд? – раздался голос за моей спиной.
Я обернулся и узнал в молодом офицере Алана Хьюэса, с которым мы раза два встречались у Зиллейби.
– Нормально, – ответил я. – А что тут происходит?
Он ничего не ответил и помог Джанет подняться на ноги. Потом повернулся к капралу.
– Мне придется вернуться на дорогу. Продолжайте работать, капрал.
– Есть, сэр! – отозвался капрал. Он наклонил горизонтально шест с висящей на конце клеткой и выдвинул его вперед. Птичка упала с жердочки на песчаное дно клетки. Капрал потянул клетку к себе – птичка раздраженно пискнула и тут же снова вспрыгнула на жердочку. Солдат, державший ведро, сделал шаг вперед и кистью провел полосу по траве, другой солдат что-то отметил на карте. Вся группа перешла на десяток ярдов дальше, и процедура повторилась.
На этот раз с требованием объяснить, что тут происходит, выступила Джанет. Алан рассказал все, что знал, и добавил:
– Совершенно очевидно, что, пока это продолжается, в Мидвич не попадешь. Самое лучшее для вас – вернуться в Трайн и ждать, пока все образуется.
Мы еще раз взглянули на капрала с его командой, как раз застав момент, когда птичка падала с жердочки, затем перевели взгляды на лежавший за мирными полями Мидвич. Приобретенный опыт говорил, что никакой разумной альтернативы предложению Алана нет. Джанет кивнула. Мы поблагодарили молодого Хьюэса и, расставшись с ним, двинулись к машине.
В «Орле» Джанет настояла на том, чтобы на всякий случай снять номер, и тут же отправилась туда. Меня же манил бар. Для полудня он был слишком полон. Явно преобладали приезжие. Большинство разговаривали как-то аффектированно, разбившись на пары или на маленькие группы; некоторые пили в одиночестве, и весьма целеустремленно. Я с трудом пробился к стойке, а когда попытался пройти обратно, держа в руке свой стакан, кто-то буркнул сзади:
– Какого черта ты тут делаешь, Ричард?
Голос был знаком, да и лицо, когда я оглянулся, тоже. Однако мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, кто это, – нужно было не только рассеять пелену нескольких прошедших лет, но еще и заменить мысленно твидовый костюм военной формой. Когда я все это проделал, то так и подскочил от радости.
– Бернард, дорогой! – воскликнул я. – Вот уж поистине чудеса! Давай-ка выберемся из этой толкучки! – Я схватил его за руку и потащил в обеденный зал.
Этот человек возвратил меня в годы юности. Он вернул мне пляжи, Арденны, Рейхсвальд, Рейн. Приятная встреча. Я отправил официанта за новыми порциями выпивки. Потребовалось не менее получаса, чтобы наш энтузиазм поутих.
– Ты мне так и не ответил на вопрос, – напомнил он мне, внимательно приглядываясь. – Я ведь и понятия не имел, что ты связан с этими…
– С кем? – не понял я.
Он слегка кивнул головой в сторону бара.
– С прессой, – объяснил он.
– Ах, с этими! А я-то как раз гадал, кто они такие…
Одна бровь у Бернарда поползла вверх.
– Хорошо, если ты не с ними, тогда что ты тут делаешь?
– Да живу я здесь, – ответил я.
В этот момент в зал вошла Джанет, и я представил ей своего друга.
– Джанет, дорогая, это Бернард Уэсткотт. Был когда-то капитаном, когда мы вместе служили, потом я слышал, что он стал майором, а теперь?
– Полковник, – признался Бернард и вежливо поклонился.
– Очень приятно, – мило улыбнулась Джанет. – Я много слышала о вас, честное слово.
Она пригласила его позавтракать с нами, но он отказался, ответив, что у него дела и что он уже опаздывает. Его сожаления прозвучали вполне искренне, так что Джанет немедленно предложила:
– Тогда, может быть, вместе поужинаем? Или дома, если попадем туда, или тут, если все еще будем на положении ссыльных…
– Дома? – удивился Уэсткотт.
– В Мидвиче, – объяснила она. – Эго милях в восьми отсюда.
Голос Бернарда чуточку изменился.
– Вы живете в Мидвиче? – спросил он, переводя взор с Джанет на меня.
– И как давно?
– Да уж около года, – ответил я. – Нам бы давно полагалось вернуться, но… – И тут пришлось объяснять ему, каким образом мы оказались в «Орле».
Когда я закончил рассказ, он немного поразмышлял, а затем, похоже, принял решение и обратился к Джанет:
– Миссис Гейфорд, может быть, вы разрешите мне утащить вашего мужа с собой на некоторое время? Я прибыл сюда именно по делам Мидвича. Думаю, он может быть нам полезен, если захочет, конечно.
– Чтобы понять, что случилось, вы имеете в виду? – спросила Джанет.
– Ну, скажем, в связи с этим. Так каково твое мнение?
– Если смогу быть полезным – конечно. Хотя и не вижу… А кто такие «вы»?
– Объясню по дороге, – ответил он. – Честно говоря, мне полагалось быть там уже час назад. Я бы не умыкнул его таким манером, если б это не было столь важно, миссис Гейфорд. Вы тут без него не пропадете?
Джанет заверила его, что не пропадет.
– Еще одно, – добавил он, перед тем как уйти, – не позволяйте никому из этой банды в баре приставать к вам. Отшейте их, если полезут. Они тут обнаглели вконец, особенно когда узнали, что издателям запрещено касаться мидвичской истории. Поэтому – ни слова с ними. А вам я все расскажу потом.
– Идет. Умру от любопытства, но не сдамся. Можете на меня положиться, – согласилась Джанет, и мы ушли.
Командный пункт находился на дороге из Оппли, рядом с границей пораженной территории. У полицейской заставы Бернард показал свой пропуск.
Дежурный констебль отдал честь, и мы беспрепятственно проследовали дальше.
Молоденький офицер с тремя звездочками, комфортабельно расположившийся в палатке, очень обрадовался нашему прибытию, решив, что раз полковник Лэтчер инспектирует войска, то его обязанность – ввести нас в курс дела.
Судя по всему, птички в клетках уже завершили свою работу и были возвращены своим любящим, хотя и не слишком патриотически настроенным хозяевам.
– Наверняка нам достанется от Общества защиты животных, да и в суд на нас могут подать, если пичуги схватят простуду или что-то еще, – сказал капитан. – Но результат есть. – И он показал крупномасштабную карту, на которой ясно виднелась правильная окружность, диаметром около двух миль, с церковью чуть южнее и восточнее математического центра.
– Вот так, – хмыкнул капитан. – Насколько нам известно, это не пояс, а круг. С наблюдательного пункта на колокольне в Оппли нигде никакого движения не видно, к тому же прямо на дороге возле кабачка лежит пара мужских тел, которые тоже не двигаются. А вот что это такое, мы так и не выяснили. Установлено, что преграда неподвижна, невидима, не имеет запаха, не регистрируется радарами или эхолотами, производит мгновенное действие на млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых, причем это воздействие не оставляет побочных эффектов, во всяком случае, прямых, хотя, разумеется, люди в автобусе и другие, которым пришлось пробыть без сознания долгое время, чувствуют себя неважно из-за переохлаждения. Вот пока и все. Откровенно говоря, что бы это могло значить, мы, увы, не знаем.
Бернард задал ему несколько вопросов, которые почти ничего не прояснили, а потом мы направились на поиски полковника Лэтчера. Тот обнаружился очень скоро в обществе пожилого мужчины, который оказался начальником полиции графства Уиншир. Оба, в сопровождении менее важных чинов, стояли на небольшом холмике, озирая окрестности. Вид сей группы напоминал гравюру XVIII века, изображающую генералов, наблюдающих за битвой, исход которой не слишком ясен. Только битва тут была невидимая.
Бернард представился и представил меня. Полковник внимательно оглядел Бернарда.
– А, – сказал он, – значит, это вы заявили мне по телефону, что все должно быть шито-крыто?
Прежде чем Бернард успел ответить, вмешался начальник полиции:
– Шито-крыто! Как бы не так! Территория графства – круг диаметром в пару миль – полностью изолирована этой штукой, а вы хотите, чтобы все держалось в секрете!
– Таков приказ, – ответил Бернард. – Служба безопасности…
– Да какого черта они думают…
Обмен мнениями прервал полковник Лэтчер, переведя разговор на деловые рельсы:
– Мы сделали все, что могли, объявив о начале тактических учений. Не очень надежное прикрытие, но на первое время сойдет. Что-то ведь надо сказать. Беда в том, что, возможно, это наше собственное устройство сработало не так, как положено. Теперь ведь все кругом засекречено, толком никто ничего не знает. Понятия не имеем, что творится у соседа, да и у нас самих – тоже. А все из-за этих ученых, которые в лабораториях занимаются какими-то своими делишками. Ну а как можно справиться с тем, о чем сам не ведаешь? Скоро военной службой будут заправлять одни технари да колдуны.
– Все агентства новостей уже тут как тут, – ворчал начальник полиции.
– Кой-кого из них мы выпроводили, но вы-то знаете, что это за народ! Уж как-нибудь, будьте уверены, они сюда просочатся, начнут повсюду совать носы, и придется их гнать в шею. Но разве им заткнешь глотку!
– Это как раз вас не должно беспокоить, – ответил ему Бернард. – Министерство внутренних дел уже высказалось по этому вопросу. Конечно, они недовольны, но я думаю, смирятся. Все зависит от того, насколько страсть к сенсациям сильнее боязни неприятностей.
– Хм, – отозвался полковник, глядя на мирный пейзаж, простиравшийся перед ним. – Я полагаю, что это будет зависеть от того, покажется прессе лежащая перед нами Спящая Красавица занудой или же дамой с изюминкой.
В течение ближайших двух-трех часов появилось множество новых лиц, представлявших, видимо, интересы различных ведомств – военных и гражданских. Возле дороги в Оппли воздвигли еще одну большую палатку, где в 16.30 состоялось совещание. Открыл его полковник Лэтчер обзором ситуации.
Времени это заняло немного. Как раз когда он заканчивал, вошел командир эскадрильи. Он вошел с перекошенным от злости лицом и шмякнул на стол прямо под нос полковнику большой фотоснимок.
– Получайте, джентльмены, – произнес он угрюмо. – Его цена – жизнь двух отличных парней и самолет. Нам еще повезло, что она не оказалась выше. Надеюсь, снимок стоит того.
Мы окружили стол и стали сопоставлять фото с картой.
– А это что такое? – спросил майор из разведки, показывая пальцем.
Объект, на который он показал, представлял собой светлый овал, если судить по отбрасываемой им тени, имевшей форму перевернутой ложки.
Начальник полиции наклонился, чтобы рассмотреть получше.
– Понятия не имею, – признался он. – Похоже на какое-то странное здание, но только это не то. Я был у руин аббатства всего лишь на прошлой неделе, и там ничего похожего не наблюдалось. Кроме того, аббатство – собственность Британской Исторической Ассоциации, а та ничего не строит – только реставрирует.
Кто-то, непрерывно переводя взгляд с карты на снимок и обратно, сказал:
– Чем бы ни был этот объект, он находится точно в центре пораженной зоны, и, если его там не было несколько дней назад, значит, он там приземлился недавно.
– Если это только не скирда, покрытая брезентом, – вмешался другой.
Начальник полиции прокряхтел:
– Поглядите на масштаб, дружище, и на фото. По величине эта штуковина больше дюжины скирд, вместе взятых.
– Тогда что же это за чертовщина? – вопросил майор.
Мы с помощью лупы по очереди изучали фотоснимок.
– А нельзя ли сделать снимок с меньшей высоты? – задал вопрос тот же майор.
– Именно так мы и потеряли самолет, – резко ответил ему командир эскадрильи.
– Как далеко эта… эта пораженная область простирается в высоту?
Командир эскадрильи пожал плечами:
– Узнать это можно, только пролетев над Мидвичем, – ответил он. – Вот это, – он постучал пальцем по фотоснимку, – снято с высоты десять тысяч футов. На этой высоте экипаж никакого влияния зоны не ощущал.
Полковник Лэтчер прочистил горло.
– Двое моих офицеров выдвинули предположение, что область поражения имеет форму полусферы, – заметил он.
– Вполне возможно, – согласился командир эскадрильи, – а возможно, ромбоида или додекаэдра.
– Я так понимаю, – мягко продолжал полковник, – что они наблюдали за полетом птиц, пересекающих зону, и исходили из того, на какой высоте эти птицы теряли сознание. Они говорят, будто на границе круга зона поражения поднимается не вертикально, как стена, то есть это не цилиндр. Она закругляется к центру. Следовательно, это что-то вроде свода или конуса. По их мнению, скорее всего, полусфера, но наблюдения проводились на слишком небольшом сегменте, чтобы быть уверенным.
– Что ж, это первая реальная помощь, которую мы получили за последнее время, – признал командир эскадрильи. И задумчиво добавил: – Если они правы насчет полусферы, то высота над центром круга должна составить около пяти тысяч футов. А нет ли у них какой-нибудь идеи, как это выяснить, не подвергая опасности летчиков?
– Фактически, – сказал несколько неуверенно полковник Лэтчер, – у одного из них есть. Он предположил, что, возможно, вертолет со спущенной на тросе длиной в несколько сотен футов птичьей клеткой с канарейкой мог бы… Ну, я понимаю, что звучит это…
– Нет, – возразил капитан, – это мысль! Вероятно, тот самый парень, благодаря которому установлены границы круга?
– Тот самый, – кивнул полковник Лэтчер.
– Ишь ты, какой спец по орнитологической войне, – прокомментировал командир эскадрильи. – Нам, вероятно, удастся придумать что-нибудь получше канарейки, но за идею спасибо. Однако сегодня уже поздно. Отложим дело на завтрашнее утро и тогда сделаем снимок с меньшей высоты и в косых солнечных лучах.
Тут выступил майор разведки.
– А может, бомбы? – сказал он, просыпаясь. – Скажем, осколочные?
– Бомбы? – переспросил командир эскадрильи, заламывая бровь.
– Стоило бы продумать на всякий случай. Откуда нам знать, чего можно ожидать от этих гостей? Может, все же стоит подготовиться? На случай, если они попробуют удрать? Трахнуть их как следует, но так, чтобы осталось, что исследовать.
– Не слишком ли решительно? – поморщился начальник полиции. – Я так понимаю, объект лучше заполучить целым.
– Верно, – согласился майор, – но пока мы позволяем им делать то, ради чего они сюда заявились, а от нас они отгородились этой стеной.
– Не понимаю, зачем им понадобился Мидвич, – вмешался другой офицер, – думаю, это вынужденная посадка, и «завеса» используется для того, чтобы предотвратить наше вмешательство, пока не кончатся ремонтные работы.
– Но ведь там Грейндж, – сказал кто-то с намеком в голосе.
– В любом случае, чем скорее мы получим полномочия вывести эту штуку из строя, тем лучше, – продолжал майор. – Нечего ей здесь болтаться, вот что. Главное, не дать им улизнуть. Слишком уж аппетитная штучка. Не говоря уже о самом объекте, эта защита может оказаться для нас весьма полезна. Я предлагаю принять меры для захвата объекта, если возможно – целым, а нет – так в любом виде.
Завязалась дискуссия, результаты которой были весьма скромны, поскольку все участники имели полномочия лишь наблюдать и сообщить по начальству. Единственное решение, которое мне запомнилось, касалось пуска осветительных ракет на парашютах с часовым интервалом для наблюдения за Мидвичем ночью, да еще подготовки вертолета к завтрашнему утру с целью получения быстрейшей информации. Других решений не последовало.
Я никак не мог взять в толк, зачем я тут болтаюсь, равно как и к чему здесь Бернард, который не внес в работу совещания ни малейшего вклада. По дороге обратно я спросил:
– Слушай, а с какого боку ты здесь припека?
– Ну, почему же? У меня тут интерес профессиональный.
– Грейндж? – осведомился я.
– Да. Грейндж входит в мою компетенцию, и, естественно, нас занимает все, что происходит вокруг лаборатории А это происшествие нельзя назвать ординарным, не так ли?
«Нас», как я понял, еще когда он представлялся перед совещанием, означало либо военную разведку вообще, либо какой-то ее отдел.
– Я думал, – сказал я, – что такими делами занимается Специальная служба.
– Ну, тут многое зависит от обстоятельств, – туманно ответил он и перевел разговор на другое.
В «Орле» Бернарду удалось получить номер, и мы поужинали втроем. Я надеялся, что после ужина он выполнит свое обещание «пояснить все попозже», но, хотя мы переговорили о многом, включая Мидвич, Бернард явно избегал даже упоминания о своих профессиональных интересах. Тем не менее вечер получился приятный, и, когда ужин кончился, у меня осталось чувство недоумения, как можно столь легкомысленно позволять некоторым людям исчезать из твоей жизни?
В течение вечера я дважды звонил в полицию Трайна, чтобы узнать, не произошло ли изменений в мидвичской ситуации, но оба раза получил ответ, что все по-прежнему. После второго звонка мы решили больше не ждать и, выпив на посошок, разошлись по своим комнатам.
– Приятный человек, – подвела итог вечеру Джанет, закрывая дверь. – Я опасалась, не получится ли встреча ветеранов, как всегда, унылой для жен, но он не дал этому произойти. А зачем он брал тебя с собой днем?
– Это меня и интересует, – признался я. – Видимо, у него были какие-то свои соображения, но, когда дело дошло до них, он стал особенно сдержан.
– Как странно, – сказала Джанет так, будто эта мысль только сейчас пришла ей в голову, – неужели ему нечего было сказать нам об этом деле?
– Ни ему, ни остальным, – заверил я ее. – Собственно говоря, они узнали только то, что мы и сами могли бы им сказать: когда «защита» ударяет по тебе, ты ничего не ощущаешь, зато потом никаких последствий не остается.
– Только это и утешает. Будем надеяться, что и в деревне никому не придется хуже, чем нам.
Утром, когда мы еще спали, офицер метеослужбы дал прогноз, что туман в Мидвиче развеется очень рано, и два летчика сели в вертолет. Им вручили проволочную клетку с двумя прыткими, но крайне недовольными хорьками.
Машина с ревом взмыла в воздух.
– Они считают, что на шести тысячах футов безопасно. Поэтому начнем с семи… так, на всякий случай. И если все о’кей, будем постепенно снижаться.
Наблюдатель уже кончил возиться со своим оборудованием и развлекался, дразня хорьков, пока пилот не скомандовал:
– Готов. Можешь спускать клетку. Сделаем попытку пересечения на семи тысячах.
Клетку просунули в дверь. Наблюдатель вытравил около трехсот футов троса. Машина развернулась, и пилот уведомил Землю, что к первому полету над Мидвичем готов. Наблюдатель лег на пол и стал наблюдать за хорьками в бинокль.
С теми все обстояло благополучно, они носились по клетке и прыгали друг через друга. Наблюдатель отвел бинокль от глаз и повернулся к пилоту:
– Эй, шкипер!
– Да?
– Эта штуковина, которую нам надо было снять возле аббатства…
– Ну?! Что с ней?
– Она либо мираж, либо куда-то смылась.
Глава 5
Мидвич воскресает
Почти в то же время, когда на вертолете сделали свое открытие, пикет на дороге из Стауча в Мидвич осуществил приблизительное тестирование зоны.
Командовавший здесь сержант швырнул кусок сахара через белую линию на земле и внимательно наблюдал, как псина, к ошейнику которой был пристегнут длинный поводок, кинулась за ним, схватила сахар и с хрустом сожрала.
Сержант с минуту глядел на пса, потом подошел к линии поближе. Здесь он в нерешительности задержался, а потом шагнул вперед и уже более уверенно сделал еще несколько шагов. Стайка грачей с громкими криками пролетела над его головой. Он проследил взглядом, как они исчезали в направлении Мидвича.
– Эй, связист! – крикнул сержант. – Доложи на командный пункт в Оппли. Пораженная зона сократилась, а может, и вовсе исчезла. Подтвердим, когда проведем дополнительную проверку.
За несколько минут до этого Гордон Зиллейби с трудом пошевелился и издал что-то похожее на стон. Он понимал, что лежит на полу, а комната, которая только что была ярко освещена и хорошо протоплена (может быть, даже излишне хорошо), погружена во тьму и холод. В темноте слышалось какое-то шевеление. Потом раздался дрожащий голос Феррилин:
– Что случилось?.. Папа?.. Анжела?.. Где вы все?
Зиллейби попытался привести в движение закоченевшую челюсть. Говорить было больно.
– Я здесь… прямо умираю от холода… Анжела, родная…
– И я здесь, Гордон, – раздался другой дрожащий голос где-то совсем рядом.
Он протянул руку и нащупал что-то, однако пальцы, онемевшие от холода, так и не смогли определить, что это такое. В другом конце комнаты кто-то шуршал.
– Господи, да я же совсем окоченела! О-о-ох! Боже! – жаловалась Феррилин. – О-о-ой! Даже ноги не мои! Эй! Это что еще за стук?!
– Это, кажется, мои з-з-зубы, – с усилием выговорил Зиллейби.
Еще шум, кто-то споткнулся. Потом звякнули портьерные кольца на окне, и комнату осветил серый рассвет.
Взор Зиллейби обратился к камину. В глазах его читалось изумление.
Всего минуту назад он сунул туда целое полено, а теперь там не было ничего, кроме стылого пепла. Анжела, сидевшая на ковре рядом с ним, и Феррилин у окна тоже уставились на камин.
– Какого… – начала было Феррилин.
– Может, шампанское виновато? – предположил Зиллейби.
– Ну, ты уж скажешь, папочка.
Хотя протестовал каждый сустав, Зиллейби попытался встать. Было больно, и на время он отказался от дальнейших попыток. Феррилин на негнущихся ногах наконец добралась до камина. Прикоснулась к нему ладонью и постояла, дрожа.
– Давно остыл, – сказала она.
Теперь Феррилин потащилась к стулу с лежащим на нем «Таймсом», но замерзшие пальцы никак не могли ухватить бумагу. Она с негодованием посмотрела на газету и все же умудрилась зажать ее между ладоней и сунуть в камин. Потом, действуя обеими руками, ей удалось подобрать из ведра несколько лучинок и бросить их поверх газеты. Попытка зажечь спичку довела ее почти до слез.
– Пальцы не слушаются, – хныкала Феррилин в полном расстройстве.
Пытаясь зажечь хоть одну спичку, она просыпала их на поддон. Наконец, когда она стала тереть об разбросанные спички весь коробок, какая-то спичка вспыхнула. От нее загорелась и другая. Феррилин подтолкнула их к торчащей из камина газете. Та тут же занялась, и пламя расцвело, как восхитительный цветок.
Анжела встала и, волоча ноги, добралась до камина. Зиллейби проделал тот же путь на четвереньках. Затрещали лучинки. Все склонились над огнем, ловя руками живительный жар. Окоченевшие пальцы стало слегка покалывать.
Зиллейби возрождался к жизни.
– Странно, – процедил он сквозь зубы, которые все еще срывались на стук. – Странно, что мне потребовалось дожить до такого возраста, чтобы понять причину незыблемости религии огнепоклонников.
На дорогах в Оппли и Стауч громко ревели моторы – их прогревали.
Двумя потоками в Мидвич вливались машины «Скорой», пожарные машины, джипы и военные грузовики. Гражданские транспортные средства останавливались, из них выскакивали пассажиры. Военные машины следовали к Хикхэм-лейн, направляясь к аббатству. Исключением из обеих категорий был маленький красный автомобильчик, который свернул и, подпрыгивая, помчался по подъездной дорожке Кайл-Мэнора, где и замер у крыльца, подняв в воздух фонтаны гравия.
Алан Хьюэс ворвался в кабинет Зиллейби, выхватил Феррилин из группы сгрудившихся у огня людей и прижал к себе.
– Дорогая! – воскликнул он, все еще задыхаясь. – Дорогая! Ты жива?
– Дорогой! – отозвалась Феррилин, как будто это был ответ на вопрос.
После нескольких минут тишины Гордон Зиллейби ответил:
– С нами тоже все в порядке, хотя, надо сказать, мы поражены. И еще окоченели. Вам не кажется…
Алан обернулся и впервые осознал, что тут вся семья.
– Что… – начал он и замолчал, так как в это мгновение зажглось электричество. – Чудесно! – обрадовался он. – Сейчас попьем чего-нибудь горяченького! – И исчез, увлекая за собой Феррилин.
– Попьем горяченького! – пробормотал Зиллейби. – Сколько музыки в одной этой простенькой фразе.
Итак, когда мы спустились к завтраку в восьми милях от Мидвича, нас ожидали новости, что полковник Уэсткотт отбыл два часа назад и что Мидвич проснулся, как то и положено делать утром.
Глава 6
Мидвич приходит в себя
На дороге из Стауча все еще стоял полицейский пост, но как жителей Мидвича нас пропустили без задержки, и мы, миновав местность, которая выглядела вполне обыденно, без всяких приключений добрались наконец до своего коттеджа.
Мы уже гадали насчет того, в каком виде застанем дом, но оказалось, причин для тревоги не было. Коттедж стоял целехонький и выглядел точно таким же, каким мы его оставили. Мы вошли и принялись хозяйничать, как делали бы это накануне, не находя никаких изъянов, ну, разве что молоко в холодильнике скисло, так как электричество отключалось. Уже через полчаса вчерашние тревоги стали казаться приснившейся нелепицей, а когда мы вышли пройтись и переговорили с соседями, то обнаружили, что у тех, кто провел эти ночи в Мидвиче, ощущение нереальности происшедшего было еще более глубоким.
И ничего удивительного – как нам указал мистер Зиллейби, представления мидвичцев о происшедшем сводились к тому, что они почему-то вечером не легли в постель, а утром проснулись от холода. Все остальное – досужие вымыслы. Трудно было поверить, что из-за провала в памяти они пропустили целый день, но ведь не мог же весь мир ошибаться! Однако, что касается самих мидвичцев, они в этом не видели ничего интересного, поскольку обязательная предпосылка интереса – наличие интересующегося сознания.
Поэтому Мидвич решил просто не учитывать случившегося и как бы забыл об отнятом у него дне, который стал теперь рассматриваться как день, пролетевший с непривычной быстротой.
Впоследствии такая позиция оказалась исключительно удобной, поскольку происшествие – даже если оно и не находилось под прицелом закона о секретности – на данном отрезке времени вряд ли могло стать газетной сенсацией. В общем, ароматец-то от него исходил сенсационный, но начинки явно недоставало. Конечно, имели место одиннадцать смертельных исходов, а из этого кое-что можно было бы состряпать, но даже в них не хватало пикантных деталей; что же касается рассказов потерпевших, то они отличались прискорбным однообразием, ибо рассказывать, по сути дела, было нечего, кроме как о пробуждении в полузамерзшем виде.
Поэтому мы получили возможность подсчитать свои потери, зализать раны и, вообще без всякого вмешательства со стороны, приспособиться к последствиям того, что позже получило название Потерянного дня.
Вот наша убыль: мистер Уильям Транк – батрак, его жена и ребенок, сгоревшие вместе со своим домом; пожилая чета Стигфилдов, также погибшая в результате пожара; еще один батрак – Герберт Флэгг – найден умершим от переохлаждения в странной и подозрительной близости от коттеджа миссис Гарриман, чей муж в это время работал в пекарне; Гарри Кранкхарт – один из двух мужчин, замеченных наблюдателем с колокольни в Оппли у входа в «Косу и камень», – также погиб от холода, остальные четверо – старики, у которых ни сульфамиды, ни пенициллин не смогли предотвратить развития пневмонии.
Мистер Либоди на следующее воскресенье в переполненной церкви отслужил молебен во здравие всех остальных, и это, плюс последние по счету похороны, утвердило за всем, что произошло, ауру чего-то в действительности не имевшего места.
Правда, неделю или около того в Мидвиче околачивались военные, часто приезжали и уезжали служебные машины, но военные интересовались не самой деревней, а потому особого беспокойства не причиняли. Их внимание было сфокусировано на местности вблизи аббатства, где поставили пост, охранявший глубокую выемку в земле, выглядевшую так, будто недавно тут покоилось нечто очень тяжелое. Инженеры производили замеры, делали кроки, фотографировали. Техники разных специальностей ползали по выемке взад и вперед, таская миноискатели, счетчики Гейгера и другую сложную аппаратуру.
Затем, совершенно неожиданно, военные потеряли к этой яме интерес и уехали.
Расследования в Грейндже продолжались немного дольше, и среди тех, кто их вел, был и Бернард Уэсткотт. Он несколько раз заглядывал к нам, но о том, что происходит, молчал, а мы никаких вопросов не задавали. Мы знали не больше других мидвичцев. Безопасность наложила лапу на всю информацию.
Вплоть до того дня, когда работы были свернуты, а Бернард объявил о своем намерении утром отбыть в Лондон, он так и не обмолвился о Потерянном дне и его последствиях. Но вечером, после минутной паузы в разговоре, он вдруг произнес:
– У меня есть предложение для вас обоих. Если, конечно, вы согласитесь меня выслушать до конца.
– Послушаем – поглядим, – ответил я.
– В общем, речь идет вот о чем: мы считаем нужным какое-то время присматривать за деревушкой, чтобы знать, что тут происходит. Мы могли бы внедрить сюда своего человека, который информировал бы нас, но против этого есть возражения. Во-первых, ему бы пришлось начинать с нуля, во‐вторых, для того, чтобы чужаку войти в курс жизни деревни, требуется время; в‐третьих, сомнительно, чтобы на данном этапе нам удалось доказать начальству необходимость посылки сюда опытного работника на полную ставку, а если он тут будет находиться не все время, то опять же сомнительно, сможет ли он собрать нужные данные. Если же, с другой стороны, нам удалось бы найти кого-то надежного и уже знакомого с местной жизнью и людьми, чтобы он сообщал нам о всех событиях, это было бы лучше во всех отношениях.
Я с минуту думал.
– Во всяком случае, на слух – звучит не очень, – ответил я. – Хотя многое зависит от важности прогнозируемых событий. – Я взглянул на Джанет, и она отозвалась с холодком в голосе:
– Звучит это так, будто нам предлагают шпионить за своими друзьями и соседями. Думаю, профессиональный шпионаж вам подойдет больше.
– Здесь, – поддержал я ее, – наш дом.
Бернард кивнул, будто ничего другого и не ждал.
– Вы считаете себя частью этой общины? – спросил он.
– Мы стараемся быть ею, и, кажется, нам это удается.
– Это хорошо, – он снова кивнул, – то есть хорошо в том случае, если вы чувствуете, что у вас есть перед общиной определенные обязательства. Последнее абсолютно необходимо. С такой работой может справиться лишь тот, кто хочет деревне добра и готов активно добиваться этой цели.
– Не вижу связи. Деревня прожила вполне благополучно много столетий без подобного надзора. Я хочу сказать, что ей вполне хватало стараний самих жителей.
– Да, – признал Бернард, – это было верно, но лишь до нынешнего дня. Теперь Мидвич нуждается в защите со стороны, и он ее получит. И мне кажется, шансы сделать эту защиту оптимальной полностью зависят от того, получим ли мы необходимую информацию.
– Какая еще защита? И от кого?
– Пока главным образом от любопытствующих, – ответил Бернард. – Ты же, надо думать, не считаешь случайностью, что мидвичский Потерянный день не был размазан на газетных страницах в тот же самый час, когда он потерялся? Или что набег журналистов всех мастей, которые бы принялись совать носы во все дыры Мидвича сразу после снятия «стены», не состоялся сам по себе?
– Нет, конечно, – отозвался я. – Разумеется, я понимаю, что тут действовала Служба безопасности. Да ты и сам мне об этом говорил, так что я нисколько не удивился. Я ведь не знаю, чем занимаются в Грейндже, но полагаю, что это секрет.
– Но ведь не один Грейндж уснул, – уточнил Бернард, – заснуло все, что было в радиусе мили вокруг.
– Но включая Грейндж! Лаборатория-то, вероятно, была главной целью! Должно быть, штуковина, которая устроила все это, не могла действовать на меньшую дистанцию, или эти люди – кто бы они там ни были – считали необходимым подстраховаться и заблокировать площадь побольше.
– Так считают в деревне? – спросил Бернард.
– Большинство – да, но есть варианты.
– Вот такие вещи меня интересуют. Они все относят на счет Грейнджа, не так ли?
– Конечно. А какая же еще может быть причина? Не Мидвич же?
– Ну, а если я скажу вам, что у меня есть основания считать, что Грейндж не имеет к делу ни малейшего отношения? И что наши очень тщательные расследования полностью это подтверждают?
– Тогда вся эта история оказывается полнейшей чепухой! – запротестовал я.
– Конечно, нет, если не считать несчастный случай видом чепухи.
– Несчастный случай? Ты говоришь о вынужденной посадке?
– Этого я не знаю. – Бернард пожал плечами. – Возможно, что случайность заключается в том, что Грейндж оказался там, где произошла посадка. Но я говорю о другом: почти все жители деревни подверглись странному и неизвестному воздействию. А теперь и вы, и все прочие считаете, что все кончилось и кануло в вечность без следа. Почему?
Мы с Джанет с удивлением уставились на Бернарда.
– Ну, – сказала она, – эта штука ведь возникла и исчезла, так почему бы и нет?
– Что ж, по-вашему, она просто прилетела, отдохнула и улетела, не оставив никаких последствий?
– Не знаю. Никакого видимого воздействия, кроме, разумеется, смертельных исходов, а сами погибшие, к счастью, тоже ничего не ощутили, – ответила Джанет.
– Никакого видимого воздействия, – повторил он. – В нашем обиходе это слово подразумевает многое. Вы можете, например, получить большую дозу рентгеновского облучения, или жесткого гамма-облучения, или еще какого-нибудь без всякого видимого внешнего эффекта. Не стоит особенно волноваться, но, похоже, это именно такой случай. Если бы упомянутые виды излучений были применены, мы бы это обязательно обнаружили. Но нет. Однако есть нечто неизвестное нам, способное вызвать то, что я для простоты назову искусственным сном. Пока он кажется странным феноменом, необъяснимым и не вызывающим особого беспокойства. Неужели вы полагаете, что поверхностное мнение, будто столь важное событие произошло себе и не стоит ломать над ним голову, оправданно? Не правильнее ли понаблюдать за тем, что происходит, дабы убедиться, так это на самом деле или нет?
Джанет чуть смягчилась:
– Вы хотите, чтобы мы или кто-то другой именно этим и занялись для вас? Чтоб искали и отмечали какие-то последствия облучения?
– Мне нужны надежные источники информации о Мидвиче в целом. Я хочу знать во всех деталях о том, как тут идут дела, для того, чтобы, если возникнет необходимость предпринять какие-то шаги, я знал все обстоятельства и мог бы в нужный момент действовать со знанием дела.
– Это звучит так, будто речь идет о помощи в случае несчастья, – сказала Джанет.
– В некотором роде это так и есть. Мне нужны регулярные отчеты о состоянии здоровья Мидвича, его разума и морали, чтобы я мог по-отцовски приглядывать за ним. Здесь нет ничего похожего на шпионаж. Мне нужны сведения, чтобы действовать в интересах Мидвича, когда это окажется необходимым.
С минуту Джанет смотрела ему прямо в глаза.
– Но все-таки вы чего-то боитесь, Бернард?
– Разве я стал бы делать вам такое предложение, если бы знал чего? – возразил он. – Я просто предпринимаю меры предосторожности. Мы не знаем, что это за штука и как она тикает. Мы не можем установить здесь карантин, не имея доказательств его необходимости. Но мы должны искать такие доказательства. Вы должны, во всяком случае. Итак, что скажете?
– Не знаю, – признался я. – Дай нам подумать денек-другой, и я тебе сообщу.
– Ладно, – согласился он. И мы заговорили о другом.
В течение нескольких последующих дней мы с Джанет не раз возвращались к этой проблеме. В позиции Джанет произошли заметные изменения.
– Что-то он недоговаривает, я просто уверена в этом, – говорила она.
– Но что именно?
Я не знал.
– Но ведь это совсем не то, что следить за каким-то определенным лицом?
Я соглашался.
– Ведь, по существу, это та же работа, которую делают чиновники социальной службы министерства здравоохранения, не так ли?
Довольно близко, думал я.
– Если мы не согласимся, он начнет искать кого-то другого. В нашей деревне я лично не знаю никого подходящего. А если он внедрит сюда чужака, это будет и плохо, и неэффективно, не правда ли?
Я тоже считал, что так оно и будет.
Поэтому, памятуя о стратегическом положении мисс Огл в почтовом отделении, я вместо телефонного звонка написал Бернарду, сообщив, что мы считаем дорогу к сотрудничеству открытой, если нас удовлетворят результаты обсуждения некоторых деталей. В ответе Бернарда предлагалось встретиться во время нашего очередного визита в Лондон. Письмо никак не свидетельствовало о спешке, оно просто выражало желание, чтобы мы держали ухо востро.
Так мы и сделали. Но материала для ушей и глаз было маловато. Через полмесяца после Потерянного дня на глади мидвичского покоя остались лишь крошечные морщинки.
Ничтожное меньшинство, считавшее, что Безопасность украла у них общенациональную славу и фотографии в газетах, успокоилось. Остальные же только радовались, что вмешательство в их образ жизни извне оказалось не слишком заметным. Чаще всего общественное мнение связывало вторжение с наличием Грейнджа и его обитателей. Они полагали, что Потерянный день так или иначе увязан с лабораторией, что, если бы не ее таинственная деятельность, с Мидвичем такого вообще не произошло бы. Другие же расценивали влияние Грейнджа как нечто благословенное.
Мистер Артур Гримм, кавалер О.Б.И., директор лаборатории, арендовал один из коттеджей, принадлежавших Зиллейби, и последний, встретив как-то директора, выразил мнение большинства, что деревня очень многим обязана ученым.
– Если бы не ваше присутствие и вытекающее из этого отношение Безопасности, – сказал Зиллейби, – мы, безусловно, претерпели бы большие неудобства от прессы, чем от самого Потерянного дня. В нашу личную жизнь вмешались бы, а наша деликатность подверглась бы давлению со стороны трех современных фурий – жуткого союза печатного слова, слова, записанного на пленку, и киношников. Итак, несмотря на испытанные вами неудобства, которые я полагаю весьма значительными, вы можете принять нашу благодарность за то, что стиль жизни Мидвича не только уцелел, но и почти не пострадал.
Мисс Полли Растон – почти единственная «чужестранка», ставшая участницей этих событий, завершив свой отдых у дяди с теткой, вернулась домой в Лондон. Алан Хьюэс, к своему неудовольствию, узнал, что он не только получил неожиданный перевод в Северную Шотландию, но и будет уволен со службы несколькими неделями позже, чем рассчитывал. Поэтому большую часть времени он был занят перепиской со своей полковой канцелярией, а остальные дни, по-видимому, посвящал обмену письмами с мисс Зиллейби.
Миссис Гарриман – супруга пекаря – изобрела целую серию неубедительных версий касательно факта пребывания тела Герберта Флэгга в ее палисаднике, после чего перешла в атаку и взвалила на мужа тяжкий груз как имевших место, так и воображаемых грехов. Почти все шло как обычно.
Таким образом, спустя три недели происшедшее стало достоянием истории. Даже новые могильные памятники на кладбище над телами усопших в результате известного события казались возникшими там в силу естественного хода вещей. Новоявленная вдова миссис Кранкхарт чувствовала себя превосходно и не давала повода считать, что новое положение тяготит или угнетает ее.
Сейчас я столкнулся с определенным техническим затруднением, поскольку, как я уже говорил, это рассказ не обо мне, а об истории Мидвича. Если бы я излагал информацию в том порядке, как она до меня доходила, мне пришлось бы скакать взад и вперед по ходу событий, в результате чего получилась бы недоступная для понимания каша из отдельных отрывочных эпизодов, где следствия предшествуют причинам. Поэтому мне придется переаранжировать свой рассказ, невзирая на время получения тех или иных сведений, и изложить все в хронологическом порядке. Если такой подход натолкнет кого-то на мысль о сверхъестественной проницательности рассказчика, читатель должен помнить, что все изложенное есть продукт умозаключений, сделанных задним числом.
Так, например, вовсе не сразу, а путем позднейшего анализа событий было установлено, что вскоре после возвращения деревушки к якобы нормальной жизни на фоне общего спокойствия возникли некие водовороты локального направления. Какие-то очаги тревоги, пока еще изолированные и никем не признанные. Это произошло где-то в ноябре, может быть, в начале декабря, хотя возможно, что в некоторых семьях и раньше. Появление этих очагов приблизительно совпадает со временем, когда мисс Феррилин Зиллейби в своей почти ежедневной переписке с Аланом Хьюэсом отметила, что ее казавшиеся необоснованными подозрения внезапно подтвердились.
В письме, не отличавшемся логичностью, она объясняла или, вернее сказать, намекала, что никак не поймет, как это может быть, и, согласно тому, что ей известно, этого просто не могло произойти, потому что как ни странно, но, по всей видимости, она каким-то таинственным способом забеременела, хотя слово «по-видимому» тут неуместно, так как сомнений никаких нет. Поэтому не может ли Алан получить отпуск на уик-энд, так как ей кажется, такое развитие событий требует быть оговоренным.
Глава 7
Начало событий
Фактически, как показало дальнейшее расследование, Алан был не первым, кто выслушал исповедь Феррилин. Ее беспокойство и удивление уже имели некоторую давность, и за два-три дня до того, как написать письмо, она решила, что настало время обсудить это дело в семье: во‐первых, Феррилин нуждалась в совете и объяснении, которого она не смогла найти ни в одной из прочитанных ею книг, а во‐вторых, это показалось ей более достойным, чем молчать до тех пор, пока кто-нибудь не заподозрит правду.
Анжела, решила она, лучше всех подойдет для того, чтобы поделиться…
Мамочка, конечно, тоже, но с ней можно и попозже, когда все утрясется, – события выглядели как раз такими, вокруг которых мамочка могла развить бешеную деятельность.
Решение было, однако, легче принять, чем выполнить. Утром в среду план Феррилин окончательно оформился: днем, выбрав спокойный часок, она тихонько отведет Анжелу в сторону и объяснит ей ситуацию…
К сожалению, в среду, по-видимому, члены семьи были так заняты, что спокойного часа не нашлось. Утро четверга по каким-то причинам тоже оказалось неудобным, а днем у Анжелы было собрание в Женском обществе, из-за которого она вечером выглядела усталой. В пятницу днем выпал было подходящий момент, но и он оказался не очень удобным для разговора, так как папочка водил по саду гостя, приехавшего к завтраку, и нужно было подготовиться к приему. Вот так, одно за другим, – и утром в субботу Феррилин встала с постели, так и не поделившись ни с кем своим секретом.
«Обязательно надо поговорить с Анжелой сегодня, даже если время покажется и не совсем подходящим. А то так может продолжаться неделями», – сказала она твердо, завершая свой утренний туалет.
Гордон Зиллейби уже заканчивал завтрак, когда она вошла в столовую.
Он рассеянно принял ее утренний поцелуй и тут же удалился по своему обычному маршруту – быстрый обход сада, потом – кабинет, где шла работа над очередным «Трудом».
Феррилин съела корнфлекс, выпила кофе и принялась за яичницу с беконом. С трудом проглотив несколько маленьких кусочков, она отодвинула тарелку так резко, что вывела Анжелу из состояния глубокой задумчивости.
– В чем дело? – спросила Анжела со своего конца стола. – Яйца несвежие?
– О, с яйцами полный порядок, – ответила Феррилин. – Но сегодня они у меня как-то не идут.
Анжелу эти соображения, по-видимому, не заинтересовали, хотя Феррилин надеялась, что она спросит, почему. Внутренний голос подсказывал Феррилин: «А почему бы не сейчас? В конце концов, не все ли равно когда, не правда ли?» Она набрала в легкие побольше воздуха. Стараясь смягчить новость, произнесла:
– Знаешь, Анжела, меня сегодня утром стошнило.
– Вот как? – отозвалась мачеха и замолкла, потянувшись к масленке.
Продолжая готовить бутерброд с мармеладом, она добавила:
– Меня тоже. Ужасно, правда?
Теперь, раз дорога была проложена, Феррилин решила идти по ней до конца. Она продолжала, сжигая за собой мосты:
– Мне кажется, это не простая тошнота. У меня такая тошнота, которая бывает у женщин, когда они беременны, понимаешь ли, – добавила она.
Анжела бросила на нее долгий взгляд, осмотрела ее с задумчивым интересом и медленно кивнула.
– Понимаю, – сказала она, очень тщательно намазывая масло на хлеб и накладывая сверху мармелад. Затем снова глянула на Феррилин.
– У меня то же самое, – сказала она.
У Феррилин приоткрылся рот, а глаза полезли на лоб. К собственному удивлению и стыду, она почувствовала себя шокированной. Но… собственно, почему бы и нет… Анжела только на шестнадцать лет старше ее самой… так что все естественно… только… ну, как-то очень уж внезапно… в конце концов, папочка по первому браку уже трижды дед… и казалось бы… Анжела такая милочка и так нравится Феррилин… она ей ведь как старшая сестра, что ли… надо как-то привыкать к ситуации…
Феррилин все еще глядела на Анжелу, будучи не в состоянии придумать, о чем надо говорить дальше, так как события развивались в совершенно неожиданном направлении.
Анжела же Феррилин не видела. Она смотрела поверх ее головы куда-то за окно, разглядывая нечто гораздо более далекое, чем голые качающиеся ветви каштана. Ее темные глаза блестели, можно сказать, сияли. Сияние все усиливалось и вдруг превратилось в две капли, засверкавшие на ресницах.
Капли набухли, перелились через край и побежали по щекам.
Феррилин оцепенела. Еще ни разу ей не приходилось видеть Анжелу плачущей. Не тот тип Анжела, чтобы…
Анжела наклонилась и спрятала лицо в ладонях. Феррилин вскочила, будто с нее сняли заклятье. Она подбежала к Анжеле, обняла ее и почувствовала, что та вся дрожит. Она прижала Анжелу к груди, гладила ее волосы и говорила тихие успокаивающие слова.
Во время последовавшей паузы Феррилин никак не могла освободиться от ощущения, что произошло нечто вроде сбоя в распределении ролей. Не то чтобы они полностью поменялись ролями, ибо у нее не было ни малейшего намерения рыдать на груди Анжелы, но все происходило как будто во сне.
Вскоре, однако, Анжела перестала вздрагивать. Дыхание стало спокойным, и наконец она принялась за поиски носового платка.
– Фу, – сказала она. – Извини, я такая дура, но, понимаешь, я очень счастлива!
– О! – отозвалась Феррилин в полной растерянности.
Анжела высморкалась и вытерла глаза.
– Пойми, – сказала она, – я даже не смела в это поверить. А вот сказала другому человеку – и все приобрело черты реальности. Мне ведь всегда хотелось иметь ребенка, но ничего не получалось ни сначала, ни потом, и я стала думать… ну, в общем, решила, что надо об этом забыть навсегда и постараться примириться с мыслью… А теперь, когда это случилось, я… – и она снова заплакала – тихо и умиротворенно.
Через несколько минут она собралась с силами, в последний раз прижала к глазам скомканный платок и решительно убрала его.
– Ну, – сказала она, – с этим покончено. Вот уж не думала, что мне понадобится хорошенько выплакаться, а ведь помогло, и еще как! – Она взглянула на Феррилин. – Какая же я все-таки эгоистка, ты уж извини меня, дорогая.
– Ох, это не важно. Я так рада за тебя, – сказала Феррилин, как ей казалось, от полноты души, ибо, в конце концов, кто-то должен сохранять спокойствие. После небольшой паузы она продолжала: – Что касается меня, то плакать меня не тянет, но я немного испугана…
Это слово пробудило внимание Анжелы и отвлекло ее от мыслей о себе.
От Феррилин она никак не ожидала подобной реакции. Она внимательно посмотрела на падчерицу так, будто вся сложность положения только теперь дошла до нее.
– Испугана, дорогая? – повторила она. – Ну, я думаю, что для этого никаких оснований нет. Разумеется, то, что произошло, не совсем соответствует прежним нравам, но… не станем же мы разыгрывать из себя пуритан. Первым делом надо убедиться, что ты не ошиблась.
– Я не ошиблась, – мрачно ответила Феррилин. – Но ничего не понимаю. С тобой все иначе – ты замужем, и все такое…
Анжела пропустила это мимо ушей. Она продолжала:
– А затем надо известить Алана…
– Да, я тоже так думаю, – ответила Феррилин без большого энтузиазма.
– Разумеется. И не нужно ничего бояться. Алан тебя не бросит. Он же обожает тебя!
– Ты в этом уверена, Анжела? – В голосе Феррилин звучало сомнение.
– Ну, конечно же, дорогая. Стоит только взглянуть на него. Конечно, все это несколько нетрадиционно, но я не удивлюсь, если он придет в восторг. Да. Так и будет, безусловно… Ох! Феррилин, что с тобой?! – Она замолкла, увидев выражение лица Феррилин.
