Боярин: Смоленская рать. Посланец. Западный улус бесплатное чтение
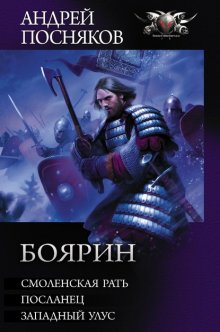
Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону
© Андрей Посняков, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Смоленская рать
Глава 1
Площадь Ада
Открыв глаза, Павел внимательно осмотрел комнату – небольшую, вытянутую к распахнутому в цветущий сад окну, но уютную, светлую, с выкрашенным красновато-коричневой краской комодом с овальными железными ручками, узкой оттоманкой-софою и письменным столом, на котором беспорядочной кучей были разбросаны ученические тетрадки и учебники – математика, русский язык, литература… физика за восьмой класс.
Так… а год издания?
Павел протянул руку и вздрогнул – из висевшего на стене радио – обычного, проводного, в старомодно-овальном, чем-то похожем на тот же комод, корпусе – послышалась громкая музыка, и бодрый голос диктора призвал трудящихся к физической зарядке.
– Поставьте ноги на ширину плеч… Начинаем! И… раз-два… три-четыре… раз-два…
Взяв, наконец, учебник, Павел посмотрел год издания – 1956-й.
Пятьдесят шестой! Ага… вот, значит, как… Интересно… Интересно, есть ли в этой комнате зеркало, должно было бы быть… ага, вон оно, на комоде.
Посмотрев в небольшое зеркальце, Павел невольно усмехнулся, хотя и был готов сейчас ко всему… как и любой ученый, тем более – экспериментатор… и эксперимент-то оказался удачным, более чем удачным.
В зеркале отражался тощий лохматый молодой человек в светло-голубой майке «Динамо» и длинных черных трусах. Похоже, он только что проснулся или только что умылся – с шеи и по плечам стекали, оставляя мокрые борозды, крупные холодные капли. На вид парню было лет пятнадцать-шестнадцать, что-то вроде этого… и всем своим внешним обликом он сильно походил на Павла, на того Павла, каким тот был в том же возрасте, буквально одно и то же лицо, и даже на шее, слева – белесый, еле заметный шрам. Ну, надо же! Как такое вообще быть может? Впрочем, удивляться сейчас можно было всему… точнее даже не удивляться, а радоваться.
В коридоре, за неприкрытой филенчатой дверью, послышались чьи-то торопливые шаги… донесся женский голос:
– Хлеба не забудь купить, Вадик. Я на тумбочке деньги оставила. Да, и в мясной отдел загляни… хоть там и очередь. Ну, я ушла.
Скрипнув, хлопнула дверь, и Павел с облегчением выдохнул, как будто бы эта неизвестная женщина – скорее всего, мама Вадика, – заглянув в комнату, могла увидеть в своем сыне нечто иное… совсем другого человека – Павла. Ну, нет, так не могло быть! Другое дело, что Вадик мог показаться ей немного странным, Павел же не знал, как сей юноша привык общаться, не знал ни его любимых словечек, ни увлечений, ни друзей…
– Да-а, – усевшись на подоконник, молодой человек покачал головой. – Значит, полное замещение… Прекрасный резонанс!
– Вадик! Эй, Вадим, ты там что, спишь, что ли?
У калитки остановилась на велосипеде юная девушка в синем крепдешиновом платье в горошек, со смешными, модными в пятидесятые годы, рюшами. Темноволосая, смуглая… нет, просто загорелая. И где успела уже? Хотя… на дворе-то, похоже, май… или начало июня – сирень в саду цветет, яблони.
Ишь, улыбается, уперлась ногами в землю, вся такая красивая, аккуратненькая. И дамский велосипед – синий, с багажником – аж блестит на солнце.
– Вадим, ты ватман приготовил?
– А? – Павел соизволил ответить, чувствуя себя совершенно по-дурацки… а как еще он мог себя чувствовать?
– Так я зайду? Ну, давай, просыпайся же ты наконец, времени-то уже полдесятого!
– Да-да… заходи, конечно.
Молодой человек спрыгнул с подоконника – где ж тут у этого Вадика брюки? На стуле? Нет, там только пиджак с большим комсомольским значком на лацкане. А, ладно, некогда искать – судя по шуму в коридоре, девушка уже вошла, встречать надо.
Павел поспешно распахнул дверь и улыбнулся:
– Ну, это… привет. Хорошо, что зашла.
– Как и договаривались! – войдя в комнату, гостья по-хозяйски уперла руки в бока и внезапно похолодевшим тоном поинтересовалась: – Ну, и где же ватман? Ты что, его вчера не забрал?
Да, и где же этот чертов ватман? Павел и сам хотел бы знать.
– Нет, точно – забыл! – девчонка обиженно всплеснула руками. – Я, между прочим, так и знала! Еще вчера, после бюро, когда ты с Ленкой Берцевой любезничал.
– С кем любезничал?
– Любезничал, любезничал! С Ленкой. Ворковали, как два голубка – смотреть противно. Еще комсомольцы называются!
Молодой человек потупился, не зная, что сказать в ответ – гостья-то оказалась обидчивой. Интересно, что у них с Вадиком? Просто дружба или нечто большее? Скорее всего – просто дружба, легкий такой флирт – записочки, провожания – на дворе-то, судя по учебничкам, где-то конец пятидесятых, не самое приличное время для «нечто большего». А, впрочем, ладно. Не хотелось бы обижать девчонку…
– Ничего у нас с этой Ленкой не было! Просто болтали и все.
– Ага, говори, говори…
Взмахнув ресницами, гостья гордо повела плечом… однако видно было, что слова Вадика (вернее – Павла) ей пришлись по душе. Девушка даже соизволила улыбнуться… а потом вдруг повернулась к радио:
– Ой, вальс какой замечательный… пам-падам… пам-падам… Я погромче сделаю, да?
– Конечно!
Облегченно кивнув, молодой человек уселся на оттоманку.
– Пам-падам… пам-падам…
Немного покружившись под льющуюся из ретранслятора музыку, девушка, неожиданно застыв перед Вадимом, схватила парня за руки:
– А давай потанцуем! Ну, пожалуйста, а? Музыка такая замечательная, правда?
– Правда…
Поднявшись, Павел сглотнул слюну, обхватив девчонку за талию и чувствуя на своих плечах нежные девичьи руки.
Ах, какие глаза! Серые, сверкающие, словно жемчуг! Темные пушистые ресницы, волосы по плечам, чуть вздернутый носик… Господи! Как она похожа на Полину! Нет… в самом деле, очень похожа! Как будто и не было никакой аварии, как будто Полина… нет, не просто воскресла, а помолодела на десять лет… да и сам Павел прилично годков скинул!
– Пам-падам… пам…
Какие глаза… Ведь они, они – глаза любимой, Полины!
Когда музыка кончилась, они так и остались стоять, обнимая друг друга…
– Полина! – едва слышно прошептал Павел… и тут накрыл губы девушки поцелуем… – Полина! Любимая!
– Отпусти! Пусти сейчас же! – гостья отстранилась далеко не сразу… и вдруг улыбнулась и приникла к губам…
И снова отпрянула:
– Ты где это научился так целоваться?
– Да так…
– Я помню тогда, в апреле, после весеннего бала… Но ты тогда не так…
– Тебе не нравится?
– Нравится… Очень… Ой, Вадька! Что ж мы с тобой делаем-то?
– Ничего такого. Просто целуемся.
И снова поцелуй – затяжной, глубокий – и трепет юной красавицы, и горячая кожа под тонким крепдешиновым платьем… И глаза – серо-палевым жемчугом…
Полина! Полина!
Обнять! Крепче прижать к себе… Расстегнуть платье… Ага! Попробуй-ка расстегни – никакой молнии и в помине нет – пуговицы! Смешные тугие пуговицы…
– Подожди… – томно дыша, девушка повернулась спиной. – Расстегивай… ну, давай же, не жди! Но помни – мы просто целуемся!
– Конечно…
Пробежались пальцы… Поцелуй в нежное плечико, теперь – меж лопатками, теперь…
– Это что ж вы такое тут творите-то, а?
Мамаша пришла! Точно! Эх, дверь-то позабыли закрыть, дверь…
Дверь скрипнула под дуновением ветра… Нет, не дверь – это окно. Хотя – какое, к черту, окно? Окно Павел еще месяц назад поставил пластиковое – вот как раз сюда, в мансарду, старое-то уж совсем скособочилось.
Так что же тогда скрипит? Или это внизу, на крыльце? Пришел кто-нибудь? Ладно, подождут.
Сняв с головы металлическую сетку – антенну, Павел отсоединил от компьютера электроды и взглянул на экран.
Пятнадцать минут сорок семь секунд чистого времени! Вот это удача! Так долго еще никогда не удавалось, не получалось настроить резонансные колебания, впрочем, настроить-то можно было, а вот удержать… И все-таки – пятнадцать минут! Почти шестнадцать. А ведь еще на той неделе и одна минута за великое счастье. А теперь – пятнадцать! Шестнадцать почти. Если дела так и дальше пойдут…
– Хозяин! Эй, хозяин!
Ну, точно, кричали внизу, с крыльца. Принесла кого-то нелегкая. Может, электрики? Но те вроде должны были бы на той неделе заглянуть.
Подойдя к окну, Павел распахнул створку и свесился вниз, увидев на крыльце двух незнакомых парней лет по двадцати или около того. Оба в резиновых сапогах, в грязных джинсах, один – толстоморденький – в красной баскетке.
– Нам бы проводку проверить.
Ага – электрики все же.
– Сейчас спущусь. А я вас через неделю ждал.
– Так у нас это… в планах окно появилось, вот думаем – осмотрим пораньше. А то потом осень, дожди, грязь. А кому охота по грязи шляться?
– Это верно, никому… – спустившись по узкой лестнице, Павел гостеприимно распахнул дверь. – Проходите.
Несмотря на молодость и общий дебиловатый вид а ля «реальные пацаны», электрики оказались весьма вежливыми, даже на пороге разулись.
– Мы у вас немножечко тут посмотрим…
– Смотрите, смотрите.
Парни управились быстро, да и что тут было смотреть – старая дача в две комнаты с печкой и мезонином, ну, телевизор с ресивером, ноутбук на столе.
– В мансарде есть что?
– Нет, нет, – Павел улыбнулся как можно беспечнее. – Там даже розетки нет.
– Ну и ладно, – покладисто кивнул тот, что в красной баскетке, похоже, он был в этой паре за главного – напарник-то за все время визита ни словечка не проронил.
– Хозяин, вы завтра целый день дома будете?
– А что? Что-то не в порядке?
Поправив баскетку, мордастенький улыбнулся:
– Да с нашей стороны никаких претензий нет, просто пожарник просил узнать – Леха. Он-то тоже обход задумал. Чтоб до осени, не по грязи. Так завтра-послезавтра как? Не уедете?
Павел рассмеялся, потеребив небольшую бородку, придававшую ему вид типичного «антилигента». Ой, как не любила эту бородку Полина, все время заставляла сбривать. Эх, Полина, Полина… и черти тебе тогда понесли… в гололед. Ну да, осторожно всегда девочка ездила, да и резина новая, зимняя… это у нее. А вот у того грузовика… Не ты – так тебя!
– Лехе-пожарнику передайте – завтра пусть не приходит, – подумав, промолвил молодой человек… молодой – если так назвать тридцативосьмилетнего кандидата наук, да не каких-нибудь – а физико-математических, да еще и технических в придачу! Наверное – все-таки можно, Павел Петрович Ремезов всегда выглядел подтянуто и моложаво, особенно когда Полина еще была жива… а тому уж полтора года… Да и что там говорить – тридцать восемь лет – для кандидата наук – не возраст! Именно что – молодой. Бородка и очки – для чтения, вдаль-то Павел и без них неплохо видел – его, конечно, старили… так, слегка.
– Кстати, господа электрики, – вспомнив, Ремезов стукнул себя ладонью по лбу. – А скачка напряжения случайно сегодня не было? Ну, вот только что, буквально минут двадцать назад.
– Скачка? Не, не было… вроде…
Быстро попрощавшись, парни-электрики ушли, мордастенький аккуратно закрыл за собою калитку. Павел прошелся по саду, не большому и не очень ухоженному – именно такой и должен был олицетворять матушку-природу. Недавно прошел дождь, и пахло мокрицей, а, может, и какой другой травою, Ремезов не очень-то вникал в огородно-сельскохозяйственные дела; дача эта – километрах в ста от Смоленска – досталось ему, в общем-то, случайно, от двоюродной тетки, о существовании которой племянник, к стыду своему, и думать давно забыл, а тетушка, видать, помнила, завещала домик, так кстати теперь пригодившийся. Вообще-то, институт находился в Москве, обычный «почтовый ящик», из тех, что не полностью исчезли в девяностые, и ныне приносящий неплохую прибыль. Здесь же, на даче, Павел, подсуетившись, устроил неплохую лабораторию по изучению психо-физических резонансных воздействий. Установил необходимые приборы, компьютеры, все, что нужно – и, кстати, именно тут ему и повезло! Шестнадцать минут – еще бы!
Испускаемые мозгом колебания, которыми занимался Ремезов, изучались на стыке наук – физики общего энергетического поля, физиологии, медицины, исторической психологии, – обычному ученому трудно было бы сделать в этой области хоть какие-то открытия. Правда, вот Ремезов все же был не обычный, а из тех, что не так давно именовались энциклопедистами. Физики, психология, медицина – казалось бы, что между ними общего? А вот есть, оказывается – явление психо-исторического резонанса, изучаемого Павлом не само по себе, а комплексно, в свете общей теории поля, разрабатываемого когда-то еще Эйнштейном. Кстати, сам великий физик еще в двадцатые свернул все работы по этой теме, как говорят – ужаснувшись возможных последствий. Ремезова же последствия вовсе не ужаснули, наоборот – обрадовали… и потрясли до такой степени, что, полностью отдаваясь работе, он на какое-то время забывал Полину.
Полина…
Войдя в дом, молодой человек уселся на диван, перед стоявшим на круглом – тетушкином еще – столе портретом. Черно-белым, в строгой деревянной рамке – Павел с детства еще увлекался фотографией – ФЭДами, «Сменами», «Вилиями», да и сейчас «цифру» лишь на работе признавал, считая, что для души лучше обычная черно-белая пленка, а к ней – красный фонарь, фотоувеличитель, ванночки. Ничто так нервы не успокаивает, как обычная фотопечать, когда в красном приглушенном свете на листе фотобумаги под тонким слоем разведенных в воде реактивов вдруг начинают появляться какие-то контуры, фигуры, быстро приобретающие знакомый облик. По сути – волшебство какое-то, даже для кандидата наук! Волшебство, знакомое с детства.
Черно-белая Полина, улыбаясь, смотрела с фото… еще бы не улыбаться – снимал-то Павел старинным, отцовским еще, ФЭДом! Один из последних снимков. Как хорошо, выразительно вышли глаза – большие, блестящие, и немного грустные, несмотря на растянутые в лукавой улыбке губы. Черные, цвета воронова крыла, волосы, светло-серые жемчужные глаза, чуть припухлые губы, ресницы, длинные и густые, как берендеевский лес… все-таки Полина была редкой красавицей, и выглядела на удивление юно – никто ей не давал тридцати лет, девчонка и девчонка. Правда, профессия – старший следователь районной прокуратуры… Сей факт Павла, говоря молодежным сленгом – «прикалывал».
И все же, все же! Как похожа на Полину та девчонка из недавнего «резонанса»! Как похожа… И парень, Вадик – судя по отражению в зеркале, почти вылитый Павел в ранней юности. Быть может, тут должно присутствовать не только внутреннее, психо-физическое совпадение, но и внешнее? А что? Ведь почти целых шестнадцать минут в чужом теле да еще в пятьдесят каком-то году – успех несомненный!
Молодой человек улыбнулся, поправив стоявшие в вазе цветы. Увяли уже… Съездить завтра в Смоленск, купить розы? Павел глянул в окно, на припаркованную рядом с яблонями светло-зеленую «Шевроле-Лачетти», и покачал головой. Нет, не завтра. На завтра наметил он одно важное для своего эксперимента дело. А что, если резко повысить силу тока и, может быть, напряжение? Ведь эти шестнадцать минут… скорее всего, в местной сети был-таки скачок, врали электрики, точнее, не врали, а не признавались, кто ж признается – вдруг у кого какая техника «полетела», холодильник там, ноутбук. Не у всех же фильтры стоят.
Повысить! Да-да, именно так – повысить. Откуда только его взять, напряжение… а заодно и силу тока.
Откуда, откуда! Все оттуда же – из трансформаторной будки, до которой, если считать от мансарды – ровно сорок девять метров тридцать пять сантиметров, Павел лично позавчера измерял. Так вот и…
Ох! Слышала бы эти мысли Полина! Тут же бы щелкнула Ремезова пальцем по носу: «А не задумали ли вы, дорогой товарищ, похитить общенародную собственность? Ну, или, скажем, муниципальную, федеральную, на худой конец – частную? Ах, говорите, электрический ток… Так он ведь тоже не сам по себе в проводах завелся, тоже кому-нибудь да принадлежит!» Именно так бы и сказала… Старший следователь районной прокуратуры, Полина была женщина с юмором, не хуже, чем у Павла… на том, во многом, и сблизились, та как раз от второго мужа ушла, а Ремезов… Ремезов со своей женой да-авно развелся, правда, не сказать, чтоб одной работой жил – случались девушки, и довольно-таки часто, но… вот именно что «случались». А с Полиной… С Полиной почти сразу ясно стало – вот она, «вторая половинка»… Увы, недолго музыка играла… вернее, другая стала музыка – похоронная.
За те полтора года, что были прожиты без Полины, Павел с головою ушел в работу и с горем своим справился на удивление быстро, вовсе, впрочем, не потому, что зачерствел душой. Просто любимой это горе бы не понравилось, она вообще не любила выставлять напоказ чувства, может, это было профессиональное, а, скорее всего – вполне искреннее желание не выставлять на чужие глаза своего личного счастья. Чтоб не сглазили.
Не помогло, увы…
Однако горя уже давно не было, осталась лишь мягкая грусть, да вот цветы рядом с фотографией, в вазочке. И еще – работа, работа, работа!
Кстати, надо бы купить кабель – пятьдесят метров хватит.
Чу! Ремезов вздрогнул – показалось, что Полина на портрете сурово нахмурила брови… ну, как же – старший следователь прокуратуры все ж таки!
А кабель он сегодня же купит! Вот прямо сейчас съездит в Смоленск и…
Нет, для начала глянуть почту – что там прислали коллеги? Со вчерашнего дня не смотрел, и было такое ощущение, что – прислали, и нечто важное.
Ну, да – так и есть! Дождавшись, когда загрузится рыжая лисица «Мозилла», молодой человек открыл входящие… и возликовал душой!
Графики! Наконец-то Мишка прислал графики!
Мишка – Михаил Полонский – это был старый друг, психолог и историк, которого исследования Ремезова задели за живое, да так, что Михаил и сам стал помогать, явно обрадовав Павла – исторической психологией вообще-то в России мало кто занимался. А ведь даже наши родители – не говоря уже о более ранних предках – воспринимали окружающий мир совсем не так, как мы. А взять средневековых людей, древних… По сравнению с современными людьми – они абсолютно иные, при всей внешней схожести… да и насчет схожести тоже еще проблема. Взять любого дворянина века семнадцатого, поставить, рассмотреть пристально… любой скажет – урод! Икры – толстенные, как у слона (от каждодневной верховой езды), руки в предплечьях – такие же мускулистые, причем правая явно больше левой (шпага!), остальная же мускулатура крайне неразвита. Взглянуть – тихий ужас! Ну да, никаких анаболиков и «качалок» не было, развитые мускулы – это к простонародью.
Графики!
Волнуясь, Павел наложил присланное Мишкой на снятые со своего мозга кривые… Что-то совпало… что-то нет…
Господи, неужели все же хоть с чем-то совпало? Интересно – с чем? То есть – с кем…
Оп-па! С Сократом пролетел… ёшкин кот, а было бы приятно! Как и с Сенекой – увы…
Зато вот – Аттила… М-да… И еще – Субэдей-багатур… нечего сказать, хорошая компания! И вот – Стефан Баторий, Меншиков…
Ремезов понимал, конечно, что все Мишкины графики и прикидки основаны лишь на том, что известно историкам, и все же было как-то обидно, что, скажем, с Аттилой он, Павел Петрович Ремезов, может вступить в резонанс, а с Сократом – нет… Рылом, что ли, не вышел? Или, точнее – мозгом.
Интересно, а если, как и собирался, резко увеличить силу тока и напряжение, то… то можно ли будет хотя бы на какое-то время оказаться в теле Аттилы? Да, наверное, можно. И не наверное, а – на самом деле, зря, что ли, затеял эксперимент!
А вообще, если честно, Павел хотел бы срезонировать (так он это все называл) в себя самого. На полтора года назад или чуть раньше, когда Полина еще… Эх, а вдруг получится? Почему нет? Поднять напряжение и силу тока…
Да! Кабель срочно купить. Ровно пятьдесят метров – столько до трансформаторной будки.
В будку Ремезов проник, ежели выражаться романтически – «под мягким покровом ночи», а если же использовать термины, принятые в среде Полины – «воспользовавшись недостаточной видимостью в условиях вечернего времени суток». С замком провозился недолго – все ж таки технарь, физик – отпер, посветил фонариком, присоединил «крокодилами» и, переведя дух, вытер рукавом джинсовой куртки выступивший на лбу пот.
Кабель лег, как придется – через забор, по грядкам, меж яблонями – Ремезова это по большому счету не интересовало, к утру он собирался закончить и все «следы преступленья» убрать.
Потому сейчас и спешил – успеть бы!
Уселся живенько к компьютеру в кресло, нахлобучил на голову металлическую сетку-антенну (собственное изобретение, которым очень гордился, но пока никому не показывал – «обкатать» надо было).
Так… Сила тока… Есть! Напряжение… наверное – так. Да, на первое время – достаточно. Павел улыбнулся широко и открыто, словно Гагарин перед отправкой в космос… Гагарин, кстати, тоже отсюда, со Смоленской земли.
Улыбнулся, прищурился и точно по-гагарински прошептал:
– Ну, поехали, что ли?
Щелчок… Треск… С силой сдавило голову… перед глазами поплыл голубоватый дым…
Голубоватый дым сигарет заполонил всю комнату, пусть и большую, пусть и балконное окно-дверь было распахнуто в ночь, все равно – в комнате находилось слишком много народу – молодые, богемного вида парни, девушки. И все курили!
– Марсель, старик, ты что, отключился?
Нал лежащим на диване Павлом… над тем, в чьем теле он сейчас был – участливо склонилась светловолосая девушка, не очень красивая, но вполне миленькая и обаятельная, в потертых джинсиках-клешах и длинной клетчатой рубашке в обтяг. Странная мода… У всех – клеши, поголовно – джинса – куртки с «лапшою», туфли на каблуках. Нет, вон тот очкарик с красным шарфом – в желтом вельветовом пиджаке. И тоже в клешах. Все парни – волосатые, музыка играет – вон и проигрыватель – здоровущий! – винил крутят… «Дип Пёрпл». Павел хоть в музыке не очень-то разбирался, но классику рока знал. Что-то помнил с детства, а к чему-то – к «Стратовариус», например – приобщила Полина.
Не иначе, как в семидесятые занесло! Куда вот только?
– Марсель, друг мой, да проснись же!
Рядом на диван, едва не пролив на Павла красное вино из прихваченного с собою бокала, плюхнулся тот самый очкарик в желтом пиджаке. Тряхнул шевелюрой:
– Перепил, что ли? Или чего покруче принял? Lusy in the Sky with Diamonds?
На ЛСД, что ли, намекает? А похоже на то. Вот так попал – в наркоманский притон! Угораздило же… То-то имена здесь какие-то странные – Марсель…
– Соланж, за вином на кухню сходишь?
Соланж опять же… Да, странные. Интересно. Как этого очкастого чувака зовут? А и спросить вот прямо так, внаглую!
– Чувак, а ты кто?
– Ха! – собеседник, казалось, ничуть не удивился вопросу, лишь только развеселился, захохотал даже. – Ну, ты даешь, старик! Я ж Этьен, друг твой! Хорошо, хорошо, не парься – Соланж сейчас вино принесет… да вон она уже!
Девчонка принесла вино, присела рядом:
– Я сказал, чтоб «Джетро Талл» поставили. Люблю «Джетро Талл», хоть тебе, Марсель, и не нравится.
– Чего же не нравится-то? – ответил за Павла Этьен. – Это он все Полетт позабыть не может, вот и грустит. Да и перебрал, видно. Может, не надо тебе уже больше вина? Пойдем-ка лучше на балкон выйдем.
– А я что говорила? – встрепенулась девушка. – Лучше б в ресторан пошли. Я знаю на Бастилии один хороший, он недавно открылся…
– На Бастилии много хороших…
– Так я о чем? Или можно ближе, на Монпарнасе – «Ле Дом», «Ля Куполь», «Ротонда»…
Поправив смешные роговые очки, Этьен удивленно присвистнул:
– У тебя, Соланж, лишние деньги завелись? Ты б еще в «Максим» позвала!
Девчонка пожала плечами:
– Ну, предложила же – на Бастилии.
– Вина-то дайте! – Ремезов, наконец, открыл рот, озадаченно раздумывая – а на каком языке здесь все говорят?
Монпарнас, «Ля Куполь» – по всему выходило, что на французском! Но Павел-то его не знал, хоть во Франции бывал неоднократно и один, и с Полиной. Не знал… Но вот, похоже, что разговаривал. И все понимал.
Да-а… удивительно – почему так? Значит, все же не полный резонанс происходит? Или – просто в данном случае так вот произошло? Почему? Слишком велико напряжение? Сила тока? Странно… и требует последующих размышлений. Именно, что последующих – сейчас голова кружилась, и все происходящее вокруг воспринималось словно в тумане, в бреду. Видать, Марсель сегодня принял на грудь немало.
– Пошли на балкон, старик, покурим, – в тему предложил Этьен. – Да не думай ты о своей Полетт. Держись веселей да глянь, сколько здесь девчонок!
А пошел ты! – именно так почему-то вдруг захотелось сказать Павлу, даже не просто сказать, а выкрикнуть…
С чего бы? И ведь едва-едва удержался… Поставив стакан на пол, Ремезов встал с дивана и, пошатываясь, вышел на балкон вслед за друзьями Марселя.
Вышел… Вдохнул полной грудью свежий ночной воздух, глянул вниз… Мать честная! Ну, ведь так и знал! Догадался уже, куда занесло.
Внизу, с высоты этажа эдак примерно шестого, в сиреневом свете узорчатых фонарей хорошо был виден лев, вполне по-хозяйски расположившийся на небольшом постаменте. Лев, конечно, не живой – памятник работы знаменитого скульптора Бартольди, кстати – автора статуи Свободы. И памятник – «Бельфорский лев», и парижскую площадь Данфер Рошро Павел узнал сразу – когда-то вместе с Полиной снимали здесь неподалеку номер в маленькой гостинице «Флоридор». Полина…
Полетт!
Это имя… и возникший – вспыхнувший! – на секунду образ словно ударили обухом. Молодой человек склонился над балконной решеткой и пристально посмотрел вниз, на припаркованные автомобили… А если броситься вниз головой? Полетт…
Сжав руками виски, Павел помотал головой, отгоняя невесть откуда взявшиеся суицидные мысли. Стоявший рядом Этьен хлопнул его по плечу:
– Ну, как, старик? Полегчало? А помнишь, пять лет назад – ка-ак тут все полыхало?! И баррикады тянулись – аж от самой Сорбонны!
– Да, весело было, – тут же откликнулась Соланж. – Я тоже помню.
Этьен усмехнулся:
– А тебе сколько лет-то тогда было? Десять? Двенадцать?
– Ага… вам, можно подумать, больше!
Насколько сообразил Ремезов, речь сейчас шла о знаменитых студенческих беспорядках в мае шестьдесят восьмого года. Перед глазами его вдруг возникли быстро пробегающие картины, словно слайд-фильм: горящий автомобиль, полицейские в белых шлемах, что-то скандирующая молодежь, портреты Че Гевары, Троцкого, Мао…
Эта память была точно не его! Выходит…
– Ну, пошли, что-то я уж замерзла… – докурив, Соланж зябко повела плечиками, но услыхав вновь донесшуюся музыку, улыбнулась. – О! Наконец-то они поставили «Джетро Талл»! Марсель, твои соседи точно уехали?
– Уехали, уехали, – хохотнув, отозвался за Павла Этьен. – Кто же будет сидеть весь уик-энд в пыльном и жарком городе?
– Не сказала бы, что уж очень жарко…
Внизу, сворачивая на бульвар Распай, промчалась полицейское авто – как положено, с сиреною и мигалкой.
– Вот, кто людям спать не дает, а вовсе не мы! – Соланж тихонько засмеялась и выскользнула с балкона.
Ремезов отправился следом за ней, однако к группе расслабленно танцующей молодежи не примкнул, прошел по коридору к кухне… Да, судя по запаху – к кухне… А зачем он туда пошел? Или – не туда?
Пожав плечами, молодой человек толкнул первую попавшуюся по коридору дверь… В синем свете ночника группа абсолютно голых – двое юношей и две девушки – азартно занимались любовью.
– Ха! Марсель! – как ни в чем ни бывало оглянулся один из парней. – Давай к нам!
– Не…
Павел дернулся и махнул рукой – что-то не хотелось вот так, по-скотски…
– Ну, как знаешь. Только не говори, что это кровать твоей матушки!
Ремезов раздраженно прикрыл дверь и, сделав пару шагов, вошел в другую комнату, небольшую, с рабочим столом, проигрывателем и окном с раздвинутыми шторами, сквозь которое был хорошо виден рвущий ночь луч прожектора, бьющего с Эйфелевой башни.
На столе, кроме блокнота и каких-то книг – пластинки в пластмассовом держателе: «Лед Зеппелин», Джонни Холидей, «Холлиз»… рядом с ними – горящая настольная лампа и портрет в овальной пластмассовой рамке. Портрет красивой темноволосой девушки… Господи!
Присмотревшись, Павел едва не выронил фото из рук… Полина!!! Галлюцинации какие-то… Но нет, нет! Все ее – и глаза, и улыбка… А вот на стене… на стене тоже ее фотографии – черно-белые, большие, одна за другой… Даже в обнаженном виде, «ню»… и хорошо видна родинка. На левой груди, чуть пониже соска…
Полина!!!
Полетт…
Полетт!!! Скоро я буду с тобой… прямо сейчас…
А вот это уже были вовсе не ремезовские мысли, о, нет, чья-то чужая воля, чужое сознание вдруг вспыхнуло в голове ядерным взрывом, и молодой человек уже не соображал, что делал. Как с размаху грохнул портрет об стену, как выбежал, как хватанул по пути чье-то недопитое виски, как выскочил на балкон, и с разбега, не останавливаясь, сиганул вниз, навстречу каменной мостовой площади Данфер Рошро, некогда именовавшейся площадью Ада!
А дальше уже не видал ничего. Ни взволнованно выбежавших на балкон друзей, ни круглые глаза Соланж, ни полицейскую машину.
Только тьма. И каменная кладка. И кровь – темная, вязкая. И раскалывающий небо луч – прожектор с Эйфелевой башни.
Глава 2
Пустота, чернота, смерть
– Ах, ты так?!
Взвился к потолку, к самой крыше, кнут, застыл на миг, а затем, извиваясь ядовитой болотной гадиной, бросился вниз – хлестко, больно.
– Получай, дщерь неразумная!
– Не надо! Не надо, дядюшка-а-а!
Юная темноволосая девушка с жемчужно-серыми, широко распахнутыми глазами, дернулась, закрывая лицо руками.
Удар пришелся по спине, распорол платье – темно-зеленое, вышитое по подолу, вороту, рукавам затейливым узорочьем…
– Дядюшка!
– Ох, дщерь!
Здоровенный мужик с нечесаной бородищей, утомившись, отбросил кнут в сторону, уселся на поставленную расторопным слугою скамейку. Посопел, поскреб затылок огромной ручищей, поглядывая на девушку вовсе без всякой обиды, без всякого зла, так, словно на набедокурившего ребенка:
– Ох, Полина, Полина… Пойми ж, дуреха, я ж тебе блага желаю!
Девчонка выпрямилась, сверкнула гневно глазами:
– Да какое ж то благо, дядюшка? За Павлуху Заболотного выйти? Да лучше – смерть! Вона, что про него говорят-то!
– И сдохнешь!
Вскинувшись, бородач подскочил к девушке, схватил ручищей за шею, зыркнул в глаза:
– Ты не смотри, дщерь, что у Павлухи людишек мало да землица в запустении. Его-то землицу да к нашей – вот то и дело, вот то и славно было бы!
– Спасибо, дядюшка, за откровенность, – Полина вовсе не собиралась так просто сдаваться. – Тебе – землица, а мне с тем чертом всю жизнь жить, маяться? Да и не жить… Он же меня забьет, замучит, забыл, что люди говаривали? Холопи да челядь не зря ж от него бегути? У тебя, дядюшка, кнут, а у Павлухи – десять! Да отпусти ты меня, задушишь ведь.
– Ничо, – пригладив бороду, мужичага шумно вздохнул и, вновь опустившись на скамью, позвал слугу:
– Охрятко, эй, Охрятко!
– Да, боярин-батюшко?
– Я вот те дам – «да»! – бородач смачно отоварил подскочившего рыжего служку по шее тяжелой своею ручищей.
Отлетев в угол, бедолага шустро вскочил на ноги и принялся кланяться:
– Сполню все, батюшко Онфим Телятыч, что накажешь – сполню.
– Квасу испить принеси, – махнул рукою боярин. – А ты… – едва слуга скрылся за дверью, он перевел взгляд на племянницу. – А ты тоже кваску-то попей, да посиди-ка в амбаре, подумай… Не нравится Павлуха? Так он и мне не люб.
– Тебе-то дядюшка, землица, а мне?
– Цыц, змеюка! – снова осерчал боярин. – Бесприданницей хошь остатися? Давай, давай… А с Павлухой… да мало ли что про него болтают? Про меня вон тоже – много чего… Да Павлуха ведь, чай, не вечен, дурища! Это-то тоже понимать надо. Да и парень-то ликом пригож, собою красен…
– Видала как-то раз, на ярмарке… Ликом да – красен. Зато душою – черен! Да ведь ты знаешь, дядюшка, сколько людей он уже загубил! – Полина выпрямилась во весь рост, выставила вперед правую ногу, кулаки сжала, вот-вот и заедет дядюшка в ухо, а что – такой уж грозной да гневливый вид у нее сделался – аж жуть! Впрочем, на боярина Онфима Телятыча впечатления все это не произвело ровным счетом никакого.
Потеребив бороду, он снова позвал слугу:
– Охрятко! Где там тебя черти носят, псинище?!
– Здесь! Здесь я, батюшко, здесь. Вона, бегу ужо.
С глиняным жбаном в руках рыжий слуга ужом проскользнул в приоткрытую дверь.
Онфим Телятыч пил долго, шумно вздыхая и неодобрительно поглядывая на племянницу. Напившись, протянул жбан:
– Пей, дщерь.
Девчонка повела плечом:
– Обойдуся!
– Ну, как знаешь.
Махнув рукой, боярин посмотрел на служку:
– Охрятко, Пахома с Карякой покличь!
– Сделаем, батюшко!
Рыжий тут же усвистал прочь, за дверью послышался крик… Двух огроменных долболобов – Пахома с Карякой – долго звать не пришлось: оба несли службу у хозяйского крыльца, откуда и явились ретиво, преданно поглядывая на боярина одинаковыми пустыми глазами.
– Девку – в амбар! – тут же распорядился Онфим Телятыч. – Да стеречь, ужо у меня, смотрите!
Парни разом поклонились.
Боярин ухмыльнулся, оборачиваясь к строптивой племяннице:
– Ну, что стоишь, дщерь? Пшла!
– И пойду! – сверкнули жемчужно-серые глазищи, руки в кулачки сжались.
– Но, но, ты не зыркай!
– Лучше в амбаре с голоду помереть, чем за Павлуху замуж!
– Иди уж! – Онфим Телятыч аж притопнул ногою, даже хотел было выругаться, но постеснялся висевшей в углу иконы Николая Угодника, на которую и перекрестился широко и смачно, заступничества и помощи попросил: – Ой, святый батюшка, помоги! А уж Онфим Телятников заботами своими приход не оставит, чем могу – помогу. Лишь бы дело сладить! Ах как бы хорошо все устроилось: к моим-то пастбищам – да Пашкин заливной лужок, к сенокосам – пожню… Да и за пожней у Павлухи – не одна болотина, еще и лесок – а там и дичь, и грибы и ягоды. Девок-челядинок послать… Уф! Лишь бы сладилось все, лишь бы сладилось. А? Как мыслишь, Охрятко?
Проводив взглядом вышедшую из горницы Полинку, слуга тряхнул рыжей челкою:
– Непременно все сладится, батюшка боярин, непременно! Павлуха Заболотний – зол, жаден… да глуп – о том все знают. А Полинка – девка не дура.
– Не дура, так, – согласно кивнул боярин. – Одначе строптива больно! Ни-чо. Мы строптивость-то еённую сбавим. В амбаре денек-другой посидит, подумает – сама за Павлуху попросится!
– То так, боярин-батюшка, то так!
Скрипнув, затворилась за строптивой боярышней тяжелая дверь. Слышно было, как пустоглазые оглоеды, хмыкнув, подперли дверь колом.
– Ишо б во-он ту щель заколотить, – задумчиво произнес кто-то из парней.
– Которую?
– Да эвон, под крышей. Вдруг да выберется?
– Не выберется, Пахоме. Что она, кошка, что ли?
Хм… что там за щель-то?
Дождавшись, когда глаза немного привыкнут к амбарной полутьме, юная пленница пристально осмотрелась. Вообще-то, щелей вокруг было много – солнечный свет проникал сквозь них тоненькими светлыми лучиками, казавшихся вполне осязаемыми из-за танцующих в них пылинок, боярышня даже не выдержала: улыбнулась, протянула руку – потрогать.
И тут же отдернула – ну, вот еще! Делом нужно заниматься, а не дурью страдать. Чем за Пашку замуж, так лучше уж утопиться, или… сбежать! Все одно в дядюшкином доме больше не жизнь, тем более – у Заболотнего Павлухи, который, говорят, же не одного слугу самолично насмерть кнутищем забил. А один раз – опять же, люди сказывали – Павлуха сей чуть не женился, правда невеста вовремя сбежала – позор смертушке лютой предпочла. Да-а, было дело. Нехристь этот Павлуха, хуже татарина, про которых за последние года два тоже много чего сказывали. Говорят, что… Впрочем, черт-то с ними, с татарами, о другом думать надобно! И что ж делать? Щели-то, хоть их и много, да маловаты, и в самом деле – только кошке пролезть. А кроме щелей, что тут, в амбаре-то? Солома, какое-то тряпье, старые грабли… Через неделю, между прочим, жатва. Скоро, скоро уже наполнится амбарец житом-зерном свежим, отборным – мешки некуда ставить будет! Ну, а пока вот так – пусто.
Наклонившись, Полинка взяла в руки грабли, пошерудила по стенам, в щели потыкала, спугнув каких-то пичуг – видать, было у них под стрехой амбарной гнездо. Не! Не вылезти! Изнутри – ну, никак… Да и незачем: ежели изнутри дверь не открыть, так надо – снаружи. Попробовать стоит – чай, не дура! Раз уж задумала сбежать – никто не удержит, а уж тем более – дядюшка. Да какой он дядюшка, так, седьмая вода на киселе, дальний-предальний родич, «пригрел», сволота, сиротинушку – теперь ясно, зачем. И ясно, почему толоку-насилье не учинил, хотя и мог бы – жадность очи застила, землицы дармовой захотел – Павлухиной. Ой, стравить бы этих двоих – Павлуху и дядюшку – вот два-то псинища, скорпионы ядовитейшие! Стравить… да как бы самой промеж ними не оказаться. Нет, бежать отсюда скорей, бежать! Болек, приказчик краковский, польский, не зря на ярмарке глазки строил, пряниками сладкими угощал, расспрашивал… Намекал даже – вот бы, мол, с ним бы уехала. Как бы славно они зажили в Кракове. Ага, поверила Полина, как же! Этот – приказчик, она – бесприданница… зажили бы… Сдохли бы под забором с голоду!
Однако сбежать с ним можно… не в Краков, конечно же, а в Смоленск, там тоже дальние родичи есть, авось да пригреют. А нет – так и до Кракова. И там люди живут. Все лучше, чем тут, с лиходеями этими – дядюшкой да Павлухой. В Кракове-то, чай, у дядюшки Онфима Телятникова руки коротки достать. Впрочем, какой он, право слово, боярин, так… слуга вольный, за землицу с народишком Всеволоду-князю служит, как ему самому – рядовичи. Луг да пашни – все от князя, а своих-то вотчинных земель – раз, два и обчелся. Потому и рассчитывал на племянницу, удачно б на Павлухе женить – землицы б изрядно прибавилось. Хм… Интересно только – как? Что он, с Павлухой вместе хозяйничали бы? Не-е, дядюшка прехитер изрядно, не то что тот… уж обвел бы вокруг пальца заболотнего злыдня, это уж запросто!
Ладно! Черт с ними со всему – надобно жизнь свою самой устраивать, а для начала – выбраться из амбара. Это и хорошо, что дядька ее тут запер – меньше пригляду! А то куда ни пойдешь – всюду бабки, девки, слуги-дубинщики. Никуда, никуда от чужих взглядов не скрыться… А тут – всего двое: Пахом с Карякою. Оглобли они, конечно, еще те, да вот только ума невеликого. Вдвоем-разом все одно не будут ночью амбар охранять – по очереди, либо вообще смотреть не будут – к чему, коли наружу-то ну никак не выбраться?! Это уж правда – никак. Значит, надо так сделать, чтоб кто-то из стражей сам двери отпер. А как так устроить? Думай, думай, девка, на то тебе и голова дадена – не токмо косу черну носити.
Меж тем дело приближалось к вечеру: ярко-золотые полоски-лучики с танцующими пылинками превратились в оранжевые, а затем и вовсе исчезли, расплылись белесым туманом.
Полина вздрогнула, услыхав, как во дворе заржал конь. Неужто боярин ехать куда-то собрался? Это на ночь-то глядя?
А, похоже, что так!
Девушка прильнула ухом к щели, прислушалась.
Ага! Вот раздались озабоченные голоса слуг, а вот прогрохотал басом хозяин:
– Пахом, Каряка – копья берите, дубины, да седлайте коней – со мной поскачете. Может, еще – хо-хо – не придется Полинку никому отдавать…
Услыхав такие слова, девушка радостно улыбнулась – неужто? Ежели так, тогда и бежать никуда не надобно.
– Не отдам, – глумливо хохотнул боярин. – Себе оставлю – девка она справная, а язм – вдовый. А? Как вам, парни?
– Славно придумал, Онфим Телятыч! Полинка девка красная! Детушек те нарожает, да…
– От дурни! – на этот раз похоже, что от души расхохотался хозяин. – Нужны мне от нее детушки? Она ж племянница – все про то знают… Так, побаловаться, укротить – да продать купцам хвалынским. За красивую девку те немало дадут, даже и за порченую. Хо! Ну что там, собрались? Едем! Охрятко, открывай ворота… да за девкой приглядывай, не спи, а то ужо у меня!
– Сделаю, боярин-батюшка! Сполню.
Вот аспид! Вот ворон-то, собачина облыжная! Пряник обсосанный, хмырь, гад ядовитейший! Что удумал!
Разъяренная Полинка уже и не знала, как еще обозвать дядюшку… ишь, родич выискался – попользоваться да продать хвалынцам? Корвин сын! Однако, по всему, тут сейчас не ругаться, тут думать надо. Ишь ты, вроде б за Павлуху сватал, в амбар, вот, посадил, и вдруг… Да! Он же сказал – «может». Что-то задумал, гад премерзкий. Против Павлухи – ясно. Каким-то иным образом землицу забрать… а уж если не выйдет, тогда уж и отдать племянницу замуж. Для нее, для Полинки-то, и так и этак – плохо. И еще неизвестно, что хуже! Одно теперь ясно – бежать надобно всенепременно. Хоть в Смоленск, хоть… в Краков, лишь бы подальше отсюда, от деревень, от вотчины этой гнуснейшей, от дядюшки, ворона подлого! Бежать…
– Полинушка…
Позвал кто-то снаружи. Ясно, кто – слуга рыжий, Охрятко, охальник тот еще, да и трус, каких мало. Правда, не дурак, это уж точно – не может же в человеке уж абсолютно все плохо быть.
– Полинушка… я тебе покушать принес… Боярин-то батюшка наказывал, чтоб хлеб да вода, а я вот тебе – вчерашних щей в крынке…
– Так давай, коли принес, – быстро отозвалась девчонка. – Открывай ворота-двери, распахивай…
– Погодь. Погодь малость.
Ну да, распахнул, отворил двери. Только вокруг – челядь да закупы с факелами. Свету, вишь ты, мало… Вот попробуй, убеги тут!
– Кушай, милостивица.
– Мх… кушай. Ложку-то почто не принес?
– Ась? Посейчас… А вот тебе кадушка поганая, чтоб на улицу не ходить.
Тьфу ты, чтоб тебя! Чтоб не ходить… Чтоб тебе не выводить, вот что! Да уж, с кадушкой поганой хлопот меньше… только что запах. Ладно!
Наскоро похлебав щей, Полинка вернула миску слуге и, поведя плечом, вздохнула, пожаловалась:
– И всю-то ноченьку мне одной сидеть, комаров да лягух слушать.
– Так ты, милостивица, спати ляг.
– Так не уснуть сразу-то… скучно. Кабы ты, Охрятко, у амбара бы посидел, со мной поговорил бы.
– А это можно! – слуга довольно ухмыльнулся. – Чего не поговорить? Я, знаешь, сколько разных сказок-присказок знаю?
Уходя в амбар, девушка спрятала улыбку – ага, ага… подожди, будет тебе присказка. Ничего конкретно она, правда, еще не придумала, но знала – придумает. И – очень и очень скоро.
Так и вышло. Терпеливо выслушав пару недлинных Охряткиных «сказок», Полинка нарочито громко зевнула, как приличествует зевать вовсе не юной девушке, а какому-нибудь жирному хитровану-купцу – заморскому гостю.
– Ах, – пожаловалась. – Помню, как давно еще матушка мне спинку на ночь чесала. Так я и усыпала – легко да благостно… Уж теперь-то некому почесать. Ах, помнится раньше, в деревеньке дальней… ох, уйти б туда… когда-нибудь и уйду, может, даже совсем уже скоро.
Не зря так сказала девчонка, хитрая, как тот же заморский гость – давненько приметила, как посматривал на нее служка. Этак похотливо, со вздохами… Иной раз пройдет мимо – обязательно как бы невзначай заденет, прижмется… Большего-то чего опасался, а так… Ой! А се летось как-то подсматривал на реке… не только за Полиной, и за другими девками.
– Не знаю, зачем меня дядюшка сюда посадил, – словно сама с собой вслух рассуждала боярышня. – Я ведь не глупая, понимаю все – для моего же счастья старается…
– Вот-вот! – обрадованно поддакнул Охрятко. – И я о том говорю… Спинку-то тебе б и язм мог почесать, не хуже, чем иные. Уж не обидел бы. Руки у меня, знаешь, какие нежные!
– Прям так и нежные? – томно вздохнула Полина. – Ну… почеши, пожалуй. Может, усну.
– Ага… посейчас…
Голос рыжего слуги задрожал от нетерпения… нет, парень не собирался делать ничего такого, постыдного – кто он и кто эта девушка? Просто прикоснуться к ней, ощутить нежную теплоту тела, запах волос… закрыв глаза, представить, как…
– Ну, где ты там? Я уже платье сбросила.
Услыхав такое, Охрятко уже не раздумывал: вмиг отбросил удерживающий ворота кол, распахнул створку…
И получил по башке граблями – от всей души! Так, что искры из глаз покатились и свет белый померк.
– Ничо, отойдет, – сноровисто затащив в амбар бездвижное тело слуги, сама себе прошептала Полинка.
Бить она умела – знала, как – здесь же, у дядюшки, и научилась от воинских холопей-слуг, и сейчас приложила со всем старанием, однако меру соблюла – зачем христианскую душу раньше времени на небеса отправлять?
Будь вместо Охрятки Пахом или какой другой оглоедина, девчонка и не решилась бы на такое… что-нибудь бы другое придумала – на то и ум.
– Ну, прощай, парень…
Закрыв амбар, боярышня шмыгнула за овин, а уж там дальше перебралась и через ограду, совсем забыв подпереть дверь колом. Не до того было! Выбралась – молодец, на дворе ни одна собака не тявкнула, еще бы – кто ж всех этих псинищ кормил? А теперь поспешать надобно, поспешать, уж, слава господу, куда бежать, Полинка себе представляла неплохо – все стежки-дорожки знала.
Сломя голову, однако, вовсе не неслась – стемнело уже, да и девчонка не дура. Свалиться в какой-нибудь овраг да сломать себе шею? Оно ей надо? Шла ходко, но с осторожностью, иногда и в ручьи спускалась, по воде шла – погоню (вдруг да случится?), собачек с толку сбить.
На то еще был расчет, что, как вскроется все, начнут Охрятку пытать-спрашивать – он про дальнюю деревеньку и вспомнит, мол, туда вроде как собиралась беглянка. Деревенька та под Ростиславлем-городом, где с матушкой когда-то жили, не большими боярами, правда, а так, своеземцами. А потом нагрянул татарский отряд – ух, и рожи, ну до чего же поганые! Или то не татары были, половцы – черниговские князья их обычно с собой приводили, когда на смоленскую землю в набег шли.
– Ой, и корва ж я, не хуже дядюшки! – покачала головой Полинка, присев ненадолго передохнуть на опушке леса. – Охрятко, Охрятко, парень… не будет тебе жизни теперь. Однако, а что же делать-то было? Оно, конечно, так – говорят, на чужом несчастье свое счастье не выстроишь. Говорят – да, так, однако, поступают совершенно наоборот! Взять хоть дядюшку… да что там дядюшку – любого боярина, князя… Вот и у Полинки вышло то, что вышло – что и задумала.
Все, хватит отдыхать – дальше идти надо! Луна полная, ноченька ясная, звездная, идти не так уж и далеко – само собой, не в деревеньку дальнюю.
Яркая луна отражалась в жемчужно-серых глазах беглянки, мягко шевелилась под ногами трава, а росшие вдоль тропинки деревья – липы, осины, вербы – ласково махали ветками, словно бы прощались, словно б желали удачи и счастья:
– Прощай, Полинка, прощай! Ни о чем плохом не думай.
– Да-а, кто бы мог подумать? Интеллигентный вроде бы человек… Тебе зачем электричество-то воровать, Паша?
Распахнув глаза, Ремезов непонимающе огляделся. Где же площадь? Где Этьен, Соланж и все прочие? Где…
– А лев где?
– Лев? В нашем лесу, Паша, только волки водятся, да еще, говорят, медведя в прошлом году видали… Ой, ну и взгляд у тебя! На-ко, выпей…
Кто-то в сером плаще, стоявший напротив Павла, протянул открытую жестяную банку…
Пиво!
Господи, так, значит…
– Спасибо, господин майор!
Ремезов, наконец, узнал местного участкового – своего, между прочим, приятеля – заядлого доминошника, с которым не раз уже игрывали в садочке вместе с пенсионерами. Уж такого «козла» забивали – словно сваи вколачивали, в соседней деревне слышно.
– Ла-адно выпендриваться-то, – усмехнулся в ответ участковый. – Просто шел мимо, вижу, у тебя в мансарде свет горит, дай, думаю, зайду – договоримся на завтра партейку, я как раз в отгулы уйду. А то – на рыбалку?
– Не, на рыбалку не поеду, занят очень, – Павел уже окончательно пришел в себя и, поднявшись с кресла, снял с головы сетку-антенну, на что гость снова хмыкнул, на этот раз уже со значением:
– Да я вижу, что занят. Ты, Паша, похоже, уснул. Уж разбудил, извини.
– Ла-адно, – улыбнувшись, Ремезов махнул рукой. – А за пиво – спасибо. Давай вниз спустимся, там у меня самогон есть, хороший, вкусный… Кое-что обмоем.
– У бабки Левонтихи самогон брал? – утвердительно-осведомленно спросил участковый.
– У нее.
– Да. У нее – хороший. Только вот жена… Поздновато уже.
– Жаль…
– Но, раз ты так настаиваешь – выпью! И это, кабель-то прибери.
Павел недоуменно вскинул брови:
– Какой еще кабель? Ах… Слушай, Андрей, а нельзя мне его еще… на денек? Клянусь, больше не буду… даже заплачу, коли уж на то пошло.
– Ого-го! – спускаясь по лестнице, гулко расхохотался майор. – Ничего, Паша, обойдется Чубайс или кто там вместо него и без твоих денег. Только ты днем-то кабелек прибери… а на ночь опять протянешь. Народ у нас, сам знаешь какой бдительный – заколебали уже заявы друг на друга по хрени всякой писать! У одной по ее реечной тропе корова соседская ходит, другой от автоматчиков ухватом еле отбился…
– От автоматчиков – это дядя Леша-лесник, что ли?
– Он.
– Так он же непьющий!
– Вот по этой причине крышу и сорвало. Бывает! Ну, где твой самогон хваленый?
Ремезов гостеприимно распахнул дверь:
– В залу, в залу проходи, Андрей.
Сняв фуражку, участковый покачал головой:
– Ишь ты – в залу.
– Так тетушка называла. Сейчас, я колбаску порежу.
– Не надо, Паш. У меня сала с собой шматок. Вот если только хлебушка да луку.
Через пару минут приятели уже уселись на диване у небольшого журнального столика, хлопнули по рюмашке, зажевали, потом торопливо накатили еще…
– Ну, еще по третьей – и можно уже не так часто, – пригладив редеющие на макушке волосы, довольно произнес участковый, настоящий сельский «Анискин», только не дородный, как Михаил Жаров, а, наоборот, тощий, словно жердь.
Седые виски, усики, смешливые – у самых глаз – морщинки, на кителе – новенькие майорские погоны.
– Ну, не все же мне «пятнадцатилетним капитаном» ходить, – перехватив любопытный ремезовский взгляд, майор хмыкнул и подставил опустевшую рюмку из толстого голубого стекла, что были в ходу сразу после войны или еще до нее. – Ну, наливай, что ли… За твой эксперимент!
– Нет. Давай лучше за твою звездочку.
– За звездочку успеем еще… Умм.
Выпив, разом поставили рюмки на столик, зажевали лучком… Обоим стало хорошо, благостно, такое настроение наступило, когда вот так вполне можно просидеть до утра, при этом особо не пить, а так, болтать больше.
– Ты, если хочешь, кури, Андрюша, – Ремезов кивнул на пустую пивную банку. – Это тебе вместо пепельницы… Я-то бросил давно, ты знаешь.
– Знаю. Но если разрешишь – закурю.
Щелкнув зажигалкой, полицейский благостно затянулся «Беломором».
– Ну, как вообще жизнь? – улыбнулся Павел.
Майор выпустил дым в потолок:
– А знаешь, ничего в последнее время стало. Зарплату повысили, «Ниву» дали, ноутбук, чего не работать-то? Ну, конечно, требуют много, вот молодежь и жалуется, скулит. Эх, не застали они девяностые, под стол еще тогда пешком ходили, когда за ночь – ты прикинь – на участке по десять-пятнадцать краж! Тогда же все мели, все тащили… Нет, сейчас лучше. Спокойнее.
– Что, совсем не воруют? Не поверю никогда.
– Да воруют, как не воровать? – пожал плечами майор. – Вот, группа тут объявилась, нечистая на руку парочка. Днем – парни как парни – ходят, высматривают: мол, грибники или там, рыбаки – нет ли у вас соли, хозяюшка? А напиться не ладите? Таким вот макаром. Хитрые – выпытают, когда хозяев дома не будет, тогда и приходят – берут, что под руку попадет, в основном всякие гаджеты у дачников, но могут и на постельное белье польститься – всеядные! Кстати, электрообрудованием и проводами тоже не брезгуют, уже два трансформатора распотрошили.
– Наркоманы, что ль?
– Может. Так что ты, Паша, ежели где неподалеку вдруг «уазик»-«буханочку» углядишь, такой, воинского окраса… Дай знать, а?
– Хорошо, – Павел кивнул и потянулся к бутылке. – Увижу – сообщу обязательно.
– Только сам ничего не предпринимай, может, это и не они вовсе. Номеров же пока не знаем! Ну, за удачу!
– Давай! Чтоб про нас не забывала.
– Эх, хорошо пошла, зараза!
Хорошо, Полинка не по лесной тропинке пошла, по дороге – меж лугами, полями, кое-где – уже и меж скирдами. Удобно стало идти, ходко, хоть и ночь – а светлая, луна над головой во-он какая – как пламень. Не наобум шла девчонка, прислушивалась – если чего подозрительное впереди-позади слышала – ныряла немедля в кусты, пряталась, выжидала. Потом опять – ноги в руки – и вперед, с песней. Душа-то пела! Почему б ей не петь, коли удалось все? Ну, пусть даже не все пока, однако – начало положено.
Вот и шла боярышня, улыбалась, молила Николая Угодника – так же, как вот совсем недавно у дядюшки все время его молила. Удачи испрашивала, счастья…
– Ты мне только чуть-чуть помоги, святый Николай батюшко, только чуть-чуть. Чтоб дойти, чтоб найти. Чтоб не сгинуть. А уж остальное все – я сама. Я же, слава богу, не глупая. Помоги, а? Ну, что тебе стоит?
И ведь помог святой Николай, не зря Полинка молилась: едва начало светать, когда девчонка уже подходила к купеческому обозу. У стража с копьем спросила приказчика Болека из Кракова.
– Бо-олек? – задумчиво протянул стражник. – Ну, есть такой. А он тебе кто?
– Жених!
– Ах вот как!
– Ты его позови поскорей, мил человеце, он уж так рад будет… И тебе с нашей радости кое-что перепадет.
Страж явно повеселел, оживился:
– А ты, как я погляжу, дева умная. Ну, жди, посейчас. Вообще-то у нас тут почти все полоцкие… но есть и из Кракова.
– Зови, мил человеце.
Через некоторое время – совсем небольшое – явились из-за возов двое – стражник и молодой парень, смешной, курносый, с длинным, щедро усыпанным веснушками лицом и простодушно-голубыми глазами.
– Болеслав! Болек! – издалека закричала боярышня.
– Полина! – приказчик, подбежав, обнял девушку, закружил… поцеловать, правда, пока не осмеливался. – Полина, милая… так ты… ты согласна?
– Ты знаешь о том, что я – бесприданница, беглянка?
– Так и я – не ясновельможный пан!
– А я наоборот – по-вашему – паненка. Ну, веди меня скорей… когда отъезжаем?
– Очень скоро. Ты вовремя появилась, любимая.
– Я рада, – Полина взмахнула ресницами, томно и вместе с тем весело-беззаботно, так машет разноцветными крыльями бабочка теплым летним деньком.
– Рада? – так же весело воскликнул Болек. – А уж я-то как рад!
Купцы, приказчики, погонщики и воины охраны уже просыпались, уже запрягали волов, и вот заскрипели колеса груженных товарами возов, затрепетали на ветру купеческие разноцветные флаги, и седой, но жилистый и крепкий ратман Георг из Кракова – здесь главный, – вскочив в седло, что-то закричал по-немецки.
– Велит не задерживаться, – усевшись на возу рядом с Полинкою, пояснил белобрысый Болек. – И быть начеку. Мы, конечно, постараемся объехать безбожных татар, но… В пути, сама понимаешь, может случиться всякое.
– Понимаю, – девушка согласно кивнула. – А ты… ты понимаешь немецкую речь?
– Понимаю. И еще немножко – латынь.
– Научишь меня?
– Конечно, милая. Дорога у нас длинная.
Скрипели колеса. Перекрикивались приказчики и купцы. Погонщики мулов щелкали длинными своими бичами. Ветер развевал флаги.
Ветер…
Если б не он, можно было бы убежать к купцам, с ними бы и уйти, спрятаться, скрыться. Но ветер-то как раз с той стороны – собаки возьмут след, возьмут непременно. Значит… Туда нельзя, надо наоборот – в другую сторону, чтоб не почуяли псы.
Так рассуждал Охрятко, выбираясь со двора исхудавшего боярина Онфима Телятникова. Да, да, Охрятко-холоп тоже решил бежать – так уж вышло. Проклятая девка! Все из-за нее, из-за нее все. Вот ведь черт дернул поддаться… почесал спинку, ага! Эка, змеища, хватанула граблями – едва не прибила, хорошо хоть немного уклониться успел. Шишка теперь на башке… ну да бог с ней.
Подумав, рыжий слуга подался к болотам – уж там-то, верно, никто искать не будет, места гиблые, а за трясиною сразу – землица заболотнего Павла, сына боярина Петра Ремеза, чьи вотчины – да какие там вотчины, так, смех один – уже куда дальше к югу, ближе к Ростиславлю.
Беглец пробирался с опаскою, однако рассвета не ждал – всю округу знал как свои пять пальцев. Выйдя с амбара, не забыл подпереть колом воротца, да, поглядывая на луну, зашагал скоренько к дальнему лугу, а уж оттуда – пожнею да в лесочек – как раз и рассвело, и первые солнечные лучи вспыхнули на вершинах деревьев радостным золотым пожаром.
Охрятко уже подходил к болоту, как вдруг услышал впереди голоса. Парень сразу же затаился, нырнул в траву, отполз и – не пересилив вспыхнувшего любопытства – все ж подобрался поближе, выглянул… И тут же почувствовал, как екнуло сердце! Это ж надо: едва не попался!
У края болота, спешившись, стояли возле коней трое – Охряткин хозяин, боярин Онфим Телятников и его верные слуги, молодые оглоеды Пахом с Карякою. Парни были вооружены увесистыми дубинами и рогатинами, на боку у боярина поблескивала рукоять меча. Да, еще луки со стрелами – те были у всех троих. Ишь, снарядилися – словно в воинскую рать, можно подумать – воевать кого-то замыслили. А кого тут воевать? Разве что…
Оп-па! Вот тут-то Охрятко сегодняшний – вернее, вчерашний уже – разговор и припомнил. Не иначе, как против Павлухи Заболотнего что-то удумал боярин – а против кого же еще? Чья за трясиной землица-то? Знамо – Павлухина. Хоть Павлуха и тот еще гусь, подлюка да злыдень, какие не каждый день встречаются – однако ж вот и супротив него тоже подлость умыслили… ишь, стоят, поджидают.
– Батюшко, кажись, едет! – повернувшись к трясине, выпалил вдруг Пахом.
Боярин прислушался и довольно крякнул:
– Едет – то так. Ну, почто встали-то? Прячьтесь, едрит вашу мать! Да помните, не дайте ему до нашего края добраться – как на середине гати будет, так стрелы и шлите.
– Не беспокойся, батюшка, – ныряя в кусты, усмехнулся Пахом. – Спроворим!
Узрев такое дело, рыжий беглец осторожненько отполз подальше и, поднявшись на ноги, опрометью бросился прочь. Вот уж совсем ненужное дело – в таких делах невольным свидетелем быть! Дознаются – либо те пришибут, либо эти. Так что прочь отсюда побыстрей, прочь – тем более на том краю болота уже замаячили фигуры всадников – Павлуха Заболотний – с мечом, окольчуженный, верхом на вороном коне, и рядом с им – четверо воинов, естественно, тоже оружных.
Услышав, как засвистели стрелы, Охрятко затравленно оглянулся и опрометью бросился в чащу.
Весь день простоял солнечный, ясный, а вот вечером собрались облака, задождило, да не каким-нибудь там мелким дождиком – настоящим проливным ливнем! На раскисших грунтовках быстро образовались лужи, вспыхнул в домах свет, а где-то за лесом – пока еще далеко – грянул первый гром.
– Ну вот, грозы нам еще не хватало, – выругался толстоморденький парень в красной баскетке, сидевший за баранкой болотного цвета «буханки» – «уазика». – Чувствую, вымокнем, словно гады. А? Что молчишь, Леха?
Леха – неприметный, совершенно никакой парнишка, на вид чуть помладше своего сотоварища – в ответ лишь шмыгнул носом.
– Хотя, с другой стороны – дождь-то нам не помеха, – переключившись на пониженную передачу, толстомордый аккуратно проехал лужу. – Да еще и гроза. На подстанции электричество точно отключат! Чуешь, к чему я?
– Провода срежем запросто, – наконец, отозвался Леха.
– Провода, конечно, срежем, – водитель остановил «буханку», не доезжая до деревни, у самой околицы, за деревьями. – Ну и того черта навестить надо… ну, который уедет.
– А, профессора… Слышь, Виталик, так, может, это… дождь-то переждем малость?
– Зачем? Наоборот хорошо – лишняя тварь на улицу не вылезет, – засмеявшись, толстомордый Виталик поплотней запахнул куртку и распахнул дверь. – Ну, пошли уже. Что сидишь-то?
Едва начался ливень, Павел не поленился, отогнал машину за два дома – там было и повыше, и посуше, да и вообще – выезжать удобнее. А тетушкин-то домик располагался в низинке, и проходившая мимо дорожка в дождь превращалась в совсем уж непролазное месиво, которое возможно было форсировать лишь на «Ниве» или «уазике», а уж никак не на «Шевроле-Ланчетти».
Сделав сие важное дело, Ремезов вновь подключил к трансформатору кабель, намереваясь сегодня еще больше увеличить мощность эксперимента, а потом – резко снизить. Посмотреть, быть может, именно от этого зависело частичное проникновение в его сознание сознания реципиента?
Никакой ливень молодому ученому не мешал, Павел вообще любил работать в дождь – как-то лучше дело спорилось и никуда не тянуло.
Вот и сейчас, подключая аппаратуру, Ремезов что-то весело насвистывал, напевал, предчувствуя очередную удачу. Все получится, и много чего удастся узнать, тем более что все эти «домашние» опыты – всего лишь начало. И еще одно обнадеживало – с каждым разом Павел приближался к своей эпохе: тот мальчик, комсомолец – конец пятидесятых, а суицидный француз на площади Данфер Рошро – это уже семидесятые. Так можно дойти и до восьмидесятых, девяностых, и… до того самого момента. До аварии. Предупредить Полину… хоть как-то предупредить, лишь бы хватило времени. Девушка останется жива – по всем законам квантовой физики возникнет параллельная реальность, одна из многих… в которой он, Павел Петрович Ремезов, будет по-настоящему счастлив! Может такое случиться? Сложно сказать, но… почему нет?
Усевшись в рабочее кресло, молодой человек надел на голову сетку антенны и улыбнулся сам себе:
– Ну, что? Поехали, что ли? Поехали…
Щелчок… Вспышка… И свет померк… Померк, чтобы вспыхнуть вновь – но уже в другой, чужой жизни.
– О! Машины его нету, – поправив баскетку, толстомордый Виталик остановился в грязи у нужного дома.
– А что, у профессора машина была? – недоуменно переспросил напарник. – Что-то я в прошлый раз не заметил.
Виталий усмехнулся:
– Если б ты, Леха, что-то вообще замечал – цены б тебе не было. Короче, ладно, не обижайся, пошли.
– А куда тут идти-то?
– Да вон, по тропинке, к калитке.
– Так темно же, не видно.
– Не видно ему, – Виталик уже, похоже, жалел, что выбрал себе столь незадачливого компаньона.
Леха, конечно, дуб дубом, однако, с другой стороны, зато на первые роли не лезет и во всем соглашается, разве что поворчит иногда или брякнет какую-нибудь глупость. Вот, как сейчас: ишь ты, не видно ему! Так и другим тоже не видно. Кстати, у будки трансформаторной, вообще-то фонарь горит, качается – нет-нет, да и попадет и сюда лучик… Оп!
– Уау!!!
– Ты чего, Леха, дергаешься?
– Змея! – судя по голосу, напарник был близок к истерике. – Вон там, вон! Черная такая, блестящая.
– Да где?.. О, боже – это ж просто кабель! – Виталик засмеялся тихонько, дребезжащим, как ржавый железный лист, смехом. – Ну, ты даешь, Леха!
– Дак это… обознался. С кем не бывает?
– Ладно… пошли в дом уже… Ого! Гляди-ка, и дверь на замок не заперта! Хозяин забыл, что ли?
– Кто ж в деревне запирает?
– А вот это ты верно сказал. Кстати, кабелек этот тоже прибрать надобно – хороший кабель, сгодится.
– Ага.
Войдя в «залу», воришки с ходу сунули в большую, прихваченную с собой сумку лежавший на столе ноутбук и озадаченно остановились перед телевизором – брать не брать?
– Возьмем, – подумав, решительно махнул рукой Виталий. – Не так уж он много и весит – до машины дотащим.
– У профессора еще второй этаж есть, – к месту напомнил напарник.
– Мансарда называется. Молодец, Леха! Сейчас туда и заглянем.
Тут оба разом вздрогнули – сильный порыв ветра распахнул форточку, бросил в лица воров холодные брызги…
Грязные холодныя брызги летели из-под копыт вороного коня, и, если б не это, нестись вот так, по узкой лесной дорожке было бы даже здорово, да и сейчас Павел почти физически ощущал переполнявшую душу реципиента радость… и еще – какую-то озабоченность. Да и радость – не только от скачки, еще и от предчувствия некоего события, вполне долгожданного, которое вот-вот должно было случиться.
Звенела кольчуга…
Черт! Вот тебе и восьмидесятые годы! Это ж надо так ошибиться… Интересно, сколько еще тут вот так скакать? Минут двадцать? Или даже уже полчаса, час? Нет… час – это уж слишком смело, о том пока и не мечтать.
Больно хлестнула по лицу ветка… не успел пригнуться, да. На скаку думать нельзя – нужно вперед да по сторонам посматривать, не то не ровен час… Ах, как все же здорово! И ветер в лицо, и даже эти брызги – судя по росшим в изобилии камышам, дорожка-то шла краем болота. А в глаза бил рассвет, и на вершинах высоких сосен уже вспыхнуло солнце! Красиво как… сосны эти, а вон, впереди – березовая рощица, липы.
Павел хлестнул коня камчой… хлестнул умело, и словно бы между делом, как будто в автомобиле с четвертой на пятую передачу переключился.
Снова звякнула кольчуга… Интересно – он сейчас кто? Древнерусский витязь? Или, наоборот, какой-нибудь Субэдей?
Черт! Снова хлестнула ветка – едва не в глаз…
Близко – совсем-совсем рядом – громыхнул гром.
– Гроза, – оборачиваясь, тихо промолвил Виталик. – Зуб даю – сейчас свет отключат. Вот кабелек-то и приберем, да и в трансформаторную заглянем.
– Заглянем, да, – охотно поддакнул Леха. – Везет нам с тобой сегодня.
– Тихо ты, не сглазь! – неожиданно рассердился напарник. – Ох и крутая же лесенка… Как бы назад кубарем не полететь.
– Так не пьяные ж!
– Это верно.
– Ой… смотри-ка, кажись – свет! – скрипнув ступенькой, Леха вдруг насторожился, указывая рукой веред, на чуть приоткрытую дверь. – Тусклый… Свечка, что ли.
– Сам ты свечка – комп!
Воришка тут же замедлил шаг и даже опасливо попятился вниз:
– Так профессор не уехал! Бежим.
– Стой ты! Был бы хозяин дома, давно б выглянул, посмотреть, кто там скрипит, – резонно возразил Виталий.
– Так, может, спит?
– Может… А может, и нету его. А комп сам собою включился, я слышал – такое бывает.
– Или – выключить забыл.
– Или. Поглядим. Если что, убежать всегда успеем.
– Ой, Виталя.
Виталий уже не слушал, осторожно распахнул ведущую в мансарду дверь, прислушался, всмотрелся, чувствуя за спиной громкое сопенье напарника.
– Вот он!
– Тихо, не дергайся. Спит!
Хозяин дома сидел в глубоком кресле, напротив включенного компьютера и еще какой-то слабо жужжащей аппаратуры, сидел с закрытыми глазами, никак не реагируя на окружающее.
– Слышь, Виталик, что это за хрень у него на башке?
– Я почем знаю? Тсс! Уходим.
– А, может, свяжем его, хоть тем же кабелем? Вон тут сколько всего: толкнуть – нам с тобой бабла на год хватит!
Виталик удивленно обернулся – честно говоря, подобного предложения от своего трусоватого напарника он никак не ожидал. Вот ведь что жадность с людьми делает! Всякую осторожность теряют. Хотя… Леха прав – что тут опасного-то? Профессор – видно сразу – в отрубе полном. Опился, либо обкурился. Почему б и не…
– Вяжем! – кивнув, Виталик потянул с пола кабель.
Что-то негромко треснуло, посыпались синие искры, а над самой крышею вновь грянул гром.
– Вон они, за болотиной! – обернулся вырвавшийся вперед воин, совсем молодой парень, без кольчуги, но при коротком копье и с засунутым за пояс шестопером. – Ждут, господине!
– Ждут, так поедем, – с ходу отозвался Павел… или кто-то сказал эти слова за него?
И, не дожидаясь ответа – он тут был за главного – погнал коня на широкую гать. Знал наверняка – тут и телеги проедут, не то что один конь.
Посмотрел вперед, на бородатого дородного мужика, дожидавшегося на том краю болота, снова ударил коня камчою и, вдруг услыхав какой-то подозрительный свист, скосил глаза, увидев, как скачущий чуть позади воин – тот самый молодой парень – словно подкошенный слетел с коня в воду!
– Засада! – заорал было другой всадник… но тут же захлебнулся собственной кровью – черная стрела угодила ему в горло, и точно такая же стрела ударила Павлу в грудь. В кольчугу.
– Плохие у тебя стрелы, боярин, – усмехнулся Ремезов, выхватив висевший на поясе рог. – Не каленые – на лису, на белку. Нешто меня таким можно взять? Ин, ладно – хорошо, кольчужицу прихватил и людей. А ну-ко!
Приложив рог к губам, Павел затрубил – резкий утробный звук поплыл над болотом… и в тот самый миг вражья стрела вонзилась ему в шею, слева… словно змея чикнула!
Сразу ощутив слабость, Ремезов выпустил из руки поводья… пошатнулся… и вылетел из седла в трясину. Заржав, повалился следом пораженный стрелами конь.
Все тело ожгла холодная вязкая жижа, кольчуга потянула ко дну, все глубже, глубже… да еще кровоточила, торчала в шее стрела. Мало того, что-то вдруг вспыхнуло перед глазами… даже не перед глазами – в голове будто взорвалось что-то, этакий маленький ядерный взрыв, после которого… после которого ничего уже больше не было – ни ощущений, ни мыслей, а только пустота, чернота и смерть.
Глава 3
Загоновый шляхтич
Когда Павел пришел в себя, с него как раз снимали кольчугу – стаскивали со всей осторожностью и все же зацепили рану на шее. А ведь, похоже, стрела только лишь чиркнула, правда, зацепила сильно, рана все еще кровила, жгла.
– Ой, боярич-батюшка, очнулся! – со звоном бросив кольчугу, радостно воскликнул невысокого росточка мужик в кожаном панцире с густо нашитыми сверху блестящими металлическими бляшками.
Борода у мужика оказалась светлой, реденькой, серые глаза смотрели на раненого почтительно и как-то даже умильно. Кто такой этот мужичок, кто такие все столпившиеся вокруг вооруженные люди, Павел мог сейчас лишь только догадываться, да с большей или меньшей уверенностью предполагать. Раз его называли бояричем, значит это – его люди, дружина или как там у бояр она называлась. Интересно, в какой эпохе очутился молодой человек? Судя по всему – в русском средневековье: ну, да – вон и мечи, и кольчуги, и щиты червленые, и сверкающие островерхие шлемы. Шлемы, правда, не у всех, да и кольчуги – редко. Зато – копья, луки со стрелами.
Значит, средневековье, точнее… впрочем, а к чему точнее-то? Ремезов слабо улыбнулся – сколько он уже здесь? Минут двадцать – уж точно, значит, скоро уже и назад – вряд ли его сознание продержится в сем бренном теле более получаса – никаких физико-технических возможностей для этого не хватит.
– Батюшка-боярич, давай-ко мы тебя на воз, – засуетился мужичок в панцире, обернулся, махнув рукой остальным. – А ну, демоны, поможите.
«Демоны» – молодые парни – тут же засуетились, побросали орудие, подвели под уздцы запряженного в телегу коня, осторожно положили раненого на мягкое сено.
Ох, башка-то болела – куда там похмелью! – Павел даже не выдержал, застонал.
– Как, господине? – снова озаботился мужичок.
Ремезов махнул рукой и устало спросил:
– А ты, вообще, кто?
– Я-то? Михайло-рядович, тиун твой. Неужто так сильно ударился, батюшка, что всю память отшибло?
– Ничего, вспомню.
Павел улыбнулся: ну, конечно же, вспомнит, мало того – скрупулезно проанализирует все, буквально каждую мелочь. Только вот не сейчас, а потом, дома… Минут через десять или вообще завтра.
– Ну, поехали, поехали, что встали-то? То Телятникова Онфимки людишки были, тьфу! – шагая рядом с мерно покачивающейся на кочках телегою, деловито доложил тиун. – Те, что стрелки – наши-то востроглазые их опознали, да вот только догнать не удалось – убегли. А Онфимко-то сам потом небось скажет, что и знать их не знал, дескать, и вовсе они не его, а так, из лесу кто-то выскочил – тати! – самого едва не живота не лишили.
Странно говорил рядович: слова вроде и русские, да все на старинный лад – кружевами. Павел через пень колоду все понимал, с трудом – и это тоже казалось странным, особенно после того вечера в доме на Данфер Рошро, где Ремезов свободно воспринимал французский. Кстати, он и сейчас его помнил, хоть и не учил никогда… И даже мог спокойно порассуждать – на французском же – на темы творчества Франсуа Мориака, которого раньше и знать не знал… вернее – это Павел Ремезов знаменитого французского писателя Мориака знать не знал, а вот некий студент-филолог Марсель – так даже очень. И еще в голове временами вспыхивали какие-то статьи, термины – «демократический централизм», «Шаг вперед – два шага назад», «Анти-Дюринг» какой-то… Вероятно – наследие того самого мальчика-комсомольца. Интересно как – и требует очень вдумчивого исследования. Парижский студент, школьник-комсомолец из конца пятидесятых годов – от каждого что-то осталось и теперь лезло, забивая мозги. От каждого… а вот от этого молодого боярича – нет! Вообще ничегошеньки не пробивалось. Кто он был такой, что вокруг за люди – оставалось только лишь строить предположения и догадки. Ну да ладно – недолго уж и осталось, может быть, даже минута, две…
И три уже прошло, и десять, и полчаса, когда телега наконец-то подъехала к высокому, однако во многих местах покосившемуся частоколу, останавливаясь напротив наглухо закрытых ворот, над которыми высилась небольшая башенка, похожая на вышку для часового, только несколько ниже. Башенка, в отличие от солидных ворот, особого впечатления не производила, и казалось, что вот-вот рухнет вместе с часовым – совсем молодым парнишкою, при виде появившейся у ворот процессии кубарем скатившегося вниз. Слышно было, как заскрипели засовы… Потом, после небольшой заминки, ворота, наконец, распахнулись, явив устало-туманному взору путешественника во времени неприглядный двор с какими-то угрюмыми разномастными строениями из серых бревен – банька, что ли? Сараи, конюшня… Ой, а навозом-то как несет, батюшки! Ядреный… ядерный такой запах.
Павел поспешно зажал пальцами нос. И в этот момент из сарая донесся вдруг чей-то истошный крик.
– Это кто еще? – повернув голову, недовольно спросил «боярич».
– Дак Демьянко-холоп, кому же еще-то? – устало напомнил тиун. – Ты ж сам, господине, велел с него семь шкур содрать, чтоб впредь не умничал. Вот и Окулко-кат и дерет. Все по твоей воле.
– Иди ты! – Павел приподнялся на телеге. – И давно его лупят?
– Да вроде недавно начали, только что.
И снова крик. Истошный, полудетский:
– Ай-ай, не надо-о-о-о! Ай! Не буду больше никогда, не буду-у-у… Богородицей-матушкою клянусь… Ай! У-у-у-у…
Крик перешел в вопли, а они – в жалобный протяжный стон, видать, подвергнутому экзекуции парнишке и впрямь было очень больно.
– А ну, хватит! – распорядился Ремезов. – Ишь, распустились тут… без меня. Хватит, я кому сказал!
– Понял тебе, господине. Посейчас сбегаю, распоряжусь.
Низко поклонившись, тиун Михайло бросился к сараю, где тут же стихли все вопли.
– Ну, вот, – Павел широко улыбнулся, искоса поглядывая на беспрестанно кланявшихся девок и женщин, при виде своего господина поспешно бросивших все дела и посматривающих на молодого «боярича» с явным страхом. Разные были девки – и вполне на личико симпатичные, и, мягко говоря, не очень, но одеты все были одинаково – в какие-то бесформенно серые рубища, опоясанные… А бог знает, чем они там подпоясаны.
– Ну, ладно, ладно, хватит вам, – смутился Павел. – Делом своим займитесь.
Сказал – и такое впечатление – будто кнутом щелкнул. Кланявшихся девок словно ветром сдуло – кто к сараям бросился, кто в дом, кто на конюшню. Всем дело нашлось – а как же!
– Господине, Демьянку-то умника, в горницу его привести… или в сарае оставить?
– Демьянку? – не сразу понял Ремезов. – Какого еще Демьянку?
– Ну, что в сарае-то…
– А-а-а! Ну, пусть в горницу. Посмотрим, что за умник?
Павел в любую секунду ожидал возвращения, казалось, осталось лишь только закрыть глаза и открыть их уже в мансарде, в лаборатории…
Молодой человек даже головой покачал, смежил веки… Нет! Никуда его сознание не перемещалось… Час уже, никак не меньше! Целый астрономический час. Несомненно, это был, конечно, крупный успех, однако вот чувствовалось в новой «шкуре» как-то не очень уютно. Тогда уж лучше в «комсомольце» бы долго так «посидеть»… особенно с той девушкой… А тут – тут как-то совсем уж убого да грустно. И жили же людишки раньше – ужас какой-то и мрак.
– Велишь ли в горницу кваску, господине? – помогая раненому подняться по крыльцу, залебезил тиун. – Или, может, обед подавать?
– Пока, думаю, и кваском обойдусь.
Ремезов и в самом деле не хотел есть, а вот выпил бы чего-нибудь с удовольствием – в горле-то после всех перипетий пересохло до ужаса.
– Пива-то нет у вас?
– Прикажешь, господин – сварим! – Михайло-тиун обернулся на крыльце. – Эй, девки! Пиво варити готовьтеся, солод-ячмень самый лучший берите.
Павел тоже застыл на высоких ступеньках, с любопытством озирая вотчинный двор, огражденный покосившимся частоколом. Двор как двор, правда, на редкость запущенный и убогий: все кругом серое, приземистое, народ в рванье бродит, свиньи – и те вон какие-то поджарые, тощие, не свиньи – собаки охотничьи. Да-а, бедноватый колхоз, говорить нечего.
Господский дом, куда сейчас и поднимался Павел, тоже не производил особенно благоприятного впечатления, больше напоминая не жилище именитого вотчинника, а заброшенный сельский клуб в дальней забытой богом деревне. Какой-то неуютный, сложенный по-простому, без всякой выдумки и затейливого деревянного узорочья. Оконца маленькие, словно бойницы, да и никаких труб над крышею не наблюдалось, похоже, печка-то топилась по черному. Точнее сказать – печки, домишко-то казался довольно просторным – в две избы, с пристроенными меж ними сенями, куда и вело крыльцо. Ну, клуб он и есть клуб, наверно, немцы пленные строили… Тьфу ты! Какие, к черту, немцы?!
– Отдохнути желаешь, господине? – забежав вперед, тиун самолично распахнул перед своим господином двери.
– Желаю, – входя в просторную горницу, усмехнулся Павел. – Квасу только не забудь.
– Обедати, господине, когда прикажешь?
– Как проголодаюсь, так и прикажу.
Поклонившись, тиун вышел, тщательно затворив за собой дверь. Горница неожиданно оказалась светлой, да и не горница это была, а светлица – летнее не отапливаемое помещение с большими – относительно большими – окнами, затянутыми… бычьим пузырем, что ли? Ремезов подошел поближе, потрогал свинцовый переплет… Слюда, однако, до стекла местный боярич еще финансово не дорос, и вряд ли когда-нибудь дорастет – не того калибра вотчинник, судя по двору – из тех, что в Польше прозывали «загоновой» (самой-самой бедной) шляхтой. Здесь же таких землевладельцев именовали просто «вольными слугами» или – уж совсем нищих – «слугами под дворскими». Низшее феодальное сословие, несущее службу за землю – предтеча будущих помещиков. И этот вот молодой товарищ, в чьем теле сейчас оказался Павел, тоже из таких – русский «загоновый шляхтич».
Ремезов, хоть и был технарем, все же работал на стыке наук, и кое-какие исторические сочинения почитывал, хотя историком, естественно, себя вовсе не считал. Так, кое-что знал, помнил… Рядович Михайла – этот вот работал на феодала по договору – «ряду», в данном случае исполняя обязанности старшего по усадьбе – тиуна, или, говоря на французский манер – мажордома. Кроме рядовичей, на усадьбе еще имелись закупы – люди, отрабатывавшие долг, а также еще и обельные холопы, и челядь – по своему статусу похожие на домашних рабов, точнее, челядь – те домашние, а холопы работали в поле, потому у остальных зависимых крестьян – смердов – отработок на хозяйской запашке (барщины) по сути и не было (хватало и холопов), только оброк да повинности – ремонт дорог, строительство частокола, извоз и все такое прочее.
Немного постояв у окна, молодой человек прилег на широкое ложе, накрытое мягкой медвежьей шкурой, и задумчиво посмотрел на поддерживающие крышу стропила, пахнущие смолою, чистые – ведь печки в светлице не полагалось.
Пол был настелен солидный, из толстых досок, и тоже чистый – добела выскобленный, кроме ложа, у дальней стены стояла основательная лавка, а близ длинного, ничем не покрытого стола – небольшие скамейки. В углу, на железном поставце – светец для лучины, а под ним – кадушка с водою. От пожара.
Да-а-а… даже на свечках экономил, то же еще – «боярич»! Вот уж действительно – загоновый.
Однако, а который сейчас час? Судя по солнышку, три, а то и четыре… Господи! Вот это да, вот это эксперимент… затянулся, жаль только, что в сей неуютной эпохе Ремезову было как-то не особенно интересно. Что тут делать-то? Скорей бы назад, в мансарду! Да, по всем канонам, уже давно было бы пора… и все же до сих пор Павел оставался в чужом теле. Почему так? А поди, пойми… Ничего, потом разберемся.
В дверь поскреблись, осторожно так постучались.
– Войдите, не заперто! – крикнул с ложа Павел. – Да входите же, говорю.
Переступив через порог, первым, поклонившись, вошел тиун Михайло, за которым показались еще двое парней, тащивших какую-то широкую скамью, словно тут скамеек мало было. За парнями, низко поклонившись, вошел коренастый и широкоплечий детина с черной бородищей до пояса и большим кнутом в руках, уже за ним дюжие слуги ввели совсем юного парнишку, светловолосого, худенького, с бледным лицом, в рваной, окровавленной местами, рубахе.
– Прям сейчас пытать зачнем, господине? – еще раз поклонившись, деловито осведомился бородач.
Как его называл тиун? Окулко-кат, кажется… То еще прозвище… даже не прозвище – профессия!
Не успел Павел и слова сказать, как с паренька сорвали рубаху, разложив несчастного на специально принесенной скамье…
– Эй, эй! – вскочив, замахал руками Ремезов. – А ну-ка, пошли все прочь! Прочь, я сказал! И скамейку эту поганую забирайте.
– Так, господине, мне его так и пытати? – ничуть не удивившись, деловито осведомился Окулко-кат. – Только начал, два удара едва успел, а ты наказывал – дюжину. Али больше уже?
– Прочь, сказал! – Павел остервенело притопнул ногою. – Достали уже, садисты чертовы! Квасу бы лучше принесли.
– А квасок уже девки тащат, – кланяясь, ласково улыбнулся тиун. – Умника-то забрать…
– Нет! Здесь оставьте.
– Ага, господине… и кнут.
– Да подавились бы вы кнутами своими! – рассвирепел Ремезов, которого уже по-настоящему раздражала вся эта нелепая ситуация. – Непонятно сказано? Во-он!
Все наконец-то вышли… кроме испуганно моргавшего парнишки… этого, как его… Демьянки Умника.
– А ты что встал? Садись вон, на скамейку, – сверкнул глазами молодой человек. – Что-то квас не несут…
– Несут, господине, – осмелился подать голос мальчишка. – Девки-то в дверь давно стучатся.
– Стучатся? – Павел удивленно приподнял левую бровь. – Чего ж я не слышу-то? Впрочем, слышу – словно мыши скребут.
– Они, господин, громче и не смеют.
– Кто не смеет, мыши или девки? А, черт с ними со всеми! Да где ж там мой квас?
Отрок проворно распахнул дверь, и в светлицу тотчас же ввалились две замарашки-девчонки – одна несла в руках большой кувшин, по всей видимости – с квасом, другая – большой поднос с пирогами.
– Заодно и поедим, – увидав пироги, пошутил Ремезов. – А то когда еще у них тут обед.
Девушки, поклонившись в пояс, ушли, и Павел поманил пальцем парнишку:
– Садись вон, на скамейку, в ногах правды нет. Да рубаху-то надень, за столом все-таки. Ну, чего ждешь-то? Садись, кому сказано? Пироги бери, наливай квас… Да не стесняйся ты, парень! Как тебя…
– Демьянко Умник, – качнув головою, отрок опустил глаза.
Белобрысый, худой, смуглый… или, скорее – грязный – он чем-то напоминал… беспризорника из кинофильма «Путевка в жизнь». Напоминал, да… причем Ремезов точно помнил, что никогда такой фильм не смотрел! Как не читал и повесть Франсуа Мориака «Мартышка», персонажа которой почему-то напоминал Демьян.
А, ладно… после во всем разберемся, дома.
– Ты почему Умник-то? – хлебнув квасу, осведомился молодой человек.
Парнишка, поспешно вскочив, принялся кланяться, и Павлу пришлось прикрикнуть:
– Хватит! Хватит, я сказал! Садись и – сидя – рассказывай.
– Так, господине… ты, верно, ведаешь.
– Ведаю! – Ремезов раздраженно пристукнул ладонью по столу, от чего его юный собеседник дернулся, словно бы получив удар по лбу. – Но от тебя все хочу услышать. Говори!
– Язм, господине, крылья сладил… думал полететь, яко птица, – опустив голову, прошептал подросток.
– Крылья? – Павел едва не поперхнулся квасом. – Из чего ж ты их сладил?
– Прутья ивовые лыком обвязал да обтянул кожей.
– А кожу откуда взял?
Демьянко опустил голову еще ниже и замолк.
– Ну? – нетерпеливо спросил Ремезов. – Украл – так и скажи, значит, за кражу тебя сейчас и били, а вовсе не за то, что полетать вздумал!
– Не украл, господине, – по щекам парнишки потекли слезы. – Просто взял… хотел вернуть, как полетаю. Крылья бы разобрал и…
– Ну, ладно, ладно, – молодой человек устыдился собственного поведения, ишь ты, учинил тут допрос. В конце концов, какое ему дело-то – украл тут кто-то что-то или не украл.
– Так полетал?
– Немножко, – смущенно кивнул собеседник. – С горки разбежался, подпрыгнул… аршинов пять пролетел, а потом – в крапиву.
– В крапиву, – передразнил Павел. – Аршинов пять и без крыльев пролететь можно… особенно когда пьяный, в овраг да кубарем.
– А кожу я бы Никите-кожемяке вернул, ты, господине, не думай! Просто не успел – увидали все, налетели…
– Налетели… Родители-то твои кто?
– Так ить, господине – в мор еще сгинули, летось с десяток назад. Меня бабка Филимона, царствие ей небесное, взращивала.
– Ладно, иди покуда, – подумав, «боярич» махнул рукой. – Да! Тиуна ко мне покличь!
Поспешно вскочив на ноги, Демьянко поклонился и выбежал прочь.
Михайло-рядович явился в тот же миг – скорее всего, под дверью, собака, подслушивал. Впрочем, черт с ним…
– Вот что, Михаил, – глядя в окно, задумчиво произнес Ремезов. – Ты паренька этого, Демьяна, не трогай – такой тебе будет мой наказ. И кату скажи!
Тиун поклонился:
– Уразумел, батюшко. Обедать желаешь ли?
– Обедать? – Павел снова посмотрел в окно, на садящееся за дальним лесом солнце. – Пожалуй, уже пора и ужинать.
– Как велишь.
– А честно говоря, что-то не хочется. Квасу с пирогами попил – вроде и сыт. Хотя… – поправив на шее повязку, молодой человек задумчиво забарабанил пальцами по заменявшей стекло слюде. – Хотя чего-нибудь вели принести, может, проголодаюсь еще… Так, чуть-чуть… И все! И чтоб больше сегодня меня не беспокоили. Устал!
– Уразумел, господине, – приложив руку к сердцу, рядович снова поклонился и вышел.
– Да! – крикнул ему вслед Павел. – Зеркало какое-нибудь принеси.
– Принесу, батюшко!
Ремезов криво усмехнулся – тоже, нашел еще «батюшку» – и вновь завалился на ложе, – а ведь действительно устал, да и весь этот морок, по правде сказать, уже начинал действовать на нервы – слишком уж много стало прошлого, слишком! Сколько он уже здесь? Часа четыре, не меньше, а то и пять-шесть. Успех, конечно, но… Когда же уже все это кончится?! Сколько можно-то? И ладно бы какая-нибудь приличная эпоха – скажем, те же пятидесятые – семидесятые – но вот это дикое средневековье… Бр-р! Даже и не скажешь наверняка, какой на дворе век! Такая вот гнусная, забытая богом дыра могла быть и в тысяча шестьсот… и в просто в тысяча каком-нибудь там году! Кольчуги… да, они и в семнадцатом веке еще бытовали, а слюдяные окошки… в средние века точно – были. И народ одет… вернее раздет – рвань, рубище, босиком все, кроме тиуна… А у того-то что на ногах? Сапоги? А черт его… не обратил внимания. Да и одет рядович получше – рубаха до колен – длинная, с узорочьем, поверх… кафтан, что ли… или это армяком называется? Нет, пожалуй, просто глухой плащ с вырезами.
В дверь негромко постучали.
– Не заперто!
Снова вошел тиун:
– Зеркало ты, господине, просил.
– Поставь вон, на лавку.
Исполнив указанье, рядович поклонился, ушел.
А Ремезов с любопытством подскочил к зеркалу – медной… нет, скорей – бронзовой, начищенной до блеска, пластине. Полюбовался собой, благо свет заходящего солнца как раз через оконце и падал… Было на что посмотреть, Павел даже вздрогнул, будто вдруг собственную фотографию увидел. Из далекой юности. С листа отполированной бронзы, чуть прищурившись, смотрел молодой человек, юноша лет шестнадцати – двадцати, точнее судить было сложно. Ну, вылитый Павел! Этакий хиппи – длинные темные волосы до самых плеч были стянуты тонким кожаным ремешком, просторная, с вышивкой, рубаха подпоясана тоненьким наборным поясом… на ногах – Ремезов, кстати, только сейчас обратил внимание – нет, не лапти, а что-то вроде – кожаная плетенка… кажется, это называлось – постолы или поршни.
Полюбовавшись собой – сходство было удивительное! – Ремезов потрогал окровавленную тряпицу на шее. Унялась кровушка-то… Скользнула по шее стрела, а ведь еще б немного – и в горло. И что тогда? Вернулось бы сознание обратно в мансарду, или… Да нет, не вернулось бы – теоретически это было давно уже доказано, а вот на практике проверять как-то не очень хотелось. И тогда, с тем французским студентом… Но там иначе все было – похоже, что сознание Марселя просто-напросто вытеснило Павла, еще до самоубийства. Ну, еще бы – Ремезову-то с чего с балкона вниз головой бросаться?
А вот этот местный товарищ – «боярич», мелкий феодал – что-то пока никак о себе не заявил. Так ведь и тот комсомолец – тоже. Может, тут все дело в интеллектуальном развитии? Почему бы и нет? Проверять, проверять надо, экспериментировать. Эх, скорее бы домой!
Домой… А. что, если… Если сейчас сесть, посчитать, прикинуть…
Павел почувствовал, как его охватил страх! Посчитать, конечно, можно было – даже и в уме, формулы и графики молодой человек хорошо помнил… Но вот приступать к этому делу не хотел – тривиально боялся. А вдруг… А вдруг это все – навсегда?! И тогда напрасно он ждет возвращения, не будет его, и резонанс не наступит уже никогда. Никогда! Страшно представить… И, конечно, надобно бы сделать расчеты… Не сейчас, потом. Утром. Ведь, может быть, ночью он уснет, а проснется уже в мансарде!
Да-да, такое вполне может случиться, и даже – скорее всего. Значит – спать, спать, спать!
Скрипнула дверь:
– Я покушать принесла, господине.
Голос был девичий, певучий, и Ремезов поспешно отвернулся от зеркала, рассматривая возникшую на пороге женщину в длинном, высоко подпоясанном, без рукавов, платье из плотной синей ткани, надетом поверх белой рубахи. Высокая, стройная, с приятным лицом. Судя по легкой повязке на голове, вовсе не закрывающей заплетенные в толстую косу волосы, это все же была девушка, а не замужняя женщина, и явно не из простых крестьянок – на ногах что-то вроде лаптей, только плетенных не из лыка, а из каких-то разноцветных веревочек – на улицу в таких не выйдешь, обувка чисто домашняя. На висках поблескивали подвески – какие, с ходу и не определишь, но точно – не золотые и не серебряные, а браслетики на руках – так и вообще стеклянные, желтенькие.
Поклонившись, девушка поставила на стол большое медное блюдо с яствами, судя по запаху – с дичью да с рыбой.
– Пиво сварили уже, господине. Дойдет – принесу. А пока вот – бражица ягодная.
Ремезов улыбнулся:
– Ну, наливай бражицы… Да и сама присядь.
– Ой, господине… уж присяду.
Девчонка не ломалась, не выпендривалась, разлив брагу по глиняным кружкам, уселась за стол на скамеечку, напротив Павла.
Правда, молодой человек и слова сказать не успел, как гостья… нет, скорей – служанка – вскочила. Всплеснула руками:
– Светец-то забыла зажечь. Посейчас принесу, инда скоро и темень.
И правда, солнышко, похоже, зашло уже, и в светелке резко стемнело, так что вставленная в светец лучина – лучина! – пришлась весьма кстати. Хорошо горела, можно даже сказать – ярко, почти ничуть не хуже свечки, да и коптила лишь самую малость.
– Хороша лучинушка, – присев, улыбнулась девушка. – Из березового топляка.
Ремезов вскинул глаза:
– Ну, выпьем, что ли?
– Да, господине, выпьем.
Бражица оказалась пахучей, хмельною, после второй кружки у Павла даже слегка закружилась голова, сразу так стало легко, свободно, да и девица раскраснелась, заулыбалась, заблестели глаза.
– Тебя как звать-то? – ляпнул сдуру молодой человек.
Так ведь и не думал уже – опьянел с устатку. Это ж надо – хозяин собственной служанки не знает.
Впрочем, девчонка, похоже, ничуть не удивилась, или, скорее, просто не обратила внимания – тоже запьянела изрядно. Приложив руку к уху, переспросила:
– Ась?
– Зовут, говорю, как? Только не говори, что Марфа Васильевна.
– Зовут. Меня?
– Ну, не меня же!
– Марийка я… Нешто запамятовал?
– Красивое имя… да и ты ничего. Ну, ладно… давай-ка еще накатим по кружечке.
– Чего, господине?
– Выпьем еще по одной.
– Выпьем… Вижу, господине – умаялся. Ложись-ка, я тебе на ночь сказочку расскажу, как ты любишь.
Павел махнул рукой – сказочка так сказочка…
Улегся на ложе, расслабленно наблюдая, как Марийка стаскивает с него постолы… Неплохая девчонка… симпатичная… И грудь… Вот, как раз склонилась – обнять? Обнять!
Ах, какая упругая!
– Погоди, господине, я затушу лучинушку…. да платье сниму.
Ого! При таких-то словах Ремезов сразу ожил – как и любой мужчина на его месте. Вот так сказочница! Вот оно так тут поставлено-то.
Ничуть не стесняясь, девушка сбросила с себя платье, рубаху, ногой подошла к светцу… наклонилась…
– Постой! – скинув рубаху, Павел проворно вскочил на ноги. – Так вот и стой… А я тебе… спинку поглажу.
Обернувшись, Марийка улыбнулась лукаво:
– Как велишь, господине, как велишь…
Ах, какое у нее было тело! Точеное, крепкое, сильное! И большая упругая грудь… Которую Павел, обняв девушку сзади, тут же обхватил руками, принялся ласкать, мять, зажав между плацами соски, и вот уже…
Марийка дернулась, застонала… о-ох, какой она оказалась жаркой, как изгибалась, как… Все грустные мысли давно уже покинули Павла, воспарившего в небеса от навалившегося внезапно блаженства. Тонкая талия, широкие бедра, грудь… А животик? А сладострастный стон? Да есть ли еще хоть что-нибудь слаще всего этого?
– Ах, господине… – прильнув к Павлу на ложе, расслабленно прошептала Марийка. – Как ты сегодня… ой…
– Ничего, милая, – молодой человек поцеловал девушку в губы. – Еще не вечер.
Ну да, не вечер – ночь. Тихая, звездная, ясная, с полной, улыбающейся добродушно луною и золотисто-палевыми отблесками заката.
Ремезов смежил глаза… и тут же – как показалось, почти сразу – открыл, вздрогнул нервозно: ну как же – «Детскую болезнь левизны в коммунизме» так и не доконспектировал – а завтра с докладом на комсомольском бюро выступать! Что комсорг скажет, ребята?! Вот беда-то!
Молодой человек так и подскочил на ложе… что-то царапнуло грудь… Нож! Узкое злое лезвие, зажатое в сильной руке Марийки! О-о, какой ненавистью пылали ее глаза… Или в них просто отражалась заглядывающая в окна луна?
Впрочем, Павлу сейчас было не до этого – слишком уж далеко все зашло, да так, что нужно было немедленно спасать свою жизнь!
Перехватить запястье. Сжать! Вывернуть… Ага! С глухим стуком нож упал на пол. Вскочив с ложа, девушка – успела уже одеться, зараза! Заранее к убийству готовилась – со всех ног бросилась к двери, откинув крючок, распахнула… Тут же угодив в объятия дюжих молодцов-слуг!
Один из парней, не отпуская враз поникшую головой беглянку, вопросительно посмотрел на «боярича»:
– Велишь в амбаре ее запереть, господине? Или постегать для острастки?
Страж спрашивал как-то без особых эмоций – привычно, буднично, будто бы каждую – ну, почти каждую – ночь из покоев молодого выскакивали разъяренные девки… А, может, и выскакивали! Почему нет?
– На лавку ее посадите, – подумав, приказал Ремезов. – А сами – пошли прочь. Благодарю за службу!
Усадив девушку, парни молча поклонились и вышли, осторожно притворив за собой дверь.
Павел быстро оделся, поднял с пола нож, осмотрел с интересом – так себе ножичек, без особых изысков, но вполне действенный.
– Ну? – положив нож на стол, он посмотрел на Марийку. – Что скажешь, дева? Молчишь… Квасу хочешь? Или бражки – еще осталась.
Обычный вопрос этот, заданный вполне дружелюбным тоном – кто бы знал, чего сейчас стоило Ремезову сдержаться! – похоже, выбил девчонку из колеи – она даже не сразу поняла, что у нее спрашивают.
– Бражку, говорю, будешь? – подойдя ближе, молодой человек протянул Марийке кружку. – Пей. Да ты глазами-то не сверкай, я ж тебя не пытаю…
– Успеешь еще! – девушка дернулась было к двери… но тут же обреченно обмякла… и бросила быстрый взгляд на окно.
– Не, через окно не выйдет, – усмехнулся Павел. – Переплет-то свинцовый – вряд ли головой пробьешь.
– Смеешься?
– А что мне – плакать, что ли? Слава богу, не зарезала.
– Ничо… придет еще твой час. Ну? Что смотришь? Давай, зови слуг, ката – зачните пытать, бейте плетьми, калеными железами жгите!
В глазах девушки вновь вспыхнула ненависть.
«Боярич» покачал головой:
– Обрати внимание, я даже не спрашиваю, кто тебя подослал?
– Мне и самой есть за кого мстить, – криво улыбнулась девчонка. – Будто не помнишь…
– Не помню, – честно признался Ремезов. – Думаю вот, что с тобой теперь делать?
– И что надумал?
Павел подошел к окну, помолчал немного, потом смачно, с хрустом, потянулся, зевнул:
– А прогоню-ка я тебя, Марийка, прочь. Вот сейчас рассветет, встанут все… на луга пойдут, в поле… и ты с ними иди – назад только не возвращайся, поняла?
Марийка непонимающе хлопнула глазами. Да уж, пожалуй, ей трудно было взять в толк, что сейчас происходит…
– Ты меня отпускаешь, что ли?
– Можно и так сказать, – усмехнулся молодой человек.
Девчонка привстала на лавке:
– Не верю!
– Не верь, мне-то что? – распахнув дверь, Павел подозвал парней-стражей. – Все, хватит службу нести – утро уже… Марийка! – обернувшись, молодой человек нарочно повысил голос. – Ты тоже свободна! Прочь, говорю, пошла… позову, когда снова понадобишься.
Девушка медленно поднялась с лавки, словно бы еще не верила в то, что так легко отделалась. Впрочем, не очень-то и легко, изгнание в эти времена – наказание очень серьезное, иногда и хуже смерти. Изгой – кому он нужен-то? Особенно – девка. Одной уж точно не выжить… если только прибиться к кому-нибудь – в закупы податься, в холопки-челядинки. Ну, а что еще с этой дурищей делать? Здесь оставить… ага, это убийцу-то?! Ну, не казнить же ее в самом-то деле… и на усадьбе оставлять нельзя. Прогнать – самое оно то. Пущай!
– Прощай, Марийка, не кашляй, – захлопнув за несостоявшейся убийцей дверь Павел.
Уселся на ложе и вот только сейчас едва перевел дух, намахнув всю оставшуюся брагу. Однако и дела тут! Девки с ножиками… Мстительница, блин. И что, правда, есть за что мстить? Почему б и нет? Этот вот «боярич», с кем «срезонировал» Ремезов, похоже, был тот еще фрукт. Ошалевший от полной безнаказанности феодальчик. А что? Моя вотчина, мои холопы – что хочу, то и ворочу! Видать, и феодально зависимых девок к сексуальным отношениям принуждал, и кнутиком душу любил потешить… садист чертов! Может, и нужно было такого гада прибить? И, если б не «комсомолец», так и не дожил бы до утра юный феодальчик… а с ним бы и Павел прижмурился – по всем раскладам именно так бы и вышло! Черт… долго еще в этой поганой шкуре сидеть? Посчитать, произвести расчеты… Или сначала напиться? Ну да – стресс-то как-то надобно снять. Тем более, пиво, верно, уже остыло… свеженькое.
Ремезов беспробудно пропил три дня, а, может, и четыре. Тупо, ни о чем не думая, квасил, запершись в хоромах… Потом надоело одному – позвал слуг, стражей, тиуна… С ним, с Михайлой-рядовичем, и закончил – когда уж вообще ничего в глотку не лезло – ни пиво, ни брага, ни медовуха.
Проспался, рядовича прогнал, и целый день отпивался сбитнем, после чего опрокинулся ночью на бюро комсомольского актива, где с честью и почти без запинок оттарабанил «Детскую болезнь левизны…», за что получил полную благосклонность куратора из обкома – гладенького и гаденького мужичка, плотоядно посматривающего на рослых и сексуально привлекательных комсомолок.
Это было еще не все… ближе к утру еще предстоял коллоквиум по творчеству Франсуа Мориака, естественно, на французском языке.
Как бы там ни было, Мориак ли помог или Ленин, может быть – просто здоровый сон, но проснулся Павел раненько – свеженький как огурчик. Поднялся с ложа, оделся, вышел на крыльцо, кивнув стражам – ведь не зря их держал! Вот ведь, даже в собственной вотчине было небезопасно.
Едва рассвело, и солнышко еще даже не показалось – только лучи его золотили брюха реденьким, медленно проплывающим облакам, однако феодально зависимые людишки уже поднялись, шерудились по двору. Девки да бабы кормили птицу, таскали воду в больших деревянных кадках да кололи дрова – это и в начале двадцатого века на селе считалось типично женской работой – мужики же, прихватив серпы да косы, отправились на поля.
– Солнышко, ишь, – поклонился неведомо откуда возникший тиун. – Так постоит седмицу, можно всех на поля отправлять – и баб, мужикам в помощь. Понятное дело – жатва.
Ремезов охотно кивнул, да справился, нет ли поблизости какого-нибудь водоема. Причем спросил хитро: где бы, мол, лучше сейчас выкупаться, на реке или…
– На реке, оно, конечно, водица хороша, студена… – поскреб бороденку рядович. – Зато на озерце спокойнее. Ой! – Михайло вдруг хватанул себя по лбу. – Я ж на озерцо только что мелкую шелупонь отправил – рыбу ловить. Не наловят к вечеру по десять карасей да язей – каждому плетей дам.
– Плетей?
Тиун поклонился:
– Все, господине, по твоему указу.
Вот ведь гад феодальный… Детям – плетей.
– Ладно, пойду к озерку прогуляюсь.
Выйдя за ворота расположенной на вершине невысокого холма усадьбы, молодой человек еще издали заметил ребят с удочками и сетями, поднимавших босыми ногами пыль с неширокой, ведущей через рощу в поля дороги. За полями, километрах в двух, синела река, рыбаки к ней не пошли, а, еще немного прошагав по дороге, повернули налево, в лесочек.
Павел не стал их нагонять, шел себе спокойненько позади, думал. И думы-то были невеселые… С чего веселиться-то, когда… Попал вот, как кур в ощип… или – во щи, хрен редьки не слаще. Как ни трудно было это признать, но по всему выходило, что…
Нет! Ремезов резко тряхнул головой. Рано еще делать выводы… без основательных расчетов.
Пока шел, пока думал и не заметил, как впереди, за деревьями, показалось озеро, узкое, но длинное, с большим песчаным пляжем и чистой прозрачной водою. Парни с удочками и сетями сразу свернули налево, к зарослям – наверное, там клев был лучше – Павел же, скинув одежду, с наслаждением бросился в воду, выкупался и, окончательно придя в себя, уселся в тенечке, рисуя прутиком на плотном песке цифры и графики.
Считал долго – весь пляж изрисовал, не обращая внимания на появлявшихся иногда – в безветрие – комаров да редких в августе слепней. Ну да, раз скоро жатва, так пожалуй что на дворе – август. Тепло еще, даже жарко, однако водица уже не сказать, чтоб как парное молоко, да и на росших рядом березках появились кое-где желтые пряди. Август…
Ремезов провозился с расчетами почти до обеда – что-то пересчитывал, да гнусно, про себя, ругался… И было ведь с чего! Все самые нехорошие его предположения оправдались: выходило, что он, Павел Петрович Ремезов, останется здесь очень надолго… если не навсегда!
Как видно, там, в лаборатории, произошел неожиданный вброс энергии, скорее всего – из-за внезапно налетевшей грозы. Да-да, иначе ж откуда ей взяться? Просто ударила молния, а потом – так же резко – все вырубилось, отключилось… И Павел Петрович, увы… Ладно! Что уж теперь переживать да махать после драки руками. Раньше нужно было о безопасности думать, громоотвод хотя бы установить… Так был же громоотвод! Вроде…
С другой стороны, нужно видеть во всем и хорошую сторону – кому еще удавалось вот так пронзить время? Похоже, что никому, он, Павел Ремезов – первый. А быть первопроходцем всегда приятно, особенно в такой неизведанной области. Итак – средневековье – пусть! Посмотрим, что с этим можно поделать.
Павел рассуждал сейчас абсолютно спокойно, весь пар уже выпустило несостоявшееся убийство и последующая за этим пьянка. Все! На большее, на какие-то там переживание, уже не хватало ни нервов, ни душевных сил. Оно и к лучшему! Раз уж так вышло, что не на что надеяться, значит, надо жить здесь и постараться устроить свою жизнь как можно лучше. Впрочем, не только свою…
И во-первых, разобраться вполне определенно – кто же он все-таки такой? Мелкий феодал – это бесспорно… Еще повезло, мог бы и с холопом срезонировать или с каким-нибудь смердом – тогда пришлось бы намного труднее, а так… Прорвемся, коль некуда уж деваться! Хотя… а кто сказал, что некуда? А если добавить энергию изнутри… забрав ее у того человека, с которым возможен резонанс… Ну-ка, ну-ка…
Перед глазами Ремезова услужливо всплыл список: Сенека, Аттила, Субэдей-багатур… Стефан Баторий…
Дата! Узнать более-менее точную дату – какой хоть на дворе год?
Натянув рубаху, молодой человек сплюнул и решительно направился к рыбакам – через заросли камышей, бузины, краснотала.
– Эй, парни!
Азартно ловившие рыбу мальчишки все враз обернулись… и, узрев хозяина, разом повалились на колени. А самый маленький – лохматый и тощий – даже заплакал, от чего новоявленный феодал устыдился и раздосадовался – вот ведь, черти, его – хозяина – словно чудище какое-то поганое воспринимают! Значит, есть за что так бояться?
Самый старший из отроков, закусив губу, несмело поднял глаза:
– Мы тут, господине, рыбу для тебя ловим…
– Вижу, что ловите, – Ремезов махнул рукой. – Демьянко Умник не с вами?
– С нами. Во-он там, у омута – сетка за коряжину зацепилась, вытаскивают.
– Так позовите немедля! – тут же приказал молодой человек. – Туда, к песочку, пускай придет.
Приказал и повернулся, пошел.
– Ой, Демьянко, бедный… – зашептали сзади. – Опять, видать, чтой-то натворил.
– С нашим-то боярином и творити не надо…
Пригладив рукой волосы, Павел задумчиво посмотрел в небо: и чего ж его все так боятся-то?!
Демьянко Умник прибежал тут же, волосы мокрые пятерней пригладил, даже рубаху успел надеть – старую, штопаную, но опрятную, чистую… Поклонился в пояс:
– Боярин-батюшко, звал?
– Звал, звал, – покусывая травинку, Ремезов кивнул на траву. – Садись вот тут, рядом.
Парнишка несмело присел.
– Грамоте разумеешь?
Демьянко неожиданно покраснел и опустил голову.
– Ну? – повысил голос Павел.
– Не вели сечь, батюшко, – едва слышно прошептал отрок.
– Так разумеешь или нет?
– Донесли уже, – Демьян прошептал еще тише и, вдруг вскинув глаза, выкрикнул: – Разумею, да! Дьячок покойный учил, с приходу нашего…
– Молодец, – довольно покивал молодой человек. – Значит, и буквы знаешь, и Писание…
– И буквы, и Писание…
– А вот, скажи-ко, какой сейчас год? Ну, лето, лето которое?
Чуть прикрыв глаза, мальчишка задумался и зашевелил губами:
– Лето сейчас… лето сейчас… Шесть тыщ семь сотен сорок восьмое.
«Тысяча двести сороковой год», – мысленно перевел Ремезов. Однако!
Глава 4
Хозяин
Август – сентябрь 1240 г. Смоленское княжество
Ремезов беседовал с Умником долго, и не раз, и не с ним одним – и с Михайлой-рядовичем, с закупами, дворовыми девками… Марийка, кстати, ушла, сбежала, о чем уже вечером доложил тиун, на что Павел лишь отмахнулся – бог с ней. Михайло ушел удивленный.
Из всех разговоров-бесед да из собственных наблюдений-догадок, в течение примерно трех дней в голове молодого ученого сложилась некая более-менее близкая к истине картина, так сказать – житье-бытье юного феодала Павла Заболотнего, Петра Ремеза сына.
Черт! Вот как все сошлось-то – и внешность, и даже имя-отчество!
Холмистые, изрезанные глубокими речными долинами земли, что тянулись здесь, вдоль верховья Днепра, издавна принадлежали смоленским князьям, конкретно сейчас – старому Всеволоду Мечиславичу, вассалом которого являлся старый боярин Петр Ремез и трое его сыновей… да-да, у Павла Заболотнего имелись еще и старшие братья, как понял Ремезов – сволочи еще те. Старый боярин, на что-то осерчав, лет пять назад прогнал со двора всех троих, скрепя сердце дав каждому по деревне да запашке, а уж остальное сыновья добывали, кто как умел. Что касается самого младшего, Павла, так та – в пять дворов – деревенька, где находилась укрепленная частоколом усадьба, досталась ему от отца, а еще парочка деревень-однодворок да за дальним лесом выселки – уже от смоленского князя Всеволода, на правах держанья за ратную службу, которою юный боярин исполнял восемьдесят дней в году, ежели возникала в нем надобность. Последний раз – два года назад у Долгомостья, где юный боярич едва не погиб в схватке с татарами. С тех пор князь Всеволод молодого своего вассала не трогал – войн никаких не вел, с соседями – владимирцами, Полоцком, Новгородом – да татарами вроде как замирился… точнее, всем им пока не было до Смоленска никакого дела – друг с дружкой собачились, дрались.
Что и позволяло пока мелким смоленским феодалам улаживать свои собственные делишки… чем намеревался нынче заняться и Павел. А что? Жить-то на что-то надо… да и еще хотелось бы дать жить другим, ибо жить для себя – гнусно и подло, а вот для людей… Честно говоря, это не полностью ремезовские мысли были, а того юного комсомольца, что конспектировал «Детскую болезнь левизны…». Но тем не менее идеи-то, по здравому размышлению, оказались неплохими, правильными, так что постепенно Павел стал их своими считать. Ну, а как же – «Жить для людей!» – этот слоган куда как более человеку пригож, недели пошлое – «вы этого достойны». Да… вот и Франсуа Мориак в своем романе «Тереза Дескейру» тоже показывал…
При чем тут Франсуа Мориак, вот, дьявол?
Павел обхватил руками голову, посидел, прогоняя чужие – между прочим, французские – мысли… Потом вышел на крыльцо, велел позвать тиуна, и, пока того дожидался, прикинул собственные перспективы-дела.
Субэдей-багатур – именно с этим человеком можно было вступить в резонанс, именно его энергией воспользоваться! Каким образом? Спровоцировать взрыв эмоций… да еще антенна, скорее всего, понадобится… да еще отыскать этого монгольского черта, подобраться поближе, лицом к лицу – тоже, скорее всего, непросто, но главное-то не в этом – в самой возможности резонанса! А уж коли нарисовалась хоть малейшая возможность вернуться, так надо ею воспользоваться – хотя бы попытаться. Пусть даже и не выйдет ничего – но попытаться-то надо! Иначе потом всю жизнь – здешнюю жизнь! – себя корить.
Итак, Субэдей… Один из самых опытных полководцев хана Бату. Батыя, про которого здесь уже все были наслышаны много худого. Впрочем, ничуть не худшего, нежели о тех же литовцах, полочанах, орденских немцах или черниговцах – вот уж вражины-то!
Август 1240 года… Монголо-татарские полчища уже по Руси прошлись… Киев, правда, еще не взяли… Или взяли уже, сожгли? Ремезов точно не помнил, знал только, что татары – Субэдей – в самом скором времени должны уйти куда-то на запад – в Польшу, в Венгрию… А Польша, кстати – не так уж и далеко: Туров, Волынь – вот уже и Краков. Недалеко… километров восемьсот, а то и вся тысяча. Для двадцать первого века – по хорошей дороге – тьфу, а для здешней эпохи – пути полтора месяца, и это если еще повезет. Ладно – была бы цель! Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики… Тьфу ты, опять комсомольские мысли полезли… уж лучше бы – местные, этого вот, Пашки Заболотнего, боярина… Впрочем, какой из него боярин? Если только самый-самый мелкий – микроскопический. Вотчина – вот она, рядом, деревня в пяток дворов – по этим временам – большая. Плюс землица, лес, выгоны и заливной луг, которым, как уяснил со слов тиуна Ремезов, он владел пополам с сельской общиной – вервью. Деревня называлась, как ей и положено – Заболотица, а еще были однодворки – Заглодово и Опята… да – и за дальним лесом – выселки. В самой Заболотице частью жили свободные крестьяне – «люди», однако же таких насчитывалось немного, всего-то один двор – человек сорок – а все остальные – смерды, обязанные платить за боярскую землицу оброк и отправлять повинности… Частокол вот хотя бы поправить, а то совсем обленились тут! Такие же смерды и в однодворках жили, да на выселках – закупы, но те все, как и землица – от князя Смоленского Всеволода Мечиславича – дар. Не просто так – за службу.
Итого, как ни считай, выходило на круг три деревеньки… не так уж и мало! Что ни говори – феодал, пусть даже и мелкий. Не «слуга под дворским», но «вольный слуга» – так их в летописях именовали. Эх, еще бы землицы да людишек в вотчину – и можно было бы с полным правом именоваться боярином! «Вы этого достойны!» Людишек-то нетрудно было найти да поверстать в закупы – от монголов много бежало, но вот землица… с землицей проблемы, она вся уже – чья-нибудь, свободной, пустой – нету.
А вот если вспомнить французскую феодальную лестницу, то место его, Павла, в самом низу – никакой он не герцог, не граф, не барон даже, а самый что ни на есть шевалье – рыцарь. Вассал чьего-нибудь вассала. В данном конкретном случае – Всеволода Мечиславича… а тот – владимирского князя Ярослава Всеволодыча вассал, а уж тот, в свою очередь – татар, Батыя… Успел, интересно, Ярослав Всеволодыч ярлык на главное княжество прихватить?
А черт его знает, да и не особенно-то это и интересно, куда интересней другое узнать – где сейчас Субэдей? – в точности. Насколько помнил Ремезов, монголы ходили в дальние походы зимой – а летом-то как, по шоссе, что ли? Или вдоль железных дорог? Вот именно, летом-то, окромя как по рекам да по редким купеческим трактам, никаких особых путей-дорожек не имелось и вовсе. Значит – зимой. А до зимы еще было время. И нужно было прожить его так, чтоб потом не было мучительно больно… Тьфу ты! Опять комсомолец вылез! Уж лучше бы Франсуа Мориак.
– Звал, господине? – загодя поклоняясь, орлом взлетел по ступенькам Михайло-рядович.
Ухмыльнувшись, Ремезов похлопал его по плечу:
– Звал, звал, а как же! Давай, заходи, Михаил, дело есть – полную опись составить.
– Опись? – недоуменно заморгал тиун.
– Ну да, ну да. Кто у меня есть, да что должен. Нешто возможно без описи?
Павел неожиданно вдруг осекся на этой фразе – «нешто возможно». Раньше-то он таким макаром не выражался, а вот теперь… теперь и речь местную понимал, хотя человеку двадцать первого века во всяких там «зело» да «понеже», казалось, без пол-литры и не разобраться. А Ремезов понимал – да… видать, что-то и от Заболотнего Павлухи проклевывалось.
– Итак, что там у нас, запишем… – усевшись за стол, Павел потер руки. – Ты чего чернила-то не принес, пергамент?
– Нету пергамента, батюшко – дорог зело.
«Боярич» вскинул глаза:
– А на чем же вы тут пишете? На березовой коре?
– Бывает и так, писалом. Одначе давно тут никто ничего не писал, – честно признался рядович.
– Так и ты, Михайло, неграмотен? – удивился молодой человек.
– А тут во всех деревнях, батюшко, никого грамотного нет – чай, не посад, не город.
– Понятно, понятно, – нехорошо прищурился Павел. – Сиволапые мы, писать-читать не разумеем. А кто разумеет? Поди, Демьянко Умник один? Где он сейчас?
– На глине. С другими отроками месят, таскают.
– «На глине», – скривившись, передразнил Ремезов. – Единственный-то грамотный человек. А ну, вели позвать его, да живее!
– Сейчас спроворю, боярин-батюшка!
Мухой вылетев из-за стола, рядович скрылся за дверью.
Так вот и стали разбираться – вдвоем – а третий (Умник) на берестине выделанной писалом острым записывал. Сначала людишек переписали, потом земли. И того на круг вышло взрослых мужиков да баба на усадьбе да по всем селеньям, да на выселках: холопов обельных полтора десятка душ, да семь челядинок, да дюжина закупов, да рядовичей, включая самого тиуна, четверо, да двадцать – в те времена говорили – «полсорока» – смердов. Не бог весть что… но и не так уж и мало вышло. О землях же – о тех особо сказать надобно. Собственно вотчинные запашки – вокруг Заболотицы, в лесищах, тако же и дальше землица, Всеволодом-князем жалованная. Все – огнища.
– Так-так, – выслушав тиуна, Ремезов озабоченно покачал головой. – Понимаю – подсечно-огневое земледелие называется: лес подсекли, пожгли, пашню распахали – живи не хочу… год-другой, много – третий. А дальше-то что? Снова лес жечь?
– Да хватит еще на наш век лесу-то, батюшко! – подал было голос тиун, да сразу же осекся под гневным взором боярина:
– Аполитично рассуждаешь, товарищ тиун! Словно бы олигарх какой-нибудь или крупный российский чиновник, которым тоже почему-то кажется, что нефти на их век хватит. Не знаю, как насчет нефти, а лес будем беречь…
– Что-что, батюшко? Чтой-то я не пойму, о чем ты.
– Вот, блин недоделанный! – в сердцах выругался молодой человек. – Да я все о том же – хозяйствовать правильно надобно! Яровой клин, озимые, а часть земли пусть отдыхает, под пар.
– Хо! В полоцких да в немецких землях тако и сеют! – осмелев, подал голос Демьян. – Про то язм самолично слыхал.
Ремезов усмехнулся:
– Хэ! Слыхал он. Итак, уважаемые господа, собрание правления сельхозартели «Заболотица и Ко» прошу считать состоявшимся. Ты, Михайло, в деньгах, в выгоде понимаешь?
– В выгоде? Еще бы!
– Тогда назначаешься коммерческим директором, я – само собой – генеральным, а ты, Демьяныч, как самый грамотный – секретарем и – по совместительству – бухгалтером. Вопросов больше нет? Все понятно?
– Не, батюшка, – изумленно переглянувшись, разом произнесли Михайло с Демьяном. – Правду сказать – ни единого словечка не поняли.
– Ну… оно слишком-то вам понимать и не надо. Одно знайте, товарищи – хозяйствовать отныне будем по-новому, «социализм – есть учет и контроль», как сказал… гм-гм… Франсуа Мориак, что ли…
– Ну, про учет-то мы поняли, уяснили.
– Вот и славненько, – выйдя из-за стола, новоявленный именитый вотчинник (пока еще только – «вольный слуга»), азартно потер руки и, искоса взглянув на тиуна, поинтересовался насчет долгов:
– Надеюсь, все должнички переписаны?
– А как же, батюшко! – вскочив, просиял ликом тиун. – Как водится – на дощечках, на палочках.
– Это как – на палочках? – полюбопытствовал молодой человек. – Ну-ка, Михайло, напомни-ко.
Рядович пожал плечами:
– Да, как и везде. Когда купу берут, ножичком на дощечке проводим черточки – сколько мешков, значит, взял. Опосля ту дощечку напополам – одна часть нам, другая – закупу.
– Умно, – покивал Павел. – Тут уж при всем желании не смухлюешь. И все же… один, может, мешки с пшеницей брал, другой – с рожью, третий – вообще горох…
– Для пшеницы, батюшка, дощечки березовые, а для ржи – ольха. Для гороха же…
Ремезов довольно махнул рукой:
– Понял тебя, Михайла, дальше можешь не пояснять. Вижу, учет в артели поставлен на должном уровне – не подкопаешься. Так…
Молодой человек призадумался: про вотчину, про землицу, людей, он уже все, что нужно, в общих чертах выяснил, осталось только узнать кое-что о себе самом.
– Все, Михайла, свободен. А ты, Демьян, задержись… копии составишь, да акт.
Дождавшись, когда тиун вышел, Ремезов уселся на лавку рядом с Умником и, хлопнув того по плечу, заговорщически подмигнул:
– Ну, хватит пока писалом скрипеть… Квасу вот налей, выпей…
– Благодарствую, господине…
– Да перестань ты кланяться… Лучше расскажи-ка мне про меня самого. Понимаешь, охота чужими глазами взглянуть, как бы со стороны… в порядке самокритики.
– Со стороны? – отрок опасливо отстранился.
– Да-да, – с нажимом произнес молодой человек. – Со стороны. И попрошу не врать, говорить как на духу, честно… иначе… Уразумел? Ну! Не слышу ответа!
– Угу, господине…
– Давай-давай, – Павел нетерпеливо прошелся по светлице. – Начинай уже. Да помни – никаких иллюзий я насчет себя не питаю, лесть не люблю, так что выход у тебя один – говорить все, как есть. Да не бойся ты, не обижу! За крылья же не сек?
– Не, господине, не сек.
– Ну, вот. Так и здесь – говори, говори, не стесняйся. Для начала перечисли-ка всех, кто на меня зуб имеет.
– В вотчине, господине?
– И вотчине, и в деревнях, и на выселках… Да я сам их всех как облупленных знаю, охота вот чужими глазами взглянуть… может, и я виноват где-то… Ты что так смотришь-то, отец родной? У меня что – рога на голове выросли?
– Что ты, что ты, господине, – Демьянко мелко перекрестился на висевшую в красном углу икону.
И тут же бухнулся на колени, словно совершил какой-то непростительно страшный проступок, за который… за который только из комсомола исключить или с позором изгнать с факультета!
– Ой, господине, прости… на иконку твою перекрестился… забыл…
– На мою? – молодой человек оглянулся, посмотрел в красный угол и успокоительно махнул рукой. – Ладно, ладно, крестись… Только теперь уж точно лгать не должен! Раз уж на иконе поклялся…
– Ой, господине, – Демьян обреченно качнул головой и, набрав в грудь побольше воздуха, словно собрался нырнуть в самый глубокий омут, наконец-то приступил к делу: – С кого, господине, прикажешь начать?
– Как – с кого? С коммерческого директора… тьфу ты – с тиуна. Да! Кроме тебя я еще всех тут в усадьбе выспрошу.
– Ой, батюшко… Так они то же самое тебе и скажут. Коли не забоятся.
– Ты, я смотрю, уже не боишься.
– А куда мне деваться-то? Не скажу, так кнутом бить прикажешь… А, была не была! – Тряхнув лохматой башкою, Демьянко хватанул квасу – между прочим, сильно хмельного – и, шмыгнув носом, поведал: – Михайло-рядович на пустошь за-про меж озерком и болотиной глаз положил, многие видали – обмеривал.
– Так-так… и зачем ему пустошь?
– Так все знают – жениться задумал, на вдовице Акулине с выселок. Он ей и помог с купой, выплатил, не то б бысть Акулине холопкою, нынче же – в людях.
– Понятно… за это, значит, Михайло меня не жалует…
– Не, не за это. Ты его, батюшка, пару раз по уху смазал – а тиун наш на драчливость памятлив.
Павел угрюмо покачал головой:
– Угу, угу… и кого я тут еще приласкал?
– Да многих…
Собравшись с мыслями после беседы с Демьяном, Ремезов выспросил на ту же тему еще нескольких человек, причем все без исключения врали, что Павел очень хорошо чувствовал и уже сам отделял зерна от плевел. И как много о себя узнал всякого разного! Лестного, правда, мало… да что там мало – вообще ничего.
Что и говорить, на редкость неприглядным типом оказался Заболотний Павлуха, несмотря на всю свою молодость. Злопамятный, жестокий до садизма, себялюбивый, мелочный, однако не дурак, этого не отнимешь: всех своих людей держал в страхе, действуя по принципу: разделяй и властвуй, опирался на пришедших вместе с ним воинов – немного – и на местных смердов, которых в любой момент мог прищучить, просто увеличив оброк.
Закупов тоже доводил, а уж что касаемо холопов и челяди… тут уж Павлуха мог дать фору Калигуле и Нерону! Нехороший вырисовывался портрет, и, честно сказать, дело в вотчине шло к стихийному социальному бунту – поджог усадьбы, убийство боярича и его приближенных, побег холопов и челяди… А потом – карательная экспедиция смоленского князя, обязанного реагировать на подобные вызовы, как «скорая помощь».
Либо – не дошло бы до бунта, Павлуху просто убили бы, придушили б или вот, как Марийка хотела – прирезали.
Да, еще соседушка, боярин Онфим Телятников, воду мутил. То собирался выдать за Павлуху свою племянницу, то вдруг – там, на болоте – напал… Такое спускать было никак нельзя – следовало готовиться к усобице! Либо ехать жаловаться князю – бить челом, просить наказанья строптивого и неуживчивого соседа. Сие предприятие вполне могло выгореть – и для чести боярина в том не было никакого урону. А потому следовало хорошенько подумать, как именно поступить – что выгоднее?
После всего услышанного – и не только услышанного, а и додуманного тоже – новоявленный боярин долго не мог заснуть, и вовсе не потому, что был таким уж мнительным. Просто выяснилось, что почти каждый человек в вотчине имел все основания его ненавидеть! Каждый… за исключением, быть может, звероватого Окулки-ката, о котором что-то никто ничего не рассказал – боялись.
«Вот так наследство! – переживал молодой человек. – Это теперь – ходи, да оглядывайся!»
Нужно было срочно исправлять имидж, и свою пиар-кампанию Ремезов начал с закупов, для начала простив им все недоимки по неурожайным годам. Потом обратил внимание на холопов да челядинок, даже разрешил кое-кому жениться, таким образом приобретя себе верных сторонников и в этой среде. Оставалось дело за смердами – а с этим было сложнее, никакими крепостными они не являлись, зависели чисто экономически – платили оброк за аренду земли, и в любой момент могли плюнуть да уйти куда глаза глядят… туда, где хоть кто-то дал бы землицу на более щадящих условиях… что, по всем прикидкам, и собирался проделать соседушко – Онфим Теплятников. Переманить смердов, а затем… А ведь вполне могло выйти!
Если б Павел был такой дурень…
Однако Павел дурнем уж никак не являлся, и смердами решил заняться немедля – даже несмотря на страду, где каждый день год кормит.
За всеми перипетиями собственной судьбы Ремезов и не заметил, как началась жатва: пользуясь установившейся хорошей погодой, крестьяне спешили убрать хлеб, «люди» – на своих клочках-землях, смерды – на арендованных под оброк и повинности, холопы и закупы – на господской запашке. Хорошее нынче уродилось жито, высокое, колосистое, густое – такое аккуратно жали серпом, не косили, чтоб раньше времени не полегло, не обсыпалось. Косу, впрочем, тоже использовали – поутру, по росному зерну, мокрое-то от косы не сыпалось, ну, а ближе к обеду – как подсыхало – снова жали серпом, укладывая хлеба в снопы здесь же, на поле – тут и оставляли подсыхать, благо вёдро.
Споро трудились, весело – от малого до старого, всем работы хватало – кому косу да серп поточить, кому с граблями, кому снопы вязать, да на телеги – уже к вечеру ближе, грузить.
Девки, светлые платы на голову от солнышка повязав, песни затягивали:
- Нате вам белый платок, поканайтеся,
- Ой ли, ой да люли, поканайтеся!
Хорошо пели, красиво, протяжно.
Все бы хорошо – да опасность большая имелась. Вдруг да враги налетят, пожгут жнивье, хлеба увезут, отнимут?
Для того дела Павел, как и нужно было, холопей воинских своих в поля не пускал, держал на усадьбе, в вотчине, а часть – в сторону по дальним полям отправил – мало ли? С таким «добрым соседушкой», как Онфим Телятников, многогрешная борода, сего можно было ждать. Пускай и в его вотчине тоже страда, а все же лишняя осторожность не помешает.
Да и всех ребят молодых, мальчишек, Ремезов, специально собрав, лично проинструктировал, чтоб по сторонам посматривали, чтоб, ежели что…
Все силы были на жатву брошены, и правда ведь – день год кормит.
Ночью с дальних полей ни на усадьбу, ни в деревни не возвращались – там же и спали в шалашах, а кто и просто под звездным высоким небом. Вечером жгли костры, варили похлебку, однако же долго не бездельничали, не сидели – все понимали – страда. Вот осенью да зимой – тогда уж и отдохнуть можно. И все же Павел освобождал от работ молодых парней – воинов, точнее сказать – ополченцев, ставил их на стражу по очереди: чай, не колхоз – время на дворе дикое!
И вот однажды…
Ремезов как раз заканчивал обедать, и страдный день был еще в самом разгаре, когда в усадьбу прибежал взволнованный босоногий гонец – парнишка с дальних полей. Стражники его к хозяину сразу не пустили – нечего всякой мелкой шелупони господина от дел отвлекать!
Услышав шум, Павел вышел на крыльцо, бросив подозрительный взгляд на мальчишку:
– Кто таков? Чего шумишь тут?
– Язек, с выселок. С дальних полей прибег. Беда у нас, господине! Неведомые люди налетели, жито пограбили, угнали полон.
– Так! – Ремезов посмотрел на одного из стражей – смешливого, но отнюдь не глупого парня лет восемнадцати в длинной посконной рубахе и круглой кожаной шапке. – Ну? Что скажешь, Микифор?
– Скажу, что скакать надоть! Полон у вражин отбить и жито.
– Верно, – быстро кивнул боярич. – Велю седлать лошадей. Эй, вы, там… А чего ж не спросил – много ль врагов?
– Дак это, – Микифор смущенно замялся. – Забыл, батюшко.
Ремезов недобро прищурился:
– Забыл он, ишь ты. Язек! Так сколько их было?
– Вот… – отрок растопырил пальцы. – И еще – вот…
– Пятнадцать человек, ясно. Вооружены как?
– Копья, луки со стрелами, у некоторых – мечи.
– Кольчуги, шлемы имеются? – поглядывая на седлавших коней воинов, уточнил Павел.
Подросток почесал затылок:
– Не, батюшко… не углядел.
– Не углядел он…
Ремезов снова посмотрел на стражу, усмехнулся – эх, секундомер бы сейчас! Впрочем, и без секундомера ясно – не шибко-то поспешают вои. Нет, конечно, торопятся, но от того все еще дольше выходит.
Ага! Ну, наконец-то, справились, Микифор, спрятав довольную улыбку, подскочил с докладом:
– Готовы, господине!
Ладный парень, что и говорить – ладный: высок, строен, мускулист – в руке – рогатина, на плече – лук со стрелами, на поясе – нож. Посматривает нетерпеливо… ага, вот на сотоварищей своих оглянулся – Гаврилу, Нежилу, Якова… как остальных зовут, Павел еще не запомнил, но всего с дюжину сейчас набиралось.
– А вражин-то – полтора десятка, – покачал головой Ремезов. – Управимся ли?
– Управимся, господине! – лихо отозвался Микифор. – Нагоним, наскочим – не успели тати далеко уйти, тем более если с возами.
– Это верно, и все ж, пока доедем… Вот что – там ведь, у дальних полей, река?
Парень согласно кивнул:
– Так, господине. Как раз – по течению.
– Знаю, что по течению… – боярин обвел своих воинов задумчивым взглядом. – Гаврила, Неждан, Язек… и вы четверо – за мной к речке – на лодках пойдем. А ты, Микифор, с остальными – лесом. По пути на поля загляните, прихватите кого из смердов.
– Сделаем, господине!
Микифор и прочие ополченцы уже нетерпеливо гарцевали на хозяйских конях… чего, как недавно выяснилось, никак не мог позволить себе их боярин – просто не умел держаться в седле! Ну, откуда у молодого доктора наук такое умение? Он и лошадей-то прежде видал в основном лишь на картинках. Думал поначалу – способности Павлухи Заболотнего вдруг да прорежутся – ан нет! Да уж… зато, что такое демократический централизм – Павел спокойно мог рассказать, и тезисы основных ленинских статей от зубов отскакивали – «Анти-Дюринг», «Детская болезнь левизны в коммунизме», «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократии»… Да! Еще о творчестве Франсуа Мориака целую лекцию мог прочесть! А вот что касается лошадей – тут, увы, нужно было учиться.
Потому и подумал заранее про лодки…
Слава богу, в самую-то страду не рыбачили – покачивались у серых мостков челны, в них и уселись, трех узких долбленок вполне хватило. Вытащив из прибрежных кустов весла, отчалили с богом. Парни гребли сноровисто, быстро, почти совсем без брызг. В прозрачно-синей воде, бликуя – больно глазам – отражалось солнце.
– Наддай, наддай! – поторапливал Павел, прикидывая в уме – сколько им еще плыть.
Он уже знал, конечно же, где располагалось то самое дальнее поле – там, впереди, за утесами, за холмами, за излучиной. Пожалуй, на лодках-то еще и вперед всадников на месте будут. Пожалуй… А дальше что? Все равно остальных ждать придется, народу-то – раз-два и обчелся. А с нахрапа вооруженных, профессионально промышляющих разбоем людей возьмешь вряд ли.
– Приплыли, господине, – доложил с вырвавшего вперед челна здоровенный парняга Неждан, этакая оглоблина – косая сажень в плечах. Редкая лошадь такого здоровяка выдержит, как еще челнок-то ко дну не пошел!
– Эвон, тропинка! – тряхнув головою, крикнул Язек.
Когда причалили в берегу, Ремезов и сам разглядел узкую, терявшуюся в зарослях бредины тропинку. По ней и пошли, умело и ходко. Миновав заливной луг, углубились в лесочек, протащились малинником, и, перебравшись через овраг, оказались у осиновой рощицы.
– Вот там, за ней – поле, – тихо сказал Язь. – А вот – дорога. Следы!
– Туда, за рощу, поехали, – припав к колее, промолвил Неждан. – Догоним, батюшка?
Павел махнул рукой:
– Догоним. Язь, тут останешься – поджидать наших. Похоже, мы их обогнали все-таки.
Кто-то глуховато хохотнул:
– Дак, конечно, батюшко! Мы-то – напрямки, а им-то вокруг болота!
– Ладно, хватит болтать, – махнул рукой Ремезов. – Вперед! Но – с осторожностью.
Они пошли по тележной колее двумя колоннами, почти след в след, словно индейцы. Боярин с Нежданом, за ними – все остальные… меньше десятка.
– Увидим татей – никаких действий без моего приказания не предпринимать, – на ходу инструктировал Павел. – Стрелы раньше времени метать не вздумайте.
– Оно понятно, – поигрывая огромной дубиной, утробно пробасил Неждан. Ни лука, ни стрел у него, кстати, не было.
– А ну, замедлили шаг! – Ремезов остановился на повороте. – Гаврила, ну-ка, давай кусточками, погляди…
Гаврила бросился было к кустам…
Что-то просвистело, ударило парня в грудь. Стрела!
– Наземь все! – закричал молодой боярин. – Засада!
Над головами ополченцев засвистели стрелы… Вот одному попало в грудь… другому…
– Господине! – подполз к Павлу донельзя удивленный Неждан. – А стрелы-то – тупые, на белку! Эвон, сам посмотри.
На широкой ладони парня чернел обломок стрелы. Вовсе не боевой – охотничьей, затупленной, чтоб ценный мех дыркою не испортить.
– Чудно…
Подполз к боярину и Гаврила – рыжеватый, с бородкой небольшой, парень. Посмотрел удивленно, рукой на вражин указал:
– А там, кажись, Ондрейко, с выселок закуп!
– Ты его знаешь, что ли?
– Угу.
– Ну, тогда вставайте, хватит комедию ломать.
– Кого ломать, господине?
– Вставайте, говорю… Да оружие спрячьте, аники-воины, – поднявшись на ноги, Ремезов отряхнул от налипшей грязи рубаху и махнул рукой «врагам». – Все! Закончили представление.
– Ого! Точно, Ондрейко! – удивленно воскликнул Гаврила. – Вот так тать!
– Сам ты тать! – закинув за плечо лук, беззлобно ухмыльнулся Ондрейко – белозубый, рослый, кудрявый, с небольшими – щеточкой – усиками.
Остальные «разбойники» тоже оказались хорошо знакомыми – своими же мужиками, смердами с Заглодова и Опят.
– Дак это что? – по-детски обиженно хлопнул глазами Неждан. – Не по правде все?
Павел вместе со всеми расхохотался:
– Ого, детинушка! Дошло, наконец.
Тут же, из кустов появился и улыбающийся Язек, и припозднившиеся воины из отряда Микифора. Спешившись, выглядели они смущенно.
– Долго добирались! – Павел сплюнул в траву. – А если б тут настоящие тати были? Ладно, сейчас все – на пожню, а вечером – разбор полетов.
– Что, господине? – недоуменно переспросил Микифор.
– На усадьбу, говорю, приходите. Только не всей толпой… Ты, Микифор, Неждан, Гаврила… кто еще тут посмекалистей – сами решайте.
Вечером все вышеперечисленные, плюс еще с полдюжины самых – на взгляд Микифора и Неждана – смекалистых парней, переминались с ноги на ногу у хозяйского крыльца, не осмеливаясь беспокоить своего господина, который, впрочем, давно уже услыхал их голоса, да специально не выходил, тянул время. Терпение – оно всегда воину пригодится.
Сам же первым и не выдержал, вышел, прищурился – не поймешь, по-доброму или по-злому:
– Ну, чего ждете? В сени проходите.
Можно было, конечно, и во дворе совещание провести, так темно – костер разжигать надо, а в сенях-то и пары лучин вполне достаточно будет. Тем более в сенях-то, за столом, и писцу – Демьянке Умнику куда как удобнее.
– Я говорить много не буду, – усадив всех на лавки, хмыкнул молодой человек. – Сначала вас послушаю – что мы неправильно сделали, где не так себя повели? Начни ты, Микифор. Вставай, вставай, не сиди сиднем-то!
Юноша смущенно поднялся:
– Ну это… с чего и начать-то, господине?
– С самого начала начни. Как да сколько собирались-возились.
– Ах, да… Долго возились, тут и говорить нечего, – Микифор поник головою. – Виноваты, батюшко, вели посечь, образумь.
Ремезов нехорошо скривился:
– Ишь ты – образумить их, посечь! Здоровущие парняги, а словно дети малые. Никакой ответственности! Нет уж, нынче у нас все по-другому будет – сами ошибки свои исправляйте, для того сейчас и собрались. Ты, Микифор, сказал – долго возились. А что надобно сделать, чтоб недолго?
– Часть лошадей оседланными держать… Да и к дорожкам-путям присмотреться – где-то болотце подсыпать, прогатить, чтоб проехать-пройти можно.
– Добро сказал, молодец, – одобрительно кивнул боярин. – Демьянко – записывай.
– Пишу, пишу, господине.
– И лодки надо… чтоб побольше их наготове было, – подал голос Гаврила. – И чтоб весла потом по кустам не искать.
Павел снова кивнул:
– Тоже верно. Еще что? Предлагайте, предлагайте.
– Смердов загодя предупредить – чтоб, в случае чего, знали, что им делать-то.
– Всем оружными на поля ходить!
– Не, оружье лучше в схронах… Ну, у поля чтоб, чтоб под рукою.
– Девок да баб тоже предупредить – чтоб не верещали зря, чтоб ладком действовали.
– Ребят, ребят малых – чтоб тоже толк был, чтоб посматривали.
Засиделись допоздна, однако же не зря – много чего решили, Демьянко Умник все те решения записал на берестине, да, прощаясь, оставил боярину – утром, на свежую голову, почитать.
Почитал… буквы, конечно, похожи были… так, чуть-чуть. Ну да с этим особой заминки не вышло, слава богу, Ремезов на память не жаловался – все, что вчера решили, назубок помнил.
Тренировки, ремонт дорог, боевое расписание – чтоб каждый смерд да закуп знал, что делать. А еще – дежурные лошади, лодки, да знаки условные – быстроногим гонцам, а у выселок и у деревень дальних – убежища, набег пересидеть, спрятаться.
Еще пару-тройку раз Павел устраивал учения – с каждым разом все лучше получалось, все разумнее, четче, сноровистее. Новоявленный феодал уже подумывал несколько расширить подготовку – скажем, еще и против пожара. Но это уже потом, после окончания страды.
Не забывал Ремезов и о себе, о том, что ничего ведь не умел из того, что каждый уважающий себя боярин уметь бы должен. Ни на коне скакать, ни мечом владеть… вообще – никаким оружием. А надо было научиться, коли уж собрался здесь жить, да не для себя – для людей.
Нужный человек отыскался быстро – старый, убеленными сединами, воин по имени Даргомысл, воевавший и с половцами, и с волынянами, и с литвою. Опытный, убеленный сединами ветеран нынче держал на выселках кузницу – самолично грохотал молотом, крепок еще был, жилист, да и нюх боевой не потерял, не утратил. Но и себя держал уверенно, гордо. Хоть и кузница-то на боярина Павла земле, да пожилое Даргомысл всегда платил вовремя, и в любой момент мог уйти, переселиться, правда, пока с этим не торопился – больно уж место было удобное: вроде и выселки, но, с другой стороны, несколько деревень рядом, да река с пристанью, да тракт, да боярский двор – клиентов хватало.
Узнав о кузнеце от тиуна, Ремезов его навестил лично, вел себя вежливо, обходительно… от предложенного кваса не отказался, а в конец беседы попросил поучить ополченцев… а заодно – и себя.
– Сам каждый день буду ходить, а людишек присылать – пореже. Сам, уважаемый, понимаешь – страда. А за ученье твое – от пожилого тебя освобожу, пока что на три года, а там поглядим.
Такое предложение кузнецу зело понравилось, от пожилого освободить – еще бы!
– О том моем и договор-ряд составить…
– Не! – сразу же заартачился Даргомысл. – В рядовичи не пойду.
– Тогда так – устно. Слово против слова.
На слово старик согласился, так договор и заключили – устно, без всяких обид. И стал молодой боярин, «вольный слуга» не ленясь, каждое утречко, захаживать на выселки, на учебу ратную, себя не щадя.
Учителем старый воин оказался хорошим – много чего знал, много чего умел, да и ученик ему попался старательный, исполнительный, ретивый. Правда – мало что пока в ратном деле ведающий, Даргомысл даже покрикивал сперва, а потом ничего, щурился одобрительно, кивал.
– Ну, что ты, боярин, так меч-то держишь? Задушишь ведь. И кто только учил? Легче, легче надобно… и вместе с тем крепко. Так… А ну – руби… Молодец! Еще раз… Все так, все правильно… Однако – замах! Не надо так высоко… и низко – тоже. Все от того зависит, на кого клинок направлен – ежели кольчужник, ежели шлем – совсем другой замах. Да и от шлема тоже зависит – какой он: круглый ли, куполом вытянутый, либо, как кадка – немецкий. Об немецкий, сказать прямо – нечего меч тупить, тут с другой стороны подходить надобно – с доспехов…
Отработав удары мечом, переходили к рогатине, к копью, пока еще – короткому, для пеших ратников. Даргомысл учил бить и острием, и древком, одновременно уворачиваясь от вражеской атаки.
Так же не забывали про палицу с шестопером и про секиру, да еще метали в цель стрелы из тяжелых – на крупную дичь – луков. Старый воин и тут оказался на высоте, впрочем, не так уж и мало было в те времена таких вот умудренных боевым опытом ветеранов.
– Видишь щит? Целься – соединяй мысленно наконечник стрелы с целью… ниже на два локтя от того места, куда линия, что ты представил, упрется – бей, до ста шагов – только так и нужно. Ну!
Прицелившись, Ремезов отпустил тетиву… стрела со свистом скрылась в кустах.
– Ах ты ж…
– В чем твоя ошибка, боярин?
– Хм… – молодой человек ненадолго задумался. – Может быть, ветер?
– Именно! Всегда делай поправку… ну это придет с опытом. Теперь отойдем-ка подальше от щита… так. С этого расстояния, куда хочешь попасть – туда и целься. Дальше же – выбирай точку прицела выше мишени. На локоть, на два – то от расстоянья зависит. Опять же все – опыт.
Хуже дело обстояло с лошадью, Павел как-то стеснялся показаться неумехой в седле. Одно дело – тренировки с Даргомыслом на выселках, где и народу-то нет, и совсем другое – нестись галопом на виду у всех. Однако выкрутился боярин и из этого положения: выбрал самого смирного на конюшне конька, на нем и ездил на выселки, пока что не очень спеша. Просто привыкал – к стременам, к седлу, к скачке – и тут ему во многом старый воин советовал.
Недели через две, уже к окончанию жатвы, молодой человек уже почти привык и к лошади, и к изматывающим воинским упражнениям. Мог уже действовать и мечом, и копьем, и шестопером, секирою, и стрелы метать из лука. Пока, конечно, только так, на любительском уровне, но с каждым разом – все увереннее.
Кроме оружного боя, по просьбе Ремезова, учил Даргомысл и командовать малой дружиною. Кого из воинов куда ставить, как знаки условные в бою подавать – бунчуком, флажками разноцветными, либо в рог затрубить – это все уже совместно с ополченцами отрабатывали: и сигналы, и согласованность действий.
Парни были довольны, не все, правда, но многим – особенно как пошла на спад страда – нравилось. И смешливый Микифор, и Гаврила с усами щеточкой, и «оглоблюшка» Неждан выказывали неплохое усердие – настоящие сержанты, что уж там говорить, похоже, на этих ребят вполне можно было положиться. Да и те по-новому теперь смотрели на своего господина, гадали – и что с ним такое случилось? С чего вдруг этак ревностно ратным трудом озаботился да хозяйством?
Подумав, так промеж собой и решили – вырос боярич-то, перебесился – и от того всем только польза.
Да и сам Павел чувствовал, как наливается недюжинной силой его молодое и крепкое тело, как становится все более приятным нестись на всем скаку лугом и даже по лесу, так, чтоб ветер в лицо и по щекам – ветки, как нравится ощущать в руке быстро впитывающую тепло рукоять меча, метко слать в цель тяжелые стрелы. Ремезов и сам удивлялся, когда начал испытывать удовольствие от всего этого. Вот уж не думал, что жизнь сложится так… этак причудливо и невероятно.
Хотя нельзя сказать, что молодой человек совсем уж забыл, кто он и откуда. Помнил всё. И расчеты свои помнил, и Субэдея – единственную, пожалуй, возможность резонанса… Надеялся, но и сейчас не позволял себе унывать, да и некогда было – учился, учился, учился. И ратному делу, и сельскому хозяйству, и грамоте… да-да – по новой – грамоте, тем буквицам да словам, что были в ходу здесь, в сей далекой от цивилизации эпохе.
Грамоте, естественно, учил Демьян, за последнее время уже отвыкший посматривать на своего хозяина с изумлением.
Так же и Михайло-рядович – тиун-управитель – привык. Являлся с докладом раненько, каждое утро, пока еще молодой господин не отъехал на выселки к Даргомыслу. Перечислял, что сделано, да что еще сделать осталось. Ну, пока страда была главным-то делом, а уж на потом, на осень, Ремезов замыслил хорошенько поправить частокол и, по возможности, ров вырыть, вообще, сделать усадебку честь по чести – с запасами продовольствия, с убежищами для людей, с подземным потайным ходом.
– Микитка Обросима сын, закуп, проспал вчерась, да и работал на току нерадиво, – нудным голосом перечислял провинности «людишек» тиун. – Палок ему иль постегать плеткой?
– Постегать, так, для острастки, несильно, но больно. Окулко-кат знает, как.
Вот это еще было одно открытие Павла – палач Окулко. Сей нелюдимый с виду угрюмец-бородач на поверку оказался совсем неплохим человеком, добрым и даже в чем-то душевным, относившимся к своим кровавым обязанностям с убеждением философа-стоика – ну, кому-то ведь нужно!
А ведь действительно – нужно, как же без палача, как же без наказаний-то? Ремезов все же имел немалый житейский опыт и такую необходимость признавал. Средневековые люди – они как дети малые, во всем надеются на своего родителя – боярина или князя – пусть тот скажет, пусть тот за них все решит, и накажет – когда есть за что. Как же без кнута-то? Совсем все вразнос пойдут… вон, в школе российской осатаневшие от безнаказанности подростки давно уже учителей ни во что не ставят. И как таких учить? А никак. Классно-урочную систему – основу современной школы – Ян Амос Каменский изобрел аж в семнадцатом (!) веке, когда без насилия ничего и не мыслилось, а дети вообще за людей не считались. И вот это семнадцатого века детище без смазки – все того же насилия – дает явный сбой, что бы там ни утверждали. Недоучек полно, и по-другому не будет – либо всю систему менять. А, пожалуй, и пора уже – сколько ж можно, с семнадцатого века-то?! Да и сама система-то – пытка, не хуже плетей. Любого взрослого взять. Да заставить сорок пять минут просидеть, сложив на парте руки – через пару уроков точно волком выть захочется, а к концу шестого – запустить чем-нибудь тяжелым в учителя. Ни тот, ни другой не виноваты – система такая. Добро пожаловать в семнадцатой век – ноу-хау.
– Пусть, пусть постегает Окулко, – слушая тиуна, рассеянно кивал молодой человек. – Розга ум вострит, память возбуждает и волю злую в благо преломляет!
– Эк ты сказал, господине! – непритворно восхитился тиун и тут же наябедничал: – Окулко-кат уж третий день Демьянке Умнику не дает проходу.
– О как! – удивился Ремезов. – И чего ж хочет?
– Да восхотел умней всех быть! – Михайло-рядович дребезжаще рассмеялся. – Кат, а туда же, к парню пристал – грамоте, мол, поучи.
– Грамоте? Что ж, дело хорошее, – пригладив волосы костяным гребнем, Павел одобрительно качнул головой. – Хочет – пущай учится, я Демьяну скажу.
Рядович рассеянно заморгал:
– Да как же так, батюшко? Каждый ведь должен свое место знать. На что кату грамота?
– Кстати, и ты с Окулкой на пару учиться пойдешь. К тому же Демьяну.
– Я?!
– Ты, ты, – пряча улыбку, невозмутимо подтвердил молодой человек. – А то тиун – и неграмотен! Срамота одна.
– Ой, господине, у меня ж делов… – заюлил было рядович, но тут же сник под строгим боярским взглядом. Вздохнул и, закончив доклад, вышел с поникшею головою.
– Ничего, ничего, – довольно ухмыляясь, прошептал ему вслед Ремезов. – Вот с вас двоих ликбез и начнем. А там посмотрим.
Вечером, после ратных тренировок, хозяйственных дел и всего такого прочего, заявился в светлицу Демьянко Умник – как и договаривались еще поутру.
Встав у порога, поклонился скромненько:
– Пришел я, боярин.
Встав с лавки, Павел потер ладони:
– Эт-то хорошо, что пришел. Тиун Михайло с Окулкой-катом подходили к тебе?
– Угу.
– Сладились?
– Сладились, господине. Они сказали, что ты их учить велел.
– Вот и ладненько, – развеселился боярин. – Смотри, плохо учиться будут – розгой их попотчуй… Окулко подскажет – как. Ин, ладно, потехе час, а делу – время. Пергамент с чернилами принес?
– Как ты и велел, господине.
– Ну и славно. Будем мы с тобой, Демьян, нынче подробную карту рисовать.
Парнишка хлопнул ресницами:
– Чего рисовать?
– Землицы нашей чертеж. Словно бы с глазу птичьего… или с высокой горы.
– А-а-а! Понятненько.
– И на чертеже том – все стежки-дорожки обозначим, деревни, луга, поля, леса – чтоб точно все знать, где что да как!
– Доброе дело, боярин-батюшка!
С тех пор слышно было по вечерам:
– Аз, буки, веди, глаголь…
То первоклассники – палач с тиуном – соревновались, кто громче да правильнее. Окулко-кат с юмором оказался мужик, все сотоварища своего по учебе подкалывал, загадывал загадки веселые:
– А прочти-ко, Михайло, чем ты шти хлебаешь? Вона, читай буквицы…
– Лы… а… лы… а… ла… ппп… тем… лап-тем… Я те дам – лаптем!
– Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!
– Я те дам – хо-хо!
Буйные попались Демьянке ученички – то обзывались, то друг с дружкой дрались, правда, так, шутя вроде.
На них глядя, по поводу грамоты мысли разные в голове в Павла роились: как жатва да все осенние полевые работы закончатся – еще и других парней к Демьянке в ученье отдать – Микифора, Гаврилу, Неждана. Неждан, правда, мог и не пойти – он все же не холоп был и не закуп – смерд, за землицу только обязанный. А вот Микифор с Гаврилой – холопы, по сути – рабы. Сия ситуация сильно тревожила Ремезова: как так получалось, что самые умелые воины – невольники? С чего б им усадьбу, хозяина своего защищать, живота не жалея? Раб, он и есть раб, с какой стороны ни возьми – и хорошего в этом мало. Мысли эти боярин покуда на потом оставил. Вот с жатвой да обмолотом закончить. А потом – праздник, веселье… заодно под это дело с и холопами можно будет решить – повысить их социальный статус.
Праздник… Да, уже скоро и праздник – конец осенних работ, да и вообще – всего сельскохозяйственного года. Все убрано, обмолочено, где надо – вспахано, озимые, опять же, посеяны. Что остается? Охота да торговлишка – мехами – рухлядью мягкой – на караванной тропе. Скоро, скоро пойдут, потащатся обозы санные по замерзшему Днепру, вверх – к Смоленску и вниз – в Черниговские земли да к Киеву.
Впрочем, к Киеву – вряд ли. Татары.
Глава 5
Праздник
Осень 1240 г. Смоленское княжество
Всю первую декаду октября шли дожди, низкое небо затянулось серыми беспросветными тучами, набухла, чавкала под ногами, земля, кругом пахло сыростью, хмарью. Хорошо хоть с хлебушком-житом повезло, а вот свеклу да морковь убрать не успели и теперь опасались – как бы все не сгнило. Смотрели с надеждой на небо – авось, посветлеет еще, авось, да покажется солнышко.
Молились в часовенке, своей-то церкви в вотчине не было, не озаботились еще поставить, хоть и надо бы, да все руки не доходили – не такое уж и простое дело, храм выстроить, да еще и клир к нему найти. Куда проще – частокол, его-то сейчас – по дождю – и правили, подкапывали, рыли ров. И тут главное было – опятовских смердов с заглодовскими не ставить. Казалось бы, Заглодово да Опята – две соседние деревни, – а ненавидят друг друга хуже татар. С давних пор еще эта вражда повелась – то ли опятовская корова на заглодовскую межу забрела, то ли заглодовские парни за опятовскими девками подсматривали, когда те на реке купались… тут и не разберешь уже. Чисто сельская психология, по типу: у соседа корова сдохла – уже на душе веселей. Ремезов пока не знал, что с этим делать, но старался без нужды заглодовских с опятовскими вместе на работы да в сторожу ночную не ставить.
И снова хмурыми сырыми ночами, темными, хоть выколи глаз, полезли в голову нехорошие тоскливые мысли. А вдруг – это навсегда все! И скорее всего – именно так, незачем тешить себя несбыточными надеждами.
Павел даже вновь сел за расчеты… так и вышло, как и тогда, на песке. И еще дождь этот нудный – по крыше: кап-кап, как-кап… с утра-то до ночи! Так и хотелось иногда напиться до поросячьего визга.
Боярин уже перебрался в горницу, холодно стало в светлице, а горница топилась по-черному, дым ел глаза, клубился, мазал копотью черной стропила, лениво и нехотя выползая в узкие волоковые оконца. Одно хорошо – тараканов, клопов и прочей нечисти в доме не заводилось – видать, дымом же и выкуривались, так что нет худа без добра. Да и что сказать – к вечеру, протопив очаг, можно уже было спокойно сидеть в горнице, заниматься делами – организовывать быт, да и подумать пора уже было о зиме, о купцах, о Субэдее. Все же Ремезов не оставлял надежды на добавочный резонанс… а вдруг? Надо, надо сделать хотя бы попытку, иначе потом всю жизнь себя корить.
Ах, не спалось ночами… И девок постельных не хотелось, до чего навалилась тоска-кручина – хоть волком вой, хоть головой об стенку бейся. Да и напиться – проблемно, водку еще выгонять не научились, а медовухи много не выпьешь – обратно полезет. Разве что бражку… так ту надо под веселье пить, не под грусть и не с горя.
Под веселье… Черт побери, так ведь праздник же скоро! А к празднику нужно готовиться, не пускать это дело на самотек.
Подумав так, Ремезов сразу повеселел, не любил он долго в прострации находиться. Сразу же и велел кликнуть к себе всех, на кого полагался – тиуна, деревенских старост, Микифора, Гаврилу, Неждана, Демьяна Умника. Даргомысла не звал – гордый старик все равно не пошел бы, да и какое ему дело до чужих праздников: там, на выселках, все жили наособицу, сами по себе, правда, оброк платили исправно – кузнецким товаром да мягкой рухлядью, которую по зиме на продажу готовили. Да и князю Всеволоду Мечиславичу нужно было отстегнуть, как же без этого?
– Ну? – усадив всех гостей на длинную лавку, Ремезов прошелся по горнице, слушая, как стучит по крытой дранкой крыше дождь. – Как у нас обычно праздники проходят?
Парни – Микифор с Гаврилой – переглянулись:
– Знамо, как, господине. Весело!
– Хорошо, хорошо, – усевшись на скамью, Павел посмотрел на тиуна. – Давай-ка, Михайло, в подробностях все доложи.
Рядович поднялся, откашлялся, потеребил редкую свою бороденку:
– Пива за счет обчества – три бочки варим, да бражицы – два котла, да медовухи котел.
– Хватает?
– Еще остается… Да сам ведь знаешь все, батюшка!
– Знать-то знаю, – отмахнулся молодой человек. – Просто уточнить хочу. Значит, пития хватит?
– Всегда, господине, хватало.
– А заедки?
– Быка забьем, пирогов сотворим, блинов, каши…
Ремезов задумчиво кивнул:
– Ну, ладно, допустим, с материальной частью покончили. Теперь – о духовной.
– О чем, господине?
– Песни, пляски и прочее!
– Нешто плясать будем? – перекрестился Михайло-рядович. – То ж бесовское!
– Конечно, будем плясать! – тут же вскинулись парни. – Что за праздник без пляски. Да и тебе, Михайло, как медовуха в рот попадет – сам начнешь коленца выделывать.
Павел прищурился:
– А для танцев неплохо бы музыку…
Патефон и вальс «Дунайские волны», рио-риту можно – хоть и буржуазный танец… Господи, что за мысли такие? Рио-рита…
Ансамбль «Шокинг Блю» – самое то! Или – Сильвия Вартан.
Тьфу ты… хрен редьки…
– Ты почто кривишься, батюшка? Аль не угодил кто?
– Это я о своем, не парьтесь.
– А-а, ты, кормилец – про баню! Спроворим!
– Я о празднике, – Павел снова скривился. – Музыканты на усадьбе имеются?
– Девки песни поют складно.
– Песни – это одно, батюшка-боярин про музыку спрашивает.
– Так скоморохов пригласить!
– Ага, скоморохов – потом всей деревней грехи отмаливать.
– Да что, у нас своих, что ль не найдется?! – опершись руками на стол, громко спросил Ремезов. – Гудошников, свирельников… никто не играет?
– На свирели-то? – оживился тиун. – Есть, есть, пастушата… правда, малы еще…
– Ничего, поиграют.
– И еще один человек есть, – затянув пояс, поднялся с лавки Демьян. – Я как-то слышал… очень хорошо на гуслях играет – любо-дорого. Ноги сами собой в пляс идут.
– Это кто ж такой? – удивленно зашептались собравшиеся. – С выселок кто-то, верно. Что-то мы не слыхали. Да ты не томи, Демьянко, коль начал, так уж говори.
– Все вы его хорошо знаете, – парнишка откинул упавшую на лоб челку. – Это Окулко-кат.
Мертвая тишина вдруг повисла в горнице, и снова стал слышен шум дождя – кап-кап, кап-кап, кап…
Окулко-кат – музыкант? На гуслях играет? Это ж все равно, как… ренегат Каутский вступил бы в партию большевиков! Нет… Если б «Роллинг Стоунз» пригласили солистом Хампердинка! Или Далида подалась бы в монашки…
– Да разве Окулко-кат…
Ремезов улыбнулся:
– А вот мы его сейчас позовем и послушаем. Демьянко, сбегай-ка.
– Посейчас, господине.
Отрок тут же вскинулся, распахнул дверь, запустив в жарко натопленную горницу запах сырости и мелкую нудную морось.
– Я сейчас, я быстро!
Палач явился на зов тот час же, уже с гуслями под мышкой. Поклонившись боярину и собравшимся, важно уселся на лавку, бережно пристроив на коленях свой инструмент.
– Ну, друг Окулко, играй! – махнул рукой Павел.
Кат не заставил себя долго упрашивать, мазнул по струнам, заиграл, все громче, все веселее – у всех словно мурашки пробежали по коже, ну, до чего ж хорошо, благостно! Вот она, музыка!
А палач уже ногой в такт притоптывал, мало того – запел неожиданно недурным баритоном:
Ай ты, гой еси, чудище поганое!
Поганой-препоганое, оп-па!
А я парень простой – зовусь Садко!
– Парень простой! – захлопав в ладоши, подхватили собравшиеся. – Зовусь Садко!
Так вот, речитативом и пели:
– Па-рень про-стой… зо-вусь Сад-ко… – Рэперы хреновы.
Но ничего не скажешь – весело выходило, складно.
– Благодарствую тебе, Окулко-друже, – сложив руки крестом – мол, хватит пока – довольно промолвил боярин. – Вот это я понимаю! А вы говорили – музыкантов нет? Вона как! Хоть сейчас на конкурс революционных песен.
Покров Пресвятой Богородицы недаром считался великим праздником – ночью грянули заморозки, а утром выглянуло солнышко, ласковое, яркое, почти что летнее. Быстро растаяла появившаяся было изморозь, а после обеда и совсем уж разжарило, градусов, по прикидкам Ремезова, до пятнадцати, а то и больше. Хоть и считалось по народным поверьям на Покров до обеда осень, а после обеда зима, а вот вам – пришло-таки бабье лето, тихое, спокойное, солнечное, с золотыми, лениво кружащими, листьями, с последними птичьими стаями, с тоненькими серебряными паутинками в прозрачно-голубом небе.
Радуясь неожиданному теплу, радостно запели птицы, слетелись, клевали алые гроздья рябины, перепархивая с ветки на ветку.
Радовались и люди: закончилась наконец-то страда – управились, успели, кое-кто даже избу починил, поправил, а боярин-батюшка – частокол, как раз к празднику. К Покрову готовились загодя – мылись, стирались, наводили красоту; праздник всегда справляли широко, раздольно – с игрищами, с качелями, с хороводами.
Нынче пригласили в часовенку священника, отца Ферапонта, пришли принаряженные, проповедь слушали благостно, да и святой отец говорил ясно, четко, напоминая все, а кому – и разъясняя. Здесь, в лесной смоленской глуши, народец не особенно-то почитал святую христианскую веру, наряду с Иисусом Христом, Богородицей и святыми, поклонялся еще и старым богам, чтил волхвов, верил в домовых, леших, русалок. Вот отец Ферапонт и старался, наставлял людей на путь истинный.
– Давно, летось триста назад тому, даже и боле, напали на Царьград поганые сарацины, тяжко христианам пришлось, так, что и незнамо как натиск врагов выдержать. И вот тогда-то явилось тамошнему святому Андрею Юродивому, кстати из наших, из словен, и ученику его Епифанию, видение – спустилась во Влахернский храм сам Богородица, Господа нашего Иисуса Христа матушка, принесла с собой белое покрывало – Покров, – простерла над людом, да вознесла молитву чистую о спасении мира от всех невзгод да страданий. И дрогнули, отступили враги… То-то была радость! Этим покрывалом Богородица нас всех – и вас – оберегает, несет всем любовь. От того и праздник пошел – Покров, великий праздник.
Хорошо говорил отец Ферапонт, звучно, да и сам был мужчина представительный, видный, хоть и сильно пожилой уже – лет сорока, – но осанистый, крепкий.
Павел, как и все, слушал проповедь заинтересованно, тоже ведь христианином-то был нерадивым, как и подавляющее большинство россиян. Так, время от времени заглядывал в храм – по уж о-очень большим праздникам, свечки за упокой да во здравие ставил, на иконки крестился, яйца на Святую Пасху красил – на этом, собственно, вся его набожность и заканчивалась, так толком и не начавшись. Смешно сказать – Символ веры прочесть бы не смог! Но хоть в гороскопы не верил – и то ладно. А про Покров, к стыду своему, думал, что этот праздник – от первого снега: мол, выпадает, покрывает землю – вот вам и Покров.
Славный оказался священник, и часовенка славная, жаль только – маленькая, все желающие не поместились, добрая половина народу стояла рядом, на улице, под березками. Кое-кто из молодых парней да девок, искоса поглядывая на степенных родителей, давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу, в ожидании хороводов да игрищ. С утра еще на лугу, у реки, поставили качели, устроили под липами столы – то-то будет гулянье!
Выйдя из часовни по окончании службы, Ремезов улыбался, ему и самому давно хотелось расслабиться, да и погодка, что уж там говорить, нынче радовала. Вот сейчас пройтись по торговым рядкам – не зря из самого Смоленска купцов пригласили – да и за стол, пировать, бражку-мед-пиво пить, песни слушать, да на игрища-хороводы поглядывать.
Вот Окулко-кат в новой светлой рубахе, не дожидаясь начала пира, грянул гуслями. Вот уже и послышалось:
- Дева по воду пошла,
- Коромысел маленький,
- Размахнула, почерпнула,
- Почерпнула злата-серебра.
Поглядывая на поющих девчат – все как на подбор красавицы – молодой боярин уселся во главе стола на почетное место, степенно кивнув старостам… Поднял наполненный пенистым свежим пивом кубок:
– За праздник Покрова, Богородицы-девы славу!
Выпил, на часовенку оглянувшись, перекрестился… Следом и все выпили. Холодцом закусили…
Всё! Пошел пир. Разговоры, песни, пьянка…
После второго кубка Павел потянулся к заедкам – пирогам горячим с капустою, с ревенем, с рыбой. Только взял один, откусил – во рту тает… Как вдруг:
– Дело важное, господине!
Позади, бледный, как полотно, возник белобрысый парень – тощий, длинный, нескладный.
– Кто таков? – недовольно оглянулся Ремезов. – О чем доложить хочешь?
– Сивка я, с Опятова пастушок. Беда, господине!
Тонкие губы парня дрожали, видно, и впрямь что-то случилось.
Боярин прищурился:
– Вон, за кусточками жди.
Тут же и сам вышел из-за стола, никому ничего не сказав – нечего раньше времени панику поднимать. Подошел к дожидавшемуся гонцу, глянул:
– Ну?
– Неведомы люди на деревню напали – амбары пограбили, людей – кто был – в полон увели.
– Та-ак, – отгоняя праздничное веселье, Павел тряхнул головой. – И много их?
– Да с полсорока. Все оружны, кой-кто в кольчужицах. Думаю – боярина Телятникова людишки, язм парочку признал.
– Ясно! Жди…
Подойдя к столу, Ремезов поднял вверх руку:
– Беда, люди! Супостат Телятников на Опяты напал, полон взял, пограбил. Гаврила, Неждан, Микифор – готовьте войско, посейчас отходим – как учились, помните? Задача – врагов настигнуть, полон и награбленное отбить. Ну и проучить – чтоб в следующий раз не совались.
Павел говорил уверенно, не спеша. И дружина его действовала точно так же – без суеты, сутолоки, но сноровисто, быстро. Десяток Гаврилы, вооружившись у воинского амбара, тут же побежал к реке, к всегда готовым для такого случая лодкам; люди Микифора уже выводили с конюшни коней, Неждан со своими пешими ратниками в нетерпении помахивал дубиной.
Забежав домой, Ремезов быстро натянул кольчугу, опоясался мечом, набросил на плечи алый, с желтым подбоем, плащ, и не забыл прихватить карту. Вышел на крыльцо, словно Кутузов, деловито отдавая распоряжения:
– Гаврила, доплывете до дальнего ручья, там засаду устроите – ждите. Неждан – давай со своим до гати – зайдете со стороны Заглодова, ну а мы с Микифором – напрямки поскачем, новой дорожкою. Заглодовские смерды есть ли?
– Тут мы, батюшко!
– Вам над соседской бедой не радоваться, а помогать. Копья, луки в амбаре возьмите – с ним в деревню свою возвращайтесь, да в оба поглядывайте. Ежели супостат к вам сунется, трубите в охотничий рог три раза.
– Сделаем, господине.
– А нам, опятниковским, что делать?
– С нами пойдете – копья, опять же, прихватите. А над остальными Михайло-рядович главный – всем на усадьбе укрыться, ворота накрепко запереть, страже – вокруг поглядывать, да, если что – держать оборону.
Все распоряжения боярина исполнялись четко, быстро, да и не могло быть иначе – после стольких-то тренировок.
Отряды двинулись практически одновременно – и десяти минут не прошло с появления гонца. Десяток Гаврилы – на челнах, рекою, Нежданова дюжина – самые сильные детинушки-парни – дубинщики – пехом, через болото и лес, главная же рать, а с ними – и опятовские мужики, человек тридцать, под командованием лично боярина и его первого заместителя – Микифора – рванула на конях, намереваясь догнать врага за болотом, судя по карте – именно в ту сторону и удобней всего было уходить супостатам. Впрочем, хитрый Ремезов и здесь перестраховался, послал малолетних ребят и другие пути посмотреть.
– Бегите, парни, как можно быстрее, увидите вражин – затаитесь, да бегите обратно, загодя можете знак подать – прокричать птицей.
– Какой птицею, батюшко?
– Да хоть выпью. Издалека слыхать.
Ближе к деревне выпустили вперед разведчиков – охотников местных. Те, скоренько вернувшись, доложили – обнаружен враг.
– По старой дороге, леском к реке движутся, гады. С двумя возами, с полоном. А на реке у них ладьи, лодки.
– Вот и славно, – Павел потер руки. – Не зря и мы по реке рать отправили! В самый раз будет. Ну, теперь нечего ждать – вперед, да потом действовать, как учились.
Бросив лошадей вскачь, дружина быстро достигла низкого берега реки, вдоль него и помчались дальше – наперерез врагам. При этом Ремезов не забыл выслать вперед лучников – достигнув леса, те спешились и дальше пробирались пешими… Задача у них была одна – по возможности выбить перед непосредственным столкновением всех командиров, а их вполне можно было выделить по лучшему вооружению, по алым плащам, по сверкающим шлемам.
– Вон они! – нетерпеливо приподнялся в седле Микифор. – Вона!
Ага, вот закричала выпь – лучники докладывали, что уже приступили к своему делу.
– Вперед! – вытащив меч, коротко бросил боярин. – Постоим за нашу землицу!
Пригнувшись к гривам коней, всадники выскочили из-за холма и, громко крича, бросились на врагов, коих насчитывалось около двух дюжин. Человек десять – считая и тех, кто уже валялся в траве, загодя пораженный стрелами – окольчуженных, в шлемах, остальные же… остальные же просто сброд, скорее всего – наемники – тати.
Уж конечно, супостаты никак не ожидали столь быстрого развития событий – поначалу опешили, но тут же собрались, развернули поперек дороги возы, выставили вперед копья. Засвистели стрелы, одна из них со звоном скользнула по ремезовскому шлему. Павел закусил губу и довольно усмехнулся, глядя, как Микифор со своей дюжиной резко свернул влево – отрезая вражин от полона. Да уж, черт с ними, с возами, но пленников нужно было спасать – и это тоже не раз отрабатывал Ремезов.
Так, как на ученьях, покуда и выходило…
Парни Микифора ловко обошли обоз, отрезая от врагов полон, отряд же Павла с ходу бросился в бой. И вот тут-то время вдруг потекло иначе – по крайней мере, для Ремезова.
Какое-то рваное стало время – то застывало неподвижно, то бросалось бежать стремительной боевой стрелою. И словно сквозь вату доносились крики…
Оп! Первый удар – первый в своей жизни настоящий удар мечом! – Павел тоже нанес с ходу, не думая. Просто, отбив вражеский меч, тут же постарался достать вражью шею… Соперник уклонился – опытный он был или молодой, Ремезов сейчас не видел, он рассмотрел только глядевшие из-под высокого шлема глаза – темные, пылавшие ненавистью, злые.
Удар! На этот раз молодой человек едва его не пропустил – выскочив на коне из-за телеги, соперник гарцевал вокруг, то и дело кидаясь в атаку.
Удар… Искры! Скрежет! Что-то теплое потекло по пальцам… Кровь? Ах, ты так! Повернувшись, Павел ловко подставил под чужой клинок щит, очень быстро, как учил Даргомысл, старый опытный воин. Прямо рывком – р-раз! И враг не успел ничего предпринять, сверкающее лезвие меча его, пробив медную оковку, застряло в навершье щита… который молодой человек тут же повернул, дернул… Послышался треск – чужой клинок не выдержал, сломался. Да-а, не скажешь, что добрый был меч. Так… так себе выкован.
Враг, впрочем, оказался опытным – тут же выхватил из-за пояса шестопер… а вот уж от этого-то оружии Ремезов уклоняться научился неплохо. И все же – пропустил удар, с такой яростью орудовал шестопером вражеский воин, крутил, словно мельница… Бамм!!! Ах, как зазвенело в голове! Угодил ведь по шлему, собака…
Даже в глазах вспыхнуло зеленое нехорошее пламя… правда, на миг – Павел сразу же овладел собой, уклоняясь от очередного удара – подставлять под шестопер меч было никак нельзя, сей клинок вовсе не казался надежней только что сломанного вражеского. И снова мельница… И везде – со всех сторон – крики, стоны…
– Богородица, Богородица с нами!
– Какая Богородица, тати? Не поганьте языками своим святое имя!
– У-а-у-у-у!
Чей-то предсмертный вопль. Стон. Звон. Злое лошадиное ржание.
Удар!
Очередной раз уклонившись, Павел ударил врага щитом – тоже угодил в щит, с силой, с грохотом, звоном… И – быстрый – со всей силы – укол, острие-то клинка все ж было острым, а вражья кольчуга… такого же качества, что и сломанный меч. Или просто проржавела от старости, прохудилась.
Ремезов не сразу и понял, что произошло. Просто неистовый соперник его вдруг покачнулся, выпустил из рук шестопер… и тяжело свалился с коня, застряв правой ногой в стремени. Павел едва успел вытащить окровавленный меч из груди врага.
И тут же услышал рог! Оглянулся, увидев выбежавшую из лесу пешую рать – дубинщиков Неждана. Вот тут пошла потеха – вражины уже не пытались защищаться, у них одна теперь оставалась надежда – бежать, бежать со всех ног, бросив полон и награбленное. В том им не препятствовали – к чему лишняя кровь?
Лишь улюлюкали вслед да пускали стрелы. Ремезов немедленно отправил в погоню всадников во главе с Микифором – пусть подмогнут Гаврилиным «лодочникам», что уже наверняка успели устроить засаду у реки, около вражьих ладеек.
И точно, за рощицей, от реки, вскоре послышались крики. Впрочем, весьма недолгие – не так уж и много осталось в живых супостатов. Кого стрелою сразили, кого – мечом, копьями. Кто самый хитрый из врагов – тот, едва увидев засаду, тотчас же повернул к лесу, где и скрылся. И черт-то с ними со всеми!
Победа! Главное – полон отбили.
Воины, ликуя, радостно закричали, подбрасывая вверх копья. Что и говорить, битва, конечно, оказалась весьма жестокой – полегло и с полдюжины ремезовских воинских слуг – однако победной и быстрой. А все потому, что готовились загодя, тренировались, и нынче действовали четко, по плану.
Все так… Победили. Казалось бы – радоваться. Ан нет, что-то не чувствовал молодой боярин никакого веселья. Устало бросив в траву щит и шлем, Павел склонился к папоротникам, держась левой рукой за корявый ствол старой березы. Его сильно, до желчи, рвало. Еще бы…
– Ой, господине, вот ты где! – радостно вскричал Микифор за спиною. – Полоняники тебя видеть желают, ищут везде. Пойдем, батюшко, поскорее.
– Сейчас… – не оборачиваясь, молодой человек махнул рукой. – Сейчас, сейчас выйду…
И справился с собой… ну – убил. Мечом проткнул. Так ведь – как же иначе? На дворе время жестокое, тем более сих гнусных татей никто сюда не звал. Со злом пришли – зло в ответ и получили!
Освобожденные пленники – с десяток баб да детишек, из тех, что по хозяйственным надобностям оставались на праздник в деревне – при виде появившегося из-за березы боярина разом поклонились в пояс. Кто-то даже на колени бросился, завыл:
– Благодарствуем, батюшка! От лиходеев нас всех упас!
Тут и мужики – смерды опятовские – подоспели, тоже благодарили, кланялись.
– Ладно, ладно, – усаживаясь в седло, смущенно отмахнулся Павел. – Пора и в обратный путь – похоронить убитых, да пленников допросить. Не забыли про пленных-то?
– Не, батюшко, не забыли. Двух оглоедов имали!
«Оглоедов» допросили быстро, уже вечером, когда, перевязав раненых и похоронив убитых врагов, вернулись с победою на усадьбу. Решив и тут не пускать дело на самотек, Ремезов организовал процедуру допроса по всем правилам, обставив приспособленный под «пыточную» сарай в стиле маркиза де Сада и застенков гестапо. Особую роль играл голый по пояс Окулко-кат, в красном глухом капюшоне с вырезами для глаз, с окровавленными по локоть руками – в деревне как раз забили кабанчика, помянуть павших. На стенах сарая в веселом беспорядке висели кнуты, розги, ошейники и другие орудия пыток, в углу же заманчиво горела жаровня. Вообще-то, это был не просто сарай, а рига – молотильня с печкой для сушки зерна. Антураж, конечно, выглядел несколько опереточно и, честно сказать, не более страшно, нежели фильмы «Пятница, 13-е» или «Восстание живых мертвецов». Ну, это Ремезову было не страшно, а даже смешно, что же касаемо пленных, то тот парень, которого ввели в «пыточную» первым, тут же и обмочился со страху, едва только глянул вокруг.
– Говори! – поморщившись, зловеще прищурился Павел. – Или, может, сперва с тебя кожу снять? Давай-ка, Окулко, займись.
Кат с готовностью потер ладони, от чего пленник – совсем еще молодой парень с глуповатым круглым лицом и хлюпающим носом – пришел в самый натуральный ужас и, упав на колени, заверещал:
– Не надо кожу… Не губите, батюшки! Все, все расскажу, все, я ж по случайности тут попался, не своею корыстью, но злою боярскою волей.
– Что за боярин твой? – грозно воспросил Ремезов.
– Господине Онфиме Телятыч, с усадьбы, что за болотом, у реки…
– Знаю я, где Телятникова усадьба, – Павел недобро хмыкнул. – Почто ж он, злодей, разбойничать людишек своих послал?
Пленник скривился, с опаской поглядывая на поигрывающего кнутом ката:
– Не, батюшко, не своих людишек – пришлых. В Ростиславле на базаре татей нанял.
– А ты-то как с ними?
– А я-то, кормилец – изгой. Ни для боярина, ни для людей его никогда своим не был. Просто на дворе его жил, в пастухах, да на полях копошился.
– Что ж в холопы-то тебя не поверстал твой боярин?
– Да язм на глаза ему давненько не попадался, – парень неожиданно вздохнул. – А вот нынче угораздило!
Павел невольно хмыкнул:
– За солью, что ль, с пастбищ пришел?
– Не, господине, не за солью – нешто соль дали бы? Молоко на телеге привез, полдюжины крынок. Тут меня боярин и углядел… чтоб ему пусто было! Поманил – а ну-ка… Вот и заставил. Я, батюшко, стрелы ни в кого не метал, да и иным оружием не обучен.
– И что ж ты тогда делал? Только врать не вздумай, не то…
– Язм, батюшко, дорогу показывал – тем, что по реке шли, все-то мели знаю!
– Ага… проводник, значит, – Ремезов кивнул слугам. – Ладно, этого уведите пока. Другого давайте!
А вот второй пленник – коренастый, с лихим чубом и каким-то квадратным, с небольшой бородкой, лицом – оказался разбойником матерым, держался на удивленье спокойно, осанисто. На палача даже и не взглянул, лишь сплюнул презрительно, да, угадав старшего, повернулся к бояричу:
– Неча, господине, меня катом пугать – пуганый. Коль надумал казнити – казни, а коль выспросить чего хочешь – спрашивай. Что знаю – скажу, боярин Телятников мне никто – выгораживать его не буду.
– Ага, – махнув палачу, чтоб скрылся, Ремезов переставил скамеечку поближе к жаровне – что-то к вечеру стало зябковато. – Ладно, поговорим. Квасом, уж не обессудь, не угощаю – ты враг и кровушку нашу пролил. Так, значит, Телятников вас нанял?
– Так. В прошлую седмицу, в Ростиславле-граде – он туда с людишками скот продавать ездил. Заодно и нас сговорил – есть, дескать, одно делишко не пыльное.
– И много пообещал?
– Да с каждого набега – треть.
– С каждого набега? – боярич вскинул брови. – Так он, тать худой, не одно злодейство замыслил?!
– Знамо, что не одно, – усмехнулся пленник. – Несколько. Сказал – тревожить соседушку – тебя, значит – нападеньями частыми. То тут, то там… покуда вся землица его в разорение полное не придет.
– Во, волк! – Ремезов недобро сверкнул глазами. – А ты сам-то откуда будешь?
Наемник неожиданно улыбнулся:
– Рязанские мы.
– Ага, понятно. После татарского разоренья подались в воры да тати!
– Не, не после, до него еще. После того погрома, что князь покойный владимирский Юрий Всеволодыч учинил… татарве далеко до него будет! Прибили его татары – не жаль, токмо и новый князь, Ярослав – не лучше.
Павел нетерпеливо взмахнул рукою:
– О политике ты кому другому втирать будешь. О Телятникове говори – что он еще замыслил?
– Может, и замыслил, – пожал плечами тать. – Да токмо врать зря не буду – мне то неведомо.
– Тебя самого-то как звать?
– Митохою.
– А рода какого? Или боярин твой кто?
– Боярина моего владимирский князь разорил, с той поры и я без роду без племени. Наемник!
Наемник… Павел задумчиво почесал подбородок. Имелась у него поначалу мысля – на беспредел соседский князю Всеволоду Мечиславичу пожаловаться… Однако, увы – где доказательства-то? Изгой да наемник – никакие не свидетели, даже при всем их желании. Кто за их слова поручится? Знамо дело – никто.
Так что Телятникова другим путем наказать надо. И наказать обязательно, иначе обнаглеет вконец!
Даже Митоха – и тот ухмыльнулся:
– Ты, господине, Телятыча-то теперь пожжешь. И поделом.
– Нет! – резко возразил молодой человек. – Пожечь – горе лишнее всем причинить. Ладно сам Телятников, а люди его – смерды, холопы, закупы – чем виноваты? Тем, что их хозяин – козел? По-иному б боярина прищучить…
– Убил бы? – пленник вскинул глаза.
– Не убил бы, – презрительно отмахнулся Павел. – Но – проучил. Так, чтоб мало не показалось.
Митоха совсем по-детски хихикнул:
– Понимаю, ославил бы на все княжество.
И, чуть-чуть помолчав, добавил:
– Пожалуй, и я мог бы тебе в этом помочь – Телятыч-то мне должен… всем нам должен был. Нанял, да так еще и не заплатил – обещал только.
– И много обещал?
– По пять серебрях немецких. Каждому.
Ремезов покачал головой:
– Да-а… негусто. Что ж согласились-то на такую малость?
– А нынче, господине, без поддержки боязно, – откровенно пояснил наемник. – Князья друг с другом собачатся, орденские немцы лезут, литва, татары еще. Маленькому человеку одному – пропасть ни за что. Вот и прибились.
– Не к тому вы прибились, – усмехнулся Павел.
Митоха согласно кивнул:
– Теперь вижу, что не к тому.
– Ты, кажется, против Телятникова помочь обещал? – Ремезов вновь вернул допрос в деловое русло. – Как?
– Ездит Телятыч по праздникам в одно село вольное, там не смерды живут – просто крестьяне, люди. Никому ничего не должны, ну, старому Всеволоду-князю, конечно, платят…
– Короче!
– А короче, боярин, так: он, Телятыч-то, и посейчас там у одной зазнобушки ночевать собрался. О том сотоварищ мой молодший, Игнатко – поболе моего ведает, – пленник прищурился. – Его и спросите. У него в том селе – Курохватово называется – дружок один есть – Охрятко.
– Ага, спросить, – не сразу понял боярич. – И где мы этого Игнатку сыщем?
– А чего искать? Вы его и так имали уже.
Павел негромко рассмеялся:
– А-а-а, так это тот, второй… вернее – первый. Погодь! Что-то я не пойму – в чем твоя-то корысть?
– На службу к тебе попроситься хочу, – честно признался Митоха. – Язм, господине, не в поле найденный, с воинским делом знаком сыздетства. Много не возьму – корм, коня, да какое-никакое жилище – могу в хоромах, за печкою, могу в избенке какой.
Ага, хоромы ему – вот это нахал!
– Этак ты еще и девку попросишь.
– Не, господине, девку я и сам отыщу. Не сумлевайся, служить те буду верой и правдою, уж куда как лучше, чем гнусу Телятычу… Ну, так как?
– Подумаю о тебе.
Встав, Ремезов позвал слуг, велев увести пленного… и привести другого – Игнатку. А заодно кликнуть и ката.
Трясущийся, как осиновый лист, Игнатко, углядев палача, сразу же бросился на колени, заплакал:
– Не губи-и-и, господине!
– Не погублю, – прищурился Павел. – Коли расскажешь мне все, без утайки, о дружке своем из села Курохватова.
– Хо! Об Охрятке, что ль? – удивился пленник. – Знамо дело, поведаю! Он, Охрятко-то, в челяди боярина нашего был, а потом за Полинкой, Онфима Телятыча племянницей, не уследил – ну, которую за тебя, господине, отдать обещали – та и сбежала. Боярин как раз в отъезде был, ну да Охрятко его дожидаться не стал, сбег – да в Курохватове схоронился. И как-то раз Онфима Телятыча там приметил – с тех пор с осторожкой ходит, с опаскою, за боярином издалече следит…
– Вот и славненько! – встав со скамьи, Ремезов довольно улыбнулся и со всей решительностью заявил: – Сейчас же и едем! Эй, люди – живо седлайте коней.
За трусоватым проводником Игнаткой следили сразу двое парней из десятка Гаврилы. Узнав от пленника, что боярин Телятников всегда оставляет охрану на околице и в село с собой никого не тащит, Павел взял с собой самых молодых – по сути подростков, да к ним еще и «оглобинушку» Неждана – для солидности – и Окулку-ката – этот уж всяко пригодиться мог. Парни принарядились – привязали к шапкам разноцветные ленточки, праздничные рубахи надели, плащи, Окулко гусли с собой прихватил. А как же – праздник! Сколько таких вот молодежных ватаг сейчас по гостям от деревни к деревне шаталось? Покров, он и есть Покров – веселиться, друзей навестить – святое дело.
Тем не мене в село въехали тихо, и не с той стороны, где людишки телятниковские гужевались, а с другой, с Ростиславльского шляха.
Темнеть уже начало, когда возникли из кустов парни с копьями да факелами – местные, хоть и праздник, а все ж лихих людей опасались, бдили.
Ремезов тут же ткнул Окулку-ката в бок, и тот, не говоря ни слова, спешился, достал гусли. Улыбнулся широко, дернул струны…
Парни тоже попрыгали с коней, заулыбались, запели:
- Девки по воду пошли,
- Про парней забыли!
Хорошо пели, голосисто, ломающимися, юными совсем голосами.
Да уж, этих подростков могли испугаться или заподозрить в чем-нибудь нехорошем только уж до крайности подозрительные люди.
Зашуршали кусты – выбрался на дорогу седоватый мужичок, по виду – староста.
Постоял, песню послушал, потом спросил:
– Откель будете? Чьи?
– С Заглодова-деревеньки, Павла-боярина землица, – закинув за спину гусли, отвечал за всех Окулко-кат. – Язм над ними старший – с меня и спрос.
– Слыхал про заглодовских. Гостевать приехали? – седоватый, наконец, улыбнулся – все было сказано честь по чести.
– Гостевать! – добродушно отозвался палач. – Гостинцы с собой захватили… Эй, парни! – Окулко враз обернулся. – А ну-ка, угостите сторожу.
Молодшие ремезовские дружинники тут же повытаскивали из переметных сум пироги, куски жареной рыбы и прочие вкусные заедки. И даже – плетеную баклажку с квасом, которую бдительный местный староста тут же изъял:
– Рано им ишо. От, отстоят стражу, тогда… Ну, прошу, гости дорогие – в наш круг.
Юный ликом боярин по внешнему виду не шибко-то отличался от своих молодых воинов, а потому и не представлялся, выставив за главного Окулку-ката.
Так же скромненько и уселся за общий, накрытый под развесистою ракитою стол, пригубил за-ради праздника великого бражки, песни послушал, поглядел на пляски. Местные все ж утащили часть «дружинников» в хоровод, что завели девицы вокруг большого костра, закружили, запели…
Тут – как раз вовремя – и Игнатко с Гаврилой поспели. А с ними еще один парень – рыжий такой, шустренький.
– Нашли, батюшко, – шепотом доложил Гаврила. – Вот он, Охрятко-то. Боярина своего бывшего прищучить рад.
– Тогда идем… Окулку позови, да… Афоню с Нежданом, да еще человек двух, больше не надо. Да! Шепни, чтоб не все разом шли – мы их у крайней избы ждать будем.
Над соломенными крышами изб, в окруженьи холодных звезд, покачивался яркий, сверкающий серебром месяц, освещая небольшую, стоявшую чуть на отшибе усадьбу – невысокий плетень, большую избу с крыльцом и сенями, амбары и еще какие-то хозяйственные строения – птичник, овин, рига.
– Посейчас боярин в баньку пойдет, – шепотом доложил Охрятко. – Без зазнобы своей, Марьи-вдовицы, один, со слугою. Марья-то жаркого пару не любит, а вот Онфима Телятыча – хлебом не корми, дай попариться.
– Собаки у вдовицы злы? – деловито уточнил Павел.
Рыжий приблуда покривился:
– Злы, да прикормлены. Марья, вишь, их по всему селу отпускает бегать – кто-нибудь что-нибудь и даст. Кто щей вчерашних, а кто и косточку.
– Значит, ты собак отвлечешь… а мы – к боярину в баньку. Больше туда никто не сунется?
Охрятко вскинул брови:
– Как же никто, кормилец? Старая Марья-вдовица хахелю своему завсегда в баньку квас носит… или служанку пошлет.
– Та-ак, – Ремезов ненадолго задумался. – Придется вдовицу взять на себя – ежели что – томить разговорами. С боярином ты, Окулко, думаю, и без меня справишься. Знаешь, что делать.
– Знамо дело! – довольно приосанился кат.
– Только помни – и вы все помните – колпаки не снимать, в беседы не вступать – стоять молча, присутствовать. Да! До смерти боярина не забейте – это лишнее.
Палач обиженно потупился:
– Об том, господине, мог бы и не говорить. Язм свое дело знаю!
– Ну, тогда – с Богом. Колпаки не забудьте.
Павел лично проследил, чтоб всего люди натянули на головы колпаки с прорезями для глаз – его собственная задумка: и страшнее, и предъявы потом некому кидать. Поди знай – что за люди? Ну, догадается, конечно, боярин – не совсем уж дурак. И пусть догадается… а догадки-то к делу не пришьешь. На кого потом Всеволоду-князю жаловаться?
– Ну, давай, Охрятко… Помни, не просто так стараешься – белок за дело получишь изрядно.
– То б и не худо! – обрадованно отозвался рыжий.
Белок… На Руси в тот момент стоял, говоря археологическим языком – безмонетный период. Своих монет не чеканили – либо чеканили, да археологам они что-то не попадались. Основная денежная единица – гривна – брусок в двести граммов серебра, а вот вместо мелких денег использовали беличьи шкурки, бусины, кольца, византийские монетки медные.
Чу! За плетнем едва залаял и тут же ласково заскулил пес. Охрятко свое дело сделал.
– Давайте к боярину, – шепотом приказал Павел. – А старушкой-вдовицей я чуть попозже займусь, не попрется же она сразу с квасом.
Сноровисто перемахнув через ограду, «дружинники» прошмыгнули к бане, располагавшейся на самых задворках, за навозною кучею. Запах кругом стоял тот еще – ядреный, хоть носки вешай… сквозь неплотно прикрытую дверь в баньке слышались приглушенные голоса, один – басовитый, уверенный в себе – боярина, другой – тоненький, слабый – слуги:
– Ай, батюшко, может, еще веников из амбара принесть?
– Дак принеси! Чего ж ты раньше-то… черт!
Распахнув – такое впечатление – головой – низенькую банную дверцу, на улицу пулей вылетел тщедушный слуга. Не удержался на ногах, грохнулся едва ль не в навозную кучу, тут же и вскочил, бросился к маячившему невдалеке амбару.
– Там его и придержите.
Послав парней, Ремезов поправил натянутый на голову колпак и рванул дверь.
Следом сразу же ломанулись остальные, в числе первых – здоровяга Неждан. Так приложил в лоб дернувшемуся было боярину, что тот от удара запрокинулся наземь.
– Тихо ты, не пришиби! – озаботился Павел.
Кто-то из парней припал к боярской груди:
– Не, господине, не пришиб. Сердце то бьется.
– Ну, так раскладывайте его на лавке. Плети-то припасли?
– Обижаешь, господине.
Предбанник у вдовицы оказался просторным – со столом, с лавками – видать, когда-то любили тут сиживать, мед-брагу-пиво пить.
Плеснули боярину на лицо водицы, тут де и разложили – Окулко-кат приосанился, да со свистом плетью по толстому заду – жмых!
– Ой, ой! Помогите! – заверещал прощелыга Телятников. – Как, черти, посмели?! Да я вас…
– А ну-ка, посильнее его!
– Ой-ой! Не надо, не надо… За что-о?!
– Сам знаешь – за что. Поклон тебе с Заболотья.
– У-а-а-у-у-у-у-у!
Волком завыл боярин, забился, задергался… Не ускользнешь, чай, не угорь!
– Господине, – приоткрыв дверь, озабочено промолвил один из посланных за слугою парней. – Вдовица на крыльцо вышла. С баклагою. Может, ее…
– Подождите, я сам. Что со слугой-то?
– В амбаре заперли. Вот и вдовицу б туда!
– Говорю же, подождите с вдовицею, ее лучше в избе запереть – все теплей. Где, вы сказали, старушка-то?
– На крыльце.
Выскочив из бани, боярич поспешно подбежал к крыльцу, скинув по пути колпак – не пугать же пожилую женщину. Сразу же, у крыльца и столкнулся с закутанной в длинный плащ фигурой, да голос встревоженный услыхал:
– Кто таков? Сейчас велю псов спустить.
– Так-то ты, уважаемая, гостей встречаешь? Вот, заглядываем во все избы – на праздник, на хороводы звать.
– Была я уже на празднике, – с усмешкой отозвалась вдовица. – С утра еще. А уж хороводиться – стара. Одначе благодарствую, что не забыли, позвали… Что же мы тут стоим? Проходи в дом.
– В дом так в дом – как скажешь.
Вдовушкина изба – не хоромы, конечно, но все же довольно просторно, уютно даже – не так поразила Ремезова, как сама хозяйка, в свете сальных свечей оказавшаяся не такой уж и старой: сей миловидной черноглазой женщине на вид вряд ли было больше тридцати. Ну, для этой эпохи, конечно – уже пожилая.
Примерно столько же – если не меньше, было и старушке-матушке – по Шекспиру – Джульетты.
– Ну, что же ты стоишь, гостюшка? Садись, вон, к столу – в ногах правды нет.
Перекрестив лоб, Павел осторожно уселся на лавку:
– А хозяин твой где?
– В баньке парится, нескоро еще придет, очень нескоро. Он – парится, а я тут одна сиди, скучай!
– Нешто у такой красавицы поклонников мало? – совершенно искренне удивился молодой человек.
Вдовушка улыбнулась, от чего лицо ее вспыхнуло самой настоящей красотою, и Ремезов только сейчас разглядел, до чего ж была красива эта женщина. Вот вам и старушка! Длинные, черные как смоль ресницы, аристократически бледное, с тонким чертами, лицо, глаза – антрацитовые, с поволокою… интересно, какого цвета волосы – жаль, не видно, по обычаю закрыты убрусом. От чужих.
А у боярина-то губа не дура!
– Пей, милый вьюнош! – хозяйка не сводила с нежданного гостя заинтересованных глаз, даже медовухи самолично плеснула, от души, целую кружку.
– Выпью, – задорно тряхнув головою, согласился молодой человек. – За-ради праздника… ну и, хозяюшка, за тебя.
– За меня потом пить будем, ну а за праздник – и я с тобой дерну по кружке. Как хорошо на Покров! Как много вокруг новых людей, в гости все ходят… вот и ты зашел. Не знаю, как звать…
– Михаилом.
– Врешь, наверное. Почему-то так чувствую. Хотя мне-то какая разница? Зашел – и славно. Зело пригож ты, молодец, и, видно, не из простых.
Ремезов хохотнул:
– Да уж, не из холопов.
– Скажешь тоже. Ну, что – пьем?
Оба разом выпили, поставили кружки.
– А как тебя зовут?
– Скажусь Клеопатрою! Была в древние времена такая царица. Еще при Цезаре.
– Ты и про Цезаря знаешь? – удивился гость. – Ну, надо же!
– А ты меня совсем уж за дуру счел? – вдовица прищурилась. – Обидел, обидел ты меня, гость.
– Как же вину свою загладить? – прошептал Павел, давно уже тонущий в зовущем взгляде сверкающих карих глаз.
– Просто поцелуй меня… по-братски – в уста. За-ради праздника.
– С охотою…
– Знаешь, когда-то у римлян был такой праздник – Сатурналии…
Их губы встретились… и словно проскочила искра, упала на лужу бензина, и яростно вспыхнуло пламя.
Павел целовал отнюдь не по-братски, а вдовушка не противилась, наоборот, уже сама сняла с гостя пояс… рубаху… целуя, целуя, целуя…
Молодой человек, не в себе от вдруг нахлынувшей страсти, сорвал с томно посматривающей женщины паневу, убрус… Ах, какие у нее оказались волосы! Густые, вьющиеся, с рыжиной – медно-змеиные, как пел когда-то Вертинский.
– Пойдем… пойдем – тут рядом – в опочивальню.
Уложив гостя в накрытую медвежьей шкурой постель, вдовица сняла с себя платье, явив такую фигуру, что молодой человек застонал, словно дикий зверь, бросился, схватил женщину в объятья. Нежная теплая кожа… горячее дыханье… сверкающие глаза. Ах, какая упругая грудь… накрыть губами соски… так… Теперь – пупок… а вот сейчас…
Вдовица изогнулась со стоном:
– Ох, милый мой вьюнош!
Им было хорошо, очень… жаль только, что все быстро кончилось. Хотя, если подумать – не так уж и быстро.
– Славно как! Я рада. Теперь помоги-ка одеться. Скоро боярин мой с бани придет.
– Догадываюсь, кто твой любовник.
– О том все давно знают. Кто-то осуждает, а кто-то… я все ж вдова. Покровитель нужен – дети еще юны. А боярин мой – тоже вдовец.
– Чего ж не женитесь?
– Ага, нужен мне такой муж! Да и кто я? Простая женщина, пусть и не бедная, но простая. Не боярыня, не княжна.
– Клеопатра.
– Если хочешь, узнаешь и мое имя. Но лучше не надо – пусть будет так, как у римлян на Сатурналиях. По-праздничному. На вот, бражицу – пей! Я рада – нынче и у меня нежданно – праздник.
Вдовица откинулась к стене и расхохоталась:
– Ты пей, пей. Да собирайся уже – пора. Скоро и боярин мой из бани вернется.
– А он что за человек? – Павел спросил так, словно бы между прочим.
– Да так, разное люди болтают. Доподлинно знаю – племянница от него недавно сбежала с ляхами. Красивая, умная… Боярин ее за заболотнего бирюка Павлуху хотел отдать – дать чуть приданого, да обменять девицу на землицу. А вот, обхитрила всех девка – сбежала. Зачем ей с бирюком жить?
– Да-да, – откланиваясь, уязвленно прошептал Ремезов.
В баньке уже все было, пожалуй, кончено – боярин Онфим Телятников так и лежал на лавке телешом, с исполосованным плетью задом, постанывал.
– Отойдет, – обернулся к Павлу кат. – Ну, что, идем, господине?
– Идем.
Перемахнув через плетень, парни уже минут через пять водили хоровод с местными девками, прыгали через костер, пели… Правда, недолго – вскоре, попрощавшись, ушли, повскакивали в седла да погнали домой выкрашенною серебристым месяцем дорогой. Добрались утром без приключений, все целы, здоровы, довольны.
А боярина Онфима Телятникова с тех пор так и прозвали – Битый Зад! Позорище то еще. И, главное, князю-то не пожалуешься – на кого?
Глава 6
Купцы
Ноябрь 1240 г. Смоленское княжество
В первых числах ноября захлестнула душу Ремезова суровая грусть-тоска кручина. Выпавший было снег в первых числах месяца стаял, снова наступила распутица, грязь кругом непролазная, так что и на улицу не очень-то выйдешь, да и делать что – по легкому морозцу куда как лучше – что охоту взять, что ловлю рыбную.
Не только один боярин осеннюю тоску испытывал – и многие, да почти все, окромя кузнеца-воина Даргомысла с выселок да всех те, у кого и в распутицу находилось важное дело. Кто-то бочки делал, кто-то лыко вязал, а кое-кто – лапти. Хорошая обувка – лапоть – удобная, зимой в ней не холодно, летом – не жарко, одно плохо – снашивались лапти быстро, мужику одной пары максимум дня на три хватало. Потому и требовалось лаптей много, и стоили они – дешево, ну так ведь и каждый сплести мог – если по-простому, без хитростей, без узорочья.
Павел, однако, лапти не плел – не умел, да и не боярское то дело. Выглядывая изредка во двор, снова слонялся по горнице из угла в угол – мысли прогонял нехорошие. Мерзопакостная стояла погода – с хмарью, с тучами сизыми, низкими, с мелким липнущим снегом пополам с дождиком. Расползлись, расквасились подмерзшие было уже стежки-дорожки, а на вздувшейся реке плыли мелкие обломки льда – шуга. К весне б такое дело – радовались бы, но на дворе-то почти что зима. А ни снега, ни льда, ни мороза! Одно ненастье изо дня в день.
Субэдей! – вот о ком не переставал думать Ремезов. Как и любой нормальный человек, он все же должен был попытаться вернуться, это только издали, с книжкой или перед телевизором в кресле сидючи, кажется, будто вон оно как здорово да интересно в Средние века люди жили – красиво, по-благородному! Это издалека – так, а на самом-то деле – да ничего хорошего. Вокруг полная антисанитария, болезни, грязь, Павлу уж сколько сил приложить пришлось, чтобы при каждой избенке элементарную уборную завели, не бегали в поле да в лес – где попало. Везде так в это время было – в Лондоне, Париже да во всех прочих городах – с дивными готическим соборами, с мощными стенами – уборных тоже не ставили, содержимое ночных ваз выплескивали, ничтоже сумняшеся, прямо на улицу, прохожим, хорошо, если только под ноги, а не на голову. Одежду стирали редко – от того краски смывались, мылись тоже – даже феодалы – раза два в год. В русских-то княжествах, конечно, чаще – лес вон он, рядом, за околицей, верви-общины лес. Хворосту, дровишек – уж каждому заготовить можно. В Европе, увы, не так – места мало, любой лес при хозяине, попробуй-ка, укради дров! Пищу-то горячую приготовить – проблема, все больше затирухами перебивались, а уж про мыться и говорить нечего. Это ж сколько надо воды нагреть! А дровишки где? Многие, правда, торфом да древесным углем перебивались. А средневековые знатные дамы? Не мывшиеся, не умывавшиеся никогда, блохами да вшами кишащие… И это – знать! А уж копнуть ниже… Замуж лет в тринадцать. Если позже – уже говорили – старая. Через год – ребенок, потом – еще, еще, еще – каждый год рожали, кто б позволил бабе пустой простаивать? Не те времена. Из десятка детей пятеро умрут во младенчестве, еще кто-то – подростком, двое-трое останутся – род продолжить. В двадцать семь – уже и дочку пристраивать замуж, годика через два – сына женить, вот уже в двадцать восемь и бабушка, а в тридцать – старуха. Страшные были времена…
Павел покачал головой – хм… были? Еще как тут сам-то от какой-нибудь поганой болезни не умер, все Господь миловал – здесь ведь даже обыкновенная вирусная инфекция, простуда – часто смертельный недуг, не говоря уже о бронхите или воспалении легких – без антибиотиков, травками да заговорами не вылечишь никак. Даже в войнах большинство вовсе не от вражеских копий да мечей погибало – от эпидемий, да еще от голода-холода, монголы, кстати, все военные кампании предпочитали вести зимой, когда можно было более-менее свободно на большие расстояния передвигаться, летом-то – по болотам, через реки-ручьишки – попробуй!
Монголы, Субэдей… Неужто не выйдет ничего, не получится? Небольшой бы совсем толчок… а уж у Субэдей-багатура – судя по летописям, пассионарной энергии хоть отбавляй! Добраться бы до него только!
Подумав, молодой человек уже собрался было велеть позвать Митоху – наемник все ж на усадьбе прижился, службу нес без нареканий, исправно, даже молодых ополченцев тренировал – степным оружием – сабелькою владеть учил, Павел тоже его ученьем не брезговал – меч – он туп и прямолинеен, клинок тяжел, особо не пофехтуешь, иное дело – сабелька. Вот Митоха-то должен бы многих в княжестве знать – на купцов бы сейчас самое время выйти, к каравану прибиться – к тем, что на восток. Или где там сейчас Субэдей – на Волыни, в Галиче? Ну, значит, нам туда дорога… волы-ы-нская улица по городу иде-о-от…
Постучавшись, в дверь заглянул Демьянко Умник. В длинной – до колен – теплой рубахе с вышитым оплечьем, с гусиным пером за ухом, с длинными, стянутыми узеньким ремешком, локонами, отрок выглядел как записной ученый муж, этакая типичная конторская крыса, офисный планктон – очков да нарукавников еще не хватало для полноты образа. Плюс – гаджеты и ма-аленькая чашечка кофе в левой руке. Это бы добавить, да в костюм с рубашечкой приодеть – вылитый «стратегический менеджер».
– А, заходи, заходи, парень! – обрадовался молодой человек. – Я уж и сам тебя кликнуть собирался, отправить Митоху позвать.
– Язм, господине, с делом к тебе, – сдержанно поклонился подросток. – Сейчас и Михайло-тиун прийти должон… О! Вон он, на крыльце топочет. Середа сегодня – вот мы с докладом и пожаловали.
– Ах, среда, точно!
Ремезов и сам вспомнил, что по средам заслушивал «коммерческого директора» с секретарем, а те уж докладывали обо всех хозяйственных надобностях. Вот и сегодня пришли… Что ж – неплохо, и главное – вовремя, все ж какое-никакое, а развлечение. Да и о людях своих феодально зависимых тоже забывать не следует – не по-божески это.
– Здрав будь, боярин-батюшко, – войдя, поклонился Михайло. – Извиняй, задержался малость – грязь у крыльца с постолов счищал.
– Ладно, ладно, – Павел покладисто махнул рукой. – Садитесь вон, на скамью, докладывайте, квасу себе наливайте.
Посетители с готовностью уселись – прошли уже те времена, когда молодой боярин считался здесь-то вроде чуда-юда поганого, нынче его, скорей, уважали, нежели боялись. Хотя, конечно, побаивались – в Средние века уважение рука об руку со страхом хаживало, а в России-то матушке и до сих пор так осталось – любую структуру возьмите, хоть школу, хоть МВД. Какой хороший учитель? У которого дети «сидят», да мяу сказать боятся.
– Беда у нас, господине, – кашлянув, произнес тиун. – С солью опростоволосились. Нету соли-то! Все по осени извели. А чем рыбу зимой солить?
– Та-ак, – задумчиво протянул Павел. – Что же раньше-то не доглядели?
– Бабка Афросинья-засольщица виновата, весь запас ухнула – с нее и спрос.
Ремезов недобро скривился:
– Ага, понимаю – нашли стрелочницу. Ладно! Не станем сейчас виноватых искать, о другом думать надо – как проблему решить, исправить. Короче, где соль взять?
– Известно где – на базаре, в Смоленске, – подал голос Демьян. – Только вот не на что нам пока соль покупать – цены-то поднялись. Татары, рыцари – караваны редко ходят, да и зимы нет – нет и дорог, и с охотою сам, господине, знаешь, не очень.
– Ясно, – Павел поднялся на ноги. – Значит, по-другому поставлю вопрос – где нам на соль серебришка раздобыть? Причем по-быстрому. Сам же и предложу – найти купцов да с караваном их сопроводить… скажем, до Турова или на Волынь даже. Что смотрите? Понимаю, хотите сказать, что никто неизвестных людей не наймет. То так, не спорю. Но я самолично дружину свою поведу, а боярин Заболотний – все ж имя известное. И не бойтесь – на усадьбе воинов оставлю с избытком.
– То все так, господине, – Демьян с тиуном переглянулись. – Только где ж тех купцов сыскать?
Ремезов хитро прищурился:
– А мы про то сведущего человека спросим – Митоху! Я как раз вот только что о нем вспомнил. Ну-ка, Демьяныч, сбегай, позови.
Они двинулись в путь через неделю, когда грянул морозец да запорошило снегом дорожную грязь. С боярином отправились в путь двадцать воинов во главе с Гаврилой и Нежданом, кроме них еще с десяток обозников – на санях-волокушах везли подарки сюзерену – смоленскому князю, давно уже пора было везти. Еще, конечно – Митоха, как же без него-то? – да Окулко-кат – тот сам вызвался, из любопытства, больно уж хотелось иные места посмотреть. А еще прибился по дороге Охрятко – рыжий беглый слуга – надоело, видать, в Курохватове прятаться, хозяина, защиту себе искал.
Ремезов глянул на парня с усмешкою – слишком уж несуразен был: армячок рваненький, веревкой простой подпоясанный, да еще треух засаленный, да лапти, обмотки – дрянь.
Подумал молодой боярин да махнул рукой:
– Ладно, может, и с тебя толк какой будет. Иди, вон, к обозным… Парни, в поршни его обуйте, кабы лапти свои раньше времени не сносил да босиком по снегу не бегал.
По совету Митохи ехали Полоцким шляхом, меж холмами, низинками. На реках да болотах уже добрый лед встал, хорошо продвигались, ходко, в день верст по тридцать делали, что и сказать – словно птицы летели. Да по такой-то дорожке – сам бог велел. Иногда встречались на пути обозы санные – тоже в Смоленск, на ярмарку, ехали. Митоха многих знал, здоровался, с иными вместе и ночевали, разбивали походные шатры, жгли костры, Окулко-кат доставал гусли.
Через три дня пути на четвертый выехали к Днепру, дальше путь шел по льду, уже запорошенному белым искрящимся снегом. С погодою повезло, почти весь путь неторопливо кружил, падал мягкий снежок, а сквозь разрывы легких золотисто-палевых облаков частенько проглядывало солнышко.
А на пятый день, прямо с утра, едва выбрались из-за излучины – показался на вершине пологого холма высокий островерхий храм, вокруг которого группировались иные строения.
– Обитель Троицкая, – сняв шапку, перекрестился Митоха, а следом за ним и все. – Дальше еще один монастырь будет – Борисоглебский, у Смядыни-реки. Да во-он его уже и отсюда видать. А от него уж до града – рукой подать, рядом.
У Борисоглебской обители нагнали еще один большой обоз, поздоровались, спешились, помолились на ярусную Михайловскую церковь и – чуть пониже стоявшую – Васильевскую.
– Вишь, боярин, подале, за леском, церковь каменная? – выполняя просьбу Павла рассказывать в подробностях обо всем, с видом заправского гида продолжал объяснять наемник. – То Спасский собор. Обитель, ворота тоже каменные, смоленские зодчие строили. Ну, инда поехали – к обеду в городе будем, уж совсем ничего пути осталось.
Митоха не обманул: едва обогнали обоз, как глядь, за пологой излучиною бросился на глаза город – ближний посад с широкой деревянной пристанью, ныне запорошенной снегом, а за ним – основательная с виду крепость-детинец. На посаде, у пристани, на площади меж двумя высокими храмами, толпился-веселился народ – ярмарка! Воины приосанились, Окулко-кат повесил на грудь гусли.
– Торжище, – широко обвел рукою Митоха. – Иоанна Богослова храм… а вон тот, острый – немецкий. Так и называют – «немецкая божница». Тоже смоленские мастера строили, а зодчий был немец. За торжищем, вона, подальше – Параскевы Пятницы церковь на Малом торгу, рядом – Николы Полутелого храм, у вон, у речи – Чуриловка называется – еще одна церковь – Кирилловская. Что, господине, делать будем – сразу на княжий двор поедем или себе пристанище приищем сперва?
– И то, и другое сразу, – не задумываясь, ответил молодой человек. – Ты, Митоха, с обозниками некоторыми да с Охряткою пристанища поищешь… прошвырнитесь по торгу, припасов купите… заодно купцов-гостей присмотрите.
Наемник заломил шапку набекрень:
– Сделаем, господине!
– Ну, а мы пока – к князю.
Смоленский детинец, окруженный мощными деревянными стенами, за которыми виднелись основательные кирпичные постройки – княжеский терем, собор и небольшая церковь – располагался на пологом холме, господствуя над всеми остальными городскими строениями, в большинстве своем – деревянными.
Подъехав к распахнутым настежь воротам, Ремезов спешился и, поправив алый, щегольски накинутый поверх теплого полукафтанца плащ, подошел к охранявшим детинец воинам с красными миндалевидными щитами и с копьями:
– Заболотский Павел, Петра Ремеза сын, слуга вольный – к князю с гостинцем!
– А, Заболотский Павел?! – осанистый крепкий толстяк в богатой шубе, стоявший на княжьем крыльце, быстро спустился вниз по ступенькам. – Заходи, заходи… Поди, меня не помнишь?
– Нет.
Толстяк улыбнулся в усы:
– Малой еще был, а сейчас, смотри, как вырос! Язм Емельян Ипатыч, воевода княжий… То твои молодцы-вои?
– Мои.
– Добре. Ужо покажем князю. Ты заходи, заходи, я доложу. Одначе, – воевода вдруг огляделся по сторонам и понизил голос до шепота: – Вчерась сосед твой, Онфимко Телятников, гонца прислал с жалобой. Чем-то ты там его обидел.
– Врет, пес худой! – не моргнув глазом Павел спокойно пожал плечами. – Неведомые тати его у полюбовницы приловили – высекли, так что боярин Телятников теперь – Битый Зад! Язм тут при чем – непонятно. Послухов у Онфимки нет.
– А-а-а! – снова заулыбался воевода. – Вот оно как дело-то было! У полюбовницы застали? Ай-ай-ай! Битый Зад, говоришь? Надо же!
– Ты что, дядюшка Емельян, смеешься? – неожиданно, едва не столкнувшись с воеводою, слетел по ступенькам княжьего крыльца ладный молодой парень на вид лет восемнадцати-двадцати, с круглым красивым лицом, с непокрытою головою – на светло-русую, стриженную под горшок, шевелюру, кружась, ложились снежинки. Одет юноша был весьма прилично, богато – поверх длинной, подпоясанной золоченым поясом туники распахнутый на груди крытый сверкающей парчой полушубок, золотая цепь на шее, на ногах – зеленые сафьяновые сапоги.
– Да тут про Онфимку Телятникова рассказывают, – повернувшись, воевода почтительно поклонился юноше. – Вот это тех мест житель – Павел из-за болот, Петра Ремеза боярина сын, вольный слуга.
Ремезов вежливо поклонился:
– Здрав буди, княжич.
Ну, конечно – княжич. Кто еще это мог быть?
– Слыхал про Петра Ремеза, – покивал молодой князь. – Поговорил бы и с тобой, Павел, да некогда – рать воинскую надо смотреть… ничего, боярин, еще увидимся – и ты в той рати будешь, как время придет!
Махнув рукой, юноша сбежал по ступенькам на двор, птицей взлетел в седло подведенного расторопными слугами белого, как снег, жеребца. Взвил коня на дыбы, хлестнул по крупу нагайкою – только парня и видели!
– Узнал княжича-то? – негромко спросил воевода.
– Не, Емельян Ипатыч, не признал, – честно признался Ремезов. – Давненько в Смоленске не был.
– То молодший князь Михайло Ростиславич, старого князя троюродный племянник.
– А-а-а… То-то я так и подумал!
Старый смоленский князь Всеволод Мстиславич внешностью напоминал старьевщика татарина, из тех, что в двадцатые годы ходили по дворам, да блеяли – «ста-арье бере-о-ом!». Узкие – верно, наследие половецкой крови – глаза, реденькая бородка, седые космы по плечам – лысеющая макушка прикрыта черной бархатной шапочкой – скуфейкою. Червленый княжеский плащ – корзно – застегнут на правом плече изящной золотой фибулой, ноги в мягкие сапожки обуты, взгляд хитроватый, с прищуром… еще бы кепочку – и вылитый Владимир Ильич Ленин!
Павел даже головой мотнул, отгоняя неведомо откуда взявшееся наваждение: показалось вдруг, поднимется сейчас князь с лавки, плащик скинет, да руку подаст, картавя:
– Здгаствуйте, здгаствуйте, батенька!
Ой, ну до чего же похож! Еще б кепку.
– Здрав буди, княже, – сгоняя с лица невольную усмешку, почтительно поклонился молодой человек.
– И ты будь здрав, боярин младой. Почто пожаловал?
– Гостинец с наших краев привез, да и так, узнать – когда службу проворить?
– Скоро, боярин, скоро – в генваре месяце, просинцем рекомого, приезжай в детинец-то – конно, людно, оружно. Смотр всем вам заведу.
– Смотр это, княже, понятно, явлюся, – уверил Ремезов. – Про татаровей-то что слыхать?
– Да есть их, немало, – совсем по-ленински улыбнулся князь. – Ты, боярин, садись на лавку-то, в ногах-то правды нет.
– Благодарствую.
Еще раз поклонившись, Павел уселся на лавку близ теплой, щедро украшенной синими поливными изразцами печки, хорошей печки, с лежанкой, с трубой – топившейся по-белому. Вот бы и самому на усадьбу такую печку… мастеров только найти, сговорить…
– А татар да мунгалов не бойся, сговоримся и с ним, – прищурившись, заверил Всеволод Мстиславич. – гостинцы свои на амбар отвези – Емельян Ипатыч покажет. Ему же и список составь – всех своих людей, воев.
– Да вот он, список, – молодой человек с готовностью достал из-за пазухи свернутую в трубочку грамотку, поднявшись с лавки, протянул князю с поклоном. – Самолично для тебе писал, пресветлый княже!
– Ишь ты! Молодец, – одобрительно покивал сюзерен. – От иных так и не дождесся! Постой-ко… – старик вдруг вскинул глаза, словно бы только что – вот сейчас – вспомнил нечто важное, что-то такое, что заставило его посмотреть на посетителя с большим любопытством. – Так ты – Павел, Петра Ремеза-боярина сынок младшой?
– Так и есть, княже.
Всеволод Мстиславич почмокал губами, словно бы поймал ртом надоедливо жужжащую муху, да теперь пробовал ее на вкус:
– Много о тебе слыхал… всякого. Вот и боярин Телятников гонца присылал, жалился… А ты – вон он каков молодец! Может, и батюшка твой зря на тебя осерчал, со двора на дальний удел прогнал?
– Даст Бог – помиримся, – молодцевато заверил молодой человек.
Про батюшку, вообще про всю свою семью он особо-то на усадьбе не расспрашивал, опасаясь прослыть беспамятным недоумком, так, лишь кое-что узнал от Демьянки. Да и что там, на дальней – за болотами, за лесами – усадьбе вообще могли знать?
Значит, осерчал на него родной батюшка-боярин, за какую-то провинность со двора прогнал – вон оно как выходит!
– Дай Бог, дай Бог, – покивав, старый князь махнул рукою и, вдруг ухмыльнувшись, спросил: – Боярина-то Онфимку Телятникова не ты ль приласкал по заду?
– Не, княже, не я, вот те крест! – Ремезов резво перекрестился на блестевший серебряными окладами иконостас в углу, причем клятвопреступником себя не ощущал ни в коей мере – потому как по сути-то был атеист. Ну, подумаешь – соврал немножко. Зачем зря колоться? Человек против себя свидетельствовать не обязан!
– Не ты, значит… Ну-ну… Инда ступай, Павел, заболотный боярин, Петра Ремеза сын. С гостинцами – сказал уже – с воеводой уладь. Прощай! Рад был видеть.
– И я тоже рад, пресветлый княже.
Отвесив прощальный поклон, молодой человек, пригнувшись, дабы не стукнуться лбом о низкую притолочину, покинул княжеские хоромы и, дождавшись в сенях воеводу, последовал вместе с ним во двор, где оба озаботились «гостинцами». Странно было, что этим занимался воевода, а не управитель-тиун… видать, не всем доверял старый князь, даже на дворе собственном.
Пока то, да се – провозились почти до сумерек. Лишь только оранжевый краешек солнца сверкал за дальним лесом, когда заболотный боярин и его люди выехали из детинца и наметом пустили лошадей вниз – в город, к торжищу.
Рыжий Охрятко заметил их еще издали, на паперти у церкви Николы Полутелого ждал. Увидал, замахал руками:
– Сюда, батюшка-боярин, сюда! Митоха-воин корчму присмотрел на славу.
– Корчму? – придержав коня, усмехнулся Павел. – Что ж – иного-то я и не ждал. Заночевать-то хоть там можно?
– Там постоялый двор! Хозяин щей наварил – вкуу-усные! Еще и блины…
– Ну, так давай, веди! – боярин нетерпеливо дернул поводья. – Давно уже и щей вкусить хочется, и блинов, князь-то, скряга старый, не потчевал.
Располагавшаяся тут же неподалеку, чуть ближе к Чуриловке-речке, корчма оказалась просторной и многолюдной – ярмарка. Похлебали щей на славу, поели блинов, запив стоялым медом да пивом, а вот спать пришлось вповалку – в людской, больно много постояльцев наехало в город в базарный день. Но то и хорошо, что много, да и денек неплохим выдался – с князем пообщались, поели, попили – теперь бы и главное дело сладить.
– Ну, что, Митоня, видал купцов? Разговаривал?
– Да уж, уговорился, – наемник усмехнулся в усы. – Тихон Полочанин-гость как раз завтра б с нами и отошел – коли в цене б сладились.
– Завтра?! – боярин уселся на лавке. – Так что же ты раньше молчал?
– Так ведь, пока кушали, пили… А Тихон-то припозднится сегодня – пока всех своих проверит, указания даст. Вот и мы выждем чуток.
– Чуток, – нервно усмехнулся Павел. – Он хоть куда едет-то, этот Тихон?
– В Менск, а потом, может, и дальше – в Краков. Как дела пойдут.
– Так там же, говорят, татары!
– Ну и что? – прищурившись, спокойно отозвался Митоха. – Тихон сказал – татары торговлишке не помеха. Наоборот даже. Он ведь с их стороны – из булгар – с караваном и едет. И еще у него эта… пай… хай…
– Пайцза!
– Да – пайцза есть. Дощечка такая охранная. От самого хана.
Пока болтали, пока, выйдя на улицу, вытряхивали с одежки клопов да блох, уже и совсем стемнело; в черном, мерцающем загадочными – в прозрачных призрачных облаках – звездами небе выкатилась медно-блистающая луна, повисла над каменной колокольней, прищурилась довольно – видно, тоже радовалась легкому морозцу да скрипящему под ногами снегу. Все радовались, особенно – торговые гости-купцы – всем надоела слякоть.
Народец из корчмы уже разошелся почти что весь, так, по углам еще сиживали компании – из тех, кто и ночевал здесь же.
– Вот он, купец, – пройдя вперед, Митоха указал на тощего мужика в справной немецкой суконке – с бритым подбородком, бровастого, вислоусого, с богатой серебряной цепью поверх синей суконной груди.
Подошли, уселись на скамейку напротив; наемник представил боярина, и купец, не тратя зря времени, сразу же заговорил об оплате:
– Дружина твоя меня устраивает, – не отрывая от собеседника маленьких глубоко посаженных глаз, быстро промолвил Тихон. – Язм твоих людей видел, да и Митоха – человеце известный, к кому ни попадя не пойдет.
При этих словах наемник распрямил плечи и довольно закашлялся.
– Маловата, правда, дружина у тебя, боярин, – сделав знак корчемному служке, продолжал торговец. – Ну да и караван у меня нынче невелик. В Менск мыслю попасть, потом – в Берестье, а там, как господь даст – может, и в Краков двину. Митоха сказал – тебе соль нужна? Так, может, я так сразу и заплачу – солью? Десять соляных кругов.
Павел покачал головой:
– Дюжину!
– Да круги-то, боярин, большие, не малые! Да ведь и вас найму до Берестья токмо. – Служка принес кувшинец, налил всем пахучей медовухи, и купчина махнул рукой. – Инда ладно, пусть будет дюжина. А службу обговорим тако: в торговые дела не лезть, все указания исполнять в точности. Спросить чего ль хочешь, боярин? Спрашивай!
– Почему нас – до Берестья только? – поинтересовался Ремезов. – Татар не боишься? Они ведь где-то в тех местах, сказывают.
– Татар как раз не боюсь, – полочанин хвастливо приосанился. – От самого царя-хана у меня пайцза есть – пропуск. А вот прочий разбойный люд, тати – против них-то тебя, боярин, и нанимаю с дружиною. Дюжина соляных кругов, так?
– Так, так.
Торговец покривился:
– Дороговато, да уж ладно… Ну, тогда – по рукам?
– По рукам!
Скрепив договор рукопожатием, договаривающиеся стороны потянулись к кружкам. Купец и приказчики его – молодые парни – долго не засиделись, простились да спать пошли.
– Завтра раненько встаем, не проспите.
– Да уж не проспим.
– Смотри-ко, боярин, – выпив, Митоха кивнул на стол в самом дальнем углу трапезной. – Там не наш ли рыжий?
Ремезов повернул голову:
– Ну да, он – Охрятко. Тоже, видать, не спится. Ты что, Митоня, так смотришь-то?
– Сотрапезник мне его не нравится. Больно на татя похож!
Павел снова оглянулся, внимательно всматриваясь в сидевшего рядом с рыжим изгоем парня. Невысокого росточка, чернявый и весь какой-то дерганый, он что-то негромко говорил, то и дело подливая в Охряткину кружку из стоявшего на столе кувшина. Что они там пили? Вряд ли вино – уж больно шикарно, скорее, просто бражицу или хмельной квас.
– Л-а-адно, – зевнув, Павел поднялся на ноги. – Пойду-ка спать. А насчет этого чернявого завтра у Охрятки спросим.
Завтра не спросили – забыли, да и не до того было: утро началось с суеты – торговцы спешно запрягали возы, накрывали товары рогожками, суетились. Сам Тихон Полочанин, накинув на плечи овчинку, деловито отдавал указания приказчикам:
– С квасцами воз первым ставь… за ним – оружный, посудный, тканевый…
– Ну, а нам куда приткнуться, купец? – погладив кольчужку, осведомился Ремезов.
С утра уже все его люди были окольчужены и оружны, выйдя за ворота, чтоб не мешать собираться торговцам, держали наготове коней.
– Троих молодцов вперед пусти на пять перестрелов, да столько же – на три перестрела – сзади, – без раздумий отозвался Тихон. – Основная же дружина – рядом, здесь, сам тож с ними.
– Согласен, – кивнул головой молодой человек. – Митоха, распорядись-ка.
Собравшись, двинулись наконец-то в путь. Солнце едва только взошло, золотило лучами ели, по синему небу плыли реденькие белые облака, под копытами коней да полозьями санными, поскрипывая, искрился снежок. Ехали быстро – купец хотел поспеть до ночи к полоцким землям, там, на границе, и заночевать – место давно уж было присмотрено, не одним только Тихоном, но и другими. Потому – подгоняли лошадей, не жалели, а полозья саней загодя смазали салом. Тоненьким-тоненьким слоем – зато и катили сани легко, словно б на крыльях летели. Но и зверье позади обоза приманивалось на сальный запах – лисы, одичавшие псы, волки.
– Боярин, людям своим накажи, пусть постреливают, да стрел не жалеют, – обернулся в передних санях купец. – Ничо, зверюг сих мы отвадим… лишь бы двуногие не набежали… ха-ха! Что это у тебя за узорочье? На крыж немецкий похоже.
– Где? – поправив шапку, Павел скосил глаза. – Да где же?
– Вон, позади, к плащу прицепился.
Ремезов сунул за спину руку, нащупал… Ну, точно – крест! Небольшой, но и не маленький – с ладонь, золотой! Хотя… Нет – медный, просто начищенный до золотого блеска. На крючочке подвешен… в сутолоке случайно за плащ зацепился. Или – в опочивальне в людской… Народу много, может, и обознался кто – зацепил. Да нет, скорее – случайно.
– Случайно – не случайно, кто сейчас может сказать? – торговец покачал головою. – Убрал бы ты его с глаз подале, боярин! Сунул бы в переметную суму.
Молодой человек пожал плечами, да так и сделал – отцепил от плаща крест да сунул в мешок. Можно было б и выкинуть – не так уж и ценна вещица – а все же жаль стало. Медь здесь тоже – ценность, чего зря разбрасываться? Весит мало, суму не жжет. Убрал с глаз долой – да и забыл надолго.
Убрав крест, Ремезов, однако же, ухмыльнулся: а купец-то, купец! Все примечает, даже самую мелочь, хотя, казалось бы – какое дело ему?
Ехали быстро, храпели кони, поскрипывал под полозьями снег. Остался позади славный Смоленск-град, ладный, выстроенный из тонкого кирпича – плинфы – собор Борисоглебского монастыря, выстроенный на месте предполагаемого убийства княжича Глеба Святополком Окаянным. Вскоре, за излучиной, пропал и высокий силуэт храма Троицкой монашьей обители, оттянулись пустынные берега, кое-где перебиваемые темными скоплениями изб – селами, деревнями, хуторами.
Уже ближе к вечеру, на крутой излучине, где батюшка Днепр поворачивал круто к югу, остановились на общий молебен – дальше дорожка шла лесом да взбиралась на холм, с вершины которого открывались уже полоцкие земли.
Там и заночевали – свернули к обустроенному роднику, где уже распалили костры и иные гости.
Павел поначалу насторожился было, хотел крикнуть своим, чтоб держались с осторожностью – мало ли кто здесь гужуется, костры жжет? Может…
– Не надо ничего делать, боярин, – со смехом махнул рукой Тихон-купец. – То свои, знакомые. Не разбойники и не тати лесные… Эй, эй! – спрыгнув с саней, торговец замахал рукою. – Здоровеньким будь, Василий, друже.
Какой-то высокого роста мужик, с окладистой бородой и в богатой шубе, поднялся, зашагал, распахнув объятья, навстречу:
– И ты будь здрав, Тихон! Куда собрался? Опять в Менск да в Берестье?
– Туда, друже. А ты?
Купцы обнялись, а вот уже, распрягая коней, принялись обниматься-смеяться и менеджмент среднего звена – приказчики, и служки, – многие были промеж собою знакомы, кто-то кого-то расспрашивал, кто-то громко хохотал, а кое-кто угощал всех медом.
Прибывшие тоже разложили костры, принялись варить кашу да жарить на углях рябчиков, весьма кстати подстреленных по пути воинами молодого боярина Павла.
Боярин – так вот, уважительно, все к нему и обращались – начиная с самого главного гостя-купца. Хотя на самом-то деле все хорошо понимали: ну, разве ж истинный-то боярин, именитый вотчинник, наймется торговый караван охранять? Нет, конечно же… Боярин не наймется, а вот бедный да оголодавший «вольный слуга» – другое дело. В смутные времена совсем уж впавшие в нищету мелкие феодалы – «вольные слуги», «слуги под дворскими», своеземцы – даже в холопство податься не брезговали – все лучше, чем с голоду помирать. Таких вот феодальчиков-«слуг» чуть позже дворянами прозовут да детьми боярскими. Так вот и Павел – как д’Артаньян – кроме шпаги, по сути-то, и нет ничего. Впрочем, у Ремезова-то, как ни крути – а все же три деревеньки! Конечно, не бог весть что, но все-таки. И Заболотица-то – не никем-то жалована, его, Павла, отцом Петром Ремезом данная – вотчина! Значит, все же – боярин… пусть ма-аленький такой, мелкий…
– Господине, где велишь шатры распахнуть? – отвлек от дум подбежавший Митоха.
– А где б ты сам-то поставил?
Наемник довольно скосил глаза – слышал ли кто, как сам боярин – пусть даже и очень молодой еще по возрасту – у него совета спрашивал? Слышали, слышали – и «дубинушка» Неждан, и Гаврила-десятник, и всегда веселый и жизнерадостный Окулко-кат. Даже неловко этакого весельчака палачом звать… ну так, а как же? Профессия, ее-то куда денешь?
Надо сказать, Окулко пользы в пути приносил изрядно – и уставшего подбодрит, и шутку-прибаутку к месту скажет, и на гуслях сыграет, и песню споет. Вот и сейчас, едва дожидался, когда обустроятся да посты выставят. Впрочем, с постов и начать:
– Гаврила, двух своих парней – вон к той елке, ты, Неждан – парочку к тому бережку отправь, чтоб издалека поглядывали.
– Могу спросить, господине? – подал голос Митоха.
– Спроси… Только если – сколько на небе звезд, так знай – не отвечу!
Весело сказанул боярин, пошутил – и люди его, рядом бывшие, от души посмеялись. Вообще, смешливый жил в ту эпоху народец, палец покажи – обхохочется. Вот и сейчас…
– Ты, Митоня, еще про луну спроси!
Наемник, скривившись, сплюнул в снег:
– От зубоскальцы!
– Так ты чего спросить-то хотел? – напомнил Павел.
– Про людей, – рязанец враз обрел всю серьезность. – Ты их, батюшко-боярин, по двое в караул посылаешь. А лучше б по одному было – и не болтали бы, и больше б людей отдохнуло.
– Так-то оно так, – отводя наемника в сторонку, негромко промолвил Ремезов. – Да только ты на воинов моих посмотри. Сколько им годков-то? Пятнадцать, шестнадцать… кому и того нету. Дети ведь еще почти.
Митоха согласно кивнул:
– Инда так, дети.
– Так чего ж мне их поодиночке в ночь ставить? Вдвоем-то надежнее… и веселее.
– Да уж… Во многом ты прав, боярин! – рязанец заломил шапку. – Так как же шатры-то ставить?
– Ставь, как сам думаешь – лучше.
– Думаю – ближе к реке.
– Ставь к реке, ладно.
Павел отправился спать рано, как и все – в те времена и вообще-то по утрам не залеживались, а уж купцам-то в дороге и сам Бог велел подниматься пораньше. Укрылся в шатре волчьей шкурой – хорошо, тепло, жарко даже – да тут же и уснул, слушая, как припозднившиеся у дальнего костерка приказчики тянули негромкую песню.
- Но от тайги до британских морей
- Красная армия всех сильней!
А это уже пели во сне, то ли до комсомольского собрания, то ли после… скорее, после, ибо Ремезов уже нетерпеливо подпрыгивал за партой, поглядывая на ту самую, так похожую на Полину девчонку… Так похожую на Полину… Нет, если вдуматься – ну, как же так может быть, чтоб какая-то нелепая авария и…
– А Полинка-то с заезжим ляхом сбежала! – заглянув в дверь, глумливо погрозил пальцем рыжий Охрятко.
Покосился на висевшего над коричневой классной доской портрет товарища Хрущева, подтянул кушак и громко, по-лошадиному, заржал.
От этого ржания-то молодой человек и проснулся в холодном поту – вот ведь и приснится же невесть что!
Снова – где-то рядом, показалось, что над самым ухом – захрипел, заржал конь. Странно… Впрочем – а чего странного-то? Не трактор же, а всего-на всего лошадь, вон их сколько у дальних кусточков привязано.
И тем не менее что-то не спалось. Совсем перебило сон.
Выбравшись из шатра, Павел наклонился и, зачерпнув в ладонь снега, потер виски. Потом посмотрел на дальний – на самой опушке – костер, подумал – пойти ли? Оранжевые блики пламени выхватывали их темноты лица двух засидевшихся у костра парней, в одном из которых молодой человек тут же признал Охрятку, другой же… Другого он смог рассмотреть получше, лишь когда подошел ближе – чернявый! Тот самый чернявый дерганый парень, с которым рыжий слуга болтал в корчме. Болтал… И что с того? Мало ли кто с кем болтает?
Интересно только, кто этот чернявый – приказчик? Или простой погонщик-слуга? Скорее, последнее, с чего бы приказчику с изгоем ночь коротать?
Крест этот еще… как же он к плащу прицепился? Не может такого быть, чтоб случайно. Значит, кто-то ж его прицепил. Зачем? Вопросы, вопросы…
– Здрав буди, боярин, – заслышав скрип снега под ногами Ремезова, Охрятко быстро оглянулся и тут же вскочил, поклонился, испуганно кося глазом на своего собеседника.
Тот тоже поднялся на ноги, дернулся – такое впечатление, что бросился бы бежать, да вот, едва пересилив себя, тоже отвесил поклон, да просто поклонился, а, лучше сказать – откланялся.
– Пора мне. Завтра вставать раненько.
Павел глухо хохотнул, глядя вослед исчезнувшему в ночи парню:
– Всем раненько.
Потом перевел взгляд на рыжего:
– А тебе что не спится?
– Костер вот поддерживаю, – с поклоном отозвался Охрятко. – Моя нынче очередь.
– Поня-атно, – Павел уселся на поваленный ветром ствол старой березы, притащенный ближе к костру, да тут же и брошенный – для удобства. – Что пьете-то?
– Да, батюшко, сбитень.
– Плесни!
Ремезов поднял валявшийся на снегу туес из березовой коры, протянул. Охрятко торопливо налил из дымящегося котелка сбитню. Выпив, Павел одобрительно крякнул:
– Хорош!
– На здоровьице, батюшко, на здоровьице!
В иное время молодой боярин, конечно же, не уселся б вот так, запросто, со слугою, подумал бы о своем социальном статусе – нечего таким общеньем позориться! Но вот сейчас, тем более – после недавнего сна… «Полинка-то с заезжим ляхом сбежала!»
Любопытство все ж взыграло.
– Ты мне про Полинку скажи, – поставив туес в снег, негромко приказал Ремезов. – Что за девка-то? И почему сбежала?
– Сбежала – известно почему… – вскинулся было со смехом рыжий изгой… да тут же и сник, прикусил язычок. – Ой! Не гневись, господине!
Парень уж собрался броситься на колени, да Павел цыкнул:
– Сидеть! Давай так: я тебе вопросы задаю – ты отвечаешь, без всяких там поклонов и прочего. Итак…
Охрятко поспешно кивнул и, зачем-то оглянувшись, махнул рукою… словно бы просто так… или – больше на то похоже – подавал знак кому-то. Чернявому?
– Боярин мой прежний – Онфим Телятыч – племянницу свою Полинку замуж хотел пристроить за… за тебя, господине.
– Ну, это я и без тебя ведаю, – негромко рассмеялся молодой человек. – И даже догадываюсь, почему девчонка за меня идти не хотела – сильно боялась. Так?
– Дак ведь как, батюшко, не бояться?! Ой…
– Ну, ладно, ладно, не дергайся, – привстав, Ремезов милостиво похлопал слугу по плечу. – Говори дальше. Полинка – какая она? Что-то я ее плохо помню.
– Правду сказать, господине – ничего в ней красивого нету, – осмелел рыжий изгой. – С лица – да, красива, а все остальное… Ни дородства в ней, ни стати, тощая, как кошка, шустрая… – при этих словах слуга почему-то осторожно потрогал лоб и скривился. – А уж хитрая, змеища!
– Ты про внешность ее расскажи.
– Так я ж и говорю, господине. Глаза – светлые, серые, а волос, как вороново крыло – темен…
– Так-та-ак!
– Тощая, да себе на уме…
– Ты говорил уже, – Павел ненадолго задумался. – Постой… Слушай-ка… ты ее голой видел? Только не лги, по глазам вижу, что лжешь – ну, неужели парни да за девками на реке не подглядывали?
– Ну, подглядывали… издалека токмо.
– А не заметил у нее на левой груди… Ничего такого не заметил?
– Не, боярин – все ж далековато было.
– Жаль, жаль, – носком сапога Ремезов подопнул в костер остывшие угли. – Так Полинка, говоришь, с ляхом сбежала?
– С ним, – убежденно мотнул головою слуга. – Я и раньше еще замечал, как лях на Полинку смотрел, на ярмарке.
– На ярмарке? Он что же – купец?
– Да какой купец? Так, торговый служка. Говорят – из Кракова.
Павел снова засмеялся и поднялся на ноги:
– Ну, вот – будет теперь ваша Полинка польской пани. Ладно! Пошел я спать. За сбитень спасибо.
– Покойной ночки, боярин-батюшко.
С черного, как плащи ночных злодеев, неба, щурясь, смотрели вниз желтые звезды. Зацепившийся за вершину высокой сосны месяц, казалось, так и повис там, не в силах сдвинуться с места. Нет… вот чуть-чуть сдвинулся.
Ремезов запрокинул голову и, услышав за спиной чьи-то осторожные шаги, обернулся, резко выхватив из-за пояса нож. Кому не спится? Кто тут в ночи бродит? Эх, жаль, меч-то остался в шатре.
– То я, боярин, – стряхивая с плеч снег, выбралась на опушку приземистая, с квадратными плечами, фигура в нагольном полушубке.
– Митоха! – узнав, молодой человек убрал нож.
– Ходил, проверял сторожу, – глухо пояснил наемник. – Едва стрелу в грудь не схватил – кто-то шмальнул из кусточков. Да опосля бежать бросился – язм за ним, так он, тать, на лошадь – унесся, только и видел. Видать, места тутошние ведает. Ой, боярин, нехорошо это!
Ремезов настороженно огляделся по сторонам, словно бы силясь узреть что-то в загадочной тьме ночного зимнего леса:
– Думаешь – обложили уже? Нападут?
– Не знаю, боярин, не знаю, – покачал головою Митоха. – Посейчас – не думаю, чтоб напали, слишком уж народу здесь много. А вот завтра… Завтра все случиться может.
– Так заранее приготовимся, – поправив нож, Павел глухо усмехнулся. – Выставим усиленную сторожу.
Рязанец хохотнул:
– Она у нас и так, боярин, усилена. Одначе не так тати лесные страшны… И крыж твой у меня из головы нейдет. Кто-то ж его к твоему плащу подвесил. Зачем?
– Вот и я думаю – не сам собой прилепился.
– А крыж-то немецкий, орденский.
То-то и оно, что орденский. Павел прикрыл глаза, вспоминая немецкие рыцарские ордена в Прибалтике: меченосцы, тевтонцы… впрочем, меченосцев нет уже, после поражения от литовцев, примкнули к тевтонцам – деваться некуда. Так сказать – аншлюс. Нынче еще – ливонцы – отделение Тевтонского ордена в Ливонии… А эти, верно, могли бы сюда добраться… при желании. Хотя это же через Литву, да через все полоцкие земли идти. Однако почему б и не пройти? Никаких четких границ – тем более пограничников – нет – одни леса – дубравы, рощи – без конца да без края. И еще не известно – может, полоцкий князь с немцами орденскими задружился, скажем, против тех же литовцев или поляков. Или – против епископа рижского. Почему бы и нет? Все может быть, настоящая-то жизнь – она куда сложней, чем в школьных учебниках описано.
– Может, Тихона предупредить? – подумав, предложил Ремезов. – Вот прямо сейчас и разбудим, дело такое…
– Не стоит, боярин, – наемник отозвался приглушенным шепотом. – Не нападут они сегодня… кто бы ни был – немцы, литовцы, тати лесные – уж слишком много народу сейчас тут. Если что и будет, так завтра – и то, ежели нападут, так еще неизвестно, на нас ли? Тут как посмотреть. Так что не стоит сегодня людей зря тревожить. Завра Тихону Полочанину скажем.
Выслушав собеседника, Павел согласно кивнул:
– Завтра так завтра.
Оба одновременно вздрогнули: где-то не так уж и далеко, за оврагом, послышалось лошадиное ржание. Потом завыл волк.
– Не спится и зверю лесному, – покачав головой, ухмыльнулся рязанец. – Да и с чего ему спать? Волка, чай, ноги кормят.
– Да всех волков, – зевнув, Ремезов махнул рукою. – Двуногих – в первую очередь.
Глава 7
Волков ноги кормят
Ноябрь 1240 г. Полоцкое княжество
Торговый гость Тихон Полочанин к словам Павла и Митохи отнесся сдержанно, однако против того, чтобы выставить на ночь двойные посты, ничего не имел, правда, предложил усилить охрану не на всю ночь, а только под утро.
– Ночью-то не нападут, нет – чего видно-то? Кто свой, кто чужой? Что грабить?
– С факелами могут, – осторожно заметил наемник.
– С факелами? – купец рассмеялся, подергав усы. – А на что такая возня? Когда можно спокойненько – утром. Или даже днем. Людям своим, боярин, скажи – пущай в оба глаза посматривают да докладывают обо всем подозрительном немедля.
Ремезов коротко кивнул:
– Сказал уже.
– Ну, тогда – помолясь, едем.
Торговый караван направлялся полоцким шляхом к Менску, которого и достиг дня через два, без всяких приключений. Никто на купца Тихона не напал – ни немцы, ни литовцы, ни свои тати.
«Зачем же тогда крест? – сидя в седле, рассуждал про себя Павел. – Что же, и в самом деле – случайно? А, может, его самого просто с кем-нибудь перепутали? А тот подозрительный, чернявый…» Утром Ремезов все же спросил о ночном госте Охрятку, и тот пояснил со всем почтением: мол, с тех обозов парень, подошел, вышел из лесу – с хворостом, дескать – за дровишками уходил. Ну, и в чем его было подозревать? Действительно – в чем? А в корчме – там-то с кем рыжий изгой цедил бражицу?
– Не, не с им, – улыбался Охрятко. – Тот, что в корчме – земляк наш, его Лутоней звать, а у этого я и имя не знаю. Не спросил, запамятовал, да и что спрашивать-то, коли человека в первый и последний раз видишь?
Действительно, объяснил вполне здраво. Ну, чернявые – и тот, и другой – дерганые. Так мало ли на белом свете чернявых да дерганых? Ничего такого уж подозрительного в этом нет. Да и разбойники – если они и вправду были – что-то не очень-то торопились нападать.
– И все же ты в Менске посмотри за Охряткою, – на всякий случай предупредил наемника Павел. – Вдруг, да и там он с этим чернявым-дерганым встретится? Вот тогда можно будет и спросить, да не просто – с нажимом.
– Я бы, боярин, его б и сейчас спросил.
– А какие к тому основания? Да и Менск уже скоро, Тихон сказал – нынче ночевать уже в городе будем.
– То так.
Город Менск – небольшой, вытянутый в длину и по большей части – не считая нескольких храмов – деревянный – встретил караван оттепелью. С крыш, с крепостицы-детинца падали вниз тяжелые мутные капли, низкое серое небо сочилось влагой, пахло прелым навозом и вкусным теплым запахом только что испеченного хлеба, который торговцы не преминули попробовать, заглянув в первую же попавшуюся корчму. В этой корчме – грязной, маленькой и тесной – однако, не остановились, расположились на ночлег на самой окраине – на постоялом дворе, хозяин которого – веселый круглолицый мужик с окладистой, уже тронутой заметной сединой бородой – оказался старым знакомым Тихона Полочанина, предоставив торговым гостям и сытную трапезу, и мягкую постель.
Никаких чернявых да дерганых ни в корчме, ни на постоялом дворе, ни в церкви, куда купец и его люди зашли поутру, не было – Митоха так и доложил, и ему можно было верить. Уж если б кто-то подозрительный появился, наемник явно не стал бы молчать, мало того – начал бы действовать.
Значит, все подозрения строились на пустом месте, можно было спокойно ехать и дальше – в Берестье, что на волынской земле. Здесь, в Менске, почти все заинтересованные люди знали что именно в тех краях остановились дожидаться «путней зимы» татары во главе с самим «мунгальским царем» Батыгой Джучиевичем и многими княжичами. Впрочем, Тихона сие отнюдь не пугало, а, наоборот, успокаивало – еще бы, у него ведь имелась «пайцза»! Грубо говоря – пропуск и даже более того – мандат.
Берестье – это был последний город, оттуда купец уже поворачивал обратно, закупившись товарами, что привозили немецкие купцы: медными крицами, вином и штуками доброго несносимого сукна, уж этим-то товаром – в первую очередь. Там же, в Берестье, Тихон Полочанин намеревался взять и соль, частью которой и расплатился бы с охранниками. Ну, а уж дальше… А дальше Павел имел свои планы: отправив «дружину» обратно, искать Субэдея, а уж дальше – как Бог даст! Риск, конечно, но пока ничего лучшего молодой человек придумать не мог, как ни старался. Ну, разве что выкрасть у купца пайцзу? А что? Не самому, конечно – подобными воровскими умениями Ремезов вовсе не обладал. Попросить… того же Митоху. Интересно, где Тихон прячет пайцзу? Наверное, носит на груди. И бережет пуще зеницы ока – этакую-то полезную вещь! Да… с пайцзой было бы куда легче, странно, что эта простая мысль как-то не приходила в голову Павла раньше… Да и не могла прийти! Откровенный же криминал – кража! И все же – хоть какой-то шанс. Ремезов примерно представлял себе, как может наложиться волна на волну – резонанс – просто пристально и долго смотреть в глаза, естественно, с близкого расстояния. Однако кто ж позволит приблизиться к великому полководцу? Верные нукеры живо зарубят саблями… или спину переломают – запросто. Не-ет, тут надобно что-то придумать, действовать похитрей.
Пайцза! Вот засела она Павлу в голову, да так, что и не выкинуть никак. Да и не нужно выкидывать – полезнейшая, необходимейшая в задуманном предприятии вещь! Только вот – кража… Все это как-то Ремезова коробило, не мог же он вот просто так взять – и украсть, он же не гопник какой-нибудь, а вполне вменяемый человек, интеллигентный даже… книгу вон о творчестве Франсуа Мориака пишет… и написал бы, если б не Полетт.
Ремезов тряхнул головой – вот ведь мысли пришли, тьфу ты! И, главное, если б свои, а то – чужие… Вот уж резонанс был, вот уж зацепился… так бы и с Субэдеем, да.
А, может быть – не выкрасть, а… купить, выменять. Или – выиграть! Купец во что играет-то? Карты еще не изобрели… в шахматы? Хм… скорее – в кости. Игра несложная, но требует определенной сноровки, которой у Павла, увы, не имеется. Да и откуда ей взяться-то? Уж не от чтения же Франсуа Мориака или Эмиля Золя?
И все же – выиграть… Это ж не украсть.
Как выехали из Менска, молодой человек тут же заговорил на эту тему с Митохой. Об играх расспрашивал – наемник отвечал с охотою, видно, был в этом деле докой.
– В кости, боярин мой, везде по-разному играют, и метают по-разному – стаканчиками, руками. Да и игры разные – пуло, раскидоха, зернь.
– А самая простая какая?
– Известно – в раскидоху. Кости бери да мечи – у кого больше очков выпадет, того и игра.
– И много народу в раскидоху играет?
Рязанец ухмыльнулся:
– Так ведь, боярин, немало. Только вот выигрывают не все, больше проигрывают – армяк последний сымут, а бывает – и крест. Хуже браги кости эти. Язм знаю – игрывал.
– А купец наш, как ты думаешь, сыграл бы?
– Тихон-то? – наемник задумчиво сдвинул шапку на затылок. – Не думаю, чтоб играл – тогда б не был купчиною-гостем, рано или поздно, а все равно проигрался бы. А что ты, господине боярин, спрашиваешь? Сыграть хочешь?
– Что ты, что ты, – округлив глаза в нарочитом испуге, Ремезов быстро перекрестился. – Так просто расспрашиваю, от скуки.
– Скуки ради можно сыгрануть по маленькой, – понизив голос, заметил Митоха. – Так, на привале, днем.
– А кости? У тебя есть при себе?
– При мне нет… Да ты не переживай, боярин! Неужто в караване игральных костей не найдем? Приказчики да погонщики – всяко, игрывают. Спросим! А с купцом, если что, я играть сяду. Тебе что от него надо-то?
– Вещь одну, – не стал скрывать Павел, да и чего было скрывать – судя по последним словам наемника, тот уже давно обо всем догадался.
– Пайцзу!
– Пайцзу, – Митоха спокойно кивнул, словно бы нечто подобное и ждал и теперь лишь обдумывал дальнейшие свои действия. – Не-ет, не думаю, чтоб купец ее на кон поставил. Даже если и играть сядет… не думаю. Легче, господине, украсть!
Боярин махнул рукой, а, чего уж теперь!
– Ну, если такая возможность будет…
– А поглядим, – прищурившись, наемник оглянулся на обоз. – Может, что и сладится. Но сначала – сыграть попробуем.
Как и договаривались, играть сели перед обедом. Пока слуги раскладывали костры, мостили лапник, котлы ставили… К этому времени Митоха уже раздобыл у погонщиков кости – желтые, скользкие, полустершиеся от частого употребления. Сели невдалеке от купца, разложились.
– Слушай, боярин, про раскидоху, – тоном заправского крупье объяснял наемник. – У вас, в деревнях, я видал, как играют – не так, как в городах принято. Бери-ка кости… метай, да так старайся, чтоб они как можно ближе друг к другу легли, а частью – бог даст – и друг на дружку бы. Оттого очки лишние, потому и «раскидоха». Ну! Метай же!
Первые разы Ремезов бросал неудачно – кости ложились хаотично, неведомо и куда, к тому ж еще и по очкам – кот наплакал. Иное дело – рязанец! Уж тот-то кидал косточки одну к одной, с перехлестом, да и с очками – все пятерки да шестерки, не то что у Павла – двойки-тройки-единицы. Как у отстающего ученика в классе для детей с задержкой психического развития.
Тихон-купец смотрел-смотрел – не выдержал, подошел ближе, присел на лапник.
– А погляжу!
Погляди, погляди… Что еще делать-то, пока каша не сварится?
Снова метал кости Ремезов, его выпала очередь. На этот раз все выходило лучше, ухватистей, однако ж до наемника все еще было далеко.
– Ты-то сам, Тихон-гость, игрываешь? – посчитав выпавшие очки, про между прочим поинтересовался Митоха.
– Игрывал когда-то, по молодости, – погладив бороду, не затянул с ответом купец. – Не бросил бы – гостем бы торговым не стал, проигрался бы.
– Да-а… Неужто так-то?
– Так, так, – купец снова пригладил бороду, бросив на Митоху с Ремезовым быстрый пристальный взгляд, довольно подозрительный и недобрый, чего, впрочем, не заметили поглощенные своим азартным занятием игроки.
– Давай, давай, Митоха – метай! А вот теперь – моя очередь. А ну-ка… Если бы да кабы, кабы да если бы, опа-опа-оп!
Павел уже перехватил все приговорки рязанца, и вот теперь выкрикивал, ибо, как пояснил наемник – в кости молча играть – беса тешить. Хотя… и не молча-то… Любой азарт, хоть «костяной», хоть «футбольный» – а все тому же потеха – рогатому.
– Игрывал, игрывал, – высморкавшись в снег, усмехнулся Тихон. – Да и посейчас так, иногда, по маленькой или по безделице какой.
– Это хорошо, коли по безделице, – Павел хохотнул, бросая кости. – Эх, плохо легли! Ла-адно… А что, Тихон-гость, сыграем? Как ты и говорил – по маленькой: я крест тот поставлю, а ты… да хоть свою пайцзу. Чай, ведь не золотая она у тебя?
– Не, не золотая, – тряхнул бородою купец. – Серебряная, с кречетом. И поставил бы – да уж больно нужная вещь.
– Да шучу, шучу, – Ремезов улыбнулся как можно шире. – Кто бы спорил?
Тихон задумчиво снял с головы шапку, стряхнул мокрый налипший снег, прищурился, словно бы от яркого солнца, хотя солнца никакого не было – день стоял смурной, хмурый, хорошо, не дождило, хоть и мокрый, а все же снежок падал.
– Могу и пайцзу поставить, – неожиданно заявил купец. – Не одна она у меня, еще есть. Токмо не против креста медного, а… супротив двух соляных кругов, из тех, что я тебе, боярин, должен! Согласен?
– Ну, – кивнув, Павел даже не знал, огорчаться ему или радоваться.
С одной стороны, конечно, хорошо – как только что выяснилось, Тихон Полочанин с пайцзой своей расстаться может легко и спокойно. Но с другой… боярин-то младой – совсем никакой игрок. Вот если б Митоха… Ладно! Там видно будет.
– Вона она, пайцза-то! – поднявшись на ноги, купец махнул служке. – А ну-тко, Терентий, принеси с моих саней сундучок малый…
Терентий – хлипкий, небольшого росточка, парень – враз кинулся исполнять приказанье, притащил из саней сундучок – небольшой, в размер саквояжа, окованный железными тоненькими полосками, с замком…
Сняв с пояса связку ключей, Тихон отпер замочек – маленький, изящный, но, похоже, крепкий, надежный…
– Новгородской работы замочек! – откинув крышку, не преминул похвалиться торговый гость. – А вот и пайцза.
Павел с любопытством взял в руку небольшую, с ладонь, серебряную дощечку с изображением кречета и какими-то замысловатыми буквицами… уйгурское письмо, не иначе.
– Полюбовался, боярин?
Убрав пайцзу обратно, купец отдал слуге сундучок:
– Завсегда он в моих санях стоит, в изголовье. А нынче – в опочивальне стоять будет.
– В опочивальне? – Митоха с Ремезовым удивленно переглянулись.
– Да, да, в опочивальне, – мелко рассмеялся Тихон. – Сеночь не в лесу – в деревеньке одной заночуем. В два двора деревенька, а староста, Твердислав, – знакомец мой старый.
Наемник хмыкнул в рукав:
– Гляжу, у тебя тут везде знакомцы.
– Так родная ж земля! В баньке попаримся, эх! В избах тесниться не будем – там и без нас народа хватит. А вот предбанник просторный у Твердислава – снаружи для гостей пристроен. От там и сядем играть, и сундук с пайзцою я велю туда занести. Только уговор – сперва язм с парильщиками в баньку пойду – люблю первый пар. А уж потом – и вы. Ничего, не в обиде?
– Да не в обиде, – Павел вернул Митохе кости. – Только, откуда ж дружок твой узнает, что надо баню топить?
– Хо! – купец уж совсем развеселился. – Я ж к нему слугу своего пошлю – Терентия. Завсегда так делаю. Покуда мы обозом, не торопясь, едем, Терентий – лесными тропками напрямки проберется. – Повернувшись, Тихон замахал руками: – Эй, эй, Терентий, а ну, живо собирайся в путь. Куда ехать – знаешь.
– Сделай, как наказал, господине, – кивнув, поклонился слуга.
Тут и обед поспел – сварилась на костерке полба с кусками мяса – дичины, с добавленным конопляным маслом, с чесноком да петрушкой сушеною, не каша – одно объедение. Поснедали в охотку, да поехали, помолясь, далее – в деревеньку – ту, про которую купец говорил.
Когда подъехали, с тракта через лесочек свернув, Твердислав-староста ждал уже, топилась жарко баня. Как и договаривались, купец первым пошел, а уж Павел с Митохой, кости игральные приготовив, ждали в старостиной избе – хоть и просторной, да курной, людной.
Пока то, се… Первому надоело наемнику. Встав, вышел на двор, Ремезов, чуть погодя, за ним следом.
– А что мы тут-то сидим, господине? – тихо спросил рязанец. – Чай, пайцза-то у Тихона не одна. Эту прихватим, да…
– Нет, – мотнул головой Павел. – Не выйдет. Купец-то еще за охрану заплатить должен, а ты с пайцзой уйти предлагаешь.
Митоха согласно закивал:
– Ах да, да… Это я не подумал. Ладно! Не сомневайся, боярин, не украдем, так честно выиграем! Пошли, что ли? Верно, пора уж. А, ежели что, в предбаннике подойдем, он, грят, просторный.
Чья-то плохо различимая в сумерках тень отделилась от забора, и Ремезов на всякий случай вытащил меч.
– То я, господине – Окулко.
– Ох ты ж…
Лязгнул убираемый в ножны клинок, у ворот, словно бы в ответ на сей негромкий звук, взвился, зашелся лаем притихший было пес.
– Как людишки наши? – осведомился молодой человек.
– Половина спят уже, другая половина в стороже, – доложил палач. – А один и вовсе потерялся. Правда – нашим ли его считать?
Ремезов хлопнул глазами:
– Как потерялся? Кто?
– Охрятко, господине. Ну, рыжий тот, изгой, бывший Телятникова боярина челядин. Потихоньку-потихоньку – отстал.
– Может, просто потерялся?
– Нет, боярин-батюшко, – Окулко-кат отчаянно тряхнул черной своей бородищею, словно бы вдруг собрался подметать ею только что выпавший на дворе снег. – Потеряться-то тут негде было. Если б запнулся, упал – так бы на помощь кликнул, чай, не без языка. А раз не кликнул – значит, сноровку ушел, значит, то ему было надобно.
– А зачем надобно?
– Уж тут я, господине, не знаю.
– Та-ак…
И снова утихшие было подозрения набирали силу. Тот чернявый парень… все же Митохе не показалось, да и не могло показаться, раз уж сказал, что видел. И кто тогда чернявый? Связник? С кем тогда? С татарами, с разбойниками, с литвой?
– К купцу надо идти, господине, – оглянувшись, тихо промолвил наемник. – Он здешний, все тут стежки-дорожки знает – ему и первый совет. Тем более, что случись – кому тут из нас больше всех терять?
– То верно, – согласился Павел. – Идем.
– И язм с вами, боярин! – тут же запросился Окулко-кат. – Мало ли что там?
– Да в бане-то как раз опасаться нечего, – Ремезов рассмеялся, представив, как они все трое с мечами в руках вваливаются в парную – вот веселуха-то! – Впрочем, постой-ка…
Что-то шепнув палачу, молодой человек махнул рукою:
– Ну, вот теперь, Митоша – пора. Купчину-то обыграешь?
– Как малину с куста сорвать!
Банька располагалась за двором, на обрывистом бережку неширокой речки, выглядевшей сейчас, как заметенная зимняя дорога. Да они зимой и были дорогами, все эти реки – Днепр, Смядынь и прочие.
Приземистое, едва видневшееся из-под снега строение больше напоминало обычный сугроб или даже навозную кучу, создавалось такое впечатление, что об это баньку просто-напросто можно споткнуться, не заметив в темноте. Споткнуться и полететь вверх тормашками в реку, в сверкающую отраженной серебряной луной прорубь, видать, специально расширенную в честь гостей.
Предбанник, куда, обнаружив-таки дверь и пригнувшись, вошли Павел с Митохой, и в самом деле оказался довольно просторным – на стоявших у стен лавках свободно могло разместиться человек шесть, а, если чуток потесниться – то и все восемь. Все было сделано по уму, с удобством – и лавки, и невысокий стол, и специальные полочки на бревенчатых стенах – на полочках, скворча, жарко горели сальные коптистые свечки, а на столе… на столе стоял тот самый сундучок.
– Глянем? – показал глазами наемник.
Павел дернул головой:
– Нет! Как-то уж он просто тут стоит. Словно кого-то ждет.
– Нас!
Поняв боярина с полуслова, наемник выхватил меч, то же самое едва успел сделать и Ремезов – ведущая в парную дверь неожиданно распахнулась, выпустив вовсе не пар, а вооруженных и окольчуженных воинов, за которыми угадывалась вислоусая физиономия купца.
– Эй, эй, Тихон-гость, – махнул клинком Митоха. – Ты что это балуешь?
– Еще посмотрим, кто из нас балует… да как, – недобро сощурился купец. – Вы оружие-то уберите, соколики, чай, снаружи-то – приказчики мои да Твердислава-старосты челядь. Посейчас и…
Не дослушав, Митоха враз схватил стол и, не обращая внимания на свалившийся на пол сундучок, сноровисто подпер дверь.
И вовремя – тотчас же снаружи послышались крики. Дверь затряслась.
– Скажи-ко своим, чтоб унялись, – рязанец зло ощерился. – Мы с боярином – люди привычные, воинские – приказчиков твоих живо в капусту покрошим. Покрошили бы… однако, видишь, пока – ждем.
– Охолоньте! – Тихон Полочанин живо просчитал ситуацию, складывающуюся явно не в пользу угодивших в ловушку игроков… но и не в его пользу.
В шахматах такое положение вещей называется коротким словом «пат». В предбаннике явно запахло жареным, что же касаемо того, что снаружи… судя по вдруг раздавшимся крикам, там все складывалось непонятно.
– То мои люди, – поглядев на нервно прислушивающегося купца, с усмешкой промолвил Павел. – Позволь, Тихон-гость, я им слово молвлю – чтоб зря не буйствовали.
– Ну, молви, – торговец бросил косой взгляд на своих вооруженных приказчиков, готовых ко всему… только, похоже, не к смерти.
– Не думал, что вы оружные явитесь, – зло прошептал Тихон.
Не слушая его, молодой человек закричал в дверь:
– Эй, парни! Окулко, Гаврила, Неждан! Там вы, что ли?
Возня прекратилась.
– Мы, господине, – послышался чей-то громкий голос, Гаврилы или Неждана. – Видим, заперли тебя. Велишь всех изрубить?
– Погодьте, – Ремезов снова посмотрел на купца. – Как видишь, я еще и воинов призвал. Так, на всякий случай.
– Смотрю, хорошо ты к игре подготовился, – обиженно протянул Тихон.
Павел улыбнулся:
– Я-то – хорошо, а вот ты – плохо. Нешто думал, приказчики твои со мной да с Митохой справятся?
– Да уж, – с досадой признался купец. – Не рассчитал. Так и вы тоже не рассчитали, соколики!
Эту фразу торговец неожиданно произнес с таким торжеством, что Павел с Митохой удивленно переглянулись.
– Думали, пайцза здесь, в сундучке? – Тихон довольно рассмеялся и потер руки. – Ан нет! Небось, посмотрели уже?
– Даже не открывали, – Ремезов посмотрел на валявшийся в углу сундучок с распахнутой крышкой.
В этот момент снаружи вновь послышались крики. Павел повел глазами… убрав стол, рязанец проворно распахнул дверь:
– Ну, что там у вас?
Дрожащее пламя факелов выхватывало из темноты широкоплечие – в кольчугах да кожаных доспехах – фигуры, отражаясь, играло на обнаженных клинках мечей, тусклым рыжим золотом светилось в наконечниках копий.
– Эка вы! – выглянув, покачал головою Ремезов. – Вот так в баньку собрались!
– Беда, господине, – перекинув с плеча на плечо увесистую дубину, глухо доложил Неждан. – Мои посейчас с дозора сменились – слышали в лесу ржание… мно-ого коней. Вражины то – так мыслю.
Он был прав, конечно же – в это неспокойное время каждый незнакомец мог оказаться врагом… или врагами, ежели таких незнакомцев много.
Покусав губу, Павел обернулся к купцу:
– Ну, что, Тихон-гость – будем мириться? Мы тебе ничего плохого не сделали, ты нам тоже не успел. Чего делить-то? Или устроим тут баньку… кровавую?
– Согласен, – коротко отозвался купец и, повернувшись к приказчикам, приказал: – Уберите ножи, парни.
Они вышли наружу один за другим – сначала Тихон, сразу за ним – Ремезов, затем – приказчики, а уж самым последним выбрался наружу наемник.
– Ну, что? – торговец посмотрел на боярина с затаенной усмешкою, так родители смотрят на нашкодивших детей, которые еще не знают, что родители знают. – Дальше что делать будем? Я вам не доверяю, вы – мне. Расплатимся да расстанемся?
– Точно так, – хмуро кивнул молодой человек.
– А вот, пожалуй, так-то не выйдет! – осмелев, подал голос Митоха. – Про лошадей-то вы и забыли. Кто его знает – кто там, в лесу?
Павел скривился:
– Скорее – за лесом, конным-то в лесу несподручно. Тихон, сколько тут дорожек из лесу к деревне?
– Одна – по реке, другая – пожней, – задумчиво отозвался купец. – Но пожней – кругом, далече.
– Все ж и там надо сторожу выставить, – Ремезов посмотрел на Митоху. – Чтоб предупредили хотя бы.
– Выставим, – согласно кивнул наемник.
– Ну-ну, – поглядев на звезды, подбодрил рязанца боярин. – Ты у нас человек в воинских делах самый опытный – так предлагай.
– Перво-наперво, местных надо предупредить – Ага, вот он ты – Твердислав. Тут, на усадьбишке твоей, и засядем. – Либо – бежать со всех ног.
– Вот-вот, – тихо произнес Тихон. – Бежать.
Он вовсе не выглядел взволнованным, этот ушлый торговец, хотя по всему – должен был бы хоть немного поволноваться, за товары свои, за людей. Шутка ли – всадники чужие за лесом, в близости.
– А, может, это купцы просто? – вслух предположил Твердислав. – До утра выждем.
– Выждем, – согласно кивнул Митоха. – В темноте-то все одно никого не видать – никто и нападать не будет. Рассвета выждут, а уж опосля…
Ремезов снова посмотрел в небо, словно бы именно там хотел подсмотреть ответ на волновавший всех вопрос – кто прятался там, за лесом? Зачем?
– Так, говорите, по реке из-за леса к деревне – ближе? – опустив глаза, неожиданно уточнил молодой человек.
– Ближе, – утвердительно кивнул староста. – То так.
– Тогда, думаю, мы вот как сделаем…
На востоке, за крутыми холмами, едва еще только начинала загораться заря, а почти все воины Павла – Гаврила, Неждан, Окулко и прочие – уже затаились в зарослях бредины и краснотала на крутом бережку и, поглядывая вниз, на блестевший в свете предутренней бледнолицей луны санный путь, ждали, приготовив стрелы и короткие метательные копья – сулицы.
– Если свернут к деревне, нападем первыми, – поглядывая на светлеющее небо, тревожным шепотом инструктировал молодой человек. – Коли оружны. Коли не купцы. Ну… и если Митоха из деревни гонца пришлет – мол, на них уже напали.
Ремезов оглянулся, словно силился разглядеть укрывшуюся за синим холмом деревню, пока еще мирно спящую… на первый взгляд! Все там были готовы: и люди старосты Твердислава, и Митоха с пятью оставшимися с ним воинами.
– Этот староста – очень подозрителен, – прошептал таившийся рядом с боярином кат. – И Тихон-гость… Ох, пытать бы их, угостить бы плеточкой!
Павел нервно дернулся:
– Все б тебе пытать. Чем они тебе не нравятся-то?
– А спокойные больно, – стряхнув с бороды снег, уверенно пояснил Окулко. – А тако не должны бы!
– Спокойные – да, – согласился Ремезов. – Так просто ко всему уж привычны.
– Митоха тоже привычен – одначе суетится, бегает. Эти же… Не-ет, явно они что-то замыслили. И что-то такое знают, чего мы не ведаем пока. Потому и спокойны, как лед.
– Может, ты и прав, Окулко… Тсс!!! Что это? – встрепенувшись, молодой человек взволнованно посмотрел вниз, на реку. – Вот этот звук! Вот… снова. Слышишь?
– Копыта по льду бьют, – тихо промолвил палач. – Снег-то тонок еще, вот и слышно. И – ого, боярин! – сзади… Бежит кто-то!
И в самом деле, слышно было, как скрипит снег под ногами бегущего… а вот и сам он выбрался из рощицы, встал над обрывом, позвал тихонечко:
– Эй, эй, боярин, где вы?
Павел выбрался из кустов:
– Что случилось-то?
– Случилось, господине! Неведомы люди на деревню напали… человек с полсорока! Уже бьются.
– Сейчас поможем… ты что так тихо-то?
– Орать не велено.
– Это правильно… сейчас… С полсорока, говоришь?
– Тако.
Стало уже заметно светлее, хоть зимнее тусклое солнышко еще и не показалось, а все ж видно было и юркого мальчишку-гонца в драном армячке, и белую ленту реки под обрывом…
И всадников, неожиданно показавшихся из-за излучины! Хоть и ждали их уже, а все ж… Словно бы вынырнули вдруг из тающей ночной тьмы. Ехали уверенно, быстро – впереди, на сильных, укрытых длинными белыми попонами, конях – трое уверенных в себе воинов, в таких же белых – с черными крестами! – плащах поверх тускло блестевших кольчужных доспехов.
– Лыцари! – ахнул гонец. – Тевтонцы! Они же и на деревню… только там незнатные – пешие, кнехты…
У поворота к деревне рыцари остановились, дожидаясь чуть поотставших воинов. Кто-то что-то негромко сказал. Кто-то хохотнул. Ага! Вот подъехали воины попроще – оруженосцы. Рыцари тут же вооружились, точнее – довооружились – надели на головы глухие, как ведра, шлемы, приготовили копья, щиты – треугольные, с черно-желтым крестом, с черным орлом на желтом фоне.
Точно – тевтонцы! И в намерениях их никаких сомнений уже не оставалось.
Павел махнул рукой:
– Пли!
– Что делать, боярин? – недоуменно оглянулся Гаврила.
– Мечи стрелы, сулицы! Давай!
Тут же раздался свист. И первая же стрела угодила в шею неловко пригнувшемуся кнехту. Некоторые попали и в лошадей, послышались хрипы и ржание.
Тевтонцы, впрочем, сориентировались довольно быстро – привычные к засадам и воинским действиям, сразу сообразили про обрыв, пришпорили коней, взметнулись на берег…
Им навстречу полетели тяжелые сулицы, кто-то из крестоносцев на полном скаку повалился в снег, кое-кто – даже вместе с лошадью. И все же пара десятков кнехтов – слава богу, не так уж их оказалось и много – во главе с двумя рыцарями прорвались к кустам.
Вздыбив на дыбы крупного боевого коня, один из рыцарей – в глухом шлеме с рогами, украшенным красными перьями – ударил копьем, насквозь пронзив бросившегося на него с мечом воина – совсем еще молодого парня, закупа с выселок.
Оросила снег алая кровь, несчастный так и упал с копьем – словно насаженный на иголку жук. И рыцарь с красными перьями, выхватив меч, бросил коня прямо на Павла.
Вокруг уже вовсю шла рукопашная битва: звеня секирой, лихо отбивался от наседавших кнехтов Окулко-кат, орудовал короткой рогатиной Гаврила, а «детинушко» Неждан, залихватски ухая, гвоздил вражин тяжелой, больше напоминавшей оглоблю, дубиной:
– А вот вам! Уу-у-х! У-у-ух! Нате!
Все это Ремезов видел лишь краем глаза, ну, и слышал, конечно же – крики, звоны мечей, стоны и громкое уханье дубинщика Неждана.
И крики – кличи – немцев.
Что они там орали, Павел не понимал – немецким, увы, не владел – а так, разбирал лишь отдельные выкрики. Что-то про Бога и святую Марию Тевтонскую.
Да и некогда было сейчас разбирать – вражина-то наседал. Вот опять взвил коня на дыбы, не надо и меча, сейчас ка-ак шмякнет копытами – привет.
Видя такое дело, Ремезов проворно отпрыгнул в кусты, да тевтонец, ни дна ему, ни покрышки, погнал коня и туда. И, конечно, настиг бы боярина, коли б не вовремя прилетевшая сулица, угодившая рыцарской лошади в глаз… скорее всего – чисто случайно. Но этот случай спас молодому человеку жизнь. Конь осел, завалился на бок, однако красноперый рыцарь – ловок, гад! – вовремя выпрыгнул из седла, с мечом в руках подскочив к Павлу.
Удар!!!
Ремезов, подставив меч, отбил. Полетели искры. Снова удар… И еще – целая серия, Павел только успевал уворачиваться-отбиваться.
Да-а… Хоть и учил его старый Даргомысл оружному бою, и Ремезов оказался хорошим учеником, да вот здесь, перед тевтонским рыцарем – профессионалом, понял всю правоту ленинских слов – учиться, учиться и учиться!
Своим внешним видом – кольчужка подлинней да почище, сверкающий – куполом – шлем с широким наносником, алый, с белым подбоем, плащик, меч опять же – молодой человек пусть не очень сильно, но все ж выделялся из всех своих воинов. Опытному взгляду сразу было ясно – боярин, пусть даже и не богатый, но…
Именно поэтому тевтонец и не убил его сразу, хотя и мог бы – запросто. Просто играл, как кошка с мышкой, и, улучив момент, неожиданно ударил щитом – прямо орлом едва ль не в висок припечатал!
Ох, и силен же был удар и – главное – еще не слишком-то опытный в боях Павел никак не ожидал подобного. Просто кружил, отбивая удары и срываясь изредка в контратаки… Вот тут вроде как можно было бы нанести удар… Вот и открылся… Нанес, блин.
Шмякнули щитом в башку, оглушили – чтоб сподручнее было взять в плен. А как же – пленный боярин – это ж живые деньги, выкуп! И рыцари тевтонские – люди живые, а не аскеты-монахи, коим ничего земного не надобно. Конечно, и такие иногда случались, но погоды не делали. Хоть и запрещал устав ордена и рукояти мечей с самоцветами, и золоченые шлемы, и перья – а все ж носили, вроде и ни устав, ни магистр не указ. Вон, как этот черт… красноперый.
Красные перья на сверкающем в лучах показавшегося, наконец, солнца, рыцарском шлеме – это было последнее, что видел боярич. Сковырнулся, потеряв сознание, упал лицом в снег, да так, что и меч, скользнув по ледку, улетел вниз с обрыва.
Упал, провалился в темноту Павел и не видел, как неожиданно споро выскочили из-за холма раскосые всадники, стремительные степные лучники на мохнатых конях, в лисьих шапках. Впереди, в золоченом шлеме и кожаном, отполированном до блеска панцире, несся совсем еще молодой человек, хан или бек… или просто оглан – богатырь.
Вспыхнул в руке клинок… Тучею застили небо стрелы.
Павел мчался куда-то в открытом авто – смешном, светло-зеленом, круглом… кажется, машина именовалась «Фольксваген-жук», и за рулем сидела Полина. Нет, все же не Полина – Полетт. Но, черт побери… Одно лицо! Одна фигура!
Развевались на ветру черные, стриженные в каре, волосы, сверкали глаза – жемчужно-серые, бездонные, родные… Ах, какое платье было на девушке! Коротенькое, темно-голубое, на узких бретельках, открывавшее худенькие загорелые плечи и шею с тонкой серебряной цепочкой.
Цепочку эту только что подарил Павел… тьфу ты, какой Павел – Марсель, по уши влюбленный в красавицу Полетт студент-филолог.
Свернув на площади Согласия у обелиска, они только что промчались по Елисейским полям, миновали Триумфальную арку, и дальше – по авеню Фош, к Порт Дофин, к Булонскому лесу…
Там уже, напротив парка Багатель, и припарковались под сенью высоченных платанов. И тут же, едва заглушив мотор, прижались другу к другу губами, слились в поцелуе… Павел – Марсель! – зубами стащил бретельку, обнажив левую грудь с коричневой родинкой чуть пониже соска… Точно такой же, как и у Полины! Павел протянул руку – погладить…
…и наткнулся на что-то холодное.
Молодой человек непонимающе распахнул глаза, увидев стоявшую рядом с собой крынку, обычную глиняную крынку. К ней он, собственно говоря, и тянулся, а вокруг…
Вокруг, в дымной, жарко натопленной горнице сидела за столом довольно-таки разношерстная компания в лице ушлого купчины Тихона, Митохи с Окулкой-катом и какого-то странного типа – молодого, слегка скуластого, с длинными рыжевато-черными волосами, на удивление чистыми и пушистыми. Вытянутые к вискам глаза цвета степных трав посматривали вокруг довольно-таки дружелюбно и весело, тонкие губы змеились в улыбке, а на шее, на золотой цепи, поблескивал такой же золотой, усыпанный мелкими драгоценными камнями крестик довольно изящной работы.
Степняк! – сразу догадался Ремезов. Монгол… татарин… Но что он тут делает, откуда взялся?
Впрочем, едва только Павел повернул голову, как внимание его сразу же привлек другой столовник – этакий нестриженый, самого что ни на есть фашистского вида блондин – настоящая белокурая бестия. Между прочим – с большим черно-желтым крестом, нашитым поверх белой куртки! И степняк, и фашистяга были чем-то схожи: оба мускулистые, сильные, молодые, правда, монгол – или татарин – несколько ниже ростом…
Скрипнула дверь, и в горницу с большим кувшином в руках ввалился с улицы староста Тверлислав. Захохотал гулко:
– А вот вам еще брага, гостюшки!
Пьянствуют – во как!
Тоже сон? Да нет, что-то не похоже.
– Ничего себе! – покривившись, Павел уселся на широкой, застеленной волчьими шкурами лавке, едва не свалив на пол стоявший рядом кувшин.
– О! – весело оглянулся Окулко-кат. – Вот и боярин наш оклемался! Вовремя ты, Твердиславе, бражки принес.
– Вовремя Тихон-друже служку к татарам послал! – поставив корчагу на стол, ухмыльнулся староста. – Не то бы эти-то нас бражкой не напоили.
Нехорошо скривившись, староста кивнул на «фашиста», и тот, похоже, воспринял его слова как само собой разумеющееся. Если вообще понимал, о чем идет речь. Да нет, понимал, наверное…
– Садись к столу, боярин, – повернувшись, пригласил купец. – Гляжу, полегчало тебе. Бражку пить будешь?
– Буду, – молодой человек уселся за стол, хмуро обозревая собравшихся.
Немного посидев, хватанул кружку, и уж опосля, почувствовав, как разливается по жилам благотворное тело, спросил:
– С чего пьянствуете?
– Так после баньки, – уселся на скамью Твердислав. – Знатная банька вышла, скажи. Оглан?
Монгол… или татарин… важно кивнул и ухмыльнулся.
– А вообще то мы тут выкуп за Конрада, тевтонского брата, ждем, – кивнув на «фашиста», пояснил Митоха. – К вечеру должны привезти. Вот и поделим, всем по доле, а оглану-сотнику – три, не он бы, так…
– Да уж, господине, не явись вовремя оглана-сотника воинство – всем бы нам в снегу лежати, – охотно поддакнув, Окулко-кат проворно наполнил кружки. – Ну, за выкуп! И за знакомство же!
Сначала выпили, а познакомились уж потом – татарин на поверку оказался натуральным монголом из племени найман, кстати – христианином, правда, несторианином, еретиком, церкви и божественности Троицы не признававший… Пусть еретик, да, но все же – христианин, для монгола уже неплохо! Потому и баньку любил, потому и чистый – вера дозволяла, а вообще-то, насколько Ремезов помнил, монголы в большинстве своем исповедовали магическую веру Бон, и никогда не мылись, опасаясь оскорбить воду.
Немец же – Конрад фон Остенвенде – ордена Святой Марии Тевтонской брат, угодил нынче, как кур в ощип: собрался прибарахлиться немного, разграбив купеческий караван, ан не вышло – сотню благородного Ирчембе-оглана – так звали «татарина», в расчет не принял. А сотня-то как раз оказалась поблизости, зимовала в ожидании задуманного ханом Бату (точнее, Чингисханом еще) великого западного похода.
– Вот я к сотнику-то служку своего, Терентия и послал, – смеялся купец. – С пайцзой. Помощи попросил супротив немцев, ибо тебя, боярин, за соглядатая немецкого принял. Мол, не зря ты крыж орденский нацепил – чтоб, как нападут, не убили впопыхах, чтоб своего разглядели.
– Что ж, логично, – закусив квашеною капустою, покивал Ремезов. – А я-то думал…
– Мы все думали, господине, – подал голос Митоха. – С чего это торговый гость да староста не чешутся, врагов опасаясь. А они давно уже призвали мунгальскую рать.
– Ирчембе-оглан – человеце добрый, не отказал, – похвалил купец. – Я его давно знаю, с год уже. Не отказал, инда за помощь запросил изрядно… Хорошо хоть лыцарь орденский в полон угодил – теперь ужо расплатимся, да и сами в прибытке будем!
– А дадут хоть что-то за рыцаря-то? – осторожно поинтересовался Павел.
«Фашистяга» горделиво приосанился, видать, понял, о чем зашла речь:
– Дадут достаточно! Я – комтур, а выкуп за рыцаря – честь.
– Во как! Он и русский знает! – боярич удивленно хлопнул ладонью по столу.
– Куда хуже, чем оглан, – хохотнул Митоха. – Извиняй, господине – ничего, что мы с тобой за одним столом?
– Ничего, – чуть подумав, серьезно ответил Ремезов, понимал, насколько это для средневековых людей важно – кто, где и с кем сидит. – Вы не холопы, не челядь – люди, можно сказать, почти что вольные – закупы. Долги отрабатывать – в том зазору для чести нет, с каждым может статься.
– Я, я, – неожиданно закивав, рыцарь продолжил по-немецки.
– Он говорит – долги всегда отдавать надо, – перевел до того молчавший монгол. – Правильно, хорошо сказал. Посмотрим, как сам отдаст – когда привезут выкуп.
– Хо! – удивился Павел. – Это ты, господин сотник, еще и немецкий знаешь?
Ирчембе-оглан улыбнулся:
– Как в ордене говорят – знаю, осенью выучил, а так у каждого немца – свой говор. Иногда и друг друга не поймут, хуже, чем у нас в степи.
– Одначе русскую-то речь ты добре ведаешь!
– Ее давно знаю. В Булгаре-граде учил у торговых гостей.
В ожидании выкупа просидели до вечера, павших же договорились похоронить завтра, как и положено – ну, не на ночь же глядя?
Странно, но к пленному немцу, похоже, никто личной вражды не испытывал, наоборот, относились со всем уважением, даже перевязали ушибленную руку. С купцом-то все было понятно – коммерция, а вот староста Твердислав… Не так уж и мало его людей в утренней схватке погибло.
– А мы ему всех пленных кнехтов оставили, – пояснил по ходу дела Митоха. – В холопи, или продаст. В Новгороде Великом людской торг знатный, выручить можно изрядно!
В средневековом Новгороде – процветающая работорговля? Павел покачал головой: сие как-то не очень вязалось со всеми школьными и вузовскими учебниками. Но ведь наемник-то, наверное, знал, о чем говорил.
– А я язм-то, друже боярин, тебя подозревал, – снова напомнил купчина. – Потом уж узнал, как ты бился, едва голову не сложив.
– Да, – коротко кивнул боярин. – Похоже, подставили меня.
– Подо что подставили, господине?
Ремезов посмотрел на Митоху:
– С чернявым тем разобрались?
– Разобрались, господине, – вместо наемника отозвался Окулко-кат. – Он немцев привел, с Охряткою подлым сговоряся. Пытали мы чернявого да на березе за дела такие повесили. Он и крыж тебе прилепил – Охрятко-злодей.
– Повесили, говорите, – Павел хватанул браги. – Ну, и поделом, наверное. А Охрятко?
– Убег.
Выкуп за рыцаря Конрада фон Остенведе привезли вовремя – еще даже не начинало темнеть. Все честь по чести, как и договаривались: две дюжины серебряных монет, хороших, чеканенных в славном городе Бремене, четыре больших соляных круга, да две золотые братины. Что и говорить – неплохой выкуп.
Тевтонца больше никто не задерживал, тот и откланялся, хлебнув на дорожку квасу. И, прощаясь, та-ак сверкнул глазами… Нехорошо, недобро сверкнул.
– Может, и его лучше было б повесить? – поглядел вслед крестоносцу Ремезов. – Ну, как за выкупом своим с кнехтами явится? Или отомстить…
– Не явится, – махнул рукой Твердислав. – Монголы рядом, да и отрядец этот немецкий нынче далеко от своих мест забрел – двух рыцарей потерял, да еще кнехтов. Магистр за такие дела не похвалит. Ну, и обещали мы… уж коли на выкуп договорились, так чего уж теперь пенять? Сразу надо было вешать или голову рубить.
Сотник Ирчембе-оглан тоже в гостях долго не засиделся: кликнул своих да и был таков, едва и видели, Павел не успел у него и про Субэдея спросить. Да и что толку спрашивать-то? Что, потом с монголами ехать? А людей своих куда – Неждана, Окулку-ката и прочих? Да! Гаврила погиб и еще несколько парней – все это было грустно.
Похоронив павших, поредевшая дружина заболотского боярина Павла, как и уговаривались, сопроводила купца Тихона до Волыни и, получив расчет, отправилась в обратный путь – в родные смоленские земли. Снова скрипел под копытами снег, парни перешучивались – еще бы, заработали и головы не сложили, Бог миловал – а Окулко-кат бренчал себе что-то на гуслях. Наемник Митоха тоже что-то мычал себе под нос, радовался, грустил лишь один Ремезов, да и то недолго. Не вышло в этот раз с Субэдеем, так получится в следующий – эка беда! И нечего за ним в Венгрии да в Польше гоняться – куда удобнее на обратном пути встретить, или в низовья Волги-Итиля, туда, где будущая Орда раскинется, с купцами податься. Почему бы и нет?
Правда, может, никакого резонанса и не случиться – тоже ведь все вилами по воде писано. Однако ж что-то делать все равно надобно… как та лягушка, что, молоко в масло взбив, из крынки глубокой выбралась.
Глава 8
Донос
Декабрь 1240 г. Смоленское княжество
До Смоленска добрались быстро – за десять дней, что и понятно – ехали-то почти налегке, не связанные обозом. Да и подморозило, замело снежком ручьи да болота. И все же, выйдя к Днепру, дружинники еще больше прибавили скорость, всем хотелось поскорее попасть домой, да, справляя дела, дожидаться веселья – светлого праздника Рождества Христова. Погода благоприятствовала: искрил на солнце снег, над головами всадников ярко голубело небо, а морозец стоял небольшой, за щеки да за нос не хватал, не вредничал.
Ремезов по пути размышлял обо всем помаленьку, больше же – о средневековых людях, с кем бог знает сколько еще предстояло жить. Во многом эти люди были близки, но во многом и непонятны – и на мир они смотрели совершенно иначе, и ко всему относились по-другому, хоть к той же человеческой жизни: эвон, налетели на обоз, на деревню орденские немцы, а на них опосля – татары. Многих поубивали-ранили, и что? Да ничего такого особенного, убитых схоронили, раненых, кого смогли – вылечили, кого не смогли, опять же – на погост, и никто ни о ком не переживал особо, не плакал. Средние века – человеческая жизнь почти совсем ничего не стоила, Бог дал – Бог и взял. Обычная простуда – и та болезнь иногда смертельная, ежели в пневмонию или в бронхит перейдет, не говоря уж о всякой там чуме, холере. Заговорами да травками антибиотики не заменишь, вот и мерли, в первую очередь, конечно – дети, да и взрослые-то до старости доживали редко.
Павел, наверное, и не заезжал бы в Смоленск, да дружинники настояли – уж больно хотелось привезти родичам гостинцы, уговорили боярина пустить на это дело целый соляной круг.
Целый!
Соляной!!
Круг!!!
Ремезов согласился легко – не понимал еще до конца всю цену соли, улыбался, радовался вместе со всеми, когда показалась за излучиной колокольня Троицкого монастыря, а за ней – в нескольких верстах, у Смядыни-реки – и Борисоглебский храм.
Сделав остановку, заглянули по пути к инокам, помолились, погибших помянули. Блюдя Рождественский пост, мяса не ели, пробавлялись все дни болтушкою из мучицы, да, малость оскоромясь – рыбою. Ну, что делать-то, не совсем же голодными домой из дальних краев добираться? Да пусть даже и не из дальних, впрочем, для кого как – для купца или наемника, как Митоха – из Смоленска в Менск – не расстояние, что же касаемо крестьян – смердов и прочих, – то для них и это даль несусветная, почти что край света.
Там, в храме Бориса и Глеба, боярин один был со свитою: чернобровый, пожилой – лет сорока – мужчина в длинной, крытой узорчатым аксамитом, собольей шубе. Все, молясь, на Павла посматривал искоса, потом, на улице уже, подошел:
– Не Петра ль Ремеза, боярина, сынок?
Ишь ты, узнал.
Павел не стал отпираться, признался – мол, он самый.
– А язм – Кречетов Иван, сосед ваш, – улыбнулся в бороду боярин. – О-от таким малым тебя еще помню.
Показал рукой – от земли на вершок, потом посмурнел:
– Мыслю, не ведаешь ты, Павлуша, о том, что батюшка твой, Петр Ремез-боярин – два дня уж как помер!
– Как помер?! – эхом откликнулся молодой человек, еще не зная, каким образом на сию худую весть реагировать.
С одной стороны, полагалось бы изобразить сыновнее горе, а с другой… все ведь знали, что отношения меж старым боярином и его юным отпрыском добрыми назвать уж никак было нельзя. И все же, наверное, лучше было бы лицемерить. Павел и хотел уж было закатить глаза да скорбно поджать губы, однако не дали:
– Да вот так, преставился батюшка твой Петр Ремез, – боярин перекрестился, оглянувшись на храм.
Ремезов поник головой:
– Пойду-ка, за упокой свечку поставлю.
– И то дело, – Кречетов одобрительно тряхнул бородою и, чуть подумав, справился: – А ты что ж, не у себя в Заболотьях?
– Да нет, – пожал плечами Павел. – Так, ездил тут по одному делу.
Большего, естественно, не сказал – зачем посторонним людям знать о его заботах?
– А братья-то твои, Анкудин с Питиримом, гонца в Заболотье послали. За тобой – на похороны позвать. Ай-ай-ай, – боярин почмокал губами. – Промахнулись. Хорошо хоть я тебя по случайности встретил, езжай-ка, брате, в Ремезово, к отцу – не с живым, так хоть с мертвым помиришься.
От такого совета деться было абсолютно некуда, пришлось поворачивать в родовую вотчину, правда, всех дружинников Павел с собой не взял – пущай себе едут домой, что им там, на чужих поминках делать? Оставил только Митоху – он все равно чужак, да Окулку-ката – тот сам с боярином вызвался, ох, и любопытственный же был человек! Так и поехали втроем – все лучше, чем одному-одинешеньку.
Большое – в пятнадцать дворов – село Ремезово, с деревянной худой церковью и укрепленной высоким тыном боярской усадьбой, встретило новых гостей колокольным звоном. Как раз поспели вовремя – в церкви творили молебен за помин души новопреставившегося Ремезова Петра, слуги старого боярина Павла узнали – проводили к амвону… Там он и встал, рядом с двумя молодцами – сутулым, седым – и толстощеким, кудрявым. Судя по тем отнюдь не отличавшимся особым добродушием взглядам, которые молодцы время от времени бросали на молодого боярина – это и были его родные братья, Питирим с Анкудином.
Как вскоре выяснилось, мыслил Ремезов верно: Анкудин оказался сутулым и седым, а Питирим соответственно – щекастым и кудрявым. Оба приветствовали младшего братца скупо, даже не поболтали за жизнь, Анкудин что-то хмыкнул, а Питирим лишь молча кивнул. Что ж, спасибо и на этом – те еще были родственнички!
Похороны прошли быстро и без особых эксцессов, если не считать профессионального горестного воя специально нанятых плакальщиц, за которых – как и за всю церемонию – пришлось заплатить в том числе и Павлу, о чем не преминули напомнить братья. Не вместе, каждый по отдельности подошел:
– Того-этого… на поминки б скинуться по-людски.
– Дай-ка, Павлуха, на похороны – не все ж нам с Анкудином.
– Полкруга соляного хватит?
– Смотря какой круг.
– Да вона!
Полкруга хватило с избытком, соль в те времена – валюта очень даже конвертируемая, почти как доллар. Павел, правда, подозревал, что братцы его обманули, вполне хватил бо и трети круга, может быть – и четверти. Ну да ладно, за-ради похорон усопшего батюшки…
Боярин Петр Онфимович Ремез – суровый, желтый с лица, мужик с огромной – во всю грудь – бородищей, даже лежа в гробу не вызвал у Ремезова никаких сыновьих чувств… как, судя по выражению лиц, и у братьев. Оба, кстати, явились на похороны-поминки с женами; супруга старшего, сутулого и тощего Анкудина, походила на старый речной буксир с покатыми бортами и толстой трубой – носом, спутница жизни среднего братца, Питирима, наоборот, напоминала обликом вяленую воблу. Обе даже не пытались выдавить из себя слезу – а зачем? Плакальщиц наняли – вот пусть те и плачут.
Пока прощались с умершим да ждали, покуда засыплют могилу, промерзли на суровом ветру, и, еле дождавшись, когда приглашенный из местной церкви дьячок прочтет молитву, ускоряя шаг ломанулись к усадьбе, где были уже накрыты столы, как водится – отдельно для мужчин, отдельно – для женщин. Вообще, жонкам в те времена воли не давали – рожай детей каждый год да за домом следи – вот и вся вольница. Иногда выйдет замужняя дама к гостям – так, показаться, закупоренная вся, почти как в парандже, только что лицо видать, а волосы убраны. Может, если б супружницам братовьев волосы-то распустить да приодеть по фигуре – так и ничего себе показались бы, однако, увы – не по правилам то, не по местным понятиям. С распущенными-то волосами замужней выйти – да все равно что голой!
За столом, на поминках, сперва сидели молча, поминали овсяным киселем с медовухою, опосля слуги и другую закуску принесли – холодец с кашей ячневой, капусту квашеную, соленые рыжики да грузди, с зайчатиной пироги, да три вида ушицы – налимья, щучья да осетровая. Всего-то три вида! Павел-то почти сразу наелся, да так, что едва отдышаться мог, однако ж по шепотку, шелестевшему промеж других гостей, понял, что стол-то, оказывается, был так себе – бедноватый.
– Пожадничали хозяйки-то, – хватанув кружицу медовухи, доверительно поделился с Павлом сосед по лавке – грузного вида мужик в синей поддеве доброго немецкого сукна. Про «доброе сукно» он, кстати, сам и сказал – похвастался, типа как раньше, в СССР, обыватели любили бахвалиться – «а у нас югославская стенка», «а у нас машина»… А глупни точно так же – а у нас «Лексус», «жип»… Вот и эти, средневековые туда же – «доброе немецкое сукно».
– За двух девок-челядинок целую штуку выменял, – смачно пожирая капусту, продолжал хвастать сосед. – Доброе сукно, доброе – век носи, не сносить!
– А как же, доброму человеку – и платье доброе, – подольстился к соседу Ремезов.
А почему б и не поддержать разговор? Заодно и про братовьев выспросить.
После выпитого хмельного гости уже и совсем позабыли, по какому поводу они все здесь собрались: кто-то жрал в три горла, кто-то рыгал, кто-то смеялся, а вот в дальнем углу гнусаво затянули похабную песню про трех «бляжьих жонок».
Веселая оказалась песня, в иной момент Павел с интересом послушал бы, но пока был занят – соседа расспрашивал. Тем более что хлебали они налимью ушицу из одной миски, а холодец – блюдо на пятерых-шестерых – кто дотянется, отдельной тарелки ни у кого не было, не те времена. Звали соседа – Микола Хрястов, и был он, как понял Ремезов, «вольным слугом», но гордо именовал себя «боярином», только что «корочки» не показывал за неимением таковых, типа «помощник депутата Государственной думы» или «начальник Следственного комитета». С лица не особо видный – обычное такое, вполне нормальное, с куцей бороденкой, лицо – боярин Хрястов поболтать очень даже любил, видать, совсем одичал в своей деревеньке за лесами да за болотами, и теперь рта не закрывал, Павел только успевал слушать да время от времени, прикладываясь к кружке, направлять беседу в нужное русло. И много чего узнал!
Оказывается, его родные братцы, пользуясь тяжелой болезнью отца, уже давным-давно поделили промеж собой и его земли, и людишек, и даже утварь кухонную. И это было вполне по-русски, в Западной Европе, к примеру, такой фукус бы не прошел – там действовало правило «майората» – все наследство доставалось старшему сыну, а все остальные – свободны.
Делили – буквально каждый ухват – вовсе не по-братски – до междоусобной войны доходило, даже князь смоленский Всеволод Мстиславич вмешивался, охолонивал. Но вот поделили все ж таки, договорились, кому что… Младшего братца, конечно, в расчет не приняли. А на что ему? Молодой ишо, и так перебьется. Кстати, а Заболотица-то – батюшкина деревенька – и по какому праву ею Пашке владеть? Ему и княжьих выселок хватит! Впрочем, и их можно того… прибрать…
– Так что ты, Павлуша, братцев-то своих пасись, – дернув кадыком, по-свойски предупредил Хрястов. – Кабы они у тебя земельку не отобрали.
Павел выпятил грудь:
– Пущай попробуют! Чай, и я не в поле найден – повоюем, посмотри еще, кто кого?
– Не, Павлуша, воевать им с тобой несподручно – князь же предупредил строго-настрого, чтоб никаких смут! Если только наймут кого… Да и то навряд ли – больно уж жадны оба.
Гости все время за столом не сидели – то и дело выходили на улицу, развеяться, а кое-кто периодически заваливался спать либо прямо тут, в трапезной, либо в горнице, либо – чаще всего – в людской. Долго, впрочем, не задержались – почившего боярина, как и его сыновей, никто особенно-то не жаловал, да и угощенье скоро закончилось. Тем более старшие Ремезовы-братцы всем своим угрюмым видом словно бы говорили гостям – а не пора ли и честь знать?
Еще и смеркаться не начинало, а половина трапезной опустела, а немного погодя убрались и оставшиеся гости – тех, кто уже успел упиться, под руки утащили в сани слуги. Распрощался и Микола Хрястов:
– Здрав буди, Павлуша, не бедствуй! Может, когда и свидимся.
Павел вышел проводить нового своего знакомца, даже рукой помахал вослед саням, а когда вернулся обратно в трапезную – за столом уже и не было никого, лишь в дальнем углу храпело вконец упившееся никому, видимо, не нужное, тело.
– Опочивать не хочешь ли, господине? – сладеньким голоском осведомился вьюном проникший сквозь приоткрытую дверь кривобокий, небольшого росточка, человечек со сморщенным и каким-то желтым, словно у гепатитного больного, лицом.
А, может, и в самом деле – больной. Не заразил бы!
Молодой человек инстинктивно попятился и громко спросил:
– А ты, вообще, кто?
– Тиун боярина помершего. Олексой зовут, – тряхнув реденькой бороденкой, мужичок, кренясь на левый бок, повернулся к двери и, угодливо изогнувшись, молвил:
– Идем, господине, опочивальню твою покажу.
– Постой! – подозрительно сверкнул глазами боярин. – А слуги мои верные где?
– Слуги? А, один с бородищей и гуслями, другой – с мордой ровно сундук?
– Ну да, эти, – Ремезов невольно улыбнулся – тиун-то оказался вовсе не дураком, все верно подметил. – Так где они?
– Так в людской или на кухне, где им еще быть, господине?
– Хорошо, – мотнул головой боярич. – Говорить с ними хочу… А уж опосля – спать. Да! Братцы мои где, уехали уже?
– Не, господине, тут. Боярские опочивальни заняли, по старшинству, а уж тебе, не гневись, в гостевой стелено.
Павел махнул рукой:
– В гостевой так в гостевой. Ладно, веди к слугам.
Он все ж сильно запьянел, и вот только сейчас, вечером, это почувствовал: голова этак приятственно кружилась, ноги слегка заплетались, а на лицо так и норовила наползти самая дурацкая улыбка.
Хорошо хоть Окулко-кат с Митохою нашлись быстро, правда, не в людской, на кухне, у печки. Окулко, тихонько звеня гуслями, веселил кухонных девок, наемник же, сноровисто работая большой деревянной ложкою, с аппетитом дохлебывал прямо из котла остатки щей.
– О! – завидев боярина, опустил гусли палач. – Вот и господине наш! Какие указания-приказания будут?
– Да какие… – скосив глазом на девок, пожал плечами молодой человек. – Вижу, разместились вы неплохо, с удобствами. Переночуем, да завтра с утра – домой.
– Вот и славно, боярин, – дохлебав, наконец, щи, Митоха поставил котел на пол и, вскочив на ноги, прошептал Павлу на ухо: – А за брательниками твоими, господине, я б проследил. Не нравятся они мне что-то!
– Мне и самому не нравятся.
Да, вот уж достались родственнички – словом с братцем молодшим не перемолвились, так, цедили что-то брезгливо через губу.
Гостевая опочивальня Ремезову неожиданно понравилась – пусть небольшая, зато уютная, – а с этим в средневековье были большие проблемы – то дуло изо всех щелей, то жарило, то дым глаза ел.
Небольшое слюдяное оконце выходило… бог знает, куда оно выходило, снаружи уже стемнело, и сквозь тонкие пластинки слюды уже сложно стало хоть что-нибудь разглядеть. На широком подоконнике стоял небольшой сундучок – пустой, как немного погодя убедился Павел. Напротив широкой с не шибко толстой периной, лавке, застеленной лоскутным покрывалом, расставил кряжистые ножки неширокий стол, на котором стоял тяжелый шандал с тусклой свечою, в мерцающем свете которой шарились по углам темные глубокие тени. И это тоже придавало комнате своеобразный уют, тем более что Ремезов с детства не любил слишком яркого света. Одна из стен гостевой представляла собой обмазанную глиной печку, топившуюся из соседнего помещения, и сейчас источавшую приятное томное тепло. Пожалуй, даже можно сказать, что в опочивальне было жарковато.
Поставив на стол принесенный с собою кувшин с квасом – «буде, господине, захочешь пить», – кривобокий тиун, поклоняясь, удалился.
Кружку забыл – стаскивая рубаху, незлобиво подумал Павел и уж собрался было загасить свечу да укладываться спать, как вдруг в дверь тихонько постучали. Скорее всего тиун – кружку принес.
Так и вышло – принесли кружку. Только не тиун, а юная чернобровая особа с толстой девичьей косою и в длинном безрукавном платье поверх белой полотняной рубахи. Голову девушки прикрывала широкая повязка с вышивкой, и эта повязка, и платье казались весьма простенькими, без всяких особых излишеств – одна только вышивка, никаких тебе жемчугов, злата-серебра, самоцветов. На тонких девичьих запястьях синели браслетики – дешевенькие, стеклянные.
Прислуга. Холопка или – вернее – челядинка. Симпатичная, тут уж ничего не скажешь, личико приятное, золотая коса, глаза большие, карие, с отражавшимся в них огоньком свечки. Словно золотистый чертик плясал.
Улыбнувшись, девушка поставила кружку на стол и снова поклонилась:
– Велено тебе, боярин, постелю нагреть.
– Постелю?
Павел недоуменно хлопнул глазами, а дальше уже и вовсе, мягко говоря, удивился – когда девушка, ничуть не смущаясь, скинула с себя платье, а вслед за ним и рубаху. Пухленькая, большегрудая, сильная – настоящая русская Венера.
– Эй, эй, ты что делаешь-то… – начал было Ремезов, да тут же и заткнулся: скользнув в постель, девушка прижалась к нему всем своим горячим телом, с жаром целуя в губы.
Молодой человек и не сопротивлялся – еще бы! Раз уж тут так принято, чтоб гостей девками угощать… очень хороший обычай, о-о-чень…
Целуя девичью грудь, Павел совсем скоро и думать забыл – где он и с кем. Просто наслаждался неожиданно свалившейся любовью, прижимая к себе крепкую и ласковую деву. Какие у нее были глаза! Грудь! Бедра…
Незнакомка тоже завелась уже, задышала шумно и томно, дернулась… застонала…
И оба воспарили в такую высь, откуда потом очень не скоро вернулись. Или это просто так казалось, что не скоро…
– Господине, а ты про Литву поганую знаешь?
– Немного.
– Расскажешь мне?
– Если хочешь… Тебя хоть как звать-то, красавица?
– Настена.
– Хорошая ты, Настена… Знаешь о том?
– И ты, господине – ласковый… И много чего умеешь, от чего… – девчонка неожиданно зарделась. – От чего так хорошо, аж до сих пор голова кружится.
При таких словах Ремезову и самому любопытно стало – чего ж он такого умеет-то? Ну, ласкал, целовал, гладил… вроде, как всегда, а вот, поди ж ты – ублажил женщину, аж сомлела вся… до сих пор еще млеет.
Увы, млела Настена недолго – не дали, застучав в дверь, позвал мерзким голосишком кривобокий Олекса-тиун:
– Настена, эй, дева! Братец к тебе, погостить.
Погостить… Ремезов не удержался, хмыкнул, глядя, как выскользнувшая из постели девчонка резво натягивала рубаху. Погостить… это ночью-то? Правда, сейчас, пожалуй, еще вечер – часов восемь, девять – детское время. Однако по здешним понятиям – самая что ни на есть ночь. Вечер – этого когда солнышко только что село, и когда сумерки блестят, фиолетятся, а уж ежели совсем темно – ночь.
– Братик мой молодший – ловчим у нас, – прощаясь, пояснила Настена. – Зимой на заимке дальней живет, на усадьбе гостит редко. Ой! – девчонка вдруг хлопнула в ладоши и засмеялась. – Чай, гостинец привез! Рябчика вкусного или зайца… Посейчас и сготовим на кухне с девами – наедимся!
Во! Уже и о любви забыла – поесть б рябчика! Даже не поцеловала на прощанье, лишь поклонилась в дверях, да тут же и выскользнула. Ну, понятно – брат с заимки приехал, гостинцев привез.
Ушла. Словно и не было ничего. Лишь свечка, потрескивая, горит, тает. И еще интересно, с чего бы это Настена про Литву спрашивала? Может, родичи там у нее?
Приподнявшись на ложе, молодой человек подул на свечу – загасить. Пламя дрогнуло, заскворчало, однако не погасло а, наоборот, разгорелось еще сильнее. Чертыхнувшись, Павел поднялся на ноги… и тут же юркнул обратно под покрывало – в дверь снова постучались. Интеллигентно так, негромко… однако – настойчиво.
Эх, надо было на крючок запереться – а то ходят тут всякие, спать не дают! Поди, тиун за какой-нибудь надобностью – кто же еще-то?
– Господине, можно к тебе?
Нет, не тиун – голос женский.
Настена вернулась!
– Ну, заходи, сделай милость.
Скрипнула дверь. Дрогнуло пламя. Переступив порог, поклонилась закутанная в накидку фигура. Нет, на Настена, но тоже юная девушка – правда, чуть повыше ростом, темненькая, смуглая даже.
– Ты, девица, кто?
Вспыхнул в темных очах огонь… на устах заиграла улыбка:
– Я – Ксения. Настены вместо – постельку погреть.
Ах, вон оно что!
Молодой человек уже ничему не удивлялся. Погреть так погреть. Откинул покрывало да пригласил:
– Заходи. Квасу будешь?
– Потом.
Сбросив с плеч покрывало, девушка стянула через голову рубаху и бросилась в постель. Смуглая, грациозная, словно пантера, она чем-то напомнила Ремезову Полину. Такая же стройненькая, такая же грудь, упругая, небольшая, с темно-коричневыми, быстро твердеющими под умелыми пальцами Павла сосками. Черные, с ярко выраженной рыжиной, волосы, сверкающие антрацитовые глаза с лукавою поволокою, смуглая кожа, над верхней губою – еле заметный золотистый пушок…
А эта, пожалуй, покрасивее Настены будет! Правда, смотря на чей вкус.
Павел провел рукой по талии и бедрам девушки, погладил спину, привлек, прижал к себе… поцеловал… Ксения с жаром откликнулась, обняв молодого человека за плечи… Какая у нее кожа! И тонкий стан – позвоночник можно прощупать, и лопатки… плечики… Ах…
Сладострастно прикрыв глаза, девушка застонала, выгнулась, закусив нижнюю губу…
Ах, девки-девки… И где же ваша девичья честь? Где достоинство? Впрочем, какая может быть честь у рабыни? Какое, к чертям собачьим, достоинство? Что уж о средневековье говорить, когда в России и в девятнадцатом веке вовсе незазорно считалось барину с крепостными девками баловаться да гостей ими угощать. И какое достоинство было у крепостных, которых – кто попало и во все щели? Как и сейчас – весь российский народ.
Ох, как она застонала! Вот это стон, вот это страсть, вот это…
– Ах, милый господин, – изнемогающая и даже чуть побледневшая дева погладила расслабившегося Павла по груди. – Какой ты… Как мне было…
– Тсс! – Ремезов провел пальцами по пухлым девичьим губам. – Не говори много… лежи… Хочешь, я тебе спинку поглажу?
– Очень хочу, господине.
– Тогда повернись… Так?
– Так, господине… та-ак… та-ак… Какие у тебе нежные руки… а-а-ах…
Нагнувшись, Павел поцеловал Ксению в шею, нащупав руками грудь, чуть сжал пальцами соски, прошептал:
– Не называй меня господином, ладно? А ну-ка… приподнимись… мы ведь сейчас с тобою на равных, да?
– Да, мой… да! да! да-а-а-а-а!!!
Любовники вновь сплелись в единое целое, и Павел улетел в сияющие облака, целуя девичьи плечи… Какое это было блаженство, какое наслаждение – вот так заняться любовью с кем-то неожиданно заглянувшим на слабый огонек свечи. Чего никак не планировал, не ожидал. Погрузиться в антрацитовые эти глаза, нырнуть с головой в омут – так бы там и остался, Боже… в этом искрящемся негой и страстью водовороте любви!
Да уж, внезапно вспыхнувшая страсть захлестнула боярина, он уже не владел собой, крепко обняв деву за талию, ощутив в своих руках трепетно-грациозное тело… теплую, смуглую, с золотистым отблеском, кожу, темную полоску позвоночника, упругие ягодицы, нежные ямочки на пояснице…
Ах!
И жар! Пылкий всепоглощающий жар нахлынувшей на обоих любовников страсти. И что с того, что Ксения была челядинкой-рабой, а он – господином?
– Ах… ах… Ах!!!
– Ты знаешь, мне давно уже ни с кем не было так хорошо, – честно признался Ремезов. – Ты очень славная, Ксения. Очень!
– Ты тоже, мой го…
– Тсс! Какие у тебя нежные руки… Ты очень, очень красивая!
Девушка улыбнулась:
– Многие говорят – для красоты я слишком худа, гос… милый.
– Нет! Что ты, не слишком! – встрепенувшись, молодой человек тут же сник и тихо спросил: – Ты – раба?
– Из челяди, – коротко кивнула Ксения. – Отец отдал меня за долги, сначала – в закупы, а потом, когда не смог выплатить, старый боярин сделал меня невольницей, сенной девкой. Знаешь, я на батюшку не в обиде – в семье дюжина детей, всех кормить надо. А тут хоть я пристроена, да и долг боярин списал.
– Да уж, хорошо ты пристроена… Слушай, я могу чем-то помочь?
Повернув голову, девушка посмотрела на Ремезова с большим удивлением:
– Помочь?
– Ну, да. Выкупить тебя, и…
– И сделать своей наложницей? Жениться на мне ты не сможешь… увы… Такова жизнь.
– Пусть так, – согласно кивнул Павел. – Но ты обретешь свободу.
– И куда я пойду?
А вот на это молодой человек уже ничего не мог ответить. Действительно – куда?
– И все же я дам тебе кое-что… Вот, возьми!
Спрыгнув на пол, молодой человек отвязал от пояса кинжал с украшенной жемчугами ручкой, что приобрел в Менске или еще где-то в пути. Ножны тоже были богатые, золоченые.
– Бери, бери, что смотришь? Может и пригодится – вещь недешевая. Найдешь, где спрятать?
– Найду! Только… Господин, я не могу остаться с тобой до утра – так уж принято. И… – Ксения вдруг замялась. – Я должна спросить тебя про орденских немцев…
– Про кого спросить?
– Не спрошу! И… мне пора. Прощай, боярин, и не держи зла. И еще – опасайся своих братьев!
Одевшись, девушка выскользнула прочь. Скрипнув, затворилась дверь. Свечной огарок оплыл, догорая, а вот и погас, истекая тоненькой струйкой дымка. За окном заметно посветлело – что, уже утро? А ведь так и не поспал. Да и черт с ним, со сном, ведь – Ксения… Настена… Эх, девы, девы…
На рассвете Ремезов со своими людьми покинул усадьбу покойного батюшки, уехали по-английски – не прощаясь, да и с кем было прощаться-то? Родные братцы знать младшенького не желали, не захотели парой слов перекинуться. Ну, и черт с ними, была нужда!
Стоял небольшой морозец – градуса три-четыре от силы, по присыпанной снежком дорожке мела поземка. Желтое зимнее солнышко то скрывалось за палевыми облаками, то вновь показывалось, озаряя золотистым сиянием тянувшийся вдоль санного пути сказочно-снежный лес.
– Анкудин плотненьких девок любит, – нагнав боярина, с усмешкой докладывал Митоха, – У него все сенные – пухленькие, не знаю, как жена на то смотрит. Хотя – а что ей поделать-то? Разве что челядинок тех изводить – вот и изводит. Которую сама побьет, которых – в сеннике слуги плетьми потчуют, причина всегда сыщется.
Павел согласно кивнул:
– Понятно. Случайно, девицы Настены средь челядинок Анкудиновых нет?
– Настены? – наемник потупился. – Имен, извиняй, господине, не спрашивал. А надо было?
– Да ладно, – молодой человек расслабленно отмахнулся. – Что о Питириме узнал?
– Питирим похитрее старшего, он супротив тебя и мыслит поболее.
– А девки у него каковы?
– Тощие да смуглявые.
О, как! Ничего не сказав, Павел покачал головой – вот вам и Настена, вот и Ксения… постельку погреть – ага! Наверняка братцами девки подосланы. Зачем? То пока неясно.
Причем старший из братьев, Анкудин, послал свою девчонку первым… Однако Питирим и впрямь оказался хитрее – переиграл. Эх, Ксения, Ксения… Впрочем, а что ее винить-то? Лицо подневольное, не своей волей живет – хозяйской.
Однако чего же братцы хотели? Да того же, чего и он сам, Павел, о них – вызнать побольше. Вызнали? Да не особо, с обеими девками молодой человек не секретничал, ничего такого этакого не говорил – да и что мог сказать-то? Разве что признаться, что он – кандидат физико-технических наук.
Недалеко от Смоленска, у большого храма монастыря на Протоке, путники, перекрестившись, повернули на юг, к дому. Ехали не торопясь, в охотку, в свое удовольствие – благо к обеду и небушко серое рассупонилось, заголубело, и солнышко заблистало, глаза слепя. Хорошо!
Ближе к полудню спешились на лесной опушке, перекусили прихваченными запасливым Окулкой припасами, малость отдохнули и только было собрались ехать дальше, как позади, на дороге, послышался приглушенный стук копыт. Кто-то мчался.
Митоха, не дожидаясь приказа, выхватил из-за пояса саблю, тяжелую, с легким изгибом. Окулко подбросил в руке палицу, Павел схватился за меч.
– А, может, в лесочке схоронимся? – высказал дельную мысль Окулко-кат.
Наемник зло сплюнул:
– Не схоронимся – по следам сыщут. Эх… вскачь надо было! Может, и оторвались бы… если там не татары, от тех бы конно не скрылись.
Впрочем, гадали недолго – буквально через несколько секунд на опушку вынеслись всадники – окольчуженные, с мечами, с копьями со щитами червлеными, на высоких шлемах играло солнце.
Всего их было около дюжины, а впереди – смутно знакомый юноша с круглым красивым лицом. В богатом, подбитом соболями, плаще поверх серебристой кольчужки, на голове не шлем – шапка бобровая с аксамитовым верхом.
Где-то этого парня Павел уже видел… только вот – где? Да-а-а… а вот у этих людей – память на лица куда более совершенная, раз в жизни человека увидят – потом могут и через несколько лет вспомнить.
Завидев Ремезова, круглолицый неожиданно улыбнулся:
– Заболотский боярин Павел, вольный слуга?
– Ну, Павел… – молодой человек все еще смотрел на воинов настороженно.
Те, впрочем, никакой агрессии покуда не проявляли.
– Язм Михаил, князь, – запросто напомнил юноша. – Забыл, что ли?
А ведь точно! Ремезов стукнул себя по лбу – ну, конечно – князь! Ведь недавно совсем виделся с ним в детинце. Михаил, да – троюродный племянник старого князя Всеволода Мстиславича… Михайло… Михайло…
– Здрав будь, светлый княже Михайло Ростиславич.
– И ты здрав будь, боярин, – с достоинством кивнул князь. – Крутить не буду – за тобой еду, велением дядюшки мово Всеволода.
– За мной? – Павел удивленно моргнул.
Вот как! Сам князь – пусть и молодший – за ним послан! Интересное дело – что же такое случилось-то?
– Что за тобой – не ведаю, вот те крест, – сняв шапку, Михаил Ростиславич размашисто перекрестился. – Одначе дядюшка тебя, боярин, видеть желает.
– Желает – съездим, – пожал плечами Ремезов. – Тут и ехать-то всего ничего. Ишь ты… – тут молодой человек не удержался, съязвил: – Целого князя прислали!
– То для порядку, – князь Михайло поворотил коня. – Что б ты зря глупостей каких не натворил. А то нагнал бы тебя сейчас незнамо кто – и что? Ты б ему вот так сразу поверил?
– Неглупо, – хватая узду, согласился Ремезов. – Что ж – в Смоленск так в Смоленск. Людей своих с собой взять можно?
– Бери, – глянув на Окулку с наемником, князь махнул рукой. – Только быстрее поскачем – к обеду в хоромы попасть хочется.
Михаил Ростиславич был приветлив и вежлив, улыбался, похоже, ничуть не тяготясь порученным ему делом – действительно, если б послали обычного десятника или сотника – кто знает, не дошло бы до крови?
А так… Молодшего князя Ремезов знал и ему верил. Раз уж сам Всеволод Мстиславич – сюзерен верховный – зовет, так как можно ослушаться? Не по понятиям, не по закону.
Приехали быстро – что тут скакать-то? – верст семь-десять. Миновав грозные ворота детинца, спешились.
– Ты, тут, во дворе, постой, – обернувшись, распорядился Михайло. – А я пойду, доложу князю.
Взбежал по крыльцу по-мальчишески быстро, вприпрыжку, исчез за дверями…
И тут же, не прошло и пары минут, выскочил на двор – судя по одежке – не простой слуга, а дворецкий, тиун:
– Кто тут заболотский боярин Павел, Петра Ремеза сын?
– Ну, я.
– Светлый князь Всеволод Мстиславич пред очи свои требует!
Требует – сходим. Хмыкнув, Павел бросил поводья коня Окулке и быстро зашагал вслед за тиуном, миновав оружную стражу в ярко блестевших кольчугах и с миндалевидными, старинного образца, щитами. С такими только в княжьих палатах и стоять – тяжелы больно, нынче-то щит совсем другой пошел – куда как легче, треугольный, без навершья круглого – да и зачем оно, коли лицо кольчужная бармица прикрывает, наносник с полумаскою, либо вообще – личина зверская – страх на врагов нагонять.
Старый князь встретил заболотского боярина сурово: сидя в высоком кресле та-ак свернул очами, благо что не рыкнул.
– Павел, Петра Ремеза покойного – молодший сынок?
Нет, папа римский!
Павел сдержанно поклонился:
– Язм.
– В переветничестве тебя, Павел, неведомый доброхот обвиняет! – сдвинув брови, резко сказал князь. – Меч сыми… В остроге пока посидишь, до суда.
– В переветничестве? – молодой человек машинально отвязал от пояса ножны, протянул подскочившему воеводе – дородному Емельяну Ипатычу. – И к кому ж я переметнулся?
– О том, боярин, на суде узнаешь, – дернув реденькой бороденкой, Всеволод Мстиславич недобро прищурил свои и без того узкие глазки, от чего стал похож на татарского мурзу. – А покуда, до суда, в острожке посиди да подумай. Либо повинишься… либо…
– А, может, оправдаюсь еще? – взволнованно перебил Ремезов. – Кляузы-то гнусные всякий мастак слать. Может – брешет доброхот тайный, как сивый мерин?
Князь неожиданно ухмыльнулся:
– Может, оно и так. А мерин – не брешет, ржет, то пес – брешет. Ну, инда посиди, подумай…
Всеволод Мстиславич махнул рукой, и к опальному боярину тут же подскочили двое дюжих молодцов с секирами на плечах.
– То тебя до острога проводят.
Поникнув, как и положено, головой, арестованный послушно заложил руки за спину – а что тут было делать-то? Кинуться, махнуть ближайшему воину в морду, да бежать? Ага… как же. Далеко не убежишь, чай – жизнь, не боевик голливудский.
– Князь! – уже на пороге обернулся Павел. – А в чем меня обвиняют-то?
– То в остроге узнаешь, – властитель Смоленска почмокал губами. – Голодом морить тебя не будут одначе… Но денька два посидишь.
Посидишь… вот это дело – с похорон да сразу в острог.
– Княже… там, во дворе, люди мои…
– Людям твоим сказано – пущай в городе ждут. А ежели надумают в бега податься – значит, вместе с тобой виноватые.
Что ж – и тут недурно придумано. Действительно, коли сбегут Окулко с Митохой, так сразу ясно – не зря их боярин в злом умысле обвинен.
Располагавшийся в дальней башне детинца острог оказался обычной горницей, только слегка темноватой и маленькой, однако же – теплой, с печкой – точнее, ее частью – отапливаемой с соседнего помещения. Судя по всему, узилище сие предназначалось вовсе не для простолюдинов, а для важных особ… типа вот – боярина-переветника Павла, Петра Ремеза сына, Заболотского.
Слава Богу, или, скорее – старому князю, муками неизвестности узник страдал недолго. Во дворе, за маленьким – едва кошке пролезть – оконцем, только еще начинало темнеть, когда снаружи, в дверях, скрипнул засовец.
Павел приподнялся на лавке…
– Здрав будь, боярин.
Вежливо поздоровавшись, в темницу, в сопровождении двух дюжих слуг – один с горящей в бронзовом поставце свечой, другой – с деревянным полукреслицем-стулом – вошел сутулый худой монах… точнее говоря, Ремезову так показалось, что монах – исхудавшее лицо, черная, длинная и узкая, борода, высокий лоб с большими залысинами – тип вполне аскетический, правда, если присмотреться, так видно, что все ж таки не монах – мирянин: и одежка не монашеская, разве что – длинная, да только из хорошего и недешевого сукна, и поясок узорчатый, и на шее тускло блестит серебром цепь. Не, не монах – ярыжка, порученец княжий – ну, кто еще мог быть-то? Видать, послан допрос вести, проводить, как не преминула б заметить острая на язычок Полина – «следственные действия». Вообще-то, в служебные дела любимой женщины Ремезов никогда не вникал, но кое в чем разбирался – прорывалось иногда и в старшем следователе прокуратуры – Полине – желание что-нибудь рассказать. И тогда уж – хочешь не хочешь – слушай.
Так вот и этот был – следователь, ярыга по-здешнему.
Поставив поставец со свечкой свечку и стул, слуги удалились, и ярыжка, усевшись, важно положил руки на стол и вдруг неожиданно улыбнулся:
– Знаешь, боярин, почему ты не в холодной, а здесь?
– Интересно, почему же? – вскинул глаза молодой человек.
– Потому что Михайло Ростиславич-князь на тебя виды имеет, – не стал ходить вокруг да около ярыжка. – На тебя, на воинство твое… слыхали, слыхали про твою дружину! Вот и князь молодший велел как следует во всем разобраться, и, если не виноват, так побыстрей тебя отпустить.
– Да в чем меня обвиняют-то? – умоляюще сложив руки, узник вскочил с лавки. – Скажи, добрый человек!
– Скажу, – степенно покивал «следователь». – За тем и явился. Язм – Тимофей, Орефьев сын, князя старшого Всеволода Мстиславича дьяк!
Дьяк! Ах, вон он что! Бюрократ, короче.
– А имали тебя, потому что донос имеется!
– Донос? – Павел изумленно отпрянул и нервно расхохотался. – Я, кажется, догадываюсь, кто его написал… Наверняка – братья мои, Анкудин с Питиримом, так?
Дьяк Тимофей покачал головой:
– Нет, господине, не так. Донос на тебя некий Олекса Кривобок написал, батюшки твово покойного тиун.
– Олекса?! – вскинул брови молодой человек. – Вроде нам с ним делить нечего… Ага! Братцы его подкупили, не иначе! Ух, глоты…
– На братьев улики есть? – деловито перебил дьяк.
– Улики? У меня лично нет, но… Если этого Олексу-тиуна допросить как следует, то…
– Допросим, – Тимофей успокоительно тряхнул бородой. – Это уж как водится – доносчику первый кнут. Завтра же и допросим. Покуда же в доносе показано, будто ты, боярин, хвастал, будто с литовским князем Аскалом нехудо знаком, и что будто бы тот литвин, смоленским князем восхотев сделаться, тебя притом не забудет.
– Оскал какой-то… – выслушав, обиженно пробурчал молодой человек. – Ничего не понимаю! Их пальца все это Олекса чертов высосал, придумал!
– Да нет, господине, не придумал, – дьяк прищурился и, поплевав на пальцы, снял со свечи нагар. – То на тебя девка сенная Настена сказывала, и тиун в то время под дверью был – услыхал. Девка и под кнутом подтвердила всё.
Павел нервно хмыкнул:
– Та-ак! Значит, что же – я к литовцам переметнулся?
– К Аскалу-князю, – невозмутимо подтвердил Тимофей. – А еще – к орденским немцам, но про то только тиун заявил, а девка сенная не подтвердила.
Ксения… кто же еще-то? Ну да – недаром же она странно так себя вела: мол, про немцев тебя должна спросить… Ремезов не обратил тогда внимания – почему «должна», кому? А вот оно что, оказывается! Настена – пухленькая, явно старшим, Анкудином, подосланная – показала про литвина, а Ксения – не решилась… или не захотела. А как так? Ведь, если ее Питирим послал, то…
– Сбегла, честно сказать, девка-то, – доверительно признался дьяк. – Ну, та, что про немцев тиуну показывала – мол, ты, боярин, с имя дружбу водишь. Сбегла…
– Ну, так и хорошо!
– Ошибаешься! – следователь повысил голос. – Объявился у нас еще один доносчик – некий Охрятко-изгой. Мы его кнутом пытали – думали, лазутчик чей – вот он на тебя и показал.
– Вот сволочь! – в сердцах выругался Ремезов. – Ну, и мне как теперь быть? Как вину-то свою оспорить?
Дьяк улыбнулся:
– Думай, господине боярин. Мысли – кто за тебя показать может? И против тиуна, и против Охрятки-изгоя. Кто?
– Подумаю, – хмуро пообещал Павел. – Обязательно подумаю, вот только соберусь с мыслями.
Кивнув, княжий дьяк Тимофей удалился, не позабыв прислать слуг за стулом и свечкою. Они же, слуги, заодно принесли и покушать, чему узник очень даже обрадовался, поскольку последний раз перекусывал еще днем, да и то так, слегка. То, что принесли сейчас, по местным меркам тоже считалось «слегка» – полкаравая ржаного, недавно испеченного, хлебушка, мягкого, с хрустящей и тающей во рту корочкой, да к нему крынку хмельного кваса – немного, литра два – да ячневую, с кислым молоком, кашицу – всего-то одну тарель, да половинку печеной стерлядки, да хариусов жареных, да севрюжий бочок, копченый осетриный хвост, надо сказать – изрядный.
Все это Павел не съел, конечно же, а вот кваску хмельного выпил с большим удовольствием, намахнув сразу из кувшинца – треть, а уж потом потягивал себе потихонечку. Слава Господу, голодом его тут морить явно не собирались, да и пытки не применяли… пока? Однако ж и обвинение… Предатель! Ну, надо же – с каким-то литвином стакнулся… или с немцами. Так с немцами или с литвином? Те друг друга на дух не переносили, так что служить сразу двум – это почище знаменитого Труффальдино из Бергамо будет.
Братцы! Братцы за всем этим стояли – к бабке не ходи! Стал бы тиун наушничать, первый кнут получать, ага – себе дороже. Небось, подговорили браты-акробаты, чтоб им ни дна, ни покрышки. И девок… девок-то своих, заранее присмотренных, подослали, Анкудин – пухленькую Настасью, а Питирим – Ксению. Эх, Ксения, Ксения… Сбегла, говорят… интересно – куда? Даже не «куда», а «к кому» – тут так вопрос ставить надо, просто так, в никуда в эти времена не бежали – не выжить. Значит, заранее кого-то присмотрела Ксюша… не дура, не дура, что и сказать.
Однако и пес с ней – как же самому-то теперь быть? Обвинения – солидные, послухи – есть, и ведь не скажешь, что на пустом месте – разговор то с Настенной о литве – был, правда так, пара фраз или даже меньше, – но ведь что-то такое произнесено, сказано. Значит – и свидетельствовать можно, а Павел и не упомнит – что он там конкретно, будучи навеселе, говорил.
Теперь вот доказывай, что не верблюд. Хорошо хоть от молодшего князя поддержка… виды, мол, тот имеет на Ремезова, да на дружину заболотскую. Видать, воевать с кем-то собрались – с татарами? Похоже на то, с кем еще-то? Да хоть с кем: с теми же литовцами, поляками, немцами, новгородцами, черниговцами… всех возможных перечислили? Нет, пожалуй, не всех. Много еще! Была бы землица, а враги сыщутся. Как вон у Павла – родные братцы, сволочуги, как оказалось, те еще.
Так ничего толком и не придумав, Павел собрался уж было спать – вытянулся, закрыв глаза, на лавке. Чтоб сон скорей пришел, попытался что-нибудь приятное вспомнить – как года три назад с Полиной в Париже отдыхали. Нотр-Дам, Новый мост, Шатле, Ле Аль – рынок, сиречь – бутики, магазины. Там у Полины кошелек и сперли – то же еще, старший следователь! Тьфу… Нашел что вспоминать, очень приятно.
Перевернувшись на другой бок, молодой человек начал думать про другое, про то, как они с Полиной первый раз… В чем она тогда одета была? Джинсики узкие синие, белая блузка… Бюстгальтера не было… Нет! Был. Что же он, Павел, тогда расстегивал так неловко, что застежку сломал? От волнения…
Черт! И тут не очень приятно. Бюстгальтер Ремезов, кстати, потом сразу на другой же день подарил, реабилитировался, даже не один бюстгальтер, а целый комплект нижнего белья революционного ярко-красного цвета… Как раз на седьмое ноября – что еще подарить-то?
Усевшись на лавке, узник нашарил стоявший на столе кувшин, выпил… весь и допил, вытер рукавом губы, хмыкнул – гляди-ка, уже и привычки местные появились, разве ж раньше можно было представить, чтоб, скажем, в ресторане – и рукавом…
Снаружи снова лязгнул засов – Павел вздрогнул, показалось, будто бы выстрелили из пушки. Сердце неприятно екнуло – ну, вот, теперь потащат на пытку… или сразу на казнь. Нет, сразу на казнь не должны бы, как это так – без суда и следствия? Все ж не простой человек, не смерд какой-нибудь, а – пусть и бедный, да боярин… ладно – пускай будет «вольный слуга» – дворянин, шевалье, риттер – кому как нравится.
– Вставай, господине, – подняв повыше свечу, в узилище заглянул давешний дьяк Тимофей. – Аж целых три князя видеть тебя желают!
Вот как! Целых три. А не перебор ли?
Живо вскочив, молодой человек последовал за ночным визитером. Шли недолго – выйдя на улицу, пересекли двор под неусыпным контролем вооруженных стражей, да поднялись по парадному крыльцу в княжеские хоромы. Никто Ремезова гнусными словами не обзывал, не бил, руки за спиною не связывал… неплохой знак!
Остановившись в людской, дьяк с молчаливого разрешения двух окольчуженных молодцов-охранников, осторожно приоткрыл дверь:
– Доставил, князь-батюшко!.. Веду, веду.
Обернувшись, Тимофей махнул рукой:
– Входи, боярин.
В жарко натопленной горнице ярко горели свечи. В высоком, с резной спинкой, кресле перед длинным и узким столом, щурясь, сидел старый князь Всеволод Мстиславич. Лысеющее чело его покрывала не всегдашняя черная скуфейка, а высокий колпак, тень от которого, падая на морщинистый лоб, создавала полную иллюзию знаменитой ленинской кепки. Да-а – вылитый Владимир Ильич, что тут скажешь? Пригласи в Мавзолей – перепутают.
Слева от Всеволода, на скамеечке, сидел молодший князь Михайло Ростиславич, при виде Ремезова широко улыбнувшийся, только что не подмигнувший. И в этом тоже Павел усмотрел хороший знак. А еще – пристально всмотрелся в третьего из присутствующих – хмурого вислоусого парня, губастого, с вытянутым, словно бы изумленным, лицом и карими, чуть навыкате, глазами. Породистый – а ля Шарль де Голль – нос незнакомца явно указывал на благородное происхождение его обладателя. Так оно и вышло.
– Ну? – ответив на низкий поклон узника небрежным кивком, Всеволод Мстиславич глянул на вислоусого. – Что скажешь, князь?
Ага! Вот оно – князь. Интересно – из каких земель прибыл?
– Ничего не скажу, – поправив роскошное, расшитое жемчугами, оплечье, незнакомец скривился. – В первый раз этого человека вижу.
Павел повел плечом:
– Так и я – в первый раз.
– Выходит, прав ты был, Михайло, – не обращая внимания на слова Ремезова, старый князь посмотрел на племянника. – Не при делах боярин-то.
– Ага! – не утерпел узник. – Сначала в темницу бросили, а теперь – не при делах, говорите?
Всеволод Мечиславич совсем по-ленински моргнул:
– Про то тебе взыщется. Вона у Михайлы спроси…
Младший князь резво вскочил на ноги:
– Так мы тогда пойдем, дядюшка?
– Идите, идите… А ты, боярин, зла на нас не держи – всякое бывает. Донесли на тебя, мы и проверили. Теперь видим – кажется, ты человек верный…
Кажется?!
– Ну, да то и в битве будет видати.
– В битве? – удивленно переспросил Ремезов. – В какой битве? Я что-то пропустил, да?
– Идем, боярин, все объясню.
Ничуть не чинясь, княжич весело хлопнул узника… теперь уже – бывшего узника – по плечу и почти силой увлек прочь из хором.
В людской, поклоняясь, расступились воины.
– Ты, ты и ты, Афоня, – каждому кольчужнику Михайло лично ткнул пальцем в грудь. – Берите факелы, идите за нами. Да! Воевода где?
– В дальний амбарец пошел, княже, – откликнулся все тот же дьяк Тимофей. – Снаряженье воинское поглядеть-перебрать.
– Важное дело, – на ходу покивал княжич. – Главное – своевременное.
Ремезов хмыкнул:
– Шутишь, пресветлый князь?
Михайло мотнул головой:
– Ничуть. То – чистая правда.
– А с чего бы меня оправдали? – не ощущая никакого особого пиетета пред столь младым парнем – пусть даже и князем – не отставал Павел.
– Гость сегодня у нас… Тот, усатый. Князь литовский Аскал. Не самый великий князь, так… княжич.
– Ах, вон оно что! – тут только понял молодой человек. – Это я, значит, с ним сговаривался?
– Теперь и Всеволод-князь видит – оговорили тебя. Поклепную виру сбирать будешь?
– С кого?
– Хм… – Михайло негромко расхохотался. – Вижу, и сам понимаешь – не с кого. Разве что Олексу-тиуна в холопство отдать… да то прибыток малый.
– Да черт с ним, с тиуном, – поглядывая на снующих по двору воинов, весело отозвался Ремезов. – Пущай живет. А до братцев мне все одно сейчас не добраться.
– Это ты верно сказал, – одобрительно хмыкнул княжич… – Главное-то – некогда сейчас, времени-то совсем ничего осталось.
«И куда они так торопятся?» – подумал молодой человек, и даже хотел спросить, да не успел – пришли уже.
«Дальний амбарец» смоленского князя Всеволода представлял собой низкое, однако весьма обширное бревенчатое помещение, размером, как показалось Ремезову – почти с половину Московского вокзала… ну, хорошо – с треть. На тянувшихся вдоль стен рядках тускло блестело оружие – и чего тут только не было! Так называемые «романские» мечи – длинные, «рыцарские», с заостренным клинком и большим перекрестьем, мечи старинные, «каролингские» – тупоносые с небольшой закругленной гардой; кинжалы, палицы всевозможных видов, включая шестоперы, а кроме того – секиры: и большие, трапециевидные, и маленькие «чеканы», еще и копья – толстые, тяжелые, с мощными в локоть – листовидными наконечниками – рогатины, и копья полегче, для всадников и совсем легкие – метательные сулицы… Чуть повыше, на стенах, висели «брони» – плетенные из проволоки кольчуги до середины бедра, кольчужные же чулки, нарукавники, рукавицы, доспехи из маленьких железных пластиночек – ламеллярные, из больших пластин – ламинарные, островерхие, с кольчужными бармицами, шлемы…
Посреди всего этого богатства, в сопровождении двух – с горящими факелами – воинов, прохаживался, что-то про себя шепча, осанистый воевода Емельян Ипатыч.
Князь даже покричал ему еще издали:
– Эй, Емельян Ипатыч, мы к тебе идем.
Воевода повернулся на крик:
– Ась?
– Выдай, говорю, боярину все, что захочет. По княжьему слову так! Ну, что стоишь? – Михайло обернулся к Павлу. – Выбирай, что душа пожелает!
– Ой… – от неожиданности стушевался молодой человек. – Моя душа тут много чего пожелать может. И вот тот меч очень даже неплох… тот, в червленых ножнах… и кинжальчик рядом – ничего себе так, видно сразу – антикварная вещь, и щит треугольный, «Юрский парк»…
– Какой-какой шит, боярин?
– Ну, с динозавром… тьфу – с драконом.
– Бери, коли люб!
Прибарахлился Ремезов знатно, вот уж поистине, не знаешь, где найдешь, где потеряешь! И кольчужицу выбрал – полный доспех, включая чулки и наручи, и шлем с полумаской золоченой да бармицей, и меч – ну, как же без него-то? Подарок старого кузнеца тоже был неплох, но старого образца, тупорылый, а тут… эх, настоящий меч-кладенец, не меч – птица, сам в руку летит, да так и тянет ударить, в самое сердце врага поразить.
– «Людота-коваль», – шепотом прочел Павел надпись на тускло блеснувшей стали. – Фирменный!
– Новгородской работы меч, – довольно подтвердил воевода. – Ничуть не хуже немецких, лучше даже.
– Да уж, лучше… – неожиданно усомнился молодший князь. – Скажи – «такой же» – и то похвала. – Ты бери, бери, боярин. Может, еще шестопер возьмешь? Глянь, какой славный! Башку татарскую – у-у-ух!
– Почему татарскую? – Ремезов резко обернулся. – Что, татары уже у смоленских стен?
– А ведь ты угадал, боярин, – на полном серьезе откликнулся Михаил Ростиславич. – Не в бровь, а в глаз. Татары Орды-Ичена-князя еще не у самых стен, но не сегодня-завтра будут! Затем и войско собираем, затем и прощенье тебе – литвин Аскал нам теперь – союзник. А ты, боярин, скачи поутру к себе – веди рать. От купцов слыхал – она у тебя славная.
Глава 9
Рать
Декабрь 1240 – январь 1241 г. Смоленское княжество
Хмурое низкое небо сыпало мокрым снегом, липким и мелким, словно манная крупа. Близилось Рождество, но праздника вовсе не чувствовалось, может быть, потому что за городом, даже в ближней округе, люди по-прежнему оставались полуязычниками, верящими в домовых, леших, русалок и даже в старых богов – Перуна, Даждьбога, Велеса. Великий киевский князь Владимир Красно Солнышко и его соратники приняли христианство больше двух с половиной веков назад, постепенно крестились и жители городов – купцы, ремесленники, воины, что же касаемо сельской местности, где проживало подавляющее большинство, то там и по сию пору еще бродили по дорогам и весям волхвы, справлялись древние праздники, приносились жертвы богам – иногда даже и человеческие. Еще сохранялись по урочищам капища, вовсе не страдая от отсутствия паствы, еще почитались священные источники, рощи, деревья. Одно такое дерево – высокий, украшенный разноцветными ленточками дуб, как раз и стоял совсем недалеко от дороги, рядом с родником, к которому вела старательно вычищенная от снега тропинка.
Там и устроили привал: молодой заболотский боярин Павел и его люди – Митоха и Окулко-кат. Впрочем, Митоху вряд ли можно было назвать чьим-то человеком – наемники, перекати-поле, хучи-кучи-мэн. То к одному господину прибьется, то к другому: там – добыча, тут – жалованье – так воинским своим уменьем и жил.
Иное дело Окулко – рядович, как и тиун. Служил по договору – ряду – господина почитал, но и права свои знал.
И все же – оба они показали сейчас свою верность: все же дождались, не уехали, встретив обретшего свободу боярина у ворот детинца. А могли б и не встретить! И сами могли б загреметь, попасть под раздачу. Если б не князь Аскал, если б не татары, кои – по слухам – рыскали где-то в восточных пределах княжества. И – самое главное – если б не помощь молодшего князя Михайлы. А князь Михайла был заинтересован в опытных воинах, и сейчас, в преддверье страшных битв – как никогда.
Нужно было послужить не только князю, но и новой родине, да и сохранить свое положение, усадьбу свою, вотчину – отнюдь не мешало бы, вдруг да ничего не получится с резонансом? Такое ведь может быть. Пятьдесят на пятьдесят, как ученый-экспериментатор Ремезов хорошо понимал это. А потому – загодя просчитывал сразу несколько вариантов, вплоть до самых худших, ибо таковые вполне могли иметь место быть – на вотчину всерьез претендовали родные сволочуги-братья, на все остальные землицы – завидущий сосед, боярин Онфим «Битый Зад» Телятников. Со всеми приходилось держать ухо востро, особенно – с братьями, те, конечно, прямо бы не сунулись, устроили б интригу, каверзу, как вот совсем недавно. Ишь ты, в предательстве обвинили, надо же, догадались!
– Господине, едет кто-то! – бросив в снег рыбьи кости, насторожился Окулко-кат.
Митоха тоже прислушался:
– Всадники… Человек с дюжину, может, чуть более. Что, боярин – в лес?
– Нет! – дернул головой молодой человек. – Найдут по следам – обязательно вызовем подозрение. Да и кому тут сейчас ехать-то? Разбойникам-лиходеям? Навряд ли, места кругом не богатые – не торговый путь.
– Ты, боярин, прав, – подумав, согласился наемник. – Скорее, это Всеволода-князя люди. А едут – зачем и мы. Войско, рать сбирают!
Митоха как в воду глядел, не прошло и пары минут, как на полянку вынеслись всадники, числом около пары десятков. На сытых конях, оружные, только что без кольчуг, зато в богатых кафтанах и полушубках. Главный – широкоплечий мужчина с окладистой светло-русою бородой – поправив соболью шапку, поворотил коня к спокойно дожидавшейся у дуба троице:
– Каковы будете, добрые люди?
– Язм – заболотский боярин Павел, Петра Ремеза покойного сын, а это…
Не дослушав, незнакомец махнул рукой и приветливо улыбнулся:
– Ну, здрав будь, заболотский боярин Павел! Много о тебе слыхал. А язм – Козьма Ильин, средней руци воевода.
Подъехав ближе, Козьма Ильин спешился и протянул руку:
– Рад знакомству. Рад!
– А это мои люди, – с облегченной улыбкой Ремезов кивнул на Окулку с Митохой.
Не чинясь, воевода поручкался и с ними, а потом, повернувшись к Павлу, спросил:
– Сейчас к себе в Зоболотье, небось, скачешь?
– К себе, – кивнул молодой человек, – Рать соберу – да в Смоленск, к князю.
– То верное дело, – Козьма тряхнул бородой. – А мы по порученью княжьему отступников имаем. Мнози похощат в лесах отсидеться, мунгалов да татар пережить. Вот таких «сидней» и имать велено, да на правеж их, на правеж!
– И поделом, – согласился Павел. – А то что это получается, кто-то воюет, землю родную от супостата бережет, а кто-то – за лесами отсиживается! Вы-то куда сейчас, может – по пути, так вместе поедем?
Воевода шмыгнул носом и усмехнулся:
– Не боярин, нам в твоим болотам не по пути, мы – в залесье, ужо расшевелим «сидней».
– Ну, Бог в помощь.
– И вам… – перекрестившись на украшенный ленточками дуб, княжий посланец легко взметнулся в седло и махнул своим людям рукою. – Эй, эй, поехали! Удачи тебе, боярин, может, еще свидимся!
– И вам удачи… Татары-то далеко?
Козьма обернулся в седле:
– Да недалече уже – на Ростиславльском шляхе видели. Дней пяток – и у нас будут. Так что поторапливайся, боярин Павел, поторапливайся!
Гикнув, воевода стегнул коня плетью и исчез за деревьями вместе со своей дружиною.
– Ну, вот, – поглядев им вослед, удовлетворенно кивнул Ремезов. – А вы говорили – прятаться.
Больше на всем пути не встретился никто, если не считать одного кабана и пары зазевавшихся зайцев, одного из которых Митоха тут же взял на стрелу, второй же, петляя, умчался.
Заночевали в овражке. Разложив небольшой костерок, сварили зайца, подкрепились, заварили сбитню, да, устроив один шалаш на троих, полегли себе спать. Проснувшись с промозглым рассветом – угли в костре еще тлели – поехали дальше.
Уже потянулись знакомые места – засыпанные снегом поля, луга, рощицы… а вот и речка, а за ней, на холме – Заболотица, усадьба.
Завидев показавшихся всадников, дернулся в надвратной башенке часовой, ударил в било. Распахнутые наполовину ворота тут же закрылись, и Ремезов улыбнулся:
– Молодцы, а? Службу несут справно! Эй, на вратах, отпирай! Боярина своего не признал, что ли?
А вполне мог и не признать – этакого-то молодца в синем богатом плаще, с поясом золоченым – все княжеские подарки. Доспех кольчужный да шлем Павел, естественно, сейчас на себе не надел – их, вместе со щитом, вез, приторочив к седлу, Окулко. А вот мечом перепоясался, знатный был меч, уж хотелось им похвалиться.
– Ой! – свесившись, радостно закричал с башенки страж. – Господине! Эй, эй, отворяйте ворота, то господин наш, боярин!
Распахнулись ворота, на просторный двор усадьбы встречать выбежали все, да и из других изб потянулись.
– Слава боярину-батюшке! Слава!
Пуще всех кланялся тиун – рядович Михайло, за ним – вполне искренне – улыбался длинноволосый Демьянко Умник, да похоже, что все были рады – за несколько месяцев с момента «резонанса» Ремезов все ж таки кардинально поменял имидж. Был садист-страхолюдец, которого даже цепные псы боялись, стал – «боярин-батюшка», так сказать – слуга царю, отец солдатам. Истинно – батюшка, несмотря на младой – юный даже – возраст. Ну а как? Кто всем этим людям единственная защита и опора? Он! Заболотский боярин Павел.
Рады были и дружинники – Неждан, Микифор, Яков и прочие.
– Чтой-то ты задержался, господине. Схоронил батюшку?
Ремезов устало отмахнулся:
– У Окулки с Митохой спрашивайте – они расскажут. А ты, Михайло, вели-ка баню топить.
Тиун торопливо склонился:
– Посейчас прикажу, господине.
Попарившись в баньке, Павел расположился у себя в горнице и, позвав тиуна с Демьянкой, занялся тем, по мысли его, совершенно необходимым, делом, о чем подумывал уже давно. В людской давно уже дожидались молодые парни – Нежила, Микифор, Яков… пока только эти – два холопа и закуп. Эх, жаль, Гаврила погиб – ну да что уж.
Первым Ремезов вызвал Микифора – несмотря на молодость, этот смешливый светловолосый парень уже подавал определенные надежды – смелый, но осторожный и далеко не дурак. Павел еще по осени назначил его в десятники, и сейчас, разложив на столе всю «бухгалтерию», пристально рассматривал «холопскую грамоту», время от времени консультируясь с Демьяном. А тот уж сидел, как заправский клерк, только очков да компьютера не хватало.
– Микифор, Ждана Охотника сын, холоп по урождению, – отложив грамоту, негромко резюмировал Павел. – Отца с матерью, Микифор, насколько помню, у тебя нет?
– Нет, господине. Оба давно уж от лихоманки померли.
– Понятно, от гриппа, наверное.
– Не, господине, не от грибов – грибы-то они все знали, поганых бы не пробовали.
Несколько рассеянно Ремезов покачал головой:
– Ну, вот я и говорю – не от гриппа – от осложнений. Значит, ты у нас – холоп. – Боярин повернул голову: – Обельный, Демьянко?
– Обельный, господине, обельный, – важно подтвердил «секретарь». – О том и в грамотце-от сказано…
– Давай-ка ее сюда! – подмигнув Микифору, хохотнул Павел. – Это мы – в огонь, а новую – сладим. Ты, Демьян, пергамент-то приготовил?
– Приготовил, вона… старые записи все, как ты велел, счистил – хоть сейчас пиши!
– Так и пиши, чернильницу захватил – вижу. Ну? Чего ждешь?
Отрок хлопнул глазами:
– Так ведь – слов твоих, господине. Чего писать-то?
– Ряд, договор составляй – вон, с Микифором, Ждановым сыном… Все честь по чести, как принято.
Услыхав такое. Микифор со слезами бухнулся на колени:
– Не гони, господине! Чем я тебя прогневал? Не гони!
– Так я ж тебя не гоню, – хлебнув из большой кружки квасу, рассмеялся боярин. – Просто не холоп ты теперь – а рядович. О чем сейчас договор и составим.
– Прежде надобно от холопства освобожденье выписать, – подняв голову, заявил Демьян. – Ты же сам сказал, господин – честь по чести.
– Так выписывай, – Павел махнул рукой и жестом приказал Микифору подняться на ноги. – А в ряде отобрази – главное для Микифора Жданова дело – воинское, ратная служба. Ну и грамоте должен обучиться – на то ты гож. Учительствуй!
– Сполню, господине.
Высунув от старания язык, Демьянко Умник заскрипел пером, тщательно выводя буквицы:
– «В лето господне… седьмого дня…
Новоявленный рядович покинул боярскую горницу в совершенном расстройстве, поскольку не знал еще, что сейчас и делать – радоваться или, наоборот, плакать? С одной стороны, оно, конечно, от холопства обельного-то освободиться неплохо. Однако, с другой – за холопа-то господин думает и все решает – кормит, поит, обихаживает. Рядович – не так! Все по «ряду», а что сверх того – сам думай! Вот и болела теперь голова у Микифора… и Нежилы, у Якова… Яков закуп был – долг, «купу», боярин ему простил, а договор составил. Так и стал Яков – рядович, и тоже пока не знал – радоваться тому аль печалиться?
– Ну, вот, – покончив с последним договором, Ремезов встал с лавки и прошелся по горнице. – Дело и сладили.
Что характерно, половицы – горница располагалась на высокой подклети – даже не скрипнули, ну, еще бы, доски в те времена на пилорамах не пилили, просто деревья расклинивали, да потом обтесывали топором – оттого доска крепкая, увесистая выходила, такой запросто и медведя убить – ежели по звериной башке приложить да совсем старанием!
– Так язм пойду, господине? – подал голос тиун. – Завтра с утра бабам-челядинкам кудель прясть, так гляну, все приготовлю.
– Иди, – расслабленно отмахнулся Павел и, поглядев на «секретаря», добавил: – Ты тоже на сегодня свободен, Умник. Хотя… – молодой человек вдруг резко повернулся и сел, пристально взглянув прямо в глаза подростка. – Ты ведь у нас тоже холоп, кажется?
– Холоп, господине.
Ремезов решительно махнул рукой:
– Теперь тоже будешь по личному договору работать! Ну, что ресницами плещешь? Давай, грамоту на себя составляй. Что… не рад, что ли?
– Да нечему радоваться-то, батюшко, – с неожиданной решимостью возразил отрок. – Из холопей меня в рядовичи переводить – нету никакого смысла. Все одно ведь рано иль поздно в холопи вернусь.
Боярин недобро прищурился:
– Так-та-ак… поясни-ка, почему это? Ну, давай-давай, не стесняйся! В чем причина… есть ведь, а? Нехорошо от господина утаивать.
– Так язм, господине, и не утаиваю, а так… – Демьянко неожиданно покраснел аж до самой шеи. – Не ведаю, как молвить.
– Молви прямо! Ну!
Ремезов и сам уже заинтересовался – чего это с парнем происходит? Вроде не дурак, своим умом жить может… или просто так легче – рабом? Ну да – легче. Если хозяин не самодур и не извращенец.
– Девушка одна есть, отроковица, – засопев, наконец, признался Демьян. – В Заовражье, у одной вдовицы, холопка. Мы сей се летось в рощице познакомились – ягоды собирали, а язм еще и лозину на крылья присматривал.
– Ага, ага, – поерзав на лавке, Павел хитро прищурился. – Что замолк-то?
– Стесняюсь говорить, господине.
– О! Глядите-ка, какой стеснительный! Ладно, – усмехнувшись, Ремезов потер руки. – Не хочешь говорить, не надо. Я сам за тебя расскажу. Познакомились вы, значит, в лесу, потом стали встречаться – бегать друг к дружке – то ты к ней, то она к тебе… Девчонку-то как звать?
– Лера… Валерия…
– Ка-ак?
Боярин чуть квасом не поперхнулся – вот так имечко! Для смоленской – тринадцатого века – глубинки весьма не характерное. Это ж надо – Валерия! Словно в Риме древнем… Постой-ка…
– Постой-ка! – Павел прищурился. – Откуда такое имя?
– Хозяйка так назвала. Госпожа, ну, вдовица… женщина ученая, своевольная, правда.
– А вдовицу-то ту случайно не Клеопатрой зовут?
Демьянко тряхнул головой:
– Не, не Клеопатрой – Марьей Федоровной.
– Так-та-ак… – вспомнив знойную вдовушку с медно-змеиными волосами – кстати, любовницу «Битого Зада» – задумчиво протянул Ремезов. – Значит, вот как твое имечко, Клеопатрушка.
– Что, господине?
– Ничего. Говорю, девку за тебя высватаю, не сомневайся. Только… тебе лет-то сколько?
– Тринадцатое лето прошло, господине.
– Тогда рано еще тебе жениться! Или… что-то меж вами было уже?
– Не, господине, – привстав, отрок истово перекрестился на висевшую в углу икону. – Ничего не было, не целовались даже – как можно?
– Да можно, – Павел не выдержал, рассмеялся. – А ты ходок, как я погляжу, Демьянко! Красивая хоть девчонка-то?
– Очень! Глаза – синие, словно васильки в поле, ресницы – лесом, золотая коса…
– Ого! Да ты поэт, парень. Ну, не сейчас, так потом женишься. Так Валерия твоя холопка, так?
– Обельная… – подросток поник головою. – А по закону, холопство обельное твое – и кто поимет рабу без ряду да на том и стоит.
– Ладно, не бери в голову, – Павел потрепал «секретаря» по плечу. – Не завтра тебе и жениться, а со временем – придумаем что-нибудь. Пока же – «ряд»-то на себя пиши!
– Пишу, боярин.
Честно сказать, Ремезов сильно надеялся на этого очень даже неглупого парня, куда больше, чем на тиуна – уж тот-то себе на уме был, сие даже в глаза бросалось. Не то, что Демьянко – человек исполнительный, умный, надежный…
Ладно! Ежели что, так надобно будет сговориться со вдовушкой… кстати, повод навестить появится, надо же с соседями отношения налаживать! Ишь ты – Марья Федоровна… Ладно.
– Она и посейчас здесь, – подняв глаза, неожиданно промолвил отрок.
– Кто здесь? – не понял Павел. – Вдовица?
– Не, не вдовица, господине – Валерия. Дело, говорит, у нее к тебе… у хозяйки.
– Так-так-так! – боярин вскочил с лавки. – А что ж ты раньше молчал?
Подросток повел плечом:
– Так у нас тут, чай, дела поважнее были.
– Оно и правда, – подумав, согласился Ремезов. – Так вот кто тебя смутил… Ну, что ж, с важными делами мы на сегодня закончили, так что давай, зови посланницу, зови.
Девчонка и в самом деле оказалось вполне симпатичной, приятненькой, правда, слишком уж еще юной. Васильково-синие, как и говорил Демьянко, глаза, коса золотистая из-под платка теплого шерстяного, овчинка бедноватая, да зато с разноцветными ленточками, на ногах лапоточки новые.
Вошла в горницу – бухнулась на колени, и Демьянко с ней – рядком. Впрочем, парня боярин выгнал, девчонку же усадил на лавку, квасом напоил, а потом уж спросил – что за дела к нему у госпожи Марьи Федоровны?
– Важные дела, господине, – девчонка, встав, поклонилась. – Госпожа тебя в гости к себе на усадьбу зовети.
В гости? А что ж, неплохая идея, к тому же на улице еще и не начинало темнеть.
Усмехнувшись, Ремезов выглянул в дверь:
– Михайло! Вели коня готовить… и пару конных слуг.
Завражье не так уж и далеко от Заболотицы находилось – верхом пара-тройка часов, Павел не заметил, как и приехали. Хозяйка заовражной усадьбы ждала на крыльце, видать, давненько уже выглядывала гостя. Завидев, разулыбалась, впрочем, тут же придала лицу вполне кроткое выражение.
Взбежав на крыльцо, молодой человек вежливо поклонился – здравствуйте, мол, Марья Федоровна.
Женщина поклонилась в ответ:
– Добро пожаловать, гостюшка дорогой, не знала уж, когда и заглянешь – пришлось самой гонца отправлять.
– Ничего, госпожа Марья Федоровна, – лукаво прищурился Павел. – Как бы я без приглашенья явился-то?
– А и явился бы, так и ничего, – сделав гостеприимный жест, вдовица посторонилась, приглашая Ремезова войти в горницы, натопленные таким жаром, что молодого боярина сразу же бросило в пот.
– Жарковато у тебя, хозяюшка.
– А ничего, – войдя следом, засмеялась Марья Федоровна… пожалуй, и просто – Марья. – Жар костей не ломит, а посейчас слуги и хмельного кваску принесут. Хлебнешь, боярин, с дороги-то?
– А и хлебну.
Павел заметил, как чуть заметно дрогнули длинные, черные, как смоль, ресницы…
– Хлебни, хлебни, гостюшка дорогой. И угощеньица моего отведай.
– Отведаю… – невольно обернувшись, гость глянул на слюдяное оконце – уже начинало смеркаться. – Недолго и посижу, темень скоро.
– А куда тебе спешить? – засмеялась вдова. – Домой затемно все равно уже не успеешь… Да и куда тебе на ночь-то глядя – ночуй.
– Что ж… – Ремезов повел бровью, бросив на собеседницу столь многообещающий взгляд, от которого ту прямо-таки бросило в дрожь.
– Ах, боярин, – выпроводив слуг, Марья подвинулась к гостю ближе, прижалась – плечом к плечу. – Если б ты знал, как я тебе ждала! Старый-то черт Онфим с той поры… ты знаешь, с какой… и носу не кажет. Да и не нужен он! Ах… какие у тебя очи, чудные, право, чудные… особенно, когда ты вот так смотришь…
– Как этот – так? – обнимая женщину, прошептал Павел.
И, не говоря уже больше ни слова, поцеловал в губы.
Вдова отозвалась на поцелуй с таким пылом, что, казалось, в горнице стало еще жарче. Ох, ка-ак она целовалась! Да и молодой человек не терял времени даром – погладив хозяюшку по спине, рассупонил, снял красного аксамита платье, спустил с левого плеча рубаху, обнажив грудь – белую, точеную, упругую, с коричневым твердым соском, который тут же ухватил губами…
Марья застонала:
– Ах! Вон, видишь – дверь… Опочивальня.
Подхватив женщину на руки, боярин отнес ее на ложе, и, обнажив, принялся целовать страстное, готовое к любви и него, тело. И, поспешно сбрасывая одежду, сам невольно залюбовался. И было ведь – чем!
Чуть припухлые, волнительно приоткрытые, губы, зубки жемчугом… антрацитово-черные волнительные глаза, сахарно-белые плечи, упругая грудь, точеное, словно у греческой статуи, тело…
Горящий нетерпением взор. И томный, едва слышный, шепот:
– Что ж ты стоишь, боярич? Иди…
И в самом деле – чего было ломаться-то? Оба совершенно точно знали, чего именно друг от друга хотели. Того самого… зачем, Павел, собственно, и явился, зачем его Марья-вдова и звала.
Жар соприкоснувшихся тел, казалось, вспыхнул, едва не взорвался молнией… Марья обняла молодого человека за плечи, а тот ее – за талию, и вот уже… и вот уже мир вокруг перестал существовать, проваливаясь в томительно-сладкую негу… Лишь томные взоры, лишь тяжелое прерывистое дыхание, лишь стон… сперва – еле слышный, а потом…
Нет, не на всю избу, но…
А кого стесняться-то? Слуг, что ли?
Действительно – кого…
– Как ты хороша, Марьюшка! Как красива!
– И мне с тобой хорошо, боярич. Хоть и знаю – не суждено нам никогда мужем-женой стать. Так, в полюбовничках, и будем.
– Это плохо?
– Не знаю. Мне пока – хорошо. Правда – грех… Но от того, знаешь – слаще! И ты такой… я еще ни с кем так вот, хотя и постарше тебя…
Ага, кто бы говорил – постарше! Однако все же Ремезов ощущал в любовных дела и того… студента-француза, самоубийцу с Данфер Рошро. Неужели тот и вправду разбился? Жаль. С таким-то знанием женщин. Он, верно, не литературе, а медицине учился.
– Ох… Греховодник!
Женщина выгнулась, вскрикнула, всколыхнулась, но – Павел это прекрасно чувствовал – было ей очень и очень приятно.
– Еще, еще… ну же…
Он что, железный, что ли? Ну, раз женщина просит…
– А ну-ка, повернись…
– Ой… не зря я иконку тряпицей завесила.
– Грешница!
– Кто б говорил… Ничего! Сладкий грех и замаливать сладко.
Погладив любовницу чуть пониже спины, молодой человек тихонько рассмеялся:
– Так, если разобраться, никакой это и не грех вовсе. Я так понимаю: грех – это когда кому-то плохо. А мы с тобой кому плохо делаем? Уж точно – никому. Разве что позавидует кто.
– Если узнает.
– Узнает. Ты вот покричи громче – поди, все твои служанки под окнами и у двери собрались…
– И пусть!
– Ну, так кричи, кричи же – стесняться некого!
Ах, как это было… Просто незабываемо, вот ведь, Ремезов и представить себе не мог, чтоб в эти ханжеские века – и вот так…
Потом, утомленные любовью, пили квас и пиво, прихваченное с собою Павлом. Хорошее оказалось пиво – свежесваренное, правда, по градусам хмельному квасу уступало заметно.
Напившись, Марья прильнула к ремезовской груди, погладила:
– Завтра уедешь?
– Угу. Поутру, рано. Мне еще рать собирать.
– Татары?
– Они.
– Брр! – несмотря на жару, женщина зябко поежилась. – Как представлю, что эти поганые нехристи сюда к нам заявятся…
– Не заявятся, – успокоил Павел. – Что им тут делать-то? Взять-то нечего, да и леса кругом… Вот Ростиславль пограбить, Смоленск – то другое дело.
– Ха-ха, – Марья неожиданно засмеялась. – Выходит, мой бывший полюбовничек зазря в Смоленск подался?
– Ты про Телятникова? – насторожился молодой человек.
– Про него.
– Тогда напрасно беспокоишься, он не от татар, он кляузничать поехал.
– Чего делать?
– Наушничать, доносы писать. Тот еще политик!
– Да уж, политик, – как ни странно, это слово вдовушка прекрасно поняла, и даже продолжила: – Доносы, интриги… Прям как у Аристотеля – афинская полития.
Вот тут уж Павел вздрогнул:
– Ты что же, Аристотеля читала?
– Священник, отец Ферапонт, рассказывал, уж он-то муж ученый, греческий знает, латынь. Да ты еще в прошлый раз дивился, когда я Цезаря поминала. Нешто за сельскую дуру меня считаешь?
– За сельскую – да, – честно признался Ремезов. – Но – не за дуру. Отнюдь! Кстати, забыл спросить – как детушки-то твои? Поздорову ли?
– Слава господу, поздорову, – Марья улыбнулась. – Нынче в лесах, на заимке – с верными слугами на охоту отправились, ужо чего запромыслят.
– А я подарочек припас… Соли кружок.
– Соли?! – встрепенувшись, женщина посмотрела на любовника с таким недоверчиво-изумленным видом, словно он только что предложил ей французскую корону.
– Соль, да, – Павел поднялся с ложа с самым довольным видом, пошарив в суме, вытащил аккуратно завернутый в тряпицу кружок. – Будет дичь, так засолите. Ну, или рыбу.
– Спаси тя Бог, – тихо поблагодарила вдова. – Вот уж поистине – княжеский подарок. Не знаю, чем и отблагодарить.
– Уже отблагодарила, – цинично признался молодой человек.
И в ответ услышал подобное же:
– Скорей ты меня.
– На зависть слугам!
– На зависть. Вот что, милый… – Марья неожиданно уселась на ложе с несколько нервным видом – если б в те времена здесь был известен табак и существовала мода курить – так и закурила б. Так, слегка успокоить нервишки.
– Я ведь тебя, боярин, не только для-ради сладострастия позвала… хотя, чего уж греха таить – и за этим тоже. Предупредить хотела.
– Предупредить? – Павел вскинул глаза. – О чем?
– Не о чем, а о ком. Сам уже, наверное, догадался.
– Телятников?
– Он. В Смоленск он не один, с верными людьми подался – у старого дуба тебя поклялся отомстить. Людишек своих к тому готовит.
– Ха! – Ремезов расхохотался с самым беспечным видом, хотя, конечно, и был взволнован известием, но виду не показал – зачем зря беспокоить женщину? Наоборот:
– Так тот дуб – языческий, а мы-то все – христиане. Разве христиане языческим божкам, идолам поганым, клятвы дают?
– Бывают, что и дают, – хмуро промолвила Марья. – Ты все же пасись. Ох, боюсь я за тебя, Павел! Ладно… что это мы о грустном? А ну-ка, пива испей! И обними меня… крепче… Теперь – целуй в губы, как ты умеешь… аххх…
В Смоленск, подобно неудержимым весенним ручейкам, стекались, блестя кольчугами, рати. Из ближних пригородов, из дальних вотчин, деревень, сел – шли пешие ратники с рогатинами на плечах, поспешали всадники в сверкающих шлемах, тянулись обозы с припасами: запасами стрел, шатрами и всем тем, что может понадобиться в битве. А битва ожидалась страшная – слухи о зверствах «мунгалов»-татар растекались половольем по всем русским землям, от Чернигова и Рязани до Новгорода и Полоцка. Мол, явилися из далеких степей неведомые страховидные люди, и несть им числа. Кто называет их – мунгалы», кто татарами кличет, впрочем, много средь них и тех, кого все хорошо знали – те же половцы, булгары, бродяги-бродники, даже, говорят, черниговский отряд.
Разное говорили, соглашаясь в одном – войско «мунгальское» – огромное, мощное, и ведет его царь Бату-Батый, знаменитого Чингисхана внук. Не щадят никого – ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей малых. Кого не убьют, так в полон возьмут, угонят в рабство, а землю – разорят, пожгут, пограбят.
Вот против такого разора и собирал смоленский князь воинскую рать, что должна была защитить город. Надеялись… и на людей, и на стены… правда – не шибко, понимали – и получше укрепленные грады не устояли, куда уж тут… Однако не сидеть же сложа руки, супостата дожидаясь?
Смотр собранному войску самолично старый князь Всеволод делал, а с ним – старые ремезовские знакомцы: князь молодший Михайло Ростиславич да Емельян Ипатыч, воевода.
Разномастные собрались ратники – кто (таких мало) в кольчуге, да при шлеме с бармицей, кто – в кожаном, со стальными бляшками, панцире, большинство же и вовсе без всякой защиты – ополченцы-смерды – в лучшем случае – рогатина, ну а так – дубина. Хмурился князь, икоса на свою дружину поглядывая – вот уж там-то молодец к молодцу, все на сытых конях и вооружены отменно – из того самого «дальнего амбара», где заболотский боярин Павел подарок себе выбрал.
Выбрал, да… Потому сейчас и выглядел не хуже княжьих – в кольчужном доспехе, в плащике алом, на поясе добрый меч с длинной «рыцарской» ручкою, на голове – шлем с бармицей, с полумаскою. Позади «дубинушка» Неждан – в оруженосцах. Тоже верхом, да, кроме своего оружья – секиры да палицы – еще и господское копье, и червленый щит треугольником, а на том щите – крест православный святой. Нравился сам себе боярин – рыцарь, как есть рыцарь! А меч так и прыгал в ножнах, словно бы норовил влезть, прыгнуть в руку – и бить, бить, крушить. Что и говорить – очень агрессивный клинок попался, княжий подарок. Еще и запасной, Даргомысла-кузнеца, меч имелся – у Неждана к седлу приторочен, мало ли – пригодится.
Окромя самого боярина с оруженосцем, еще в заболотской рати смешливый да умный Микифор – в десятниках, да Нежила, да Яков, да закуп Ондрейко с Выселок, да много иных – всего ж набралось пара дюжин, да и тех едва удалось снарядить – с землицы-то доходов маловато, чай, не именитый вотчинник, а так, «шляхтич загоновый вольный слуга».
В небе из-за облачков бежевых солнышко проглядывало, светило. Снежок легонький на просторный двор княжий падал, на плечи ратников, на коней, на воевод бравых. На самого старого князя не падал – тот на крылечке, под навесом, стоял.
Реяли гордо стяги, покачивались разноцветные бунчуки: не красоты ради – сигналы в бою подавать. Для той цели и барабаны половецкие, и рога-трубы. Издалека посмотреть – славное собралось войско – молодец к молодцу, но, как вблизи глянешь… пешие ополченцы не окольчужены, секиры да рогатины и то не у всех. И все ж чувствовалась в войске решимость за землицу свою постоять.
– Ну, ин ладно, – еще разок оглядев войско, старый, похожий на Ленина, князь Всеволод Мстиславич устало махнул рукою, да к племяннику троюродному, обернулся. – Давай, Михайло, командуй, распоряжайся. Надо и детинец прикрыть, и вылазку сделать.
Младший князь приосанился:
– Сделаем, дядюшко.
– Ипатыч, да все прочие воеводы тебе помогут.
– Инда так.
Перекрестил Всеволод Мстиславич войско, сам перекрестился, да скрылся со свитой в хоромах. Михайло же с воеводами тотчас же приступили к делу. Еще раз – уже более подробно – провели перекличку. Тимофей, дьяк княжий, с помощниками пометочки в грамотцах берестяных сделали – кто как вооружен, да у кого сколько людишек.
Как все закончилось, дородный воевода Емельян Ипатыч рукой Ремезову помахал – подойди, мол. Бросив поводья коня Неждану, Павел подошел, поклонился вежливо:
– Звал, Емельян Ипатыч?
– Звал, звал. Мне как раз такой, как ты, нужен – резвый.
– Резвый? – заболотский боярин хлопнул ресницами. – А что, ехать куда придется?
При этих словах воевода расхохотался, колыхаясь всем телом, верно, так хохотал бы кит, умей он смеяться:
– Придется, придется, уж так. Князь Михайла передовой отряд сбирает – вот и ты с людишками твоими – туда. За Протокой войско татарское видели, не все, а так, отрядец вроде.
– Вроде?!
– Вот вы и посмотрите – что там да как?
Сразу и выехали, впереди, в авангарде – Павел со своим отрядом, а уж за ним – основная рать во главе с Михаилом Ростиславичем. Конные, пешие: блестят на солнце шеломы; кольчуги, подпруги звенят, колыхаются наконечники копий.
И вот уже остался позади огромный раскидистый храм Святой обители на Протоке, ступенчатый, с широкой галереей и двумя приделами-храмиками. Дальше зимник, как водится, шел по реке, в чем юный князь сразу же увидел опасность, отправив авангард Ремезова влево, на высокий, поросший редколесьем, холм.
Трудно было вздыматься – кони вязли в снегу, пришлось бросить да идти дальше пешком. Верба с красноталом-брединою остались внизу, пошли липы и клены, за ними – сосна, ель. Там, в ельнике, и остановились – на вершине холма. По сторонам глянули…
– Ох ты ж, Господи, мать честная! – не выдержав, промолвил Неждан. – Сколько ж их тут! Как саранчи…
Павел нервно поскреб подбородок – с высоты хорошо видно было растянувшееся в низине – верстах в трех – войско. Огромное, оно ползло толстой змеей, ядовитой гадиной, играя на солнце отблесками оружия и доспехов. Хвост гадины терялся меж дальних холмов в синей туманной дымке, голова же быстро приближалась – уже хорошо можно было рассмотреть разноцветные бунчуки и копья.
– Митоха, Яков – остаетесь здесь. Наблюдайте! Если что – шлите гонца, – быстро распорядился Ремезов. – Я же доложу князю.
Спокойно выслушав доклад, Михаил Ростиславич тут же послал пару сотен на холмы – контролировать ситуацию, и, если что – навалиться в самый последний момент, ударить, отрубить ползущей гадине голову.
Основные же силы спешно выстроились поперек реки – от берега к берегу – никакой иной дороги тут не имелось.
– Ничего, – выхватив меч, князь подмигнул Павлу. – Тут их и встретим – никуда не денутся. Да и не обойдут – холмы, а там – наши люди.
– То так, – согласно кивнул боярич. – Но больно уж их много.
– Ничего… – снова повторил князь, вглядываясь в излучину, откуда – вот-вот уже – должны были появиться враги.
И они появились. Возникли, словно б из ничего, будто бы привидение, морок. Тускло сверкало на кожаных латах солнце, играло на стальных шлемах, на палицах, на обнаженных саблях…
Дернулся синий бунчук… Наконечники копий упали вниз, вытянулись плотоядно, словно тысячи ядовитых жал, и в нетерпении задрожали – скорей бы, скорей – испить вдосталь кровушки, ворваться, пронзить живое трепещущее тело!
– Щиты – вверх! – полетел по шеренгам ратников приказ молодого – но уже весьма опытного – князя.
И правда – сейчас – вот сейчас! – уйдут в небо тучами стрелы, взовьются и упадут смертоносным дождем, как всегда и бывало.
– Лучники… – снова прошел приказ. – Стрелы готовь!
Павел прищурился – еще посмотрим, кто кого, еще поглядим… Жаль, конечно, что он не был сейчас со своими людьми – просто не успел к ним вернуться, что ж… Все дрожало! И руки, и губы… Но страха не было – лишь злое нетерпение: ах, тварюшки, явились на нашу землю? Тогда уж получите по полной.
Не было больше ученого, исчезли без следа и французский студент с комсомольцем, остался лишь молодой боярин Павел Петров сын Заболотский. Смолянин. Русич. Ратник.
Колыхнулся в левой руке алый, с белым драконом, щит, упало на клинок солнце… Ну! Идите же сюда, супостаты! Ищите свою смерть. Скорей же!
Дернулся в стане врагов белый бунчук… Поднялись копья. Застыла татарская рать… Что такое?
Шагов пятьсот не дошли, всего-то… Видно, удумали какую-то злую хитрость.
– Ой, гляньте-ка – скачет!
Из вражьих рядов выехал тяжеловооруженный всадник – конь его был прикрыт латами из тонких железных пластинок, такие же латы имелись и на всаднике, на груди же золотом сверкало зерцало, качались над стальным шлемом красные перья. Всадник ехал один, не спеша… парламентер, что ли? А похоже на то! Вот, не доехав, спешился. Выхватил из ножен тяжелую саблю… бросил в снег! Отстегнул скрывающее лицо бармицу… снял шлем.
Улыбнулся широко… рассыпал ветер темные, с рыжиной, волосы – целой копною…
– Господи… – еле слышно прошептал Ремезов. – Ирчембе-оглан!
– Что такое? – все же услышал князь.
– Знакомец старый.
Михайло Ростичлавич тоже снял шлем:
– Что ж, поглядим, что твоему знакомцу надо. Он по-нашему-то говорит ли?
– Очень хорошо, княже.
Степной рыцарь, подойдя ближе, вежливо склонил голову:
– Я – Ирчембе-оглан, багатур степей, желаю говорить с вашим воеводой. Не от своего лица, а от князя и темника Орда-Ичена.
– И что же хочет твой князь? – назвав себя, осведомился Михайло. – Смоленск?
– Нет, – покачал головой посланец. – Смоленска не хочет. И великий хан наш Бату войны с вами не ищет, ибо завещана монголам иная дорога – на Запад, к последнему морю.
Ремезов усмехнулся – хорошо говорил степной рыцарь, образно, можно даже сказать – поэтически.
– Дозволь спросить, князь, – еще раз улыбнувшись, Ирчембе-оглан, наконец, перешел к делу. – Вы – рать смоленского князя Всеволода?
– Да, – не стал вилять Михайло. – Так оно и есть.
– Тогда вы-то нам и нужны! – неожиданно расхохотался посланник. – Я и мой князь Орда-Ичен явимся с вами в город.
– Добро, – княжич склонил голову. – Переговоры будете вести?
– Нет. Просто заберем с собой всю смоленскую рать.
Ирчембе-оглан глянул на русских воинов с таким довольным видом, словно это было его, личное войско. Похоже, батыр степей в этом нисколечки не сомневался.
– Что это он говорит-то? – тихо спросили позади Павла. – Нешто князь рать им отдаст? С чего бы?
– Отдаст, – не поворачивая головы, прошептал Ремезов. – Лучше уж малой кровью обойтись, откупиться, чем все княжество под монгольский меч поставить. Новгород вон – откупился, и в ус не дует.
– У Новгорода богатство немереное…
– А у нас – рать смоленская! Нужны мы монголам, выходит.
Глава 10
Честь и кости
Февраль 1241 г. Польша
Орда-Ичен, прозываемый на Руси Урдюем, в Смоленск удачно зашел, захватив с собой в «западные земли» не только рать молодшего князя Михайла Ростиславича, но и воинов неведомо откуда взявшегося литовца Аскала. А кроме того, имелись в монгольском войске и половцы, и булгары эмира Гази-Бараджа, пришедшие с Бату-ханом с Итиль-реки. Кого только не было, теперь вот – и русские – смоленская рать!
Во исполнение завещания великого Чингисхана – «дойти к последнему морю» – Бату и Субэдей наступали через галицкие земли в Венгрию, Орда-Ичен с Кайду и Байдаром, прикрывая северный фланг, направились через Волынь в Польшу и дальше, в Моравию и – может быть – даже в германские земли: ликвидировать военную опасность и повернуть на юг, на соединение с главными силами.
Все это Ремезову поведал Ирчембе-оглан, верный соратник Орда-Ичена, и, честно говоря, Павла отнюдь не обрадовал – до Субэдея-то еще было примерно как до луны пешком. Правда, шли обе рати примерно в одном направлении – на запад, и все же должны были когда-нибудь встретиться… Только вот – когда? И все ли доживут до этой встречи? Да, и еще одно тяготило молодого боярина – на протяжении всего похода придется (уж никуда не денешься!) убивать, а проливать кровь очень уж – до тошноты – не хотелось, и как эту дилемму разрешить, Ремезов пока не представлял. Не рваться в бой? Так сочтут трусом, и поделом. Не-ет, этот путь тоже был неприемлем, пацифистов в этом мире не уважали, а война и кровь считались обычным – и даже наиболее приемлемым – способом решения политических дел.
Кроме таких вот моральных аспектов еще никак нельзя было забывать и о личных врагах – о боярине «Битом Заде» Телятникове, о – чтоб им ни дна, ни покрышки – братьях. Вполне могли подослать своих злодеев: незнамо, как братцы, а уж Телятников-то – наверняка, не зря Марья Федоровна-вдовушка предупреждала. Ах, Марья, Марья…
– О чем задумался, друже боярин? – поправив стягивающий волосы тонкий золоченый ремешок, осведомился Ирчембе-оглан.
Нынче вечером в шатре сотника играли в кости, народу набилось много – в основном монголы да булгары, но были и русские, само собою – бояре, кто б простолюдинов к шатру подпустил?
Князь Михайло тусовался, как ему и положено, с высшим командным составом – Орда-Иченом, Кайду и Байдаром, с ними и непонятный литовец Аскал – тоже ведь князь… вроде как. Кунигас – так он себя именовал, и вид при этом имел весьма надменный – разговаривал со всеми нехотя, слугам приказы сквозь зубы бросал.
– Так, о своем, – Ремезов взял переданный стаканчик, потряс, метнул кости… Не повезло, как бы плащ не проиграть!
Эх, Митоху бы сюда – враз бы всех обчистил. Нельзя, не боярин Митоха, так – голь-шмоль перекатная, по-блюзовому говоря – хучи-кучи-мен.
Вот, снова это выражение – хучи-кучи… Не очень-то Ремезов любил блюз, да и рок-н-ролл не жаловал, так, вообще музыку редко слушал, да и то, только то, что нравилось, и в самых разных жанрах: Ободзинского, Джо Дассена, Высоцкого, «Битлов», немного «Лед Зеппелин».
Откуда ж это словечко-то? Хучи-кучи… Точно – не от «комсомольца». От студента-французика? Скорее всего.
– Ты умный человек, боярин Павел, – подсев ближе, негромко произнес Ирчембе-оглан. – Да-да, не возражай, умный. Я вижу, как ты играешь. И, знаешь, хочу рекомендовать тебя моему славному господину Орда-Ичену… для важного и почетного дела… И опасного! Но оно того стоит… чем быть одним из многих, такому оглану, как ты, лучше возвыситься. Как говорится – добрая осень лучше трех весен, а тебе, чем таскаться в обычном войске, куда выгоднее заняться разведкой.
– Да что ты!
Павел замахал руками – вот только этого ему еще не хватало – на монголов шпионить! И так-то, считай, продался… почти. Как и молодший князь. Хорошо, не за злато-серебро – за родную землицу, что, наверное, все же хоть как-то оправдывает присутствие смоленской рати в монгольской орде.
– Нет, нет, ты не отказывай сразу, Павел-оглан, подумай… подумай сам, как лучше проникнуть, как сладить все. Впереди Сандомир, Краков, моравские и немецкие города, Венгрия и… быть может… Италия, а там – кто знает? Весь мир! Ты можешь достичь многого, заслужив благоволенье самого великого хана! Подумай, друг мой Павел, подумай хорошо.
– Давай-ка лучше кости бросать.
– Ладно, давай. И все же я еще вернусь к этой беседе. Обязательно вернусь. Эй, слуги! Вина сюда, арьки!
Поначалу играли молча, но вот хлебнули очень даже неплохого монгольского винца из сушеных ягод… и завязалась-пошла беседа, причем, похоже, что все собравшиеся понимали друг друга плохо – через пень колоду, хотя вроде бы язык-то у них должен быть один – тюркский… Хотя какой там у монголов тюркский? Правда, сам Ирчембе-оглан – найман, христианин даже, правда – еретик, несторианин… впрочем, Ирчембе-то как раз понимал все отлично, много языков знал – полиглот, однако. Иногда – очереди кости метнуть дожидаясь – переводил тихонечко Ремезову на ухо:
– Вон тот, с бритой башкою, булгарин, рассказывает, как не так давно – лето-два назад – приезжал к ним в Булгар урусутский князь Ярослав Вы-се-во-ло-дыч… С богатой казной приезжал, подарки дарил царевичу Кутлу-Буга, наместнку Угэдея, хана великого. Гази-Бараджу, эмиру булгарскому, хитрому, как тысяча лисиц, тоже досталось из тех даров – четверть. Ярослав князь даже голову себе сбрил и побрил наголо голову – в знак покорности, и дань вот, привез… хоть никто его и не просил – Кутлу-Буга с эмиром удивлены были безмерно.
Князь Ярослав… папа Александра Невского, что ли?
– Друже Ирчембе, тот Ярослав… у него сын – Александр, да?
– Да, Искендер.
– Невским недавно за великую битву прозван? В Новгороде княжит?
– О великой битве не слышали, и о прозвище таком тоже. Грозные Очи – так его свои кличут, ибо жесток и себялюбив. Одначе помощи у нас просил против орденских немцев. Просил. Бату, хан великий, не отказал – отправил на днях тысячу. Эркин-нойон вчера приехал – рассказывал. А Ярослав, Искендера батюшка, хитер не меньше Гази-Бараджа. Обрился, подарки привез… Зачем? А затем – кто теперь среди урусутов главным – великим – князем будет. Я даже не сомневаюсь, и тебе не советую.
Павел только головой качал да помалкивал – вон оно, оказывается, большая политика-то как делается! И все совсем не так, как в учебниках школьных писано. Никакая Русь не «щит» супротив «монголо-татарских завоевателей». Какой там, к черту, щит – союзники, вассалы верные! Не все, правда, княжества – Даниил Галицкий, к примеру, люто монголов ненавидит и на Европу оглядывается, – но большинство…
Да и с учебниками понятно – там не история, а пропаганда. Не только в России, во всех странах так, французские почитать – так вообще уши завянут: славнейшая победа союзных войск на реке Альма. Крымская война, да… Англия, Франция и – за каким-то своим хреном – Пьемонт – против России. Победили, конечно… по многим причинам. Но стычка на Альме-речушке – никакая не «славнейшая победа» а так, мелочь… типа вот «Невской битвы». Кто сейчас ту Альму помнит? А французы вот даже мост в Париже назвали – Альма. Гордились. Как и мы, русские, Невской битвой… о которой никто из современников и слыхом не слыхивал. Да и Александр… «Святой благоверный князь Александр Ярославич, защитник земли русской» и Александр Грозные Очи – вроде как один и тот же человек… а личности – абсолютно разные. Все ж биография от жития святых отличается сильно. Скажи сейчас Александру, что он – защитник земли русской – удивился бы очень. Непременно уточнил бы, о какой именно земле речь идет. Не приведи, Господи, «рязань косопузую» защищать или, того хуже – черниговцев.
– Ага! Ага! – разволновался Ирчембе-оглан. – Ты смотри, как везет булгарину! Сам черт ему ворожит – всенепременно.
Погладив висевший на груди золотой крестик, сотник быстро прочел молитву «Христородице-деве» и тут же махнул рукой слугам:
– Арьку несите и еще вина! Хватит играть – пировать будем.
– Одно другому не мешает, оглан! – пряча довольную ухмылку, крикнул было везунчик-булгарин, да никто его уж и не слушал.
Оставив кости, гости со всем старанием налегли на так вовремя предложенное угощение, а главное – на выпивку, в коей в шатре Ирчембе-оглана недостатка не было. Ну, еще бы – он же монгольский боярин! И не из самых бедных рыцарь, всей степи – багатур. А выпить монголы любили, как ни боролся с этим еще сам Чингисхан – чтоб хоть в походах не пьянствовали – а все ж битву с зеленым змием проиграл вчистую. Никакая Яса не помогла!
Еще меньше месяца Павел был в этом походе, а уже заметил: пьянство среди монголов почиталось доблестью, по обычаю – все должны были пить, а кто не пил – тот очень подозрительный человек, либо больной, либо – сволочь. Ну, о-о-очень знакомое утверждение. После кумысной водки – арьки – и ягодной бражки – «вина», монголы очень любили лошадей, и – на третьем месте – великого хана. Никакого столь цветисто описанного в книжках всеобщего монгольского раболепия Ремезов что-то не наблюдал, скорее даже наоборот – даже знаменитая жесточайшая дисциплина оказалась вовсе не такой уж жестокой. «Если бежит из десятка один – казнят весь десяток, если десять из сотни – сотню». Ага, как же! Наказывали, конечно, не без этого, но чтоб вот так, за одного – десяток в расход пустить… Этак никаких сотен не напасешься, и все непобедимые тумены растают, как снег в солнечный мартовский день.
Нет, дисциплина, конечно, была – но вполне разумная, не столько на страхе держалась, сколько – на обычае, на уважении – ведь все, по сути-то, родичи, стыдно было подвести, не оправдать оказанного доверия.
Азартные игры, кстати, в походе тоже запрещены были, за них наказывали… простолюдинов. И правильно, нечего мужика бесом тешить, игра – она исключительно благородных мужей дело, ибо для благородного деньги, богатство – ничто: пыль, мусор, сухай ковыль степная – подул ветер – и нет. Главное не богатсво, а честь!
А вот простолюдину скопить денюжку – все дело жизни. Подлое и глупое. Ну, так ведь никакой чести-то у подлых сословий по определению нет, да и быть не может, откуда – что они, бояре, рыцари, степные богатыри – огланы? Так уж от Господа испокон веков повелось: благородным – честь и слава, «подлым» простолюдинам – презренный металл. Каждому свое – так-то!
– На, друже, Павел, испей! – хозяин шатра самолично протянул Ремезову большую пиалу – ярко-голубую с белым орнаментом.
Боярин все сделал по обычаю, как тот же Ирчембе-оглан и учил: принял пиалу достойно, двумя руками, кивнул, поблагодарил. Выпил, не поморщившись, хоть арька – так еще дрянь…
Улыбнулся:
– Доброе вино!
Так было принято говорить.
– Доброе!
Пошла чаша по кругу, пошли разговоры, шутки-прибаутки, смех. Ну, и похвальба, как же без этого?
– А вот я намедни…
– А мы с огланом…
– Выпил целый бурдюк…
– Три дня пили…
– Проснулся, думаю, – где?
– Там, в овраге том, и уснули…
– Пошел коня искать…
– Эге, ну как же! Глупая голова – враг ногам.
Кстати, – вот тоже монгольская пословица-поговорка. Как и следующая:
– Пеший конному не товарищ! Так ты, Кергенчей, отыскал коня-то?
– Отыскал. В ивняке, за оврагом.
– А, вон он куда забрел.
– Да, туда.
Дальше пили уже без всякой очереди, кто чего и сколько мог, да и не слушал уже друг друга никто, каждый про свое болтал, подвигами да пьянством бахвалился. Даже бритоголовый булгарин – и тот туда же, а еще мусульманин, да!
Ирчембе-оглан снова подсел к Ремезову:
– Не забудь, боярин, завтра твоему отряду в дозор.
Павел улыбнулся:
– Да помню.
Не то чтоб сильно опьянел, но так… весело уже, хорошо было.
– Не стану тебя уговаривать от вина отказаться, не по обычаю то, – все же не отставал оглан. – Однако ж поосторожней будь. Арька – она дюже хмельная.
Ремезов и сам понимал, что вот все уже – хватит. Напился уже, посидел, пора и честь знать, тем более, действительно – в дозор завтра. Слава богу, хмельное никогда над ним власти не имело такой, как на многих – коль уж на язык попало, так туши свет, сливай масло. Ничего подобного! Умел Павел себя контролировать, никогда не напивался по-монгольски – в умат, себя не помня… ну, разве что в ранней юности, в общаге. Но то – другое дело, нынче же…
Нынче же – в дозор нужно. Завтра. Хотя нет – сегодня уже.
Все ж опьянел Павел, опьянел – вот она, коварная арька, да еще с бражкой ягодной намешал! Вроде в голове хорошо, а ноги не идут, заплетаются. Монголам-то что – взгромоздились на коней, да брюхом на гриву… лошадка, она сама дорогу знает. Вот и Ремезову бы на коне поехать… да не с руки – слишком уж близко. От Ирчембе-оглана шатра до становища его дружины – метров пятьсот, вряд ли больше. Однако и монголы не дальше – но все на конях явились, степняку без коня невместно, вот уж точно – пеший конному не товарищ… Пеший конному… а гусь – свинье!
Павла вдруг пробило на смех, непонятно – то ли с бражки, то ли с арьки – но пробило, да так, что все вокруг веселым казалось. И многочисленные костры, и сидевшие у костров воины, даже звезды – и те были смешные, веселые, что уж говорить о луне! Толстощекая, с лучистыми, заплывшими жиром, глазами, она хохотала так громко, с такой непонятной наглостью, что Ремезов, подняв голову, даже погрозил ночному светилу пальцем – мол, нечего тут, как лошадь монгольская, ржать!
Погрозил, да на ногах не удержался, запнулся, упал…
Вылетевшая из ночи стрела, скользнув мимо, ударила в ствол толстого, росшего неподалеку вяза, да так там и застряла, дрожа с такой неудержимой злобою, словно бы всерьез переживала свой промах, словно имела мозги… коварные, как у ядовитой змеи. Хотя… какие там у змей мозги!
Ничего не заметив, Ремезов поднялся на ноги, что неожиданно для него оказалось не так-то просто и потребовало недюжинных, прямо-таки цирковых, способностей. Ноги почему-то не слушались, разъезжались – и Павел еще пару раз падал… и снова не увидел мелькнувшей стрелы, и не слышал свиста… впрочем, она и не свистела, стрела-то, пущенная неизвестно кем. Снова ударила в вяз, на этот раз ближе к корням – задрожала…
Боярин снова упал. И так от того весело было – главное, голова-то ясная абсолютно, и звезды, и яркая насмешливая луна, и тишина вокруг – лишь слышно было, как перекликались иногда часовые, да откуда-то издалека доносилась протяжная монгольская песня, этакий бесконечный степной блюз – «еду, еду, еду я-а-а-а»… Нет! «Еду-еду» – это все-таки «Чиж и компания», а тут – степняки, монголы… Но слова, похоже, все те же – о чем еще петь кочевникам? Конечно же – еду, еду…
За овражком, в кусточках, таились в ночной тьме двое здоровых парней-оглоедов. Широкие плечинушки – косая сажень – морды одинаково круглые, на обоих парнягах – треухи, а глаза – у одного светлые, навыкате, у другого, как болотная жижа – зеленовато-карие. А вот бороденки одинаковые – реденькие, клочковатые, будто пух. Молодые парни-то, еще в полную взрослую силу не вошли. Лет по двадцать есть, верно, или больше чуток, самую малость. Мускулистые, сильные, лица вполне славянские, и, если б Ремезов их вдруг увидал, ежели разглядел бы, то уж точно отметил бы – печатью интеллекта не обезображены. Простые такие деревенские лица, добрые… относительно.
Вот один из парняг снова наложил на тетиву стрелу…
– Погодь, – тут же прошептал другой. – Дождись, покуда подымается.
– Э, не ори под руку!
– Кто орет? Я? О, глянь, глянь… встает… кажется. Эх! Упал! Вот ведь пьянчуга.
– Уж так. Недаром говорят – пьяным сам Бог помогает.
– Или – черт.
– Пусть тако… – лучник снова прицелился. – А вот пождем маленько… и…
– Тихо! – его напарник вдруг насторожился. – Кажись, идет кто-то. К нам – слышно! – идет.
– Да кому тут идти-то? Кто знает?
– А идет! Сам-то, глухая тетеря, не слышишь?
– Сам ты тетеря… А ну-ка, давай-ка мы туда – стрелу! Оп…
– Не! – второй перехватил лук. – Сейчас, дождемся, подкараулим… коли к нам – так имаем, а там… А там – видно будет!
Парни переговаривались шепотом, так что барахтавшийся в снегу Павел ничего и не слышал. Да и особо прислушивался, честно-то говоря. Не до того было – подняться бы, дойти б до рати своей. Ох, уж эти монголы-пьяницы… Да луна еще – ишь, ухмыляется, пялится.
– Ужо тебе! – приподнявшись, боярин погрозил луне кулаком и снова шлепнулся. – Ох, мать твою…
А таившиеся в кустах оглоедушки все ж дождались кравшегося в ночи гостя – едва тот подошел поближе к оврагу, выскочили, навалились, утянули вниз – все почти что бесшумно, по-взрослому.
– Ага, попался, гад! А ну, признавайся, почто за нами следил?
– Пахом! Карятка! – задергался, замычал пойманный. – Наконец-то вас отыскал. То я ж – Охрятко рыжий.
– Не особо-то заметно, что ты рыжий. Эва – ночь-то!
– Так ить луна, месяц…
– Я те дам счас, луна! А ну, говори…
– Тихо, Пахоме, постой. И впрямь ведь – Охрятко. Не видишь, что ль?
Оглоедушко присмотрелся, прислушался… и смущенно сдвинул на затылок треух:
– И впрямь – Охрятко!
– Дак, правда и есть. Я вам что твержу-то? – рыжий изгой выплюнул набившийся в рот снег. – Сноровку за вами шел – не замыслили б чего нехорошего! Так и есть – замыслили.
– Вражину боярина нашего замыслили смерти предать, – хвастливо приосанился Пахом. – Рази господине наш не то наказывал?
– То, да не то! – Охрятко усмехнулся и с осуждением покачал головою. – Хорошо хоть он меня с вами отправил, за бегство простив. А то б натворили вы… Ну, убил б сейчас Павлуху – и что?
– А что?
– А то! Отомстили б за батюшку-боярина нашего, спору нету, а потом что? Ну, убил Павлуху заболотского неведомо кто… Землица его – братцам старшим! А боярину нашему что? Правильно… вот это самое.
– Так что же…
– Сколь раз говорил вам уже! – зло зашептал рыжий. – Ославить Павлуху надобно. Мол, трус и предатель, а потом уж убить. Тогда Всеволод-князь – от мертвого – землицу его отберет. Ясно вам, дубинушки?
Парни переглянулись:
– Да ясно. Только ты это… не хорохорься, не то живо получишь по кумполу!
– По кумполу, ишь ты! – вконец разозлился прощеный изгой. – Забыли – боярин-батюшка Онфиме Телятыч меня за вами приглядывать послал. И вы меня должны во всем слушаться!
– Мы? Тебя? Так мы это… и слушаемся, как батюшко-боярин наказывал.
Досадливо сплюнув, Охрятко махнул рукой – чего зря с идиотами разговаривать? Им приказывать нужно.
– Вот вам моя указка – не мечите стрелы в Павлуху-боярина, лучше помогите-ка ему на ноги подняться да проводите до шатров, а то кабы в снегу не замерз, не помер бы раньше времени! Ну, что встали-то, чего вылупились? Идите уже, да потом, может, с Павлухой… – рыжий слуга вдруг осекся. – Ой, нет, нет в вас нужной хитрости! Самому б сейчас пойти, да нельзя – меня-то он на лицо знает. Ладно, до шатра его дотащите – и возвращайтеся.
Помощь неожиданно оказавшихся рядом доброхотов пришлась Ремезову весьма кстати. Подняв его на ноги, Пахом с Каряткою вежливо отряхнули боярина от снега и, подхватив под руки, поволокли к кострам смоленской рати.
– Вы кто ж такие будете-то, родные? – смеялся Павел. – И откуда взялись?
– Мимо шли. Тут глядим, господин – ты. Упал, верно.
– Упал, упал… Да все. Пришли мы, вон и шатер мой. Вы, я смотрю – русские, смоляне?
– Смоляне, господине, смоляне. Боярин нас в рать послал, сам занемог.
– Ах, занемог…
Добравшись, наконец, до своего шатра, Ремезов рухнул на брошенную поверх лапника – для тепла – волчью шкуру. Другой такой же укрылся – тепло, жарко даже. Спать что-то не очень хотелось, впрочем, куда-то идти – тоже. Спасибо, находился уже, не эти б парни – так до утра бы выбирался. Славные ребята. А боярин их – занемог. Так, кстати, многие делали, кому средства позволяли вместо себя наемную дружину отправить. Вот и Онфима «Битого Зада» Телятникова что-то видно не было, похоже, что тоже – занемог.
Чтобы заснуть – завтра все ж таки целый день нести службу – Павел принялся думать о чем-то приятном. О Полине, в те времена, когда их отношения только еще развивались, о работе, об эксперименте удачном… Да, уж точно – удачном, тут и говорить нечего. Как вот только с этой несказанной удачею обратно домой попасть? Так Павел и делал все, чтоб попасть. Вот, к Субэдею стремился – именно с этим монглом ведь у него резонанс… если, конечно, приятель-психолог расчеты верные сделал. А если – неверные? Если не выйдет ничего? Что же – придется тут всю жизнь оставаться? В тринадцатом веке-то! Господи… вот уж право слово, лучше уж было б – в Париже, на Данфер Рошро. Или там, где комсомолец… и девчонка его, так на Полину похожая. Впрочем, та, Полетт – тоже похожа очень. Даже на груди левой…
– Господин! Господине…
Боярин замычал, просыпаясь – кто-то тряс за плечо, а вокруг-то еще темень! Нет, все же сквозь откинутый полог шатра уже пробивался рассвет.
– Господине, в дозор нынче нам.
Неждан. Оруженосец.
– Помню я, что в дозор. Поднимаюсь.
– Господине, мы тут похлебку сварганили – поснедаем.
– Добро. Меч мой где? И конь?
– Готово все, батюшко-боярин!
Ремезов неожиданно для себя улыбнулся – а, может, и не так уж и плохо здесь? Там-то, у себя, в родной своей эпохе, «батюшкой-боярином» его вряд ли кто назвал бы.
Покушав мучной – с вяленым мясом – похлебки, Павел выстроил дозор в шеренгу: Митоха, Микифор, Неждан, Яков, Ондрейко – усы щеточкой – с выселок. Все молодцы – один к одному. Вооружены, правда, так себе – нет, рогатины, секиры, луки охотничьи – это у всех, Микифору Павел даже свой старый меч отдал, а вот кольчуги, шлемы – с этим туго. Вещи все ж таки недешевые, штучные, кольчужки у двоих всего, у трех – шеломы. Остальные, как есть, в треухах, в полушубках нагольных. Ничего! В бою все добудут, этакие-то молодцы!
В бою… А, вообще, этично ли смоленским ратникам сражаться в монгольских рядах ради завоевания… хоть той же Польши? С моральной точки зрения не очень как-то хорошо получалось. А с другой стороны – что, лучше б было, коли б монголы все княжество пограбили, все города-деревни пожгли? Нет, не лучше ничуть. Так что прав старый Всеволод Мстиславич-князь – лучше уж так, малой кровью. Ну, сгинет смоленская рать в чужих пределах, сложат воины головушки буйные – за татар, монголов… Зато княжество – по-прежнему цветет! Ни дыма, ни огня, ни пожарищ. А что до чужих земель… Нет, все ж таки – безнравственно как-то.
Впрочем, ратники Ремезова подобными рассуждениями не занимались. Тут все проще было: сказал князь идти с монголами – пошли. Хоть так родину свою сберегли. Что же касаемо чужаков – поляков, венгров, немцев – так что их жалеть-то? Чужаки и есть чужаки, не наши. Да хоть те же поляки – чаще враги, друзья – редко.
– Вот что, парни, – отбросив вредные сейчас мысли, Павел прошелся пред своими воинами с видом заправского генерала. – Дозор – служба хитрая, нести ее с осторожкою нужно. Митоня в этом деле дока – к нему прислушаемся. Ну, Митоха, что скажешь?
– То же, что и ты, боярин, – выступил вперед наемник.
Уж тот-то был при кольчуге, с мечом, в монгольском стальном шлеме с кожаными полосками-бармицей.
– Откуда шелом-то? – все же поинтересовался Ремезов.
Митоха разулыбался:
– У одной тетери татарской выиграл втихаря.
– Смотри, игры-то под запретом. Поймают иль донесет кто – не знаю, как и выручать буду.
– Да не поймают, – все так же невозмутимо улыбался наемник. – Говорю ж, господине – втихаря игрывали. Я-то уж на доспех мунгальский нацелился. Добрый доспех халатный, кожаный, а оплечья – железные.
– Откуда у простого ратника такой доспех? – удивился Ремезов.
– А кто тебе сказал, господине, что язм с простолюдинами игрываю?
– Ой, гляди, как бы не проиграться! Да хуже того… ладно. Поехали, что ли…
Махнув рукой, Павел взобрался в седло, поправил висевший на поясе меч, приосанился. Солнце еще не встало, но в лагере, по обычаю, все уже поднялись – воины раскладывали костры, бежали с котелками к реке за водою. Сами-то монголы вообще долго не собирались – запросто могли и верхом на коне, на ходу, перекусить вяленым мясом. Но нынче не торопились из-за союзников – смолян, литовцев, булгар – знали: на переходе потерянное время нагонят. Хотя… строились уже походной колонною. А дозору-то впереди – далеко – быть нужно. Вовремя выступили.
Сразу за дозором шла монгольская легкая конница – без доспехов, без сабель, без копий – один лук, зато стрел – во множестве. Да и не нужны им были доспехи и сабли, главное-то дело – отвлечь врага, притворным отступлением завлечь в засаду. За кавалерией легкой продвигалась основная орда – тяжелая, блестевшая металлическими и полированными кожаными доспехами, конница. Круглые щиты, тяжелые палаши, сабли, копья кони тоже защищены доспехом, шлемы на воинах высокие, стальные. Однако против европейского рыцаря или русского конного ратника латной дружины – слабоват монгольский тяжелый всадник. Не по доспехам слабоват – в седле все дело, монгольское степное седло – с низкими луками и высоко подтянутыми стременами, хорошо для сабельной рубки, да и стрелы, арканы метать с него удобно – посадка высокая, однако для таранных ударов копейной сшибки такое седло не годится – всадник сразу же вылетит. Однако ж доспехи – добрые, любые – металлические и из клееной кожи, что удар не хуже стальной пластины выдерживает. Однако ж далеко не всем такая бронь по карману, даже степным богатырям – багатурам, не говоря уже о простых ратниках. Даже средняя конница у монголов не только для лошадей доспехов не имела, но и на всадниках – не пойми что: войлок, меха. Тоже доспех вроде как… «Хатангу дээль» называется.
– Глянь-ка, боярин, река впереди! Санный путь блистает, – заворотив коня, подскочил с докладом Микифор. – Широкая река, добрая.
– Широкая река, говоришь… – Ремезов почесал подбородок. – Висла, что ли, уже? Ну, едем, посмотрим.
Поднимая снег, дозорные наметом спустились с холма к широкой реке, искрящейся на солнце снегом. Прямо по льду, по снегу, проходила синяя широкая колея – санный путь, кое-где виднелись желтоватые кучи навоза.
Митоха не поленился, спешился, понюхал навоз, едва на язык не попробовал. Постоял, подумал, обернулся с ухмылкою:
– А ведь не так давно тут купцы ехали! И колея блестит, и следы копыт снегом не запорошены. Да и навоз еще свежий, не успел смерзнуть. Нагоним, боярин? Посмотрим, кто такие?
Павел рассеянно кивнул:
– Посмотрим.
Ох, до чего ж не хотелось ему никого ловить, допрашивать. Однако же – приходилось соответствовать: все ж таки – командир, боярин, и монголам Орда-Ичена – союзник. Вот и поехал, пропустив вперед своих ратников – Микифора, Митоху, Якова и всех прочих. Один «дубинушка» Неждан молча гарцевал позади, как и положено верному оруженосцу. Впрочем, похоже, этот здоровый парень долго молчать не собирался. Дождался, когда остальные скроются за излучиной, и уж тогда нагнал боярина:
– Господине, дозволь спросить!
Ремезов повернул голову:
– Ну, спрашивай.
– Ты сеночь каким путем возвращался?
– А я помню? – не выдержав, боярин расхохотался. – Ты, Неждан, полегче чего спроси!
– А те парни, что тебя провожали, боярин-батюшка… они откель?
– Из нашей рати.
– Что-то они мне неведомы… – неожиданно нахмурился здоровяк.
Павел отмахнулся:
– Так рать-то смоленская – велика!
– Оврагом ты, господине не мог идти – сверзился бы, и не нашел бы никто…
Неждан вдруг принялся рассуждать вслух, что вызвало у Ремезова недюжинное удивление, ибо ничего подобного он от здоровяка оруженосца не ждал. Обычно ведь как о людях судят: если худой и сутулый, да к тому же еще и в очках – ясное дело, умник; ну, а ежели здоровенный амбал косая сажень в плечах – тупой. Инерция мышления, хотя чаще всего так оно и вправду на поверку выходит, но… далеко-далеко не всегда. Сутулые очкарики тоже тупыми бывают, как и здоровяки – умными и даже очень. Павел вон и сам-то хилым себя не считал… и вроде как дураком не был. Чего ж Неждана-то держать за полного дурня?
Поразмыслив таким образом, Ремезов счел необходимым подбодрить «дубинушку»-оруженосца:
– Давай, давай, парень, рассуждай! Интересно тебя послушать.
Неждан аж покраснел от неожиданной похвалы:
– Благодарствую, батюшко-боярин!
– Ты не кланяйся, ты продолжай, а то мысль потеряешь.
Оруженосец поспешно кивнул:
– Так вот, я и подумал – не мог ты, господине, через овраг пробраться. Значит – по краю шел, мимо старого вяза – от Ирчембе-оглана шатра до нас иной дорожки нету. Если, правда, по пути никуда не заглядывать…
– Никуда я по пути не заглядывал, Неждане, – со вздохом признался Павел. – Прямо домой и шел. Вернее сказать – полз. Ох, и бражка же у оглана, ох, и вино!
– Да уж, господине, мунгалы-то выпить не дураки! – с усмешкою согласился здоровяк. – Пьяницы еще те.
Кто бы спорил, только не Павел Петрович Ремезов! Уж он-то насмотрелся на монголов за этот месяц – будьте-нате! Взять хотя бы вчерашний день… или сегодняшнюю ночь – так что ли? И что интересно, взять некоторых представителей современной российской молодежи (особенно в провинции или на селе) – так те в отношении потребления спиртного рассуждают, как типичные средневековые монголы, пианство за доблесть почитавшие: а вот мы вчера пили – все, что горит… а вот взяли вчера жбан на двоих… а вот идем такие бухие… И хорошо еще, если только о спиртном речь идет… ни о чем другом – похуже.
– Значит, этим путем – мимо оврага и вяза – ты, господине, и шел, – тем временем продолжал рассуждать оруженосец. – И язм туда, к вязу-то, вечерком, до темени-то еще, шатался – за хворостом. И сегодня, с утра… Глянь, боярин, какой хворост сыскал!
Подъехав чуть ближе, Неждан протянул на ладони… стрелы… целых три!
– Две в вяз впились, одну я рядом, в кусточках, нашел… можно было еще там пошарить, да опаздывал уж.
– Та-ак… – взяв одну стрелу, задумчиво протянул Ремезов. – Ну, стрелы… и что? Просто тренировался кто-нибудь… Ну, учился.
– Это ночью-то? – вполне резонно возразил Неждан. – Навряд ли, господине, навряд ли.
Павел, подумав, согласно кивнул:
– Ну? И что ты мыслишь?
– Мыслю, господине в тебя тати ночные метили!
– Тати? Оттуда ты знаешь, что их много было? И почему – в меня?
– А больше, боярин-батюшко, не в кого – окромя тебя с провожатыми никто там ночью не шатался, не шел. А татей двое было – я их местечко нашел, в кусточках, у самого оврага. Двое… может, трое таились.
– Монголы, что ли… или булгары?
– Мунгалы б, господине, тебя с первой же стрелы взяли – ученые, – оруженосец прищурился. – Да и на стрелы-то посмотри… На двух – наконечники втульчатые – наши стрелы, не мунгальские, и не булгарские – у тех наконечники – на шипах, как вот на этой… – Неждан показал стрелу. – Одначе на этой свистульки нету, что мунгалы в устрашенье врагам и древка крепости ради привязывают. Отвязали, видать, свистульку-то, отчекрыжили… в тайности хотели дело черное сладить!
– Интересно, чего ж не сладили-то? – недобро усмехнулся боярин.
Здоровяк пожал плечами:
– Того не ведаю. Может, спугнул кто… Ничо! Отыщу супостатов, батюшко! Средь нас они где-то, средь рати смоленской або литовцев – негде быть больше.
– Что ж, – Павел хлопнул парня по плечу. – Благодарю за службу! Только давай так: сыщешь гадов – доложи прежде.
– Доложу, господине, как есть доложу.
Впереди, на излучине, серебристым фонтаном, в золотых, вспыхивающих на солнце искорках, взметнулся, заиграл, снег. Кто-то скакал – возвращался.
Ремезов присмотрелся: Микифор.
– Что там такое? Нагнали обоз?
– Нагнали, господине. Только его уже татары пограбили. Ну, мунгалы эти…
– Монголы разграбили купеческий караван? – недоверчиво прищурился Павел. – Вообще-то это для них не характерно. Точно монголы?
– Ну, наши… с которыми мы. С ними десятник, дожидается.
Ремезов пришпорил коня:
– Ну, раз уж дожидается – едем. Там, у обоза, и объяснимся, там и поглядим, что к чему.
И вот уже из-за излучины показался обоз: с сорванными с саней рогожками и разбросанными по снегу товарами – похожими на швейцарский сыр восковыми кругами, железными крицами, бочонками…
Какие-то бездоспешные воины с луками за плечами сноровисто выпрягали из саней волов и связывали по рукам торговцев, не обращая никакого внимания на внезапно появившихся русских ратников, с коими – с Митохой – надменно приосанясь в седле, говорил какой-то тип в длинной блестящей кольчуге и белом тюрбане. Верхом на белом, покрытом красным чепраком, коне, при сабле, с маленьким, притороченным к седлу, круглым щитком и зеленым флажком на тонком копье. Булгарин!
Ремезов подогнал коня…
– А, боярин-бачка! Рад видеть, рад! Еще в кости бросим?
Ну да, ну да – знакомец старый, говорить нечего. Тот самый, которому вчера так везло. Игрок, мать ити…
– Там, бачка, сбежал кое-кто… отроки, девки… Я воинов пошлю – потешимся!
– Подожди посылать, мы сами посмотрим, – резко возразил Павел, уж очень ему не хотелось «тешиться» в компании этого бритоголового ублюдка, от сей потехи, чуяло сердце, пленницам не так то уж и весело будет. Скорее – грустно, и даже очень, а ему, Ремезову – противно и стыдно.
Пусть уж лучше уходят те отроки да девы…
– Я сам посмотрю, сотник…
– Кармай-кызы меня звать, а тебя – я ведаю – Паувел! Ну, что – пока ловят бегляцов, метнем кости?
Булгарин потер руки с видом профессионального шулера или игромана, явно нуждавшегося в квалифицированной помощи психиатра – психолог тут не помог бы.
– Купцов-то допросить бы надо…
– Э-э, успеем допросить, бачка! Вон, на рогожке кости и метнем. По маленькой ставочка…
Вот ведь прилип, прямо как банный лист! И ведь ясно же – не отвяжется, тут уж по глазам виден диагноз.
Как же быть-то? Как же помочь беглецам? Очень уж не хотелось Ремезову видеть, как над ними «тешатся», тем более – самому в «потехе» участие принимать.
Как быть, как быть…
И Павла вдруг осенило:
– Есть у меня один боевой товарищ, тоже человек не из простых. В кости он, кажется, любит играть…
– Так где ж он? – Кармай-кызы оживился. – Зови же скорей своего руга, зови… коли сам не хочешь. А то, может, и с тобой, бачка, раскинем?
– Не, уважаемый, покуда охоты нет, – Ремезов повернулся в седле и позвал: – Митоха, эй, Митоха!
– Чего, господине боярин, изволишь?
– Господине Митоня… – незаметно подмигнув наемнику, Павел поворотил коня. – С другом нашим, Кармаем-кызы, кости не метнешь ли?
Рязанец весело сдвинул на затылок шелом:
– А чего ж не метнуть-то? Метнем. Уважаемый Кармай, где играть будем?
– А вот, на рогожка, да. Людишки мои сейчас живо расстелют.
Булгарин говорил по-русски быстро, но не очень чисто, с сильным восточным акцентом. Впрочем, все его хорошо понимали. А в особенности – сейчас – Митоха!
Павел, подогнав коня, усмехнулся – похоже, нашла коса на камень – и, махнув рукой, бросился вместе со своими людьми в погоню. Туда, куда указал булгарин – за вербы, за ивняки, за орешники.
У небольшой балки, густо поросшей колючими кустами терновника и малины – именно туда и вели следы беглецов – преследователи вынуждены были спешиться, ибо лошади уже начинали вязнуть в глубоком снегу.
– Микифор и вы двое – туда, – кивнув на белеющую слева от балки березовую рощицу, приказал боярин.
Проваливаясь по колено в снег, воины бросились исполнять приказание. Посмотрев им вслед, Ремезов махнул рукой направо:
– А ты, Неждан с остальными – к орешнику.
– Ивняком, господине, могут уйти, – нерешительно высказался оруженосец. – Может…
– Не стоит, – резко возразил Павел. – Я сам там посмотрю.
Оставшиеся воины, привязав коней, поспешили к орешнику. На светившее до того солнце наползла тучка, сначала небольшая, палевая, а потом и побольше – серая, похожая на расползшийся овсяный кисель. Стало заметно темней, повалил снег, густой и пушистый – что, несомненно, было на руку беглецам. Было бы на руку, если бы не опытные воины смоленской рати.
Оглянувшись по сторонам, молодой человек быстро зашагал по следам к терновнику, сделав вид, что именно там и намеревается поискать, затем пригнулся – у беглецов вполне могли быть с собой луки – и, рывком преодолев колючие заросли, спустился, точнее – съехал на пятой точке – в балку, тут же выхватив меч, ибо перед ним возникла в снежной мгле темная фигура с саблей!
Удар! Звон… Павел вскочил на ноги, умело отразив натиск, и сам перешел в атаку – ударил один раз, другой… Потом уклонился, притворно отпрянул назад и, улучив благоприятный момент, ловко выбил саблю из рук неведомого врага. Тот на мгновенье опешил – сразу видно, не профессионал, не воин – и Ремезов тотчас же приставил острие меча к груди соперника, не защищенной ничем, кроме синего кафтанчика куцего немецкого покроя, какие обычно носили купцы или менеджеры средней руки – приказчики.
– Стоять! Я сказал – не двигаться! Проткну, как жука.
И вот только сейчас Павел, наконец, смог внимательно рассмотреть супостата – совсем юного паренька, курносого, с длинным, щедро усыпанным многочисленными веснушками лицом и простодушно-голубыми глазами, ныне сверкавших недюжинной ненавистью и злобой.
Похоже, парень понимал по-русски – стоял спокойно, не дергался… Да попробовал бы только! Ага… вот скосил глаза…
Ремезов быстро повернул голову, заметив выглядывающую из кустов женщину: белолицую, испуганную, в чепце… нет – в войлочной шапке. За ней еще кто-то грудился – женщины, дети, всего человек пять или четверо.
– Вы бежали от татар? – негромко спросил Ремезов. – Вас поймают.
Парень злобно прищурил глаза.
– Поймают, – опустив меч, Павел продолжил уже чуть громче. – Если вы пойдете к роще – а вы ведь именно туда и намеревались. Советую вам идти ивняком, по берегу… До города далеко?
– Не очень, – растерянно отозвался парнишка.
Боярин махнул рукой:
– Вот и идите – скатертью дорога. Да не прячьтесь вы там, выходите же!
– Там могут быть…
– Никого там нет! Не теряйте времени… Прощайте и… счастливого пути.
Подмигнув выбравшейся из кустов девчонке, Ремезов быстро поднялся по склону и скрылся из глаз, услыхав за спиной тоненькое:
– Дзенкую, пан.
– Храни тебя Бог!
Около орешника молодой человек все же не выдержал, оглянулся, бросив внимательный взгляд на реку: берегом к ивняку прошмыгнули еле заметные фигурки. Ну, молодцы… – улыбнулся Павел. Успели! Постоял немного, поулыбался… и призывно свистнул, а чуть погодя покричал:
– Э-эй, парни! Где вы там?
Кто-то из своих отозвался, и Ремезов замахал руками:
– Сюда! Сюда давай живо!
Так, не солоно хлебавши и явились обратно. А булгарину не было до них никакого дела! Узкие глазки его азартно блестели, толстые, унизанные перстнями пальцы нервно теребили стаканчик. Напротив, на рогожке, ухмыляясь, развалился довольный Митоха. Рядом с наемником уже громоздилась целая куча всякого добра – синий, подбитый куницей плащ, короткий палаш в темно-зеленых, украшенных серебряными накладками, ножнах какая-то поношенная хламида, кольчужица и – на удивленье живой петух со связанными лапами. Пытаясь подняться, петух бил крыльями и раздраженно квохтал.
– Добрый петух, – подъехав ближе, сглотнул слюну набежавшую слюну Неждан. – Ужо вкусные щи будут.
Павел же, нахмурившись, незаметно мигнул Митохе – тот сразу все понял, взял стаканчик, метнул…
– Выиграл!!! – радостно хлопнул в ладоши Кармай-кызы. – Я выиграл! Ну, наконец-то… Алла! Алла-а-а-а!!! Перекинь-ка сюда плащик, уважаемый Митоня-бек! Что теперь ставишь?
– Палаш. Петуха не отдам, и не думай.
– И-и-и-и! Шайтан с ним, с петухом! – булгарин живенько оглянулся. – Ну, что, поймали?
– Отпустили. Кстати, и купцов тоже бы отпустить надо, – спешившись, негромко молвил Ремезов. – Пайцза у них.
– Пайцза? Вах-вах… – не отрывая взгляда от упавших на рогожу костей, Кармай-кызы поцокал языком. – Что ж сразу-то не показали?
– Не признали за воинов великого хана. Думали – разбойники, тати.
– Тогда лучше б их убить – как бы не нажаловались. Опа!!! А ну-ка, Митоня-бек, попробуй-ка, перебей! Эй, нукеры, давайте всех этих торговцев – в прорубь!
– Стойте, стойте! – поспешно замахал руками Павел. – Как бы не вышло все боком. Другие-то ушли… пусть и эти… якобы сами убегут.
– А не…
– Не, не нажалуются – раз уж сами убегли.
– Вах!!! Ай, Митоня, ай, уважаемый господин! Ну, что? Мой палаш! Давай теперь на кольчугу.
– Так что с купцами-то?
– Ай, боярин-бачка, не отвлекай! Делай, как знаешь.
Глава 11
Кровь и честь
Февраль 1241 г. Сандомир
С высоких городских стен тучами летели стрелы и камни, ломаясь, срывались вниз с кручи осадные лестницы, увлекая с собой осаждавших. Кто-то кричал, кто-то размахивал саблей, со всех сторон выли, орали, ругались… а вот у ближних ворот деловито ухнул таран.
Сандомир, или, как его называли поляки – Сандомеж, стоял пред многочисленным вражьим войском, надеясь лишь на своих жителей… многие из которых, увы, сами на себя уже не надеялись, взывая лишь к Господу, ибо к кому еще оставалось взывать? После разгрома войска малопольских князей король – по сути, просто князь, герцог – Болеслав по прозвищу Стыдливый, отступил с оставшимися воинами к Хмельнику, намереваясь встретить войска Кайду и Орда-Ичена именно там – ибо больше ничего не оставалось делать. Польша, как и русские земли, вовсе не была единой, Болеслава признавали лишь в Кракове и Сандомире, Мазовия же принадлежала князю Конраду, Ополье и Ратибор (Ополе и Рацибуж) – князю Мечиславу, Силезия – благочестивому герцогу Генриху. Сии владетельные князья-герцоги – Генрих Благочестивый, Конрад Мазовецкий, Мечислав – вряд ли желали Болеславу победы, даже пред лицом страшной опасности неукротимых, явившихся из диких степей монгольских войск, в числе которых – здесь, под Сандомиром – под командованием князя Михайлы Ростиславича сражались и отряды смоленской рати.
Вот снова ухнул таран. Тяжелое, окованное железом бревно, методично разбивало в щепки ворота. Такие тараны расположились почти у всех городских ворот, исключая те, что выходили к Висле – слишком уж там было круто, не удержаться. Именно туда, на самый трудный участок, где не сыскать славы, а голову сложить запросто, и послал Орда-Ичен смолян заодно с булгарами и литовцами Аскала. А кого не жалко!
Смоляне сражались честно, хоть и за чужое дело, но тем самым сохраняя от полного разорения родную землю. Синее небо над головой застилали черные тучи пожарищ, над городом медленно плыл колокольный звон, священники истово молились в костелах, призывая небесные кары на головы варваров.
И все же силы обороняющихся таяли, а самое главное – не было никакой надежды. Где князь? Где войско? А бог знает, где…
Ввуххх!!!
Огромный, сброшенный со стены каменюга, подпрыгивая, с грохотом скатился по круче, снеся по пути целую груду булгар. Пронесся, проскочил, прогремел, простонал угодившими под неудержимый каток булгарами, и, проломив лед, ухнул в реку.
– Хорошо, что не на нас! – обернувшись, прокричал Митоха. – Давай, боярин, к пристани – во-он, где литовцы.
Литовский князь Аскал, о котором Ремезов в прошлой своей жизни никогда и не слышал, уже ставил тараны, загораживаясь щитами своих воинов от несущихся с крепостной стены стрел, копий и просто камней. И стрел, и копий становилось все меньше, а вот камней пока хватало, впрочем, силы защитников Сандомира были уже на исходе – и это хорошо понимали все.
Подскочив, небольшой, на излете, камень, угодил в красный щит Павла. Выпустив в отместку стрелу, верный оруженосец Неждан погрозил выглянувшим из-за каменного зубца воинам кулаком.
– Башню! – подскочив неведомо откуда, взвил на дыбы коня молодший князь Ростислав. – Ставьте башню. Павел, давай-ка со своими людьми помоги.
– Башню? На льду? – оглянувшись, удивленно переспросил Ремезов. – А смысл? Где река, а где стены? Тут же круча.
– Все равно сподручнее будет таранщикам. Да и камнеметы прикрыть.
А вот это молодой князь очень даже верно заметил – камнеметы, – а Павел не обратил внимания – да и не до того было, как раз намеревался ползти вместе со своей дружиною вверх по лестнице… хорошо, не пополз, так бы, может, словил лбом камень, никакой бы шлем не помог.
Монголы – скорее, все-таки булгары или даже китайцы – уже устанавливали на льду Вислы баллисты и катапульты – раннесредневековую артиллерию, – намереваясь метать в город бревна и камни, запас которых был пополнен в пути… правда, ненамного. Тогда какой смысл?
– На берегу костры жгут, боярин, – присмотревшись, промолвил подскочивший Окулка-кат. – Видать, готовят гремучую смесь.
Павел усмехнулся, поправив на голове шлем:
– Пущай себе готовят, наше дело – башня. Княжий приказ слыхали?
– Слыхали, господине.
– Ну, так пошли. Нечего тут маячить.
Обслуживающие баллисты с катапультами люди времени зря не теряли – ставили своих «монстров» на широкие лыжи-полозья, точно такие же имелись и у приземистой башни, в которую с подозрением всмотрелся Ремезов. Покачал головой:
– Нет, до верха стены не хватит… А вот если передние венцы подрубить – как раз к воротной башне ляжет.
– Верно, боярин, ляжет, – охотно подтвердил Окулко. – Как раз и площадка. Рванем? Царевичи на три дня град обещали отдать.
Павел нервно дернул губою:
– Не спеши раньше времени на тот свет, парень. Ишь ты – на три дня…
«Царевичи» – так, не вдаваясь в детали, смоляне с литовцами называли Орда-Ичена, Байдара, Кайду.
– Готова башня? А ну, навались, парни!
Снова прискакал князь, скомандовал, махнул рукою. Ему в помощь замахал и Павел, естественно, сам он башню не толкал – не боярское это дело – лишь подбадривал своих ратников. Дело двигалось споро – сдвинувшись с места, срубленная из крепких бревен громадина, поскрипывая полозьями, заскользила по снегу, быстро приближаясь обрывистому холму, на котором и расположился осажденный город.
Позади что-то ухнуло… С воем пронесся над головой камень… нет – огромный глиняный горшок, начиненный зажигательной смесью – за стеной, на месте падения, сразу же вспыхнуло пламя, поднялся столбом черный густой дым.
Снова что-то пронеслось… Снова огонь, дым…
– Этак, господине, все сгорит – нечего будет и грабить! – повернув голову, ухмыльнулся толкающий башню Митоха.
Наемник, что с него взять? Впрочем, как и вся смоленская рать… или те все же не наемники, а верные вассалы?
Странно, но на новую угрозу защитники города реагировали как-то вяло: лишь пустили несколько стрел да метнули пару копий. Ремезов покачал головой: то ли стрел уже у сандомирцев не осталось, то ли защитников, а скорее – ни того уже, ни другого. Да и этот участок считался защищенным куда лучше других – высокий берег круто обрывался к Висле: и так-то непросто забраться, а уж если сверху камни да кипящая смола на головы… Впрочем, не было больше ни камней, ни смолы… Никем не остановленная, башня с разгону въехала в берег, привалившись к его склону гигантской лестницей, по которой, подбадривая себя криками, тут же ринулись воины – русские, булгары, литовцы. Над их головами продолжали лететь горшки с зажигательной смесью, камни, ледяные глыбы и бревна – осадные орудия монголов работали методично и действенно.
