Объясняя мир бесплатное чтение
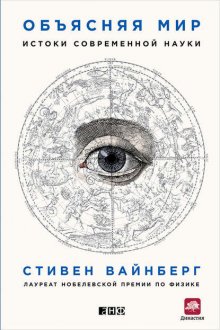
Переводчик Виктория Краснянская
Научные редакторы Дмитрий Баюк, к. ф.-м. н.; Владимир Сурдин, к. ф.-м. н.
Редактор Антон Никольский
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректор М. Миловидова
Компьютерная верстка A. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Карта звездного неба на обложке Shutterstock
Рисунок глаза на обложке Pepin van Roojen
Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»
Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда – поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. «Библиотека Фонда «Династия» – проект Фонда по изданию современных научно-популярных книг, отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена под эгидой этого проекта.
© Steven Weinberg, 2015
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Джон Донн. Лекция о тени[1]
- Посвящается Луизе, Элизабет и Габриель
- Вообрази: пока мы тут, гуляя,
- С тобой беседовали, дорогая,
- За нашею спиной
- Ползли две тени, вроде привидений;
- Но полдень воссиял над головой
- Мы попираем эти тени!
Предисловие
Я физик, а не летописец, но с годами меня все больше и больше очаровывает история науки. Это необычайно интересная тема, одна из самых захватывающих в истории человечества. Мы, ученые, делаем на нее особую ставку. Те исследования, которые ведутся сегодня, берут свое начало в прошлом, на них ложится отсвет достижений предыдущих поколений – история науки вдохновляет ученых в их работе. Каждый из нас надеется внести хотя бы маленький вклад в грандиозную летопись естественной науки.
В своих книгах я много говорил об истории, но это в основном была история развития науки позднейшего времени, начиная со второй половины XIX в. до наших дней. И хотя за этот период мы узнали невероятно много новых фактов, цели и методы физики существенно не изменились. Если бы некоему физику из 1900 г. рассказать о нынешней Стандартной модели, применяемой в космологии или в физике элементарных частиц, он узнал бы много непривычного и удивительного, но сам принцип поиска выраженной на языке математики теории, выводы которой подтверждаются экспериментальным путем и объясняют целые категории явлений, был бы вполне понятен и знаком ему.
Пришло время, и я решил «копнуть глубже», чтобы получше узнать ранние эпохи научного познания, когда цели и методы физики и астрономии еще не сформировались в нынешнем виде. Следуя естественному для профессора университета пути, для того, чтобы самому узнать что-то новое, я решил заняться преподаванием интересующей меня области знаний как предмета. В Техасском университете за последние десять лет я на протяжении нескольких лет читал курс истории физики и астрономии для студентов старших курсов, не имеющих специальных знаний в области физики, математики или истории. Накопившихся при подготовке заметок мне хватило, чтобы написать эту книгу.
Но по мере того, как книга обретала форму, я увидел, что у меня получается нечто большее, чем простой нарратив: отражение того, как современный ученый воспринимает опыт науки прошедших эпох. В этой работе я пользуюсь возможностью раскрыть свое видение природы физической науки и ее неразрывной связи с религией, техникой, философией, математикой и эстетикой.
В доисторический период существовало что-то вроде науки. Природа все время демонстрировала множество загадочных явлений: огонь, грозы, эпидемии чумы, движение планет, свет, приливы и т. д. Наблюдение за миром вело к полезным обобщениям: огонь горячий, гром предвещает дождь, приливы выше в полнолуние и новолуние и т. д. Эти сопоставления стали частью эмпирических знаний человечества. Но появились люди, которых не удовлетворяло простое коллекционирование фактов. Они хотели объяснить мир.
Это было нелегко. Наши предшественники не только не знали того, что известно нам; что важнее, они не разделяли наши понятия о том, каким образом и что именно следует изучать в природе. Снова и снова, готовясь к очередной лекции моего курса, я поражался тому, насколько отличается методология науки минувших веков от современной. Цитируя знаменитые слова из известного романа Л. Хартли[2], «прошлое – это чужая страна; обычаи его обитателей отличаются от наших». Я надеюсь, что мне удастся донести до читателей не только смысл событий, ставших вехами в истории точных наук, но и то, как трудно давались ученым того времени научные достижения.
Таким образом, моя книга не только о том, как мы пришли к пониманию различных явлений и свойств окружающего мира. Любой труд по истории науки рассказывает об этом. Основное внимание в книге сосредоточено на том, как мы научились изучать мир.
Я отдаю себе отчет, что слово «объясняя» в заглавии книги поднимает вопросы, актуальные для философии науки. Они часто указывают на то, что трудно провести четкую границу между объяснением и описанием (мне придется сказать об этом несколько слов в главе 8). Но эта работа скорее по истории науки, а не по ее философии. Под объяснением я имею в виду нечто заведомо неопределенное, примерно то же, что в обычной жизни получается, когда мы пытаемся объяснить, почему лошадь выиграла скачки или почему самолет разбился.
Слово «истоки» в подзаголовке тоже довольно противоречиво. Я размышлял о том, не стоит ли дать книге подзаголовок «Открытие современной науки». В конце концов, не может же наука существовать отдельно от занимающихся ею людей. Тем не менее я выбрал слово «истоки» взамен слова «открытие», чтобы подчеркнуть, что наука такова, как она есть, не в результате цепочки каких-то состоявшихся по счастливой случайности исторических изобретений, а просто потому, что она – естественное отражение природы. Несмотря на все свои несовершенства, современная наука – это способ познания, достаточно точный, чтобы с его помощью устанавливать достоверные факты об окружающем мире. В этом смысле рано или поздно люди должны были эту технику познания открыть.
Таким образом, можно рассуждать об истоках науки примерно так же, как историки рассуждают об истоках сельского хозяйства. Несмотря на свое многообразие и несовершенство, сельское хозяйство работает, поскольку его методика хорошо приспособлена к конечной задаче – выращивать пищу.
Называя так книгу, я хотел бы отмежеваться от немногих оставшихся социальных конструктивистов: тех социологов, философов и историков, которые пытаются объяснить не только процесс научного познания, но и его результаты особенностями специфической культурной среды.
Из всех отраслей науки наибольший упор в моей книге сделан на физике и астрономии. Причина в том, что именно в физике, особенно в ее приложении к решению астрономических задач, наука впервые обрела свою современную форму. Конечно, есть границы тому, насколько закономерности развития таких наук, как, например, биология, чьи принципы очень тесно связаны с определенной последовательностью исторических случайностей, могут или должны соотноситься с закономерностями физики как с моделью. Тем не менее есть резон рассматривать развитие биологии и химии в XIX и XX вв. в сравнении с моделью революции в физике в XVII в.
Наука сейчас интернациональна и, возможно, является самым общечеловеческим аспектом деятельности современной цивилизации, но зарождение современной науки произошло в той части света, которую можно очень условно обозначить как «Запад». Современная наука пользуется методами, разработанными во времена научной революции в Европе, материалом для которой, в свою очередь, послужили труды европейских и ближневосточных арабских ученых Средних веков, которые, в конечном счете, основывались на рано созревшей науке Древней Греции. Запад заимствовал научное знание из многих источников: геометрию – из Египта, астрономию – из Вавилона, арифметику – из Вавилона и Индии, магнитный компас – из Китая и т. д., но, насколько мне известно, Запад ни у кого не перенял методы современного научного познания. Поэтому в моей книге особое значение придается именно Западу (включая средневековый ислам), в противоположность мнению Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби: мне почти нечего сказать о науке в иных частях света и совсем нечего о занятном, но совершенно изолированном развитии культур доколумбовой Америки.
Рассказывая обо всем этом, я неоднократно буду скользить в опасной близости от грани, которую нынешние историки старательно избегают, – суждения о прошлом по стандартам нашего времени. Это будет повествование без должного почтения. Я не останавливаюсь перед критикой методов и достижений прошлого с позиций нынешнего знания. Мне даже доставило удовольствие отыскать кое-какие ошибки признанных в истории научных авторитетов, ошибки, о которых обычно молчат историки.
Часто случается так, что какой-нибудь историк проводит годы, изучая труды великого человека, и в конце концов поддается искушению чрезмерно превозносить своего героя. Я наблюдал, как такое случалось с теми, кто описывал труды Платона, Аристотеля, Авиценны, Гроссетеста или Декарта. Но это не означает, что я вознамерился обозвать всех философов прошлого дураками. Напротив, показывая, как далеки были эти обладатели великолепного интеллекта от современных концепций науки, я хочу продемонстрировать, как был труден и неочевиден путь к открытию методов научного познания, нынешних общепринятых практик. С другой стороны, это же говорит нам о том, что не стоит считать построение здания науки завершенным. Я неоднократно отмечаю в книге, что, как бы ни впечатлял прогресс методов научного познания, мы и сейчас не застрахованы от повторения ошибок прошлого.
Некоторые историки предпочитают игнорировать современные научные знания, занимаясь описанием работ ученых прошлого. В отличие от них, я активно использую знания нашего дня, чтобы объяснять былые научные концепции. К примеру, было бы очень интересно попытаться понять, как астрономы эпохи эллинизма Аполлоний и Гиппарх, основываясь на доступных им данных, пришли к выводу, что планеты, описывающие петли-эпициклы, движутся вокруг Земли, но это невозможно, поскольку большая часть информации, которой они располагали, утеряна. Но мы точно знаем, что и в древности, и сейчас Земля и все планеты двигались и движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, и, зная это, мы можем объяснить, как наблюдения астрономов древности могли подтолкнуть их к выводу теории эпициклов. Так или иначе, как можно, читая об астрономии древних, не принимать во внимание наши современные знания об устройстве Солнечной системы?
Для тех читателей, которые хотели бы лучше понять, насколько работы ученых прошлого соответствуют современным научным знаниям, в конце книги имеется раздел «Технические замечания». Чтобы понимать основной текст книги, читать их не обязательно, но читатели этих замечаний могут открыть для себя интересные факты из области физики и астрономии, как это случалось и со мной в процессе работы над книгой.
Наука сегодня совсем не та, какой она была на заре своего становления. Ее достижения не связаны с конкретными личностями. Вдохновение и эстетическое чувство важны в тот момент, когда рождается новая научная теория, но устоит ли теория, зависит от того, насколько ее предсказания подтвердятся в беспристрастно проводимой серии экспериментов. Несмотря на то что математика используется для формулирования физических теорий и понимания их следствий, вся наука не является подмножеством математики, и нет способа выводить научные теории из голой математики. Наука и техника идут рука об руку и извлекают взаимную пользу, но на фундаментальном уровне ученые не занимаются исследованиями в прикладных целях. Хотя у науки нет какого-либо ответа на вопросы о существовании Бога и загробной жизни, ее задача – поиск объяснений явлениям природы, которые имеют исключительно естественные причины. Наука имеет свойство накапливать знания; каждая вновь создаваемая теория включает успешно доказанные более ранние теории как частные случаи и даже обязана объяснять, почему и в каких условиях выводы этих теорий справедливы.
Ничего из сказанного выше не являлось очевидными фактами для ученых Древнего мира или Средних веков и приобрело силу фактов с огромным трудом лишь в результате научной революции XVI–XVII вв. Никто не ставил перед собой цель когда-либо создать то, что мы называем современной наукой. Так как же вышло, что научная революция состоялась, и какой путь развития прошла наука после нее? Вот что мы попытаемся узнать, изучая историю становления современной науки.
Часть I
Физика в Древней Греции
Задолго до и в процессе расцвета науки в Древней Греции существенный вклад в технику, математику и астрономию внесли вавилоняне, китайцы, египтяне, индийцы и представители других народов. Тем не менее именно Греция осветила путь будущего развития науки и явилась образцом для остальной Европы, и именно Европа стала колыбелью современной науки, в формировании которой древнегреческие мыслители сыграли особую роль.
Можно до бесконечности спорить о том, как получилось, что именно древние греки достигли таких высот знания. Возможно, свою роль сыграло то, что зачатки науки появились тогда, когда древнегреческая цивилизация складывалась из независимых городов-государств, многие из которых были демократическими. Но, как мы увидим, самые выдающиеся открытия греки совершили уже тогда, когда эти маленькие государства оказались поглощены великими империями: эллинистическими царствами, а позже – Римом. Греки эпохи эллинизма и римского господства добились таких успехов в естествознании и математике, которые никто не смог превзойти до самой научной революции XVI–XVII вв. в Европе.
В этой части моей работы я расскажу о том, как древнегреческая наука отражала физическую картину мира. Об астрономии мы поговорим во второй части. В каждой из пяти глав, на которые поделена первая часть, вы в более или менее хронологическом порядке познакомитесь с пятью направлениями познания, с которыми наука пришла в согласие: поэзией, математикой, философией, техникой и религией. К теме взаимоотношений науки с этими пятью родственными направлениями мы будем возвращаться вновь и вновь.
1. Материя и поэзия
Мысленно перенесемся в прошлое. К VI в. до н. э. западное побережье нынешней Турции уже было заселено греками, говорившими преимущественно на ионийском диалекте. Самым богатым и мощным среди ионийских городов был Милет, основанный в естественной гавани при впадении реки Меандр в Эгейское море. В Милете на столетие раньше Сократа греческие мыслители стали рассуждать о природе первичной субстанции, из которой создан мир.
О милетцах я впервые узнал на старших курсах Корнелльского университета, когда занимался историей и философией науки. В лекциях милетцев называли «физиками». Одновременно я прослушал курс физики, в том числе современную атомистическую теорию строения вещества. Мне казалось, что между учением милетцев и нынешней физикой очень мало общего. Не то чтобы они были совершенно неправы в своих заключениях о строении вещества, скорее, я не понимал, как именно они могли прийти к ним. Исторических свидетельств о том, как греческие мыслители рассуждали в доплатоновскую эпоху, очень мало, но я был практически уверен, что ни милетцы, ни другие древнегреческие естествоиспытатели архаического и классического периодов (примерно от 600 до 450 г. до н. э. и от 450 до 300 г. до н. э.) не могли рассуждать так же, как это делают нынешние ученые.
Первым из философов Милета, о котором сохранились сведения, был Фалес, живший за двести лет до Платона. Предполагается, что ему удалось предсказать солнечное затмение, которое, по современным данным, произошло в 585 г. до н. э. и наблюдалось в Милете. Даже если бы Фалес пользовался вавилонскими хрониками солнечных затмений, маловероятно, что он смог бы сделать это предсказание, потому что солнечное затмение можно наблюдать лишь в небольшом географическом регионе, но тот факт, что предсказание именно этого затмения приписывают Фалесу, говорит о том, что, вероятно, он жил и работал в начале VI в до н. э. Мы не знаем, записывал ли Фалес свои мысли. Так или иначе, ничего из того, что он мог написать, не сохранилось даже в цитатах позднейших авторов. Он является скорее персонажем из области преданий, тем, кого во времена Платона было принято считать одним из «семерых мудрецов» Греции (наравне с его современником Солоном, которому приписывается создание конституции Афин). Например, считалось, что Фалес доказал или позаимствовал у египтян доказательство знаменитой геометрической теоремы (см. техническое замечание 1). Для нас важно то, что в заслугу Фалесу ставят идею о том, что любое вещество состоит из единой первичной субстанции. В «Метафизике» Аристотеля говорится: «Из тех, кто первые занялись философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего состоят все вещи… […] Фалес – родоначальник такого рода философии – считает его [начало] водою…»{1} Гораздо позже, около 230 г., жизнеописатель древнегреческих философов Диоген Лаэртский писал: «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств»{2}.
Имел ли в виду Фалес, говоря, что «всеобщей первичной субстанцией» является вода, что все вещество состоит из воды? Если это так, то мы не можем сказать ничего о том, как он пришел к такому выводу, но если считать, что все вещество имеет единую первооснову, то вода не так уж плоха в этой роли. Вода может быть не только жидкой: замерзая, она, легко переходит в твердое состояние или превращается в пар в процессе кипения. Также очевидно, что без воды не может быть жизни. Но мы не знаем, считал ли Фалес, что, к примеру, камни тоже состоят из обыкновенной воды, или лишь видел что-то значительное в том, что камни и другие твердые тела имеют много общего с замерзшей водой.
У Фалеса был друг и ученик по имени Анаксимандр, который пришел к иному заключению. Он тоже считал, что существует единая фундаментальная субстанция, но Анаксимандр не сопоставлял ее с каким-либо обычным веществом. Вместо этого он полагал, что такой субстанцией является нечто, которое он называл «бесконечным» или «беспредельным». Его взгляды дошли до нас в изложении Симпликия Киликийского, философа-неоплатоника, жившего примерно тысячу лет спустя. В своем труде «Комментарий к “Физике» Аристотеля”» Симпликий приводит фразу, которая, вероятно, является изложением слов самого Анаксимандра:
«Из полагающих одно движущееся и бесконечное [начало] Анаксимандр, сын Праксиада, милетец, преемник и ученик Фалеса, началом и элементом сущих [вещей] полагал бесконечное, первым введя это имя начала. Этим [началом] он считает не воду и не какой-нибудь другой из так называемых элементов, но некую иную бесконечную природу, из которой рождаются небосводы [миры] и находящиеся в них космосы. “А из каких начал вещам рожденье… назначенный срок времени…”, как он сам говорит об этом довольно поэтическими словами. Ясно, что, подметив взаимопревращение четырех элементов, он не счел ни один из них достойным того, чтобы принять его за субстрат [остальных], но [признал субстратом] нечто иное, отличное от них»{3}.
Несколько позднее другой милетец, Анаксимен, возвратился к идее о том, что все создано из некой единой простой субстанции, но, с его точки зрения, это была не вода, а воздух. Он написал книгу, от всего содержания которой сохранилось одно-единственное предложение: «Подобно тому как душа… будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлет весь мир»{4}.
На Анаксимене цепочка преемственности философов из Милета заканчивается. С 550-х годов до н. э. Милет и другие ионийские города попадают под власть растущего Персидского царства. В 499 г. до н. э. жители Милета подняли восстание против персов, но потерпели поражение, и город оказался разорен. Впоследствии он возродился как важный центр древнегреческой цивилизации, но никогда больше не становился центром греческой науки.
После Милета размышления о природе материи были продолжены философами-ионийцами из других областей. Предположительно, землю считал первичной субстанцией Ксенофан, который родился около 570 г. до н. э. в ионийском Колофоне, а впоследствии переехал в южную Италию. В одной из его поэм есть строка: «Из земли все [возникло], и в землю все обратится в конце концов»{5}. Впрочем, не исключено, что это был всего лишь его вариант известной фразы, которую испокон веков говорят на похоронах: «Земля к земле, прах к праху». Мы снова вернемся к наследию Ксенофана, когда будем говорить о религии, в главе 5.
В расположенном недалеко от Милета Эфесе около 500 г. до н. э. Гераклит учил, что первоосновой всего является огонь. Он также написал книгу, дошедшую до нашего времени отдельными фрагментами. В одном из них говорится: «Этот космос{6}, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»{7}. Также Гераклит подчеркивал непрерывность изменений в природе, так что для него естественно было принимать за главный элемент всегда мятущийся огонь, проводник перемен, а не более косные землю, воздух или воду.
Классический взгляд на то, что вещество состоит не из какого-то одного, а сразу из четырех элементов – воды, воздуха, земли и огня, – вероятно, восходит к Эмпедоклу. Он жил на Сицилии в городе Акрагасе, ныне известном как Агридженто, в начале V в. до н. э. и был практически единственным известным в том раннем периоде древнегреческим философом не ионийского, а дорийского происхождения. Эмпедокл написал две гекзаметрические поэмы, многие части которых сохранились. В поэме «О природе» мы находим: «Как от смешенья Воды, Земли, Эфира и Солнца // Родились [многообразные] формы и окраски смертных [существ]»{8}, а также: «Огнем, Водой, Землей и несметной высью Эфира, // Проклятая Ненависть порознь от них [= элементов], совершенно уравновешенная, // И Любовь в них, равная в длину и ширину»{9}.
Возможно, что Эмпедокл и Анаксимандр использовали понятия «любовь», «ненависть», а также «справедливость» и «несправедливость» лишь как метафоры порядка и беспорядка, примерно в том же духе, как Эйнштейн, бывало, употреблял слово «бог» в качестве метафоры еще непознанных законов природы. Но нам не следует пытаться втиснуть слова досократиков в тесные рамки современных интерпретаций. Как мне кажется, появление в рассуждениях о сути природы категорий человеческих эмоций, таких как любовь и ненависть у Эмпедокла, или таких, как справедливость и воздаяние у Анаксимандра, – лишь свидетельство той пропасти, которая разделяет образ мысли древних досократиков и современных ученых-физиков.
Все досократики, начиная с Фалеса и кончая Эмпедоклом, по всей видимости, считали первичные элементы сплошными недифференцированными средами. Иной взгляд на природу вещества, более близкий к современным представлениям, был позднее высказан мыслителями из Абдер, города на побережье Фракии, основанном беженцами из ионийских городов, после того как их восстание против Персии, начавшееся в 499 г. до н. э., было подавлено. Первым из известных философов-абдеритов был Левкипп, который известен благодаря одному-единственному высказыванию в духе детерминизма: «Ни одна вещь не происходит попусту, но все на [некотором] основании и по необходимости»{10}. Гораздо больше известно о последователе Левкиппа Демокрите. Он родился в Милете, путешествовал в Вавилон, Египет и Афины и в конце концов поселился в Абдерах в конце V в до н. э. Демокрит писал труды по этике, естествознанию, математике и музыке, до нашего времени дошли многие из этих книг. В одной из них он утверждает, что все вещество состоит из мельчайших неделимых частиц, которые называются атомами (от др. – гр. ατομος – неделимый, неразрезаемый), движущихся в пустом пространстве: «Во мнении сладкое, во мнении горькое, во мнении теплое, во мнении холодное, во мнении цветное, в действительности же атомы и пустота»{11}.
Как и современные ученые, ранние греческие мыслители намеревались проникнуть сквозь поверхностные представления о мире, пытаясь заглянуть вглубь реальности. Сущность мира невозможно определить с первого взгляда, из чего бы он ни состоял: из воды, из воздуха, из земли, из всех четырех стихий или даже из атомов.
Парменид из Элеи, который вызывал восхищение у Платона, дошел до крайности в своих поисках тайных смыслов. Элея (современное название Велия) – город в южной части Италии. В начале V в. до н. э. Парменид, в противовес Гераклиту, учил, что постоянная изменчивость и разнообразие природы являются иллюзией. Эти идеи отстаивал его ученик Зенон из Элеи, которого не следует путать с другим Зеноном, так называемым Зеноном-стоиком. В своем сочинении «Апории» Зенон описывал некоторое количество парадоксальных утверждений, доказывающих невозможность движения. Например, чтобы пробежать всю беговую дорожку стадиона, вначале необходимо покрыть половину расстояния, потом – половину от оставшегося, и так до бесконечности. Таким образом, пробежать всю беговую дорожку невозможно. Насколько мы можем судить из дошедших до нас отрывков, по тем же самым причинам Зенону казалось, что невозможно путешествовать на какое-либо заданное расстояние, следовательно, движения вообще не существует.
Конечно, аргументация Зенона неверна. Как позже укажет Аристотель{12}, нет никаких причин, которые мешают нам совершить бесконечное количество шагов в определенное время при условии, что время, необходимое для каждого последующего шага, уменьшается достаточно быстро. Действительно, бесконечный ряд типа 1/2+1/3+1/4… дает бесконечную сумму, но бесконечный ряд типа 1/2+1/4+1/8… дает конечную сумму, которая в данном случае равна 1.
Гораздо более поразительно не то, насколько Парменид и Зенон были неправы, а то, почему же они не удосужились объяснить, по какой причине, если движения не существует, вещи выглядят движущимися. На самом деле ни один из древнегреческих мыслителей от Фалеса до Платона – ни из Милета, ни из Абдер, ни из Элеи, ни из Афин – никогда не брал на себя труд детально объяснить, как его теория конечной, истинной реальности соотносится с восприятием вещей.
Это вовсе не было умственной ленью, а, скорее, чем-то вроде склонности ранних греков к интеллектуальному высокомерию, которое привело их к решению, что не стоит стремиться к пониманию явлений окружающего мира вообще. Это лишь первый из примеров подобного отношения, нанесшего большой вред познанию в истории науки. В разные времена считалось, что круговые орбиты более совершенны, чем эллиптические, что золото – более благородный металл, чем свинец, и что человек – существо высшего порядка по сравнению с его собратьями-обезьянами.
Может быть, мы и сейчас совершаем подобные ошибки, обходя вниманием какие-то возможности научного прогресса, потому что игнорируем некие явления, считая их недостойными нашего внимания? Нельзя быть уверенным, но я думаю, что не совершаем. Конечно, невозможно исследовать все, но мы выбираем задачи, которые, по нашему мнению, правильному или ошибочному, дают лучшие перспективы для научного осмысления. Биологи, изучающие хромосомы или нервные клетки, работают с такими животными, как мухи-дрозофилы и кальмары, а не с орлами или львами. Физиков, исследующих элементарные частицы, иногда обвиняют в снобистском и очень дорогом увлечении, требующем использования самых высоких энергий, которые можно достигнуть. Но только при высоких энергиях мы можем создавать и изучать гипотетические частицы большой массы, например, частицы так называемой темной материи, которая, по мнению астрономов, составляет 5/6 вещества во Вселенной. В любом случае мы уделяем достаточно внимания и изучению явлений, наблюдаемых при низких энергиях, как, например, определение массы нейтрино, составляющей миллионную долю массы электрона.
Делая критические замечания по поводу досократиков, я вовсе не имею в виду, что априорная аргументация не присутствует в науке. Сегодня, например, мы ожидаем, что фундаментальные физические законы удовлетворяют принципам симметрии, то есть что физические законы не изменятся, если мы неким определенным образом изменим систему отсчета. Точно так же как принцип неизменности Парменида, некоторые из этих законов симметрии не проявляют себя непосредственно в физических явлениях – считается, что они могут спонтанно нарушаться. Это значит, что уравнения наших теорий обладают определенной простотой, касающейся, например, некоторых свойств разных видов элементарных частиц, но эта простота не присуща решениям уравнений, а именно они-то и описывают реальные явления. Как бы то ни было, в отличие от приверженности Парменида принципу неизменности мира, априорное предположение о существовании фундаментальной симметрии законов природы симметрии появилось в результате многолетних экспериментов, проводимых в поисках физических законов, описывающих реальный мир. Существование как спонтанно нарушенных, так и не нарушенных видов симметрии доказано экспериментами, которые подтверждают следствия этих нарушений и сохранений. Субъективные суждения, которыми мы руководствуемся в человеческих отношениях, здесь никак не задействованы.
Начиная с Сократа, родившегося в конце V в. до н. э., и – всего на сорок лет позже – Платона, центр греческой интеллектуальной жизни переносится в Афины, один из немногих городов-государств ионических греков непосредственно на греческой земле. Практически все, что мы знаем о Сократе, нам известно из диалогов Платона. Кроме того, он выступал как комический персонаж в комедии Аристофана «Облака». По всей видимости, не осталось никаких записей идей Сократа. Насколько мы можем судить по тому, что до нас дошло через вторые руки, этот мыслитель не слишком интересовался естественными науками. В диалоге Платона «Федон» Сократ вспоминает, как он был разочарован, прочтя книгу Анаксагора (более подробно я расскажу о нем в главе 7), потому что Анаксагор описывал Землю, Солнце и Луну чисто физическими терминами, не говоря ничего о том, какое из этих тел хуже, а какое лучше{13}.
Платон, в отличие от своего кумира Сократа, был афинским аристократом. Он является первым греческим философом, большое количество письменных источников которого сохранилось. Платона, как и Сократа, куда больше интересовали проблемы рода человеческого, чем природа вещей. Он надеялся сделать политическую карьеру, которая позволила бы ему воплотить свои утопические и антидемократические идеи на практике. В 367 г. до н. э. Платон получил приглашение от Дионисия II приехать в Сиракузы и оказать помощь в реформировании правительства, но, к счастью для жителей Сиракуз, этого так и не случилось.
В одном из своих диалогов, «Тимее», Платон свел вместе мысли о четырех основополагающих элементах с абдерским понятием атомов. Платон считал четыре элемента Эмпедокла состоящими из частиц, имеющих форму четырех из пяти правильных многогранников, известных из математики. Это тела, грани которых представляют собой многоугольники, с одинаковыми ребрами, образующими в вершинах одинаковые телесные углы (см. техническое замечание 2). Например, один из таких правильных многогранников – куб, грани которого являются одинаковыми квадратами и в каждой вершине встречается по три квадрата. Платон полагал, что атомы земли имеют форму куба. Другие правильные многогранники – это тетраэдр (пирамида с четырьмя треугольными гранями), восьмигранный октаэдр, двадцатигранный икосаэдр и двенадцатигранный додекаэдр. Платон предполагал, что атомы огня, воздуха и воды имеют соответственно формы тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Оставался додекаэдр, который, по мнению Платона, лежал в основе стихии космоса. Позже Аристотель представил пятый элемент – эфир (или квинтэссенцию), заполняющий, как он считал, пространство за орбитой Луны.
Обычно, когда описывают эти ранние размышления, касающиеся природы вещества, подчеркивают, что они послужили прообразом современной науки. Особенно принято восхищаться Демокритом: в Греции даже есть университет, названный его именем. В самом деле, попытки определить основные составляющие вещества продолжались тысячелетиями, хотя время от времени состав элементов менялся. К началу нового времени алхимики выделяли три основополагающих элемента: ртуть, соль и серу. Современное понятие о химических элементах появилось в период революционных преобразований в химии, инициированных Пристли, Лавуазье, Дальтоном и другими учеными в конце XVIII в. Сейчас насчитывается 92 элемента естественного происхождения, от водорода до урана (включая серу и ртуть, но не соль). К тому же постоянно растет перечень искусственно созданных элементов тяжелее урана. В нормальных условиях чистый химический элемент состоит из атомов одного и того же вида, элементы отличаются друг от друга по типу атомов, из которых они состоят. Сегодня мы изучаем элементарные частицы, из которых состоят атомы химических элементов, но, тем или иным образом, мы продолжаем поиск основополагающих составляющих природы, начатый в Милете.
Тем не менее я считаю, что нельзя преувеличивать современное значение архаической или классической греческой науки. В современной науке есть важная особенность, которая полностью отсутствует у всех упомянутых мною мыслителей от Фалеса до Платона: никто из них не пытался доказать или хотя бы (кроме разве что Зенона) серьезно подтвердить свои предположения. Читая их записи, постоянно задаешь один и тот же вопрос: «А откуда вы знаете?» Это относится как к Демокриту, так и ко всем остальным. Нигде в отрывках его работ, которые дошли до нас, мы не видим ни одной попытки показать, что вещество действительно состоит из атомов.
Идеи Платона о пяти элементах – это хороший пример его безразличного отношения к подтверждению своих гипотез. В «Тимее» он начинает не с правильных многогранников, а с треугольников, которые он предлагает соединить вместе в форме многогранника. О каких треугольниках идет речь? Платон предлагает взять прямоугольный равнобедренный треугольник с углами 45°, 45° и 90° и прямоугольный треугольник с углами 30°, 60° и 90°. Квадраты, формирующие кубический атом земли, могут быть составлены из двух равнобедренных прямоугольных треугольников, а треугольные грани тетраэдра, октаэдра и икосаэдра, представляющих атомы огня, воздуха и воды (в указанном порядке), могут быть составлены из двух других прямоугольных треугольников. (Додекаэдр, таинственным образом представляющий космос, не может быть собран таким способом.) Объясняя свой выбор, Платон пишет: «Что ж, если кто-нибудь выберет и назовет нечто еще более прекрасное, предназначенное для того, чтобы создавать эти [четыре тела], мы подчинимся ему не как неприятелю, но как другу; нам же представляется, что между множеством треугольников есть один, прекраснейший, ради которого мы оставим все прочие, а именно тот, который в соединении с подобным ему образует третий треугольник – равносторонний. Обосновывать это было бы слишком долго (впрочем, если бы кто изобличил нас и доказал обратное, мы охотно признали бы его победителем)»{14}. Я могу себе представить, как бы отреагировали мои коллеги сегодня, если бы я в статье по физике выдвинул новую гипотезу о строении вещества, написав, что объяснять, как я дошел до нее, слишком долго, и предложив им опровергнуть мое предположение, если они считают его неверным.
Аристотель называл ранних греческих мыслителей физиологами, что иногда переводят как «физики»{15}, но это совершенно неправильный перевод. Слово «физиологи» (от др. – гр. φύσις) просто обозначает тех, кто изучает природу, у древних греков очень мало общего с сегодняшними физиками. В их теориях нет никакой физической изюминки. Эмпедокл мог строить предположения об элементах, а Демокрит – об атомах, но их соображения не несут новой информации о природе, не говоря уж о том, что из их теорий не делалось никаких проверяемых выводов.
Мне кажется, что для того, чтобы правильно понимать ранних греческих мыслителей, лучше воспринимать их не как физиков, не как ученых и даже не как философов, а как поэтов.
Я должен объяснить, что имею в виду поэзию в узком смысле этого слова – как язык, в котором используются такие словесные приемы, как размер, ритм и аллитерация. Даже в этом смысле Ксенофан, Парменид и Эмпедокл были поэтами. После дорийского вторжения и окончания бронзовой эры Микенской цивилизации в XII в. до н. э. греки, по большей части, стали неграмотными. При отсутствии письменности стихи стали практически единственным способом, с помощью которого люди могли оставить свое послание следующим поколениям, поскольку они запоминаются намного легче, чем проза. Греки оставались неграмотными примерно до 700 г. до н. э. Новый алфавит, заимствованный у финикийцев, был впервые использован Гомером и Гесиодом, чтобы записать, опять-таки, стихи, часть из которых брала свое начало в надолго запомнившихся темных временах Греции. Проза появилась позднее.
Даже те ранние греческие философы, которые писали прозой, как Анаксимандр, Гераклит и Демокрит, приспосабливали свои строки к поэтическому стилю. Цицерон говорил о Демокрите, что он более поэтичен, чем многие поэты. Платон в юности хотел стать поэтом, и хотя он писал прозой и жестоко обрушился на поэзию в своем «Государстве», его литературный стиль всегда вызывал восхищение.
Здесь я имею в виду поэзию в более широком смысле: слова используются скорее для эстетического эффекта, чем для того, чтобы ясно сказать, что же действительно имеется в виду. Когда Дилан Томас пишет, что «Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет, // Творит и зелень юности моей»{16}, мы не рассматриваем эти строки как серьезное положение об унификации сил в ботанике и зоологии и не ищем ей никакого подтверждения; мы (по крайней мере, я) воспринимаем ее скорее как выражение грусти по поводу подступающей старости и смерти.
Иногда становится понятно, что Платон не намеревался говорить обо всем буквально. Один из примеров этого – уже упомянутая исключительно слабая аргументация того, что он выбирает именно два треугольника как основу всей материи. Если взять еще более явный пример, в «Тимее» Платон рассказывает историю Атлантиды, которая якобы процветала за тысячи лет до времени его собственного существования. Платон не мог серьезно полагать, что он действительно знал о чем-то, происходившем тысячи лет назад.
Я не хочу сказать, что ранние греческие мыслители выбрали поэтическую форму для своих записок, чтобы им не надо было доказывать свои теории. Они просто не чувствовали необходимости в каких-либо доказательствах. Сегодня мы проверяем наши предположения о природе, используя выдвинутые теории, чтобы прийти к более или менее точным умозаключениям, которые можно проверить наблюдением. Ранние греческие мыслители и их многочисленные последователи этого не делали по одной простой причине: они никогда не видели, как это делается.
Можно найти различные свидетельства того, что ранние греческие мыслители продолжали сомневаться в своих собственных теориях, даже когда они хотели, чтобы их принимали всерьез, и они чувствовали недостаточность своих знаний для познания недосягаемого. Один пример этого я привел в своей монографии (написанной в 1972 г.) по общей теории относительности. В начале главы, рассказывающей о космологических представлениях, я процитировал несколько строк из Ксенофана: «Истины точной никто не узрел и никто не узнает // Из людей о богах и о всем, что я только толкую: // Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, // Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает»{17}. В том же духе в своей работе «О разнице форм» Демокрит отмечает: «На самом деле мы ничего не знаем точно» и «Многими способами показано, что мы на самом деле не знаем, чем являются или не являются вещи».
В современной физике сохранился некий поэтический элемент. Мы не пишем свои работы стихами, большая часть написанного физиками едва дотягивает до уровня прозы. Но в наших теориях мы ищем красоту и используем эстетические рассуждения как ключ в исследованиях. Некоторые из нас считают, что это работает потому, что сотни лет удач и провалов в физических исследованиях научили нас предугадывать определенные законы природы. Благодаря этому опыту мы можем чувствовать, что проявления законов природы красивы{18}. Но мы никогда не приводим красоту теории как убедительное доказательство ее верности.
Например, теория струн, которая описывает различные взаимодействия элементарных частиц как разного рода колебания микроскопических струн, очень красива. Она имеет достаточно последовательное математическое обоснование, таким образом, ее содержание не произвольно, а в значительной степени подтверждается с помощью математического аппарата. К тому же в этой теории есть красота настоящего произведения искусства – сонета или сонаты. Но, к сожалению, теория струн так и не получила ни одного экспериментального доказательства, поэтому физики-теоретики (по крайней мере большинство из нас) не могут сказать однозначно, приложима ли эта теория к реальности. Это то самое требование подтверждения, которое так часто отсутствует в произведениях поэтов, изучающих природу, от Фалеса до Платона.
2. Музыка и математика
Даже если бы Фалес и его последователи понимали, что им необходимо делать выводы из своих теорий строения материи, которые можно сравнить с результатами наблюдений, эта задача оказалась бы для них чрезмерно трудной, отчасти из-за ограничений древнегреческой математики. Вавилоняне достигли больших успехов в арифметике, используя шестидесятеричную систему счисления, а не десятичную. Также они развили некоторые простые алгебраические приемы (хотя и не записывая их специальными символами), например, решение различных квадратных уравнений. Но для древних греков математика была, скорее, геометрией. Как мы можем заметить, к тому времени, когда жил Платон, уже были доказаны теоремы, связанные с треугольниками и многогранниками. Большая часть геометрических понятий, описанных в Евклидовых «Началах», была известна задолго до Евклида, примерно в 300 г. до н. э. Но и в то время у греков были очень ограниченные представления об арифметике, не говоря уж об алгебре, тригонометрии и математическом анализе.
Возможно, первым явлением, которое древние изучали с помощью арифметических методов, была музыка. Это описано в работах последователей Пифагора. Уроженец населенного ионийцами острова Самос Пифагор уехал в южную Италию примерно в 530 г. до н. э. Там, в греческом городе Кротоне, он основал культ, который просуществовал до конца IV в. до н. э.
Слово «культ» в данном случае кажется мне подходящим. Ранние пифагорейцы не оставили никаких записей, но, по свидетельству других авторов{19}, они верили в переселение душ. Пифагорейцы должны были носить белые одежды, им было запрещено есть бобы из-за того, что они напоминают человеческие зародыши. Они организовали нечто вроде теократического общества, и под их управлением жители Кротона в 510 г. до н. э. разрушили соседний город Сибарис.
Для истории науки важно, что кроме всего вышесказанного пифагорейцы развили интерес к математике. В «Метафизике» Аристотель пишет: «… так называемые пифагорейцы, занявшись математическими науками, впервые двинули их вперед и, воспитавшись на них, стали считать их начала началами всех вещей»{20}.
Возможно, их особое внимание к математике было вызвано наблюдением за музыкой. Они заметили, что если во время игры на струнном инструменте щипнуть одновременно две струны одинаковой толщины, состава и натяжения, то приятный звук получается только в том случае, если длины струн относятся друг к другу как соотношение небольших целых чисел. Самый простой случай – когда одна струна наполовину короче второй. Сейчас мы говорим, что звучание двух струн расходится на октаву, и мы обозначаем издаваемый ими звук одной и той же буквой алфавита. Если одна струна составляет две трети длины другой, то проигрываются две ноты, интервал между которыми составляет квинту, имеющую достаточно гармоничное звучание. Если одна струна составляет три четверти длины другой, они производят гармоничное звучание, которое называется квартой. Напротив, если длины струн не соотносятся как небольшие целые числа (например, длина одной струны составляет 100 000/314 159 длины другой) или вообще не попадают в множество целых чисел, то получается неприятный, режущий ухо звук. Сейчас мы знаем, что для этого есть две причины: частота звуковых волн, производимых двумя струнами одновременно, и совпадение обертонов, производимых каждой струной (см. техническое замечание 3). Пифагорейцы ничего этого не понимали, как и никто другой, пока в XVII в. не появилась работа французского естествоиспытателя-священника Марена Мерсенна. Вместо этого, по Аристотелю, пифагорейцы «… всю вселенную признали гармонией и числом»{21}. Эта идея имела долгую жизнь. Например, Цицерон в своем диалоге «О государстве» рассказывает историю о том, как великий римский полководец Сципион Африканский знакомит своего внука с музыкой сфер.
Большего прогресса пифагорейцы достигли, скорее, в чистой математике, чем в физике. Все знают теорему Пифагора о том, что площадь квадрата, одной из сторон которого является гипотенуза прямоугольного треугольника, равна сумме площадей двух квадратов, стороны которых являются катетами этого треугольника. Но неизвестно, кто именно из пифагорейцев доказал эту теорему и как он это сделал. Ее можно очень просто доказать, основываясь на теории соотношений, которая принадлежит пифагорейцу Архиту Тарентскому, современнику Платона (см. техническое замечание 4). В теореме 46 Первой книги «Начал» Евклида приводится более сложное доказательство. Кстати, Архит решил знаменитую задачу, которая до него оставалась нерешенной: как, имея куб и используя чисто геометрические методы, построить куб, в два раза больший по объему.
Теорема Пифагора ведет к другому великому открытию о том, что геометрические построения могут привести к соотношениям, которые не могут быть выражены частным от деления целых чисел. Если каждый катет прямоугольного треугольника имеет длину, равную единице (неважно, в каких единицах измерения), то сумма площадей двух квадратов, сторонами которого являются эти катеты, составляет 1² + 1² = 2. Тогда в соответствии с теоремой Пифагора длина гипотенузы должна выражаться числом, квадрат которого равен 2, но легко увидеть, что число, квадрат которого равен 2, не может быть выражено как соотношение целых чисел (см. техническое замечание 5). Доказательство этого дается в Десятой книге «Начал» Евклида. Ранее о нем говорит Аристотель в «Первой аналитике»{22} в качестве примера reductio ad impossibile[3], не давая ссылку на оригинальный источник. Существует легенда о том, что это открытие принадлежит пифагорейцу Гиппасу, который, возможно, родился в городе Метапонте на юге Италии и был изгнан или убит пифагорейцами за разглашение этого открытия.
Сегодня мы можем описать это открытие следующим образом: такие числа, как квадратный корень из двух, являются иррациональными – они не могут быть выражены как отношение целых чисел. Согласно Платону{23}, Феодор Киренский показал, что квадратные корни из 3, 5, 6,…, 15, 17 и т. д. (и вдобавок, хотя Платон этого и не говорит, квадратные корни из всех целых чисел, кроме 1, 4, 9, 16 и т. д., которые являются квадратами целых чисел) иррациональны в том же смысле. Но древние греки не выражали эту мысль таким образом. Скорее, судя по переводу Платона, они говорили о сторонах квадратов, площадь которых равна 2, 3, 5 и т. д., несоизмеримых единице. У древних греков не было понятия о каких-либо числах, кроме рациональных, поэтому для них такое число, как квадратный корень из двух, могло быть представлено только геометрически, что затрудняло развитие арифметики.
Традиция чистой математики была продолжена в Академии Платона. Говорили, что у ее дверей висело предупреждение, запрещающее вход любому, кто невежествен в геометрии. Сам Платон математиком не был, но с восторгом относился к математикам, отчасти, вероятно, потому, что во время своего путешествия в Сиракузы, чтобы стать наставником молодого Дионисия II Младшего, встречался с пифагорейцем Архитом Тарентским.
В Академии одним из математиков, который оказал огромное влияние на Платона, был Теэтет Афинский, ставший главным героем одного из диалогов Платона и объектом для обсуждения в другом. Теэтет знаменит открытием пяти правильных многогранников, которые, как мы уже видели, обеспечили основу теории элементов Платона. Доказательство{24} того, что эти тела являются единственно возможными выпуклыми многогранниками, предложено в «Началах» Евклида и приписывается Теэтету, который также внес свой вклад в теорию того, что мы сегодня называем иррациональными числами.
Самым великим эллинским математиком IV в. до н. э. был Евдокс Книдский, ученик Архита и современник Платона. Хотя он прожил большую часть своей жизни в городе Книде, на побережье Малой Азии, Евдокс учился в Академии Платона и позже вернулся туда, чтобы самому стать учителем. От Евдокса не осталось никаких записей, но он известен тем, что решил множество сложных математических задач, например доказал, что объем конуса равен одной трети объема цилиндра с тем же основанием и высотой (я не представляю, как Евдокс мог сделать это, не прибегая к математическому анализу). Его величайшим вкладом в математику стало изобретение метода исчерпывания, при использовании которого теоремы выводились из простых аксиом, не требующих доказательства. Этот же метод использовал Евклид в своих работах. На самом деле многое в «Началах» Евклида может быть отнесено на счет Евдокса.
Хотя открытия Евдокса и пифагорейцев были большим интеллектуальным достижением сами по себе, они оказали неоднозначное влияние на естественные науки. Начнем с того, что дедуктивное изложение в работах математиков, достигшее вершины в «Началах» Евкилида, постоянно повторялось и в работах исследователей – естественников, где такой стиль совершенно неприемлем. Как мы видим, в работах Аристотеля математика привлекается очень мало, но временами его аргументация выглядит как пародия на математическое доказательство, как, например, в дискуссии о движении в «Физике»: «Положим, что тело, обозначенное Α, будет проходить через среду Β в течение времени Γ, а через более тонкую среду Δ – в течение [времени] Ε; если расстояния [проходимые телом] в средах Β и Δ равны, [то Γ и Ε будут] пропорциональны [сопротивлению] препятствующего тела. Пусть, например, Β будет вода, а Δ – воздух…»{25}. Возможно, величайшая древнегреческая работа в области физики – это сочинение Архимеда «О плавающих телах», о чем мы поговорим в главе 4. Оно изложено как математическая работа, где из постулатов выводятся доказательства утверждений. Архимед был достаточно умен, чтобы выбрать подходящие постулаты для своих выводов, но научное исследование честнее представлять как единство дедукции, индукции и предположения.
Однако гораздо более важным, чем вопрос стиля (хотя и связано с ним), является ошибочное желание достичь абсолютной истины при помощи одного лишь чистого разума, на что вдохновляли математики. В своей дискуссии об образовании философа в диалоге «Государство» Платон использовал сократовский аргумент о том, что астрономию нужно изучать таким же способом, как и геометрию. Согласно Сократу, смотреть в небо может быть полезно для развития разума, точно так же как смотреть на геометрические построения полезно для изучения математики, но в обоих случаях настоящее знание приходит только через мысль. «Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне…»{26}
Математика – это средство, с помощью которого мы выводим следствия физических законов. Более того, это незаменимый язык, на котором излагаются сами физические законы. Она часто пробуждает новые идеи в области естественных наук, и, в свою очередь, нужды науки часто подталкивают развитие математики. Работа физика-теоретика Эдварда Виттена обеспечила такой громадный прорыв в математике, что в 1990 г. он получил одну из самых высоких наград в области математики – Филдсовскую медаль. Но при этом математика не является естественной наукой. Математика сама по себе, без наблюдений за окружающим миром, не может ничего рассказать о нем. И математические теоремы не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты такими наблюдениями.
Ни в древнем мире, ни даже в начале Нового времени об этом не подозревали. Мы уже видели, что Платон и пифагорейцы воспринимали математические объекты, например, числа или треугольники, как элементарные составляющие природы, и мы еще увидим, как некоторые философы считали вычислительную астрономию частью математики, а не естественной наукой.
Различие между математикой и естественными науками достаточно четко. Для нас остается загадкой, как математические построения, никак не связанные с природой, часто оказываются применимы к физическим теориям. В своей знаменитой статье{27} физик Юджин Вигнер писал о «непостижимой эффективности математики». Но в целом мы никоим образом не смешиваем математические концепции и принципы естественных наук, которые в конечном счете должны быть подтверждены наблюдением за окружающим миром.
Сейчас конфликты между математиками и другими учеными порой возникают из-за вопросов математической строгости. С начала XIX в. чистые математики требовали, чтобы строгость стала основой всего. Определения и допущения должны быть точными, а доказательства проведены с абсолютной достоверностью. Физики более гибки, точность и достоверность требуется им только для того, чтобы избежать серьезных ошибок. В предисловии к своей монографии по квантовой теории полей я признаю, что «в книге есть части, которые читатель, склонный к математике, будет читать со слезами на глазах».
Это вызывает сложности во взаимопонимании. Математики говорили мне, что работы физиков часто кажутся им раздражающе расплывчатыми. Те физики, которым, как и мне самому, нужен продвинутый математический аппарат, часто находят, что стремление математиков к строгости усложняет работу, но не так ценно для самой физики.
Физики, склонные к математике, совершили благородный поступок, формализовав современную физику элементарных частиц – квантовую теорию поля – по строгим математическим канонам, и достигли некоторых интересных результатов. Но за последние полвека в Стандартной модели элементарных частиц не было никакого развития, связанного с достижением более высокого уровня математической строгости.
Греческие математики процветали и после Евклида. В главе 4 мы поговорим о великих достижениях математиков позднего эллинистического периода – Архимеда и Аполлония Пергского.
3. Движение и философия
После Платона размышления греков о природе стали менее поэтическими и более аргументированными. Прежде всего, эти изменения заметны в работах Аристотеля. Аристотель не был ни урожденным афинянином, ни даже ионийцем. Он родился в 384 г. до н. э. в Македонии и переехал в Афины в 367 г. до н. э., чтобы учиться в основанной Платоном Академии. После смерти Платона в 347 г. до н. э. Аристотель уехал из Афин, некоторое время жил на острове Лесбос в Эгейском море и в прибрежном городе Ассос. В 343 г. до н. э. царь Филипп II призвал его обратно в Македонию, чтобы сделать наставником для своего сына, будущего Александра Великого.
Македония возвысилась в греческом мире после того, как армия Филиппа разбила армию Афин и Фив в битве при Херонее в 338 г. до н. э. После смерти Филиппа в 336 г. до н. э. Аристотель вернулся в Афины, где основал свою собственную школу Ликей. Наряду с Академией Платона, Садом Эпикура и Портиком[4] стоиков Ликей был одной из четырех самых великих афинских школ. Он просуществовал несколько веков, вероятно, пока не был закрыт, когда Афины были захвачены римскими войсками под предводительством Суллы в 86 г. до н. э. У Ликея была долгая жизнь, но Академия Платона, действовавшая в том или ином виде до 529 г. н. э., имеет более долгую историю, чем многие ныне существующие европейские университеты.
Дошедшие до нас работы Аристотеля в основном выглядят как заметки для его лекций в Ликее. Они касаются удивительного множества предметов: астрономия, зоология, сновидения, метафизика, логика, этика, риторика, политика, эстетика и то, что обычно переводят как «физика». По мнению одного из современных переводчиков{28}, язык Аристотеля был «выразителен, краток, резок, его аргументы выражены сжато, его мысль глубока», что вовсе не похоже на поэтический стиль Платона. Я должен сознаться, что иногда нахожу Аристотеля таким скучным, каким Платон не бывает, в то же время Аристотель не часто демонстрирует глупость, чего не скажешь о Платоне.
Платон и Аристотель были реалистами, но в разном смысле этого слова. Платон был реалистом в средневековом значении: он верил в реальность абстрактных идей, в частности, в идеальную форму вещей. Он считал, что реально существует идеальная форма сосны, а все отдельно существующие сосны только являются ее неидеальными воплощениями. Идеальные формы неизменны, как этого требовали Парменид и Зенон. Аристотель был реалистом в общепринятом современном смысле: для него категории хотя и были очень интересны, но существовали отдельные вещи, например, отдельные сосны, вполне реальные, а не платоновские отражения идеального.
Чтобы подтвердить свои предположения, Аристотель чаще пользовался доводами разума, а не действовал по наитию. Нельзя не согласиться со специалистом по классической филологии Р. Дж. Ханкинсоном, что «мы не должны упускать из виду тот факт, что Аристотель был человеком своего времени, и для этого времени он был чрезвычайно наблюдательным, прозорливым и передовым»{29}. Как бы то ни было, сквозь все учение Аристотеля проходили принципы, от которых современная наука отказалась на пути своего становления.
Начнем с того, что работы Аристотеля переполнены телеологией: вещи являются тем, что они есть, благодаря целям, которым они служат. В «Физике» мы читаем: «Кроме того, дело одной и той же [науки – познавать] «ради чего» и есть цель, а также [средства], которые для этого имеются. Ведь природа есть цель и “ради чего”…»{30}
То, что Аристотель придает особое значение телеологии, вполне естественно для человека его склада, который интересовался биологией. В Ассосе и на Лесбосе Аристотель изучал морскую биологию, а его отец Никомах был врачом при македонском дворе. Друзья, более сведущие в биологии, чем я, говорят, что описания животных, сделанные Аристотелем, достойны восхищения. Телеология вполне естественна для того, кто, как Аристотель в своем сочинении «О частях животных», изучает сердце или желудок животного – едва ли ему приходится задаваться вопросом, какой цели служат эти органы.
Более того, до работ Дарвина и Уоллеса в XIX в. натуралисты не понимали, что, хотя органы тела служат разным целям, не существует никакой цели, лежащей в основе эволюции. Живые организмы стали тем, чем они стали, благодаря продолжавшемуся миллионы лет естественному отбору из передающихся по наследству вариаций. И, конечно, задолго до Дарвина физики изучали вещество и силу, не задумываясь, какой цели они служат.
Увлечение Аристотеля зоологией, возможно, определило и то, что он особо подчеркивал значение классификации и систематизации, подразделял предметы и понятия на категории. Некоторые из них мы используем до сих пор: например, аристотелевское деление способов управления государством на монархию, аристократию и, хотя и не демократию, но конституционное государственное устройство. Однако многие его классификации бессмысленны. Я могу себе представить, как Аристотель мог бы классифицировать фрукты: все фрукты делятся на три разновидности – яблоки, апельсины и фрукты, которые не являются ни яблоками, ни апельсинами.
Через все работы Аристотеля красной нитью проходит один тип классификации, ставший в дальнейшем препятствием для развития науки. Он настаивал на разделении естественного и искусственного. Вторую книгу «Физики» он начал словами: «Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин»{31}. Он считал достойной своего внимания только природу. Возможно, именно это разделение естественного и искусственного не позволяло Аристотелю и его последователям интересоваться экспериментами. Что может быть хорошего в создании искусственной ситуации, когда настоящий интерес вызывают природные явления?
Аристотель не отвергал наблюдения за природными явлениями. Наблюдая временной промежуток между вспышкой молнии и ударом грома и слушая звуки весел, которые опускали в воду гребцы на триреме, плывущей вдали, он сделал вывод о том, что скорость распространения звука в воздухе конечна{32}. Также мы увидим, что Аристотель, удачно используя наблюдения, сделал выводы о форме земного шара и о причине возникновения радуг. Но это были обычные наблюдения природных явлений, а не создание искусственных ситуаций с целью проведения эксперимента.
Разделение между естественным и искусственным значительно повлияло на размышления Аристотеля о проблеме, имеющей огромное значение для истории науки, – изучения падения тел. Аристотель учил, что твердые тела падают, потому что естественное место элемента земли – внизу, в центре космоса или мироздания, а искры летят вверх, потому что естественное место огня – в небе. Земля представляет собой практически правильный шар, и ее центр является центром космоса, потому что в этом положении большая часть земной тверди примыкает к центру мироздания. В его трактате «О небе» мы читаем: «Если такая-то тяжесть проходит такое-то расстояние за такое-то время, то такая-то плюс N – за меньшее. И пропорция, в которой относятся между собой времена, будет обратной к той, которой относятся между собой тяжести. Например, если половинная тяжесть – за такое-то [время], то целая – за его половину»{33}.
Аристотеля нельзя обвинить в том, что он полностью игнорировал наблюдения падающих тел. Хотя и не понимая причин этого явления, он отметил, что сопротивление воздуха или любой другой окружающей среды оказывает эффект на падающее тело: его скорость приближается к постоянному значению, равновесной скорости, которая возрастает при увеличении массы предмета (см. техническое замечание 6). Возможно, для Аристотеля было более важно, что наблюдения того, что скорость падающего тела увеличивается при возрастании его веса, подтверждали его учение о том, что тело падает, потому что естественное место материала, из которого оно сделано, находится в центре мира.
Для Аристотеля наличие воздуха или другой среды было основополагающим в понимании движения. Он думал, что если не будет никакого сопротивления, то тела будут двигаться с бесконечной скоростью, – нелепость, которая привела его к отрицанию возможности существования пустого пространства. В «Физике» он выдвигает такой аргумент: «…не существует пустоты, как чего-то отдельного, как утверждают некоторые, об этом мы поговорим снова»{34}. Но на самом деле существует только установившаяся скорость падения тела, которая обратно пропорциональна силе сопротивления. Установившаяся скорость действительно будет бесконечной, если сопротивления не станет, но в этом случае падающее тело никогда ее не достигнет.
В той же главе Аристотель высказывает еще более спорную мысль о том, что в пустоте не может существовать ничего, с чем движение может соотноситься: «… ни один [предмет] не может двигаться, если имеется пустота. Ведь подобно тому, как, по утверждению некоторых, Земля покоится вследствие одинаковости [всех направлений], так необходимо покоиться и в пустоте, ибо нет оснований двигаться сюда больше, сюда меньше: поскольку это пустота, в ней нет различий»{35}. Но это только аргумент против существования бесконечной пустоты; иначе говоря, движение в пустоте может соотноситься с тем, что находится вне этой пустоты.
Поскольку Аристотель представлял себе движение только при наличии сопротивления, он считал, что любое движение имеет причину{36}. (Аристотель выделял четыре причины: материя, форма, действие и конечная причина, которая является телеологической, – это цель изменения.) Каждая причина должна сама по себе быть вызванной еще какой-то причиной, но эта последовательность причин не бесконечна. В «Физике» мы читаем: «Так как все движущееся должно приводиться в движение чем-нибудь, а именно если нечто перемещается под действием другого движущегося и это движущееся, в свою очередь, приводится в движение другим движущимся, а оно другим и так далее, то необходимо [признать] существование первого движущегося и не идти в бесконечность»{37}. Теория о существовании перводвигателя позже подарила христианству и исламу аргумент в пользу существования Бога. Но, как мы увидим далее, в Средние века мысль о том, что Бог не мог создать пустоту, создавала проблемы для последователей Аристотеля и в христианстве, и в исламе.
Аристотеля нисколько не беспокоил тот факт, что тела не всегда перемещаются на свои естественные места. Камень, который держат в руках, не падает, но для Аристотеля этот пример просто демонстрирует искусственное вмешательство в естественный ход вещей. Однако его волновало, что камень, подброшенный вверх, какое-то время продолжает удаляться от Земли, даже после того, как выпадет из руки. Его объяснение, которое на самом деле объяснением не является, гласит, что камень какое-то время удаляется от Земли, потому что это движение придается ему воздухом. В третьей книге трактата «О небе» он пишет: «…и в том и в другом случае [сила] передает [движение] телам, как бы приложив [его к воздуху]. Вот почему [предмет], приведенный в движение силой, продолжает двигаться даже тогда, когда то, что привело его в движение, больше его не сопровождает»{38}. Как мы увидим далее, это положение часто обсуждалось и отвергалось и в древности, и в Средние века.
То, что Аристотель писал о падающих телах, типично для его физики: детальная, хотя и не имеющая отношения к математике, аргументация, основывающаяся на базовых принципах, которые, в свою очередь, выводятся из самых простых наблюдений за явлениями природы. При этом он даже не пытается проверить те принципы, которые положены в основу всего рассуждения.
Я не хочу сказать, что философия Аристотеля была воспринята его последователями и продолжателями как альтернатива науке. В древности и Средневековье не было концепции науки, существующей отдельно от философии. Размышления о природе уже были философией. Только в XIX в., когда немецкие университеты учредили докторскую степень для ученых, занимающихся искусствами и науками, чтобы приравнять их по статусу к докторам теологии, юриспруденции и медицины, было изобретено звание «доктор философии». До этого, когда философию сравнивали с другими способами познания природы, ее противопоставляли не науке, а математике.
Ни один мыслитель не оказал такого влияния на историю философии, как Аристотель. Как мы увидим в главе 9, им восхищались некоторые арабские философы, причем Аверроэс дошел в этом восхищении до раболепия. Глава 10 расскажет о влиянии Аристотеля на христианскую Европу в начале XIII в., когда Фома Аквинский увязал его мысли с христианством. В позднем Средневековье Аристотель был известен просто как Философ, а Аверроэс – как комментатор. После Аквинского изучение трудов Аристотеля заняло центральное место в университетском образовании. В прологе к «Кентерберийским рассказам» Чосера мы знакомимся с оксфордским студентом:
- Студент оксфордский с нами рядом плелся…
- Ему милее двадцать книг иметь,
- Чем платье дорогое, лютню, снедь.
- Он негу презирал сокровищ тленных,
- Но Аристотель – кладезь мыслей ценных –
- Не мог прибавить денег ни гроша…{39}
Конечно, в наше время все изменилось. После открытия науки стало необходимо отделить ее от того, что мы сейчас называем философией. Существуют очень интересные работы по философии науки, но они не сильно влияют на научные исследования.
Попытки научной революции в XIV в. были во многом бунтом против аристотелизма, о котором подробно рассказывается в главе 10. В последние годы те, кто изучает труды Аристотеля, часто принимаются опровергать тех, кто считает его идеи устаревшими, устраивая своего рода «контрреволюцию». Знаменитый историк Томас Кун так описывал, как он перешел от пренебрежения по отношению к Аристотелю к восхищению им:
«В частности, его сочинения о движении казались мне полными вопиющих ошибок, как логических, так и связанных с результатами наблюдений. Мне казалось, что эти заключения говорят о том, что Аристотеля напрасно считали корифеем древней логики. Почти две тысячи лет его работы играли в логике почти такую же роль, как работы Евклида – в геометрии… Каким образом его воистину выдающийся талант отказывал ему каждый раз, когда он брался за изучение движения и механики? Помимо этого, почему его работы по физике рассматривались так серьезно в течение стольких лет после его смерти?.. Но неожиданно все эти разрозненные фрагменты сложились в моей голове в совершенно иную картину, и все встало на место. Я даже рот открыл от изумления: Аристотель вдруг показался мне совсем неплохим физиком, только того сорта, который я раньше себе не представлял. Я просто нашел способ читать тексты Аристотеля»{40}.
Я слышал, как Кун говорил это, когда мы оба получали почетные степени университета Падуи, и попросил разъяснить их. Он ответил: «После моего первого прочтения (работ Аристотеля по физике) изменилась не моя оценка его достижений, но мое понимание их». Я не понимал этого: для меня «совсем неплохой физик» звучит именно как оценка.
Рассматривая отсутствие интереса к эксперименту у Аристотеля, историк Дэвид Линдберг отмечал, что «научную деятельность Аристотеля тем не менее нельзя объяснять как результат глупости или неполноценности с его стороны, как неудачу в понимании очевидного усовершенствования процедуры исследования. Это был метод, совместимый с миром в представлении Аристотеля, и он хорошо подходил к тем вопросам, которые его интересовали». В более объемной статье о том, как оценивать успехи Аристотеля, Линдберг{41} позже добавил: «Было бы совершенно несправедливо и бессмысленно оценивать успехи Аристотеля по тому, насколько они предугадывали современную науку (словно бы он отвечал на вопросы, которые задаем мы, а не на свои собственные)». И во втором издании той же работы: «Правильной мерой философской системы или научной теории является не то, насколько хорошо они предвосхитили современную научную мысль, но то, насколько успешно они разрешали научные и философские проблемы своего времени»{42}.
Я на это не купился. В науке (я здесь не говорю о философии) важно не решение каких-то популярных научных проблем-однодневок, а понимание мира. В рамках этой работы ученый находит, какие объяснения возможны и решение каких задач может привести к этим объяснениям. Прогресс науки во многом зависит от поиска вопросов, которые нуждаются в ответах.
Конечно, ученый должен попытаться понять исторический контекст научных открытий. Исходя из этого, задача историка зависит от его планов. Если его целью является только воссоздать прошлое, понять «как все было на самом деле», тогда ему, возможно, и не понадобится оценивать достижения ученых прошлого по современным стандартам. Но таких суждений не избежать, если кто-то хочет проследить развитие научного прогресса от прошлого к настоящему.
Этот прогресс – совершенно объективное явление, а не просто новые веяния в моде. Можно ли сомневаться в том, что Ньютон знал о движении больше, чем Аристотель, или что мы знаем больше, чем Ньютон? Вопросы о том, какие виды движения являются естественными или какова цель того или иного физического явления, никогда не имели смысла.
Я согласен с Линдбергом, что несправедливо считать Аристотеля глупцом. Я оцениваю прошлое по стандартам современности только с целью подвести к пониманию того, как трудно было даже для такого умного человека, как Аристотель, научиться познавать природу. Ничего из того, что стало обычной практикой в современной науке, не является очевидным для человека, который никогда не видел, как это делается.
Аристотель покинул Афины после смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. и вскоре умер, в 322 г. до н. э. Согласно Майклу Мэтьюсу, это была «смерть, которая свидетельствовала об окончании одного из самых ярких периодов интеллектуального развития в истории человечества»{43}. Это и в самом деле был конец Классического периода, но, как мы увидим в дальнейшем, это стало и началом эпохи, которая была отмечена гораздо более яркими научными достижениями, – Эллинистической эры.
4. Эллинистическая физика и техника
После смерти Александра Македонского его империя развалилась на несколько частей. С точки зрения истории науки наибольший интерес из образовавшихся в тот момент государств представляет Египет. Там правила династия царей греческого происхождения, которую основал Птолемей I, один из главных военачальников армии Александра. Закончилась династия на Птолемее XV, сыне Клеопатры и (возможно) Юлия Цезаря. Последний из царствовавших Птолемеев был убит вскоре после поражения флота Антония и Клеопатры у мыса Акциум в 31 г. до н. э., после чего Египет был поглощен Римской империей.
Эпоху от Александра до битвы при Акциуме{44} принято называть Эллинистическим периодом. Это понятие (в немецком языке – Hellenismus) было введено в употребление в 1830-х гг. Иоганном Гюставом Дройзеном. Не уверен, так ли задумал Дройзен, но, с моей точки зрения, по-английски слова с суффиксом «-ический» звучат как понятия с оттенком вторичности, в отличие от слов без него. Например, «архаический» используется для имитации чего-либо из эпохи архаики, и в этом отношении напрашивается мысль, что эллинистическая культура была вторична по отношению к культуре непосредственно Эллады, как если бы она лишь воспроизводила достижения Классического периода, длившегося с V по I в. до н. э. Эти достижения действительно были значительны, особенно в области геометрии, драматического искусства, историографии, архитектуры, скульптуры и, возможно, в иных областях искусства Классического периода, таких как музыка или живопись, которые не дошли до нашего времени. Но именно наука достигла в Эллинистический период таких высот, которые не только затмили научные успехи Классической эры, но и не были превзойдены вплоть до научной революции XVI–XVII вв.
Особенно важным центром науки эллинизма был город Александрия, столица династии Птолемеев, основанная самим Александром недалеко от устья Нила. Александрия стала крупнейшим городом в греческом мире, и даже потом, в Римской империи, уступая размером и роскошью лишь самому Риму.
Около 300 г. до н. э. Птолемей I основал Александрийский Мусейон – им стала часть царского дворца. Вначале Музей, названный так, потому что был посвящен девяти музам, был местом, где изучали литературу и языки. Но после восшествия на престол Птолемея II в 285 г. до н. э. он превратился также и в центр по изучению наук. Над литературой знатоки продолжали работать и в Музее, и в Александрийской библиотеке, но теперь в Музее муза астрономии Урания засияла ярче своих сестер, отвечающих за различные искусства. Музей и наука Древней Греции пережили падение династии Птолемеев, и, как мы увидим, некоторые наиболее значительные достижения в науке совершались в греческой половине Римской империи – в основном в Александрии.
Миграция интеллектуалов того времени между Египтом и греческой метрополией напоминала миграцию между Америкой и Европой в XX в.{45} Богатство Египта и щедрость по отношению к грамотным людям, по крайней мере первых трех правителей из династии Птолемеев, привлекали в Александрию уже прославившихся в Афинах ученых, точно так же как Америка притягивала к себе европейскую интеллигенцию начиная с 30-х годов XX в. и по сей день. Начиная с 300 г. до н. э. бывший участник афинского Ликея Деметрий Фалерский стал первым директором Музея, перевезя в него свою афинскую библиотеку. Примерно тогда же Птолемей I вызвал из Афин другого участника Ликея, Стратона из Лампсака, чтобы тот стал учителем его сына. Возможно, именно ему принадлежит заслуга в том, что Музей превратился в научный центр после того, как сын Птолемея унаследовал престол.
