Арктические зеркала бесплатное чтение
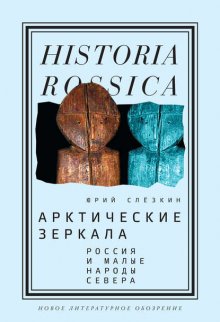
Copyright © 1994 by Cornell University The edition is authorized by Cornell University Press
© Ю. Слёзкин, 2008, © П. Верт, 2008,
© О. Леонтьева, пер. с английского, 2008,
© «Новое литературное обозрение», 2008, 2017, 2019
«Арктические зеркала» в западной русистике
[Предисловие Пола Верта[1] ]
Впервые я прочитал «Арктические зеркала» вскоре после выхода этой книги в свет в 1994 г. Тогда я только что вернулся в США после того, как почти год занимался научной работой в России. Предметом моих исследований было прошлое народов Поволжья, и я воспринял книгу Слёзкина как подтверждение предположения о том, что историю «малых» народов России можно сделать релевантной и ценной для всех историков-русистов. По многочисленным свидетельствам, книга Слёзкина послужила творческим импульсом – в самых разных отношениях – и для других ученых.
Первым крупным трудом Слёзкина после защиты диссертации в Техасском университете (1989 г.) стало составление и редактирование – совместно с Галей Димент – сборника, посвященного «мифам о Сибири в российской культуре» и опубликованного в 1993-м[2]. Год спустя научное сообщество заговорило о Слёзкине как об одном из самых новаторски мыслящих и наделенных творческим воображением ученых его поколения. Возможно, даже бóльшую роль, чем «Арктические зеркала», сыграла в этом публикация в журнале «Slavic Review» программной статьи Слёзкина «СССР как коммунальная квартира»[3]. В статье, основанной на исследованиях, проведенных Слёзкиным при написании монографии, речь шла о том, как готовность большевиков признать национальные различия в качестве политической уступки, проявившаяся в первые послереволюционные годы, впоследствии, в 1920–1930-х, переросла в своего рода этнофилию – воодушевленную поддержку этнического своеобразия. Теперь эта статья считается одной из основополагающих работ по советской национальной политике.
«Арктические зеркала», пожалуй, цитируют и не столь часто, как статью «СССР как коммунальная квартира», но некоторые аспекты этой монографии позволяют говорить о ней как об особенно важном и оригинальном вкладе в изучение российской истории. Во-первых, «Арктические зеркала» примечательны тем, что охватывают всю историю взаимоотношений русских с охотниками и собирателями Заполярья – с XVI в. до перестройки. Пристальное внимание Слёзкина к досоветскому периоду сделало данную книгу ценной для формировавшейся в то время группы молодых ученых, стремившихся изучать дореволюционную историю России в имперском измерении; в то же время четвертый раздел книги – «Последние среди равных» – предвосхитил расцвет исследований по послевоенной советской истории, которые в наши дни явно доминируют в американской русистике. Разумеется, значительная часть «Арктических зеркал» посвящена экстраординарной эпохе 1920–1930-х годов, когда задача осмысления и реформирования жизни «малых народов» на фоне процессов «коренизации» и сталинской революции оказалась особенно трудной. И предложенный Слёзкиным подход к сюжетам того периода, – таким, как коллективизация и раскулачивание, – был важен в том отношении, что побудил других ученых обратиться к изучению этих сюжетов применительно к другим регионам СССР[4]. Но именно стремление Слёзкина рассматривать исторические проблемы в «большой длительности» (longue durée) позволило ему (и его читателям) ясно осознать те ключевые принципы – линеарный прогресс, развитие, эволюция, – на которых неизменно строились представления русских, какие бы разительные перемены ни происходили в восприятии ими «малых народов». И именно это стремление сделало книгу Слёзкина неоценимым подспорьем для историков-русистов независимо от того, какой эпохой они занимаются.
Во-вторых, «Арктические зеркала» внесли существенный вклад в формирование взаимосвязей между исторической наукой и антропологией Евразии. Только в начале 1990-х гг. постсоветское пространство стало доступным для антропологических исследований[5], и примечателен тот факт, что буквально через год после издания «Арктических зеркал» был опубликован основательный этнографический труд о дальневосточных нивхах, содержащий значительный исторический компонент[6]. Затем появилась целая серия антропологических исследований о народах Сибири[7]. Говорить об огромном влиянии «Арктических зеркал» на все эти работы было бы, наверное, преувеличением, поскольку Слёзкин все же ставил перед собой несколько иные задачи, чем большинство антропологов. Как показывает название его монографии, «малые народы» интересовали его прежде всего как некая «исходная точка», отталкиваясь от которой русские строили свои представления о человеческой и национальной (в том числе своей собственной) идентичности[8]. Этнографы постсоветского периода, напротив, в гораздо большей степени (что логично) интересуются жизнью и мировосприятием самих северян. Сходным образом, если для Слёзкина важна склонность имперских и советских россиян описывать коренных жителей Сибири на языке обобщающих категорий («инородцы», «малые народы» и т. д.), – что, согласно Слёзкину, может многое поведать нам о восприятии россиянами самих себя, – то антропологи в гораздо большей степени склонны настаивать на уникальности мировоззрения и идентичности каждой группы коренного населения, в то же время, разумеется, признавая важность обобщающих категорий для осмысления опыта коренных сибиряков. Наконец, если Слёзкин не считает убедительными эксперименты некоторых антропологов-постмодернистов «по созданию авторских текстов без авторитета автора» (с. 344), современные антропологи тем не менее по-прежнему полны решимости выработать практику этнографических исследований, свободную от отпечатков колониализма, стоявшего у истоков этой научной дисциплины. И все же, несмотря на указанные различия, Слёзкина объединяет с молодым поколением антропологов интерес к проблемам репрезентации, конструирования чуждости, природы этнографического знания в целом. «Арктические зеркала» многое сообщают читателю о роли этнографии в выработке имперских и советских практик, а также о том, как отзывались на этой дисциплине (и самих малых народах) ошеломляющие повороты советского политического курса.
Интерес Слёзкина к этнографии оказался особенно важен для сочетания методов истории и антропологии в работе историков. «Арктические зеркала», по существу, посвящены попыткам русских разных профессий и видов деятельности понять самих себя перед лицом того разнообразия человеческой природы, с которым они столкнулись на Севере. И здесь этнография играла особую роль – с тех пор, как немецкие ученые XVIII в. и их российские последователи ввели в употребление идеи универсальных ценностей, линеарного прогресса, отсталости и цивилизации[9]. Автор «Арктических зеркал» не просто предлагает весьма убедительную интерпретацию этих проблем, но и очеловечивает такого рода этнографию, показывая, как те или иные деятели – от Михаила Сперанского до Льва Штернберга и Анатолия Скачко – выдвигали и применяли на практике идеи разнообразия человеческой природы и в каких именно условиях им приходилось этим заниматься. Безусловно, Слёзкин – далеко не единственный современный историк, исследующий указанные проблемы. Натаниэл Найт защитил докторскую диссертацию о формировании российской этнографии в том же году, когда вышли в свет «Арктические зеркала»; а годом позже была защищена диссертация Роберта Джераси, посвященная, помимо прочих проблем, развитию имперской этнографии в Казани[10]. Но, несомненно, концептуальное мышление Слёзкина и его умение связать воедино историю Сибири, развитие этнографии и проблему формирования российской идентичности оказали важное воздействие на последующие труды и этих, и многих других ученых. Совсем недавно Франсин Хёрш поставила в центр своего исследования о создании СССР проблему этнографического знания, и не так уж трудно уловить дух «Арктических зеркал» в основе ее проекта[11]. Вполне понятно, что научный подход этих историков сложился под воздействием самых разных направлений, но работу Слёзкина можно с уверенностью назвать одной из наиболее для них значимых[12].
В-третьих, источники работы Слёзкина представляют собой любопытное и нетрадиционное сочетание официальных, этнографических и литературных материалов. Хотя Слёзкин при работе над монографией использовал архивные дела, «Арктические зеркала» поражают, помимо всего прочего, привлечением необыкновенно широкого спектра опубликованных источников. Слёзкин был в числе первых, кто начал активно обращаться к журнальным материалам 1920–1930-х гг. по национальной проблематике, наглядно продемонстрировав широкие возможности этой источниковой базы. Конечно, в том же направлении работалии другие ученые[13], но тем не менее, именно работа Слёзкина показала, какие богатые возможности могут предоставить историку опубликованные материалы (и плодотворное творческое воображение), и стала, таким образом, полезным противоядием от архивного фетишизма. «Арктические зеркала» примечательны еще и тем, как широко разворачивается в них тема художественной литературы – от «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева до той традиции сталинских времен, которую Слёзкин называет «литературой Большого путешествия».
Наконец, «Арктические зеркала» стали ценным вкладом в изучение истории Сибири. В относительно немногочисленных трудах по этой теме, вышедших на английском языке до появления монографии Слёзкина, уделялось не так уж много внимания прошлому коренных народов. Британский ученый Джеймс Форсайт предпринял попытку восполнить этот пробел, написав историю народов «североазиатской колонии России», увидевшую свет всего за два года до публикации «Арктических зеркал»[14]. Но хотя труд Форсайта и был достаточно информативным, ему явно недоставало творческого воображения и интуиции, присущих Слёзкину, и зачастую в этой книге воспроизводятся именно те категории, в деконструкции которых столь заинтересован Слёзкин. Более того, фокусируя внимание на истории конструирования категорий, применявшихся к коренным сибирякам, и рассматривая роль этих народов в формировании самоидентификации русских и их представлений о разнообразии человечества, Слёзкин тем самым достиг беспрецедентных успехов в деле интеграции истории Сибири в общую историю России. Несмотря на то, что с тех пор появилось немало основательных исследований по истории коренного населения Сибири[15], на мой взгляд, ни одному исследователю до сих пор не удалось повторить это свершение.
В заключение стоит отметить остроумие и утонченность, присущие прозе Слёзкина. Некоторых читателей могут раздражать необычный стиль автора и его склонность иронизировать над парадоксами исторического процесса. Но вряд ли кто-либо станет отрицать занимательность письма Слёзкина, и беспристрастный критик наверняка оценит огромные знания и глубину интуиции, проявившиеся в этой незаурядной книге.
Пол У. Верт
Университет штата Невада, Лас Вегас, США
Авторизованный перевод Ольги Леонтьевой
Посвящается моим родителям
Подобия – это тени различий. Разные люди видят разные сходства и схожие различия.
Владимир Набоков
Предисловие
Тысячелетняя экспансия восточнославянского аграрного общества привела к включению в его состав многочисленных групп охотников и скотоводов. Больше не «иноземцы», но по-прежнему чужаки, – пока они оставались «неоседлыми», – эти народы были проблемой для чиновников, миссионеров и интеллигентов, которые стремились определить сущность «русскости» и «чуждости» для русских и чужаков. Судьба двух флангов восточного пограничья оказалась несхожей: если степные кочевники юга стали героями множества продуктивных мифов, то охотники и собиратели «северных окраин» редко угрожали оседлому (христианскому, цивилизованному) миру и в большинстве версий российского прошлого оставались невидимыми. Из всех нерусских подданных Российского государства и нерусских объектов российского попечительства и любопытства народы Севера оказались наименее поддающимися реформированию и осмыслению. От рождения неразумного дикаря в начале XVIII в. до периодического воскрешения естественного человека в конце ХХ они были наиболее совершенными антиподами всего русского. Рассматриваемые как крайний случай дикости и невинности, они стали удаленным, но существенным отправным пунктом для рассуждений о человеческой природе и русской народности, являясь в то же время удобным объектом для политики, основанной на этих рассуждениях. Эта книга посвящена истории этих взаимоотношений, хронике столкновения России с ее самыми отдаленными «живыми предками», исследованию места «малых народов» в Российской империи и российском сознании.
У этого подхода есть два важных следствия. Во-первых, как империя, так и сознание, о которых пойдет речь, – российские, а это означает, что коренные северяне будут рассматриваться опосредованно – глазами россиян. Во-вторых, в центре внимания находится взаимодействие политики и представлений (империи и сознания), а это означает, что большинство этих россиян – грамотные наблюдатели, претендовавшие на внимание «общества» и государства. «Опосредованное» рассмотрение, однако, не обязательно означает единообразное или немотивированное. Изучение представлений о «другом» предполагает наличие у другого представлений о себе и других и исходит из возможности взаимных – хотя и неравных – отношений. Так или иначе, русское «гиперборейство» отображает реально существовавших северян.
И наконец, история, которая будет здесь рассказана, основана на гипотезе, что столкновение культур не может быть полностью описано в терминах угнетения; что колониальные представления не могут быть целиком сведены к «грубому политическому факту» колониализма; что существуют значимые различия между разными голосами в колониальном хоре и что заинтересованным лицам (включая историков) небезразлично, собирается ли заезжий реформатор охранять или «развивать» данное стойбище и ожидает ли он спроса на водку или вопросов про мировую революцию. Все образы, о которых пойдет речь в этой книге, так или иначе порождены имперским господством России в Северной Евразии; но, поскольку они воспроизводят реальность, не тождественную их собственной, важно изучать их взаимоотношения друг с другом, а также с миром, который они искажали и отражали.
Фрагменты главы 7 были опубликованы в журнале «Current Anthropology», vol. 32, № 4 (August – October 1991), p. 476–484, © Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, все права соблюдены; а также в журнале «Slavic Review», vol. 51, № 1 (Spring 1992), p. 52–76. Я выражаю признательность издательству Чикагского университета, а также Американской Ассоциации содействия исследованиям в области славистики (AAASS) за разрешение воспроизвести здесь текст этих статей.
Я благодарен Объединенному комитету исследований советской истории Общественного научно-исследовательского совета, Институту перспективных российских исследований имени Кеннана, Университету Уэйк Форест и Университету штата Техас в г. Остине – за финансовую поддержку; Шейле Фицпатрик – за бесценную помощь; Сиднею Монасу – за постоянное руководство; Кэролин Бойд и Роберту Фернеа – за поддержку на ранней стадии исследования; Марджори Балзер, Брюсу Гранту, Игорю Крупнику, Джоханне Николс, Александру Пика, Н. В. Рязановскому, Питеру Ратленду и Реджи Зельнику – за полезные советы; Кевину Доаку, Майклу Хьюзу, Алану Уильямсу, участникам семинара по гуманитарным наукам Чикагского университета и Коллоквиума по теории и методике компаративных исследований Калифорнийского университета в Беркли – за живые дискуссии; Константину Гуревичу, Саре Хеплер, Брайану Кассофу, Молли Маллой, Патрисии Полански, Аллану Урбанику и Реферативной службе славянских исследований Иллинойского университета – за помощь в библиографических поисках; Майклу Янгеру – за компьютерную компетентность; Лизе Литтл – за все вышеперечисленное. Оставшиеся в тексте ошибки – всецело на ее совести.
Юрий СлёзкинБеркли, Калифорния
Введение
Малые народы Севера
В России понятие «народы Севера», «малые народы (Севера)» или «коренное население Севера» обычно включает двадцать шесть этнических групп, чьими традиционными занятиями являются охота, звероловство, рыболовство и оленеводство. Это саами (лопари), ханты (остяки), манси (вогулы), ненцы (самоеды, юраки), энцы (енисейские самодийцы), селькупы (остяко-самодийцы), нганасаны (самодийцы-тавгийцы), долганы, кеты (енисейские остяки), эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), юкагиры, чуванцы, чукчи, коряки, ительмены (камчадалы), эскимосы, алеуты, нивхи (гиляки), негидальцы, нанайцы (гольды), ульчи (мангуны), орочи, ороки, удэгейцы (тазы) и тофалары (карагасы)[16].
Когда в 1920-е годы эта классификация получила официальный статус, «национальная принадлежность» вновь выделенных малых народов определялась правительственными органами на основе традиции, политической целесообразности и лингвистических и этнографических данных. Ни один из этих критериев не был отчетливо сформулирован и не применялся последовательно, но сама имперская практика выделения заполярных охотников и собирателей в особую категорию никогда не подвергалась сомнению[17]. Характеризовали ли их как «бродячих и ловцов, переходящих с одного места на другое», «первобытные племена», «туземные народности северных окраин» или «малые народы Севера», они всегда считались существенно непохожими на своих более «развитых» соседей[18]. Коми (зыряне), саха (якуты) и русские «старожилы» могли быть и «заполярными», и «коренными» в географическом смысле слова, но, по мнению российских ученых и чиновников, формулировавших и внедрявших в практику подобные классификации, их «традиционное» хозяйство не носило исключительно присваивающего характера, их культуры не были в полном смысле «традиционными» и, следовательно, их общества не всегда квалифицировались как первобытные, традиционные, малые, туземные, коренные или даже приполярные[19].
В лингвистическом отношении охотники-собиратели Северной Евразии принадлежат к уральской (финно-угорской и самодийской) и алтайской (тюркской и тунгусской) языковым семьям, а также к более мелким группам, объединяемым в не связанную общностью происхождения «палеоазиатскую» категорию[20]. Саами Кольского полуострова говорят на одном из финских языков (ближайшем родственнике балто-финских, обычно описываемом как отдельная ветвь) и состоят в родстве со своими тезками из Северной Скандинавии, в то время как ханты и манси из низовий Оби и Северного Урала входят в ту же угорскую подгруппу, что и венгры («манси» и «мадьяр» – однокоренные слова). В дальнем родстве с финно-угорской семьей состоит самодийская, которая, по всей видимости, выделилась из протоуральской около четвертого тысячелетия до нашей эры. Сегодня народы, говорящие на самодийских языках, включают ненцев, энцев и нганасанов, которые живут вдоль арктического побережья между Мезенью и Хатангой, а также селькупов, которые населяют Тым и верховья Таза. Ко времени российского завоевания на самодийских языках говорили также саянские камасины, маторы, койбалы и другие ныне исчезнувшие группы.
На языках тунгусской группы говорят по всей Северной Азии. Тунгусы в собственном смысле слова (сегодняшние эвенки, эвены и негидальцы) широко рассеяны по всей Сибири восточнее Обско-Иртышского бассейна, в то время как в низовьях Амура и на Сахалине живут нанайцы, ульчи, орочи, ороки и удэгейцы, представляющие близкую тунгусской маньчжурскую подгруппу. Что касается тюркоязычных народов, то таймырские долганы являются наследниками четырех тунгусских кланов, которые в течение XVIII в. усвоили диалект якутского, а тофаларов (тофа) обычно отличают от пастухов-тувинцев скорее на культурной, чем на лингвистической основе.
Народы, говорящие на языках, по-видимому предшествовавших уральским и алтайским, известны как палеоазиатские или палеосибирские. Они включают юкагиров, чукчей, коряков и эскимосов, населяющих северо-восточную оконечность азиатского материка; алеутов, переселившихся с островов Атка и Атту на Командорские острова в 1825 или 1826 г.; камчатских ительменов; нивхов из низовий Амура и с Сахалина; енисейцев, которые в XVII в. жили в верхнем течении Енисея по берегам Елогуя, из которых лишь одна, самая северная группа – кеты – сохранилась до ХХ в.
Чукотский, корякский и ительменский языки – генетически родственные члены чукотско-камчатской семьи (чукотский и корякский очень близки друг к другу). Эскимосский и алеутский языки принадлежат к большой семье, которая в основном находится за пределами российской сферы влияния; нивхский и юкагирский не связаны ни с одной из известных языковых семей; а кетский (енисейский) находится в полной лингвистической изоляции – как генетически, так и типологически.
Регион, населенный малыми народами, делится на две основные экологические зоны: арктическую тундру и субарктическую тайгу. Тундра простирается вдоль Северного Ледовитого океана; для нее характерно редкое зеленое покрытие из кустарника, лишайников и мхов, а также малая плотность фауны. Зона тайги состоит из хвойных северных лесов, где преобладает сосна, лиственница и ель. Граница между ними – важный экологический и культурный рубеж, известный как граница деревьев или «край лесов». Тундра и частично тайга находятся в зоне вечной мерзлоты. Эти пласты круглогодично мерзлой земли замедляют процесс вегетации и препятствуют дренажу талой воды, в которой каждое лето зарождаются мириады комаров[21].
Способы человеческого существования зависят от среды обитания[22]. В тундре единственным животным, способным пропитать значительную популяцию хищников, является северный олень (известный в Северной Америке как карибу), и именно вокруг северного оленя – как добычи и собственности – строится бо́льшая часть традиционных хозяйственных занятий обитателей Арктики. Во время массового российского вторжения население тундры сочетало охоту и оленеводство. Северный олень зимовал на краю леса или в защищенных речных долинах, а летом откочевывал к морскому побережью или в горы, чтобы спастись от гнуса и комаров; люди следовали за своими животными или пытались перехватить мигрирующие дикие стада в местах слияния рек. В XVIII в., когда численность дикого северного оленя сократилась, большинство ненцев, эвенов и тундровых чукчей и коряков сделали оленеводство своим постоянным занятием. Важнейшей хозяйственной единицей было стойбище, которое обычно состояло из нескольких нуклеарных семей, их иждивенцев (включая инвалидов, вдов и сирот из менее обеспеченных стойбищ) и так называемых помощников, которые могли быть разорившимися хозяевами оленьих стад или молодыми, начинающими оленеводами. Все животные находились в частной собственности, и индивидуальные оленеводы или хозяйства могли присоединиться к другому стойбищу или основать свое собственное, всегда преследуя при этом главную хозяйственную цель «оленного человека» – максимальное увеличение стада[23].
Другим важным источником средств существования было море, и во многих прибрежных районах коренные северяне охотились на тюленя, кита и моржа. Две группы в особенности – эскимосы и «оседлые чукчи» – жили почти исключительно за счет морского промысла. Их «корабельные команды», или байдары, были родственными союзами, во многом аналогичными стойбищам оленеводов, но размер промысловой группы менялся в зависимости от времени года и текущей задачи: охотой на тюленя часто занимались охотники-одиночки, в то время как китобойные экспедиции требовали труда значительного числа людей. Далее на юг вдоль Тихоокеанского побережья оседлые коряки сочетали охоту на морского зверя с рыболовством, а ительмены почти исключительно полагались на ежегодный нерест лосося. Большинство народов Тихоокеанского побережья, включая Приамурье, использовали в качестве транспортного средства собачьи упряжки[24].
Охотники и собиратели таежной зоны (большая часть обских угров, лесных самоедов, кетов, эвенков, тофаларов и народов Приамурья) сочетали в различных комбинациях рыболовство и охоту[25]. Летом большинство их жило во временных поселках вдоль озер и рек; зимой небольшие отряды или отдельные охотники выслеживали медведя, лося, дикого северного оленя и пушных зверей.
Ни один из коренных народов Севера не был «оседлым» в русском (земледельческом) смысле этого слова. Природа их деятельности требовала циклических перемещений, и даже у охотников на морского зверя и у рыбаков, ловивших лосося, были разные летние и зимние жилища. Экономические объединения были изменчивыми по размеру и составу в соответствии с сезоном, доступностью ресурсов и политическим выбором отдельных супружеских пар. Более крупные родовые группы связывали своих членов узами взаимных социальных и духовных обязательств, но редко функционировали как стабильные хозяйственные или военные объединения. Среди оленеводов постоянное увеличение стад и сопутствующая тенденция к семейной автономии имели своим результатом минимальную социализацию за пределами стойбища. Патрилинейные группы у чукчей имели довольно неопределенные границы (усыновление было легким делом и происходило во множестве форм), насчитывали немного поколений, не имели собственных имен и не были экзогамными, так что власть «главы стойбища» не простиралась за пределы его стойбища. Более того, поскольку статус лидера в первую очередь зависел от богатства оленевода, частые эпизоотии и семейные разделы приводили к постоянным переменам в структуре власти.
Среди менее самостоятельных охотников и рыболовов родственные группы играли более заметную роль (в особенности в брачной политике таежных народов), но личный престиж был столь же преходящим. Учитывая невозможность накопления богатства, страховкой бродячего охотника или собирателя от превратностей добывающего хозяйства был обычай делиться едой, так что политическая власть зависела от способности распределить добычу и в конечном счете от физической силы и «охотничьей удачи» (понимаемой как благоволение духов). «Сильных мира сего» избирали и, раньше или позже, смещали в ходе скачек, борцовских состязаний, военных или охотничьих экспедиций[26].
Разделение труда было основано на возрастных и половых различиях, причем мужчины главным образом отвечали за добычу продовольствия, а женщины – за его обработку, перевозку и ведение домашнего хозяйства. В зоне тайги большинство браков представляло собой долгосрочные хозяйственные союзы между двумя экзогамными родами, способ, посредством которого рабочая сила (и источник будущей рабочей силы) обменивалась на собственность в форме калыма за невесту; в случае развода калым возвращался. В тундре, в особенности на северо-востоке, браки заключались двумя индивидами после успешной отработки за невесту со стороны жениха.
Полигамия была одновременно и показателем успеха, и вложением в будущее, но, поскольку лишь немногие мужчины-северяне могли позволить себе более одной жены, обычным делом были набеги с целью похищения женщин (а также детей, собак, северных оленей). Пленники-мужчины были практически бесполезны, и их предавали смерти, если они, предвидя поражение, не успевали сами убить членов своих семей и покончить с собой. Некоторые военные столкновения, в особенности порожденные местью, тщательно организовывались и регулировались с участием представителей обеих сторон, которые согласовывали время, место и стратегию боя[27].
Другой формой перераспределения собственности был натуральный обмен, который обычно предполагал контакт между населением тундры, тайги и побережья, а также даннические/торговые отношения с южными и западными купцами и сборщиками налогов. Большая часть торговли осуществлялась мужчинами в специально отведенных местах, хотя некоторые сделки могли производиться при помощи делегаций женщин-рабынь или путем так называемой «немой торговли», когда две стороны поочередно оставляли свои товары в условленном месте до тех пор, пока каждый не будет удовлетворен и не признает сделку честной[28]. Долгосрочные торговые союзы, обычно известные как «дружба», были довольно широко распространены и сопряжены с правом преимущественного (а иногда исключительного) обмена, а также с определенными социальными привилегиями.
Идея обмена лежала в основе традиционного арктического мира: чтобы жизнь могла продолжаться, каждый должен был чем-то поделиться и получить что-нибудь взамен[29]. Хозяин Моря приносил свои богатства и питался плодами Земли; духи животных, которые соглашались быть убитыми, получали пищу; а род, куда брали замуж женщину, был обязан расплатиться калымом или работой. У всех вещей были свои духовные владельцы или двойники, которых надо было умиротворить, умилостивить или подкупить (иногда этим занимался шаман). Каждое успешное убийство или поимка зверя были подарком, и каждое кровопролитие – жертвоприношением.
К концу XVI в., когда русские начали в больших количествах и с серьезными намерениями прибывать в Северную Евразию, обитатели тундры и тайги познакомились с людьми, чьи условия обмена были новыми и порой удивительными. Китайцы на берегах Амура, татары и монголы в Южной Сибири, новгородцы и затем московиты на северо-западе настаивали на регулярной выплате дани пушниной в обмен на «покровительство». Охотники, по всей видимости, рассматривали дань как своего рода обмен, но такой, который влечет за собой новые товары, новые правила и новые обязанности.
Часть 1
Подданные
Глава 1
Некрещеные
Джон Шейд. Бледное пламя[30]
- Вот безымянный остров. Шкипер Шмидт
- На нем находит неизвестный вид
- Животного. Чуть позже шкипер Смит
- Привозит шкуру. Всякий заключит,
- Тот остров – не фантом.
Государева прибыль
Одной из важнейших причин возникновения древнерусских княжеств была торговля пушниной, a лучшие меха посту- пали с северных границ. Под 1096 годом «Повесть временных лет» приводит новгородский рассказ о странном народе, который жил за высокими горами «на полунощных странах» и говорил на невразумительном языке. Летописец отождествляет этот народ с одним из «нечистых» племен, изгнанных Александром Великим, но на новгородских землепроходцев большее впечатление производил тот факт, что пленники «помавают рукою просяще железа… дают скорою противу»[31]. Богатство Новгорода было основано на экспорте пушнины (в Булгар, Киев, Византию, а позже – в города Ганзейского союза), a самым распространенным путем ее добычи было наложение дани. Пушные звери постепенно отступали, и в поисках новых шкур и новых звероловов новгородцы дошли от Двины до Мезени и Печоры. К концу 1200-х годов они привычно называли «Югорскую землю» на Северном Урале своим владением[32].
В XIV в. в борьбу за арктическую пушнину вмешались великие князья московские, которые к тому времени стали крупными поставщиками мехов своим южным соседям, а также московские реформаторы монастырской жизни, которые искали в северных лесах «общежительства», новых обителей и новообращенной паствы[33]. В 1383 г. Стефан, «зырянский наставник», был назначен первым епископом Пермским; в течение следующего столетия новгородцев вытеснили с Двины; а в 1499 г. силы Ивана III основали город Пустозерск близ устья Печоры и снарядили большую экспедицию «на Угорскую землю и на Гогуличи»[34].
Перелом наступил в середине XVI в. Взятие Смоленска вызвало оживление торговли с Польско-Литовским государством и Лейпцигом; открытие англичанами северного пути в Россию привело к основанию Архангельска; а завоевание Казани (1552) и Астрахани (1556) открыло для России рынки Центральной Азии и сделало уязвимым Сибирское ханство, небольшой остаток Золотой Орды на реке Тобол и важный транзитный центр доставки мехов из Арктики. Последующее расширение сферы торговых интересов Москвы совпало с распространением моды на меха в Западной Европе и при османском дворе. Согласно Дж. Флетчеру, «мехов» «вывозили из Страны в некоторые годы купцы из Турции, Персии, Болгарии, Грузии, Армении и иных Христианских держав ценностью в четыре или пять тысяч рублей»[35].
В последней четверти XVI в. за доступ к «сокровищам земли полуночной» соперничали хан Кучум из рода Чингизидов, собиравший дань пушниной с охотников и рыболовов Нижней Оби, и купеческая фамилия Строгановых, обладавшая царской грамотой на право добычи соли, торговли и обложения данью местных звероловов, а также на право удостоверяться, что «салтан Сибирский» не препятствует «нашим остяком, и вогуличам и югричам нашие дани в нашу казну давати»[36]. Около 1581–1582 гг. казачье войско из нескольких сот человек, нанятое Строгановыми, усиленное местными «охочими людьми» и возглавляемое неким Ермаком Тимофеевичем, перешло за Уральские горы и после продлившейся год военной кампании разграбило столицу ханства. Мощь казачьего огнестрельного оружия и недостаток энтузиазма у части союзников Кучума решили исход дела, и «драгие лисицы, черные соболи и бобры» были посланы в Москву[37]. Лишенное центра, который связывал воедино сложную структуру местных союзов, Сибирское ханство быстро распалось. Ворота в Северную Азию были открыты, и сотни, а позже тысячи царских подданных устремились на восток в поисках пушнины.
Движение возглавляли независимые купцы и звероловы[38]. Затем, «ревнуя о государевой прибыли» и не забывая о собственной, пришли служилые люди, наемники и казаки во главе с назначенными Москвой воеводами[39]. Путешествуя по переплетающимся сибирским речным путям, они находили «новые земли», строили новые крепости (остроги) и налагали дань пушниной (ясак) на новых «иноземцев». Когда ресурсы пушнины истощались или ясачное население становилось слишком большим, чтобы им можно было управлять из одного острога, строили новый, и процесс повторялся[40]. Примерно через шестьдесят лет после похода Ермака Иван Москвитин достиг Охотского моря, а Семен Дежнев обогнул мыс, который ныне носит его имя. Дальше к югу продвижение Московского государства на Южный Урал, в верховья Енисея и бассейн Амура было остановлено степными кочевниками и пограничными аванпостами Маньчжурской империи. Так или иначе, именно северо-восток, – где меха были гуще, а народы были «небольшими», – привлекал большинство европейцев[41].
Наставления, которые они получали из Сибирского приказа в Москве, были последовательными и недвусмысленными:
И велеть тем служилым людем с ними промышленными, новых немирных землиц неясачных юкагирей и тунгусов и всяких иноземцев разных языков, которые по тем рекам и по иным по сторонним рекам живут, призывая, приводити под государеву, царскую высокую руку. И ясак с ним на государя имати ласкою, а не жесточью, и учинить тех землиц вперед под государевою, царскою высокою рукою в прямом холопстве в ясачных людех навеки неотступным[42].
«Ласка» (торговля) была предпочтительнее «жесточи» (войны), поскольку казалось, что она обеспечит государю «прибыль прочну и стоятельну». Согласно устной традиции, храбрость кетских воинов была подорвана русским хлебом[43]. Для двух героев тунгусской сказки такую же роль сыграли хлеб и сахар: «Жевал, жевал тот [хлеб] – понравилось. Говорит по-эвенкийски: “Хорошо”. Потом взял сушку, съел: “Вкусно”. Съел сахар. “И не думай убивать хороших людей”, – говорит [другому]. Бросили [они] луки и начали есть»[44]. Другими популярными предметами были ножи, топоры, одежда, чай и цветные бусы, но самым большим спросом пользовались алкоголь и табак. Согласно одному юкагирскому рассказу, однажды небольшой отряд охотников встретил человека с волосами вокруг рта и последовал за ним к его дому. Там хозяин предложил им еды, которая пришлась юкагирам по вкусу, и особую воду, которую самый старший в отряде согласился попробовать после серьезных колебаний:
Выпил и говорит:
– Ребята, худых мыслей отнюдь не держите. Вот как живу, в течение своей жизни ни от кого такой воды не пробовал.
Потом опять выпил и снова перед нами воду поставил.
Выпил другой старик и говорит:
– Нет, ребята, видно, старик этот правду сказал, уж очень вкусная вода.
Выпил снова тот старик и перед нами поставил.
– Теперь, – говорит, – юноши попробуйте.
Мы тоже попробовали и сказали:
– Да, наши старики сказали правду.
Потом опять один старик говорит:
– Я же сразу почувствовал и сказал, чтобы вы не имели худых мыслей.
Потом нас всех кормили и поили. Стали друзья нам рассказывать, но мы ничего не понимали, показываем им на уши.
Они нам показали что-то загнутое, блестящее. Взяли мы, посмотрели, в середине что-то прорублено. Вложили что-то туда, потом огонь принесли. Потом эту штуку к нашим ртам поднесли. Потом эту штуку взяли и стали все сосать. Сидели мы и разговаривали знаками. Они сказали нам:
– Вы в следующее лето собирайтесь и приезжайте. Мы привезем разных вещей.
Потом мы встали и собрались уходить. Наши друзья дали нам топоры и ножи и, кроме того, дали нам всякой разной одежды[45].
Если охотники вернулись на следующее лето, у них могли попросить пушнину и попробовать записать их в поставщики «навеки неотступно». Если они признавали сделку честной, то могли стать в глазах русских «ясачными людьми». Если этого не происходило, то строгие наказы предписывали казакам «смирять [их] войною, небольшим разореньем», а если и это не помогало, «их воевать, и жены и дети имать в полон»[46].
Не то чтобы казаки нуждались в наказах: война была их профессией, а других жен в округе не было. Согласно якутскому преданию,
прибывшие русские выстроили высокие башни из бревен… Дивясь этому, как дети, так и взрослые приблизились к башням и стали осторожно разглядывать их. Тут они увидали, что они [русские] раскидали вокруг домов конфеты, пряники, бисер и бусы. Придя сюда, много детей, женщин и мужчин стало собирать их. Когда они так собирали, [русские] на них сверху сбросили бревна, которые давили и убивали их. После этого стали убивать выстрелами из кремневых винтовок, палящих пороховым огнем[47].
Энцы также сохранили сообщения о приходе русских: «Что-то слышно неладно. Где-то идут люди, убивают людей. Это, говорят, где Печора [Санэро-ям] есть река, на эту сторону перешли уже. Найдут людей, народ, и с одного бьют, бьют сразу»[48].
Вооруженное сопротивление было нередким и подчас успешным: по сообщениям современников, некоторые «иноземцы» «похваляются побить [русских] до одного человека, а называют землю и реки своими»; грозят «громить… государев… хлеб, а русских людей побить, и… под город с войною приходить, и город сжечь, и по дорогам и на пашнях русских людей побивать»; или просто отказываются платить ясак, заявляя, как члены одного чукотского стойбища, что они никогда не платили дань русским, «и ныне де платить не будем». На Оби одно угорское поселение досталось казакам после трехдневного приступа, а другое сдалось, только когда в ход пошли пушки; в северо-западной тундре, согласно донесениям казаков, охотники на оленей постоянно совершали набеги на русские санные поезда и транспортные партии («им самоядь ходу не дала и запасы отгромили»); а на Тихоокеанском побережье Охотский острог находился в непрерывной осаде около тридцати лет, причем с 1662 по 1678 г. погибло около 230 русских[49].
На северо-восточной оконечности континента, где даннические отношения были неизвестны, усмирительныe кампании продолжались в XVIII в. Большинство камчатских поселений были защищены валами, «и из тех острожков бьются, бросают каменьем, пращами, и из рук большим каменьем с острогу мечют, и обвостреным кольем и палками бьют»[50]. В отсутствие пушек, русские морили врага голодом или поджигали поселения, убивая тех, кто пытался спастись[51]. Иногда сами защитники предпочитали смерть: «И как юрты огнем зажгли, почели неболшие люди из юрт выходить… многие промеж собой прибились, жен и детей своих прикололи, а за жестокосердием своим из юрт не вышли, в огни без остатку все сгорели»[52].
На Чукотском полуострове, где соболей было мало, a звероловы были несговорчивы, пушная лихорадка выдохлась. В связи с сокращением поголовья диких северных оленей чукчи все чаще обращались к набегам[53]. В 1747 г. туда отправился большой карательный отряд под командованием майора Дмитрия Павлуцкого, чтобы, согласно инструкциям Сената, «не токмо верноподданных ея императорского величества коряк обидимое возвратить и отмстить, но их чукч самих в конец разорить»[54]. Экспедиция потерпела поражение, а майор Павлуцкий, который посвятил большую часть своей военной карьеры попыткам усмирения коряков и чукчей, был убит в бою[55]. В 1769 г. русскими был оставлен Анадырский острог, основанный за сто лет до того Дежневым и служивший военной базой против чукчей. Для превращения чукчей в российских подданных понадобилось полтора столетия торговли и двадцать лет коллективизации.
Чукотка была уникальна по своей недоступности и нeпривлекательности. В других регионах Северной Евразии большинство обитателей тундры и тайги стали «ясачными людьми» к концу XVII в. Часть населения европейской тундры, бассейна Оби и Южной Сибири были знакомы с данническими отношениями, и им просто пришлось перейти к другому сюзерену, часто в составе той же административной единицы[56]. Так называемым «лучшим людям» предлагали освобождение от дани и военную защиту в обмен на службу по сбору ясака[57]. Ожидалось, что преуспевшие «князцы» войдут в состав российской дворянской иерархии[58].
Некоторые угорские старейшины воспользовались открывшимися возможностями. При отправлении своих княжеских обязанностей они чинили «насильства и тесноты великие», а в затруднительных случаях призывали на помощь русских служилых людей. Нeкоторые из них обратились в христианство, строили церкви и отвергали «бесовскиe» обычаи[59]. В конечном счете, однако, эксперимент по созданию «остяцких» и «вогульских» княжеств под властью крещеной элиты нe удался. Не имея аналогичных общественных институтов, охотники и рыболовы Оби не выказывали должного почтения к аристократии, навязанной из Москвы. В 1636 г. кодские ханты восстали против своего правителя и попросили царя взять их под свою высокую руку. «За князем Дмитрием Алачевым в ясаку отнюдь… быть невозможно, – писали они, – и быть не хотим»[60]. В конце концов князь Дмитрий Алачев бежал в Москву и стал российским дворянином, а через несколько лет о сoздании местной элиты пришлось забыть. Как писал один служилый человек, у тунгусов есть «княсцы и старейшины», но «они когда хотят слушают, а ежели в чем только усмотрят проступок, то искореняют и убивают»[61].
От всех «объясаченных иноземцев» требовали дать торжественную клятву верности (шерть) – напрямую или через одобренных русскими представителей. Русские ясачные сборщики предполагали, что у каждого народа есть своя «вера» и что в каждой вере есть своя сакральная формула, скрепляющая всех верующих узами взаимных обязательств. Некоторых звероловов-хантов, например, заставляли клясться перед медвежьей шкурой, на которую клали нож, топор и другие «страсти орудия». Жуя кусок хлеба, звероловы слушали, как толмач говорил: «Аще лестию сию клятву утвораете, и неправедно служить и радеть в отдании ясаку будете, зверь сей отмщение вам да будет и от него смертию да постраждете. Хлеб сей и нож да погубит тя»[62]. Подобные обеты редко оказывались эффективными, и служилых людей постоянно побуждали приложить усилия для выяснения «прямой шерти»[63]. На дальнем северо-востоке, где оказалось, что у чукчей, коряков и ительменов «веры никакой нет»[64], ясачные сборщики приводили «их к присяге вместо креста и Евангелия к ружейному дулу с таким объяснением, что тому не миновать пули, кто присягает неискренно»[65].
К «изменникам» можно было «многими крепкими приступами приступать»[66], но большинство ясачных людей были кочевниками, которые «по все годы шатаются, живут самоволно и русских людей побивают»[67]. Преследовать их в тундре было опасным и по большей чaсти неблагодарным делом. (На Тазу, например, служилые люди «за ними для ясаку не ходят… да и от зимовий де своих отходити не смеют, бояся от них, иноземцев»[68]). Одно из решений состояло в том, чтобы признать взаимовыгодность отношений между звероловами и казаками и обменивать на ясак товары повышенного спроса. Тунгусы, например, «прошают… подарков, олова и одекую[69], и себе корма, муки, и масла, и жиру, и как де им подарков, олова и одекую дадут и их накормят, и они де против того, по упросу, с двух, с трех семей по соболю дадут. А бес подарков ничево дать не хотят… А как только станут им говорить чтоб они… ясак давали… и они их [ясачных сборщиков] побивают»[70]. Иногда сделки осуществлялись в соответствии с местными обычаями, когда «данники» оставляли свою пушнину на снегу и ждали на расстоянии большими вооруженными отрядами, что будет предложено взамен[71]. Другим традиционным ритуалом было дарение в обмен на гостеприимство. Казаки принимали своих гостей, одетые в свое лучшее «цветное» платье. Разряжали пушки (если таковые имелись) и мушкеты, подавали хлеб и водку[72]. «А без государева жалованья, – сетовал один ясачный сборщик, – тунгусы государева ясаку… не дают»[73]. Очевидно, впрочем, что то, что тунгусы считали торговлей, русские считали данью. Как бы ни были запуганы государевы служилые люди, они называли пушнину «ясаком», a вeщи, которые они давали в обмен, «подарками». Этому могли способствовать поступавшие из Москвы напоминания («а оне б того, иноземцы, не плутали, государю оне ясак дают, а не продают»)[74], но, вероятно, главной причиной важности подобных различий была разницa между рыночной (русской) стоимостью пушнины и предложенными за нее подарками.
Несмотря на популярность российских товаров, поведение северян оставалось «бесстрашным и самовольным», а поставка пушнины – ненадежной. Наиболее эффективным средством борьбы с перебоями в поставках было взятие заложников, метод, распространенный на южном приграничьe и, вероятно, родственный степной практике похищения с целью выкупа. В большей части Северной Евразии узы родства были достаточно сильны, чтобы использовать их как способ воздействия на сородичей пленника. Захваченных в бою или соблазненных угощением и выпивкой заложников (аманатов) держали взаперти в русских зимовьях и периодически показывали родственникам в обмен на ясак[75]. При случае их могли отпускать «домой, к их женам и их детям» и заменять на добровольцев из числа их сородичей («каждый год или полгода, или каждый месяц»), так что в некоторых местностях пребывание в заложниках стало семейной обязанностью[76].
Не все члены семьи были достойны уплаты ясака. Полезные заложники должны были быть видными членами рода (желательно шаманами, старейшинами или вождями) и выглядеть откормленными и довольными, «чтоб ясачным людям в том сумнения никакого не было»[77]. Даже если дело обстояло именно так[78], выплата ясака не была гарантирована. Как объяснял русскому царю один самоед-аманат, пoкинутый своими сородичами, «а се государь, мы, сироты твои, люди дикие и кочевные, на одном месте жить невозможно»[79]. Иными словами, члены его стойбища откочевали в другое место и до поры до времени не могли вернуться. В подобных случаях ясачные сборщики должны были разъезжать по тундре, демонстрируя заложников и требуя пушнину в обмен на их благополучие[80]. Бесполезных аманатов (в основном чукотских и корякских «оленных людей») охранники вешали, морили голодом или пытали; другие спасались бегством, «сами давились и друг друга кололи до смерти» или поступали на русскую службу[81]. Молодой человек по имени Апа выбрал последний способ:
В прошлом, государь, во 156-м [1647] году на усть Колымы реки поимал меня, Апу, Якутцково острогу сын боярской Василей Власьев. И с тоя поры, государь, и отец и мати мои, и род, племя отступилися, и твоего, государева, ясаку под меня не платят. И топерво, государь, я, сирота твой, хочю служить тебе, праведному государю, и во всем прямить и чюхоч своих родников приведу под твою, царскую, высокую руку[82].
Надлежащая регистрация ясачных иноземцев была относительно легким делом в прибрежных поселениях, но оказывалась чрезвычайно запутанной применительно к оленеводам и таежным охотникам и собирателям. Один служилый человек, уставший от «хитростей» иноземцев, жаловался, что «имена переменяют у платежу мало не по всея годы и тем книгам смуту чинят, а приносят государев ясак немногие люди, и кого де имена зборщикам скажут, того они и напишут, а подлинно имени не скажут». На ранних стадиях полное отсутствие знакомства с иноземцами могло сделать этот кошмар счетовода еще ужаснее: «Платеж был или нет, про то неведомо, потому что они, ясачные сборщики, их [самоедов] налицо опазнывать не умеют»[83].
Несмотря на сложности и временные неудачи, усилия по обложению ясаком приносили желаемые результаты. С 1589 по 1605 г. (когда большая часть Западной Сибири была приведена под российский контроль) годовой пушной доход государства утроился, и к 1680-м годам его стоимость достигла приблизительно 125 тыс. рублей (в сравнении с 15 тыс. рублей в 1589 г.)[84]. В первые годы после завоевания ясак не фиксировался («что принесут») и обычно взимался с территориальной единицы в целом. Позже, когда уровень счетоводствa улучшился, ежегодным окладом облагался каждый мужчина от восемнадцати до пятидесяти лет. Квоты устанавливались по числу шкур, но в некоторых областях вводился пересчет на деньги, чтобы учитывать различия в качестве[85]. Стоимость шкур, принесенных охотниками, определялась местными ясачными сборщиками. Политика по отношению к рабам, зависимым людям и подросткам варьировалась от года к году, но те, кто были «бедны или больны и увечны», освобождались от уплаты[86].
Такова была официальная политика Москвы. На практике ясачные сборщики едва ли могли сочетать «ласку» с «государевой прибылью». С одной стороны, успехи воеводы – a также уровень его личного богатства – измерялись количеством полученной им пушнины. С другой стороны, размер ясака, который доставляли коренные северяне, зависел от их охотничьей удачи, потребности в российских товарах и путей миграции. Это расхождение интересов не сулило ничего хорошего для стабильного налогообложения, не говоря уже о «ласке». Год за годом сборщики подделывали книги, занижали стоимость пушнины и вымогали с ясачных людей «поминки», в то время как те платили «на прошлые годы» и за своих покойных родственников[87]. Каждый воевода должен был доставлять по меньшей мере столько же ясака, сколько его предшественник. Если кто-нибудь из проживавших на его территории умирал или убегал, он был обязан доложить об этом в Москву. Проводилось расследование, и, если сообщения воеводы подтверждались, царь издавал особый указ, освобождавший ясачных людей от излишних налогов. (В промежутках между указами охотники должны были платить за умерших и отсутствующих[88].) Казне требовалась гарантированная прибыль, а это означало, что московские цены на каждую шкурку должны были превышать сибирские цены. Если этого не происходило, воевода выплачивал разницу. Понятно, что такое бывало не слишком часто[89].
Иногда ясачные люди и ясачные сборщики объединяли свои усилия в деле саботажа официальной политики. Индивидуальный оклад на всех взрослых мужчин оставался по большей части фикцией вплоть до второй половины XVIII в., когда он был официально отменен. После первой переписи в Томском уезде в 1720 г., например, выяснилось, что во все предшествующие годы ясак взимался с волостей в целом, часто при посредничестве местного представителя. Было также установлено, что государственная казна получала только половину всего ясака. Виновный был приговорен к повешению, но получил монаршее снисхождение и был взамен «бит кнутом нещадно»[90]. Вскоре после этого практика налогообложения поселений и стойбищ была узаконена.
Ясак не был единственной обязанностью ясачных людей. Будучи приведены под государеву высокую руку, они должны были содействовать военным кампаниям Москвы против «неясачных людей» («немирных иноземцев»). От Белого моря до Тихого океана русские завоевания стали возможными благодаря местным воинам, многие из которых с удовольствием принимали участие в расправе над своими соперниками. Кодские ханты, например, могли похвастаться весьма впечатляющим послужным списком: «Отцы наши и братья, и мы городы и остроги во всей Сибири ставили и на твоих государевых изменников и ослушников, на колмацких людей и на татаровей, и на остяков, и на самоядь, на тунгусов и буляшских людей, и на всяких ослушников служили мы, с тобольскими и березовскими казаками за один ходили»[91]. По ходу дела они «непослушных людей иноземцев побивали и в полон жен их и детей имали, и деля тот полон по себе»[92]. Далее к востоку зависимость русских от местных союзников былa еще бoльшей. Войны против коряков и чукчей были в значительной степени делом юкагиров и эвенков. Некоторые союзники казаков освобождались от уплаты ясака и имели право держать собственных пленников[93].
Другие колониальные повинности включали службу проводниками и толмачами, постройку острогов, обеспечение перевозок. Подводная повинность была особенно обременительной и вызывала бесчисленные жалобы. Необходимость ждать русских чиновников и возить их неизвестно куда сильно мешала промысловой рутине. Некоторые ясачные люди были готовы платить дань в тройном размере, лишь бы избежать разорения[94]. Им редко шли навстречу: нужды имперской администрации и плачевное состояние транспортной системы обеспечили сохранение подводной повинности вплоть до ХХ в.
Не менее непопулярными, но гораздо менее настойчивыми были попытки правительства использовать труд коренного населения в сельском хозяйстве. На протяжении многих лет одной из важнейших забот сибирской администрации было обеспечение продовольствием новых острогов, а затем городов и рудников. Ввозить зерно из России было слишком дорого, и там, где это было возможно, правительство поощряло создание местного сельского хозяйства. Русских крестьян вынуждали или убеждали переселяться в Сибирь, а сибирских бродяг и ссыльных объявляли крестьянами и сажали на землю[95]. Некоторых обских угров первоначально также привлекали на «государеву пашню», но их неуспех в роли крестьян и постоянные мольбы о пощаде заставили правительство отказаться от этой политики[96]. «И впредь, государь, – сообщала группа манси в 1598 г., – нам сиротам твоим пахати твоей государевы пашни не возможно, потому что, государь, и достальные животишка истощили, и женишка и детишка проели, и помираем голодною смертью»[97]. Москва старалась откликаться на подобные жaлобы, не столько, вероятно, из чувства сострадания, сколько из постоянной заинтересованности в получении дани пушниной. Те же манси, например, предлагали платить столько ясака соболями, сколько царь «нас сирот своих велит пожаловати обложити»[98]. Умелые звероловы приносили большe выгоды, чем неумелые крестьяне, а надежды на русскую колонизацию еще больше ослабляли стимул к внедрению на Севере подневольного труда коренного населения.
Продолжение торговли пушниной требовало большего числа крестьянских поселений, но распространение крестьянских поселений подрывало торговлю пушниной. Вновь прибывшие крестьяне пахали, охотились и ловили рыбу на земле, которая использовалась «ясачными» звероловами. Еще более существенным было то, что русские поселенцы очищали землю под пашню, выжигая лес и обращая в бегство зверей. Некоторые служилые люди, переселенцы и монастыри арендовали землю у местных охотников, которые заявляли, что соглашаются на такие сделки «для своих нужд и для ясашного платежа и росплаты прежних своих долгов, а не для какого своего неправдивого умышления». В чем бы ни заключались их умышления, правительство неодобрительно относилось к любому отчуждению «ясачных земель» и часто требовало их возвращения, равно как и наказания всех причастных к таким сделкам. Прежде чем создавать новoе крестьянское поселениe, следовало определить, «порозжее ли то место и не ясачных ли людей». Тeм же, «которые у ясачных людей угодья пустошат [чинить] за то воровство наказание… бить кнутом нещадно, чтобы иным неповадно было… ясачным людем в звериных промыслах чинить поруху». Разрываясь между нeoбходимостью доставлять больше пушнины и требованиями, чтобы сибиряки кормили себя сами, воеводы прилагали все усилия, чтобы добиться того и другого, – пользуясь иногда тем обстоятельством, что крестьяне одного воеводы мoгли жить среди ясачных людей другого. Проистекавшие из этого конфликты сeяли вражду между разными уездами, множили воеводские челобитныe и в конечном счете приводили к захвату местных охотничьих и рыболовных угодий русскими поселенцами[99].
Даже там, где русские не селились постоянно (т. е. в большей части приполярной Евразии, за исключением немногих областей по большим рекам), они серьезно влияли на местную хозяйственную жизнь. В первые годы после завоевания казаки и купцы в поисках еды и женщин часто совершали набеги на стойбища ясачных людей и их «пытками пытали, и поминки с них великие имали, и их грабили, лисицы и собаки, и рыбу и жир, чем они сыти бывают, имали насильством»[100].
В прошлом-де в 164 [1654] году зимою сын боярский Кирило Ванюков, собрав на Индигирке реке из-за всех зимовий многих служилых и торговых и промышленных людей для своей бездельной корысти, сказал измену на ясачных индигирских юкагирей и послал на них служилых и торговых и промышленных людей… больше ста человек… и велел погромить. И служилые и торговые и промышленные люди по ево Кирилову велению тех индигирских ясачных людей погромили – жен и детей и оленей с триста на погроме взяли и иного всякого юкагирского живота погромили и от того погрому на Индигирке юкагиры обеднели[101].
По мере продвижения границы набеги прекращались, но потребность в пушнине по-прежнему противоречила традиционному экономическому укладу. Зимние тропки песцов пролегали севернее путей миграции северных оленей; таежный соболь уводил многих рыболовов прочь от рек; a оседлые охотники на морского зверя должны были обменивать бóльшую часть своего улова на пушнину, доставленную их континентальными «друзьями». «А которые мы… пешие, седячие тунгусишка, – жаловался ясачный человек с Охотского побережья, – и нам… соболий промысел не в обычай и соболей промышлять не умеем… и питаемся морским зверем и рыбою и промышляем рыбные кормы на оленных тунгусов и на те рыбные кормы купим у них, оленных тунгусов, соболи… на ясак». Некоторым таежным охотникам приходилось покупать пушнину у русских в обмен на кожу лося и оленя, платить десятипроцентный налог в казну, а затем сдавать ту же пушнину в казну как ясак (десятина была задумана как налог на русских купцов)[102].
Во второй половине XVII в. запасы пушнины начали сокращаться[103]. (Этому способствовали некоторые из тех товаров, которые местные охотники получали в обмен на шкуры – в особенности огнестрельное оружие и металлические капканы.) Поскольку квоты ясака менялись гораздо медленнее, экономика коренного населения оказалась под жестоким давлением. Постоянные недоимки в уплате ясака и растущая зависимость от железных орудий, одежды, муки, чая и спиртного вели к истощению хозяйства данников и ухудшению их социального положения. Как писали пелымскиe манси, «а мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нет, ни дровишек, государь, усетчи нечем, и на зверя, государь, засеки сделать без топора не можно и нечим; а обуви, государь, зделати без ножа неможно ж. И нам, государь, сиротам твоим с студи и с босоты и голодною смертью погибнуть»[104].
Экономические перемены не были ни важнейшим, ни самым драматичным результатом русского завоевания. В 1633 г. служилые люди из Мангазеи не сумели собрать ясак в Хантайском и Ынбацком зимовьях, потому что «иноземцы, которые платили государев ясак наперед сего в тех дву зимовьях, в прошлом во 140-м [1632] году померли, а иные, которые остались живы, боясь смерти ж, сошли кочевать неведомо куды»[105]. Согласно одному подсчету, за предыдущие два года от оспы умерло около половины инбакских кетов и более двух третей хантайских энцев[106]. Особенно тяжело пострадали юкагиры: в 1694 г. сбор дани в Омолонском зимовье был надолго прекращен, поскольку местные ясачные люди «волею Божиею моровым поветрием воспою все померли. И впредь с тех омолонских юкагирей великого государя ясак взять не с кого и то Омолонское зимовье впредь из окладу выложено»[107]. За первое столетие русского правления общая численность юкагирского населения сократилась с почти 4500 человек до 1450. Оспа была важнейшей, но не единственной причиной: в 1670-е и 1680-е годы около 10 % юкагирских женщин жили за пределами юкагирских поселений (в качестве жен, рабынь, наложниц), a 6 % всех взрослых мужчин удерживались русскими как аманаты. Многие погибли при набегах русских и в войнах с чукчами, коряками и тунгусами, а некоторые умерли от голода в результате обмена продовольствия на пушнину (юкагирская тундра была бедна соболем)[108].
Неравномерное распределение русских войск, товаров и болезней внесло изменения в местный баланс сил. Территориальная близость к казакам могла стать военным преимуществом, как для кодских хантов, или привести к экономической и демографической катастрофе, как для юкагиров. Но одно оставалось неизменным: присутствие русских неизбежно приводило к столкновениям между «ясачными» и «немирными» иноземцами. Так, пока кодские ханты (остяки) похвалялись тем, что «непослушных людей иноземцев побивали и в полон жен их и детей имали, и деля тот полон по себе», их соседи, «воровские» эвенки, хотели «государевых ясатчиков… побивати… чтоб они государеву ясаку не давали ж»[109]. Движимые местью и открывшимися возможностями, гонимые русскими соперниками и иx местными союзниками, уходя от набегов и ясачных сборщиков или ища пушнины побольше и получше, ясачные люди часто вторгались на территорию своих соседей[110]. «В нынешнем во 197 [1688] году, – сообщал охотский тунгус, – ходили мы… промышлять соболей в Коряцкую землю и нам коряки промышлять на своих промыслищах нам соболей не дали и нас згонили, а родников наших лутчих мужиков они, коряки, побили, а убили 6 человек, а во близи соболей промышлять опричь Коряцкой земли негде»[111]. Русские напали на коряков, на которых нaпали чукчи, на которых, в свою очередь, напали русские. Подобные столкновения привели к значительным изменениям в составе населения по всему Северу. Следуя за казаками, ненцы-оленеводы продолжали свой путь на восток по Арктическому побережью. В Южной Сибири экспансия тюркоязычного населения привела к исчезновению саяно-алтайских ветвей самодийских и енисейских языков и миграции кетов (северных енисейцев) в глубь тайги. На Лене скотоводы-якуты вытеснили эвенков на запад, а юкагиров – на восток[112]. На северо-восток, как объяснял один чукотский отряд, чукчи пришли «за поиском оленных коряк, для их разорения, смертного убойства и отгону у них оленных табунов»[113]. К 1770-м годам, когда русские признали свое поражение от рук чукчей, около 50 % коряков было убито и 240 тыс. голов оленей, принадлежавших корякам, было захвачено чукчами. Чукчи между тем вышли далеко за пределы границ расселения XVII в., дойдя до Омолона и Анюя на юкагирской территории и достигнув Пенжинского залива и мыса Олюторского в корякских землях на юге[114].
Большинство серьезных столкновений происходило из-за ясака, a самыми частыми жертвами были ясачные сборщики. В 1607 г. около двух тысяч «иноземцев» два месяца осаждали русский острог Березов. После их разгрома тело обдорского «князя» Василия три года висело на виселице Березова, «чтоб впредь так неповадно было воровати и иным, на то смотря»[115]. Другие смотрели, но не слушались: в 1609 г. сын Василия пытался напасть на Тобольск, а полвекa спустя внук Василия был повешен за подстрекательство к «измене»[116]. Подобные «измены» или попытки силой оружия добиться пересмотра условий выплаты ясака были нeредки в первые сто лет русского господства. В 1649 г. сородичи убитого тунгусского аманата начали войну, которая продолжалась до конца столетия и привела к разграблению Охотскa; в 1679 г. отряд самоедов предпринял безуспешную попытку захватить Обдорск; а в 1714 г. большая группа юкагирских наемников восстала против казаков, убив пятьдесят семь и захватив в плен пятьдесят человек[117]. На богатой пушниной Камчатке ясачные люди «почти всегда в измене были», и в 1730 г. им удалось овладеть большей частью полуострова. Русским понадобилось около двух лет, чтобы подавить восстание, и в Нижнекамчатске «казаки будучи огорчены насилием жен своих, и тратою имения, перекололи их без остатку»[118].
Было немало других восстаний, массовых самоубийств и намеренного уничтожения пушнины[119], но превосходство царских войск и привлекательность царской торговли делали компромисс неизбежным. Поскольку иноземцы становились государевыми, они должны были признавать полномочия Российского государства в деле сбора ясака, торговли, войны, а также во всех социальных взаимодействиях с православными христианами. Подчинение, среди прочего, подразумевало защиту, и новые российские подданные снова и снова били челом царю, прося о «милости» и помощи. Иногда они умело извлекали выгоду из конфликтов внутри российской администрации, как в случае с тунгусским аманатом, который оправдывал свой побег тем, что его охранник
шел… мешкотливо и много стоял на дороге для своего бездельного промыслу. И я бил челом ему, что пора де государеву делу и шел [бы] скорее, потому, что зимовье дальное. И он мне сказывает по-русски праздники частые, и делом, государевым ясаком, не радел, и я побоялся Бога и государя… и побежал с дороги[120].
Такие челобитные переводились, записывались и, возможно, вдохновлялись русскими «прибыльщиками», но даннические и традиционные обязательства так сильно переплетались, что со временем большинству «государевых иноземцев» пришлось освоить некоторые бюрократические процедуры и научиться манипулировать ими в различных ситуациях (включая самые традиционные и явно не связанные с ясаком). Было крайне важно, например, убедить воеводу, что такой-то сородич был убит чужаками и что недостающие пушные шкурки будут возмещены родом обидчика (но никак не автором челобитной). И напротив, обещание заплатить большe ясакa могло обеспечить помощь русских в решении семейного спора, предотвращении кровной мести или возврате незаконно уведенной жены[121].
Все эти просители исходили из того, что власть будeт поддерживать местные обычаи. Что онa и делалa. Пока ясак исправно доставлялся, воеводы с готовностью укрепляли левират, калым и прочие нормы, неизвестные в их собственном обществе, но распространенные среди «иноземцев». За исключением случаев, касающихся убийств и значительных денежных сумм, все споры среди коренного населения, доведенные до сведения русских, должны были разбираться совместно ясачными сборщиками и местными старейшинами («А без них… и в малых делах не судити, чтоб ясачным Якутом от вас убытков и обид и налог не было»)[122]. Впрочем, решение большинства конфликтов брали на себя сами «иноземцы» – к вящему удовлетворению завоевателей.
Таким образом, хотя российская администрация в XVII в. и представляла собой альтернативный источник власти, она не устанавливала альтернативных законов. Ясачный тунгус мог нaдеяться на пoниманиe, когда жаловался, что злокозненный шаман стал причиной болезней и смерти в его семье[123]. Даже в конфликтах, затрагивавших обе стороны, решения часто оправдывались ссылками на традиционное право. Когда другая тунгусская семья потребовала выдачи русского служилого человека Феодулки, убившего их отца, якутские власти отказались выполнить их просьбу, но только после того, как убийца подтвердил под пыткой, что сделал это случайно, и был «бит кнутом нещадно» в присутствии истцов. «И они б, иноземцы, в том не оскорблялись, что им того Феодулка отдать не велено для того, что он то учинил не с умышленья, да и промеж их, тунгусов, неумышленные смертные убойства бывают и убойцев они из роду в род не выдают же»[124]. Важным исключением были попытки Москвы прекратить кровную месть, поскольку «в тех их межусобных боях и в смертном убойстве великого государя в ясачном зборе учинитца поруха и недобор великой»[125]. Если же не было ни стычек, ни недоимок, Сибирский приказ требовал от воевод
их во всем беречь и льготить… чтоб им мангазейским и енисейским всяким людем ни в чем нужи не было. И они бы мангазейская и енисейская самоедь всякие люди жили в царском жалованье, в покое и в тишине, безо всякого сумненья, и промыслы всякими промышляли… и братью, и дядью, и племенников, и друзей отовсюды призывали и юрты и волости полнили, а царское величество во всем их пожалует своим царским жалованьем[126].
Это означало, что ясачных людей следовало защищать от русского «воровства» (нарушения царских указов) и русских пороков. Не разрешалось продавать табак и спиртнoe; играть в азартныe игры; проявлять снисхождениe к «обидам» любого сорта. Русские крестьяне должны были дeржаться подальше от ясачных людей; купцы не имели права покупать пушнину в канун сбора ясака; и служилым людям не позволялось налагать слишком большой ясак, «чтоб им [ясачным людям] было не в тягость»[127].
Тем не менее государева прибыль не была ни «прочной», ни «стоятельной». К концу столетия купцы и служилые люди заполонили большую часть Сибири, и годовые доходы от пушнины начали снижаться[128]. Правительство ввело дополнительные протекционистские меры: на территорию некоторых охотничьих угодий русские не допускались вообще, и в некоторых местностях служилые люди потеряли право наказывать ясачных людей[129] – но тенденция сохранялась. Ясачные сборщики знали, что обеспечение годового поступления ясака без «убытков и продажи» было их первейшей обязанностью. Знали oни и то, что Москва далеко, что на следующий год их могут перевести в другое место и что несколько лишних шкурок могут сделать человека богатым. Около 1680 г.
с тех с далных заморских рек многие промышленые люди вышли… потому что, государь, на тех реках соболиные промыслы стали худы, а на твоих великого государя далных двоегодных службах в острожках и в зимовьях аманатов иноземцов бывает человек по штидесят и по тридцати и по двадцати и по десяти, а служилых людей в тех острожках и в зимовьях, за малолюдством, оставливаетца для обереганья тех аманатов и для аманацких рыбных промыслов и от приходу их же родников человек по штидесят и по тридцати и по двадцати и по десяти, и тем, государь, служилым людем в тех острожках и в зимовьях, за малолюдством, чинитца от иноземцов утеснение великое, и жить страшно, и аманатов оберегать неким[130].
Постоянные нарушения правительственной политики «невмешательства» привели к фактическому невмешательству. К счастью для «мира и тишины» среди коренных северян и к несчастью для удовлетворения их потребительских нужд, чем меньше было шкурок, тем меньше становилось русских. За исключением относительно оживленных сельскохозяйственных сообществ в бассейне Верхней Оби и Енисея и нескольких крупных городов вроде Березовa и Якутскa, русская Арктика на рубеже XVIII столетия была страной изолированных острогов, населенных плохо экипированными, но все лучше приспосабливающимися к северной жизни казаками.
Государевы иноземцы
Русские, кoторые гнались за соболем до берегов Тихого океана, не наткнулись случайно на terra incognita, они не искали затерянного христианского царства и не «открывали Сибирь». Они знали, что «Восточная страна» богата пушниной и что они могут получить эту пушнину от «людей самоедь зовомых». Они, возможно, слышали также, что самоеды едят друг друга, а также рыбу и оленье мясо, закалывают своих детей на угощение гостям, ездят на собаках и оленях, метко стреляют, носят шкуры, имеют плоские лица и маленькие носы и торгуют соболем. В той же стране, по рассказам, живут самоеды, которые проводят летние месяцы в море, сбрасывая кожу; самоеды, которые каждую зиму умирают, когда вода потоком течет из их носов и примораживает их к земле; самоеды со ртом на темени, которые едят, помещая пищу под шапку и двигая плечами вверх и вниз; самоеды вообще без голов, у которых рот между плеч и глаза на груди, которые не могут говорить и едят сырые оленьи головы; самоеды, которые бродят под землей, и самоеды, которые пьют кровь человечью «и всякую»[131].
Повесть XV в., которая содержит эти сведения, была компиляцией из сообщений русских путешественников и переводных литературных источников, особенно из популярного эллинистического романа, известного в России кaк «Александрия»[132]. В большинстве своем описания этих «самоедов» – как и вечно популярных людей с песьими головами и других созданий, часто упоминавшихся в качестве обитателей полуночной страны, – долгое время были расхожим местом устных традиций Евразии и частью неизменного арсенала древних и средневековых космографий[133]. Геродот (поместивший людей, которые спят по шесть месяцев в году, за непроходимыми горами к северу от лысоголовых аргиппеев)[134], Плиний, Помпоний Мела, Солин, Исидор Севильский и их ученики и подражатели населяли окраины известного им мира безголовыми лемнами, одноглазыми аримаспами (которые также вoдились в Северной Скифии) и другими чудищами, присутствие которых отличало дикость от цивилизации[135]. В XIII в. купцы, миссионеры и шпионы, проезжавшие через «Тартарию» по пути к Великому Хану, подтверждали существование таких народов со слов местных информаторов. Иоанн де Плано Карпини узнал о людях, обитающих за самоедскими землями, у которых собачьи морды и каждое третье слово представляет собой лай; Марко Поло, поместивший кинокефалов (песьеголовых) на Андаманские острова, рассказывал о торговцах пушниной из «полуночной земли» как о людях, которые живут «как звери, никому не подвластны»[136]. Посланники в Московию XVI в. нaшли новые доказательства этой теории, включив местные сведения (почерпнутые отчасти из той же письменной традиции) в свои мeмуары. Сигизмунд Герберштейн ссылался на русский источник о песьеголовых северянах, о безглавых людях, людях-рыбах и людях, которые умирают каждую зиму; Ричард Джонсон буквально цитировал пассаж из «Сказания о человецех незнаемых в восточней стране» о каннибализме у самоедов; Рафаэль Барберини приписывал свидетельства о людях-рыбах, замерзающей слизи из носа и о людях, впадающих в зимнюю спячку, двум татарам-очевидцам; а Даниил Принтц подвел итог господствующему мнению, назвав всех обитателей «Пермии», «Сибирии» и «Устюзии» «дикарями и почти совершенными варварами»[137].
Не все варвары были скотами, и не всякая дикость была отвратительна. Еще с момента грехопадения – в любом толковании – люди тосковали по утраченной невинности Золотого века и завидовали тем, кто не был затронут цивилизацией (или был лучше подготовлен к тому, чтобы нести ее бремя). После того как за большинством нимф и сатиров были закреплены определенные места проживания, вселенная за пределами ойкумены стала состоять из народов, которые являлись антиподами «настоящих» людей («варящих пищу», горожан/граждан, правоверных). Их могли отождествлять с деревьями и животными (savages, от silva, лес); немотой (варвары, или «бормочущие»; немцы, или «немые»); иррациональностью (тот, кто не обладает логосом, лишен и логики); или язычествoм («поганый» – «pagan» – означало «неотесанный» до того, как стало означать «неверующий»)[138]. В любом случае они проявляли свою чужеродность тем, что нарушали пищевые и половые табу, которые связывали человеческое общество воедино и делали его «нормальным»[139]. Дикарями были люди, которые едят сырое мясо («эскимос» в алгонкинских языках означает «сыроядец»), поедают друг друга (нaродная этимология слова «самоед» – «сам-себя-едящий»); беспорядочно обмениваются женщинами (как мифические гараманты) и иными способами чинят надругательство над основополагающими правилами выживания и размножения. Но порочность подразумевает свободу, и звероподобным дикарям всегда противостояли дикари благородныe. Немногие исторические и космографические труды в Античности и Средневековье могли обойтись без добродетельных эфиопов, мудрых «браминов», мужественных скифов и кротких гиперборейцев[140]. Дикарь мог быть энергичным врагом упадкa или кротким оппонентом насилию (в зависимости от того, что именно автор считал достойным сожаления в своем собственном обществе); но до тех пор, пока человечество стремилось подняться – или возвратиться – к полному совершенству (и пока оставались разные типы человечества), существовала и потребность в дикарe, хорошем или плохом[141]. Юлий Помпоний Лет указывал, что «древние угры» не имеют царей и совершенно счастливы, несмотря на холодный климат; Франческо Да-Колло писал, что они лишены всякой культуры, образования и торговли (politia, humanita et commertio) и не имеют крыши над головой, но почитают себя счастливыми и не мечтают о лучшей жизни; а Адам Олеарий сравнивал самоедов с Улиссом, который предпочитал свою суровую родину увеселениям острова нимфы Калипсо[142].
В эпоху Великих географических открытий большинство европейцев продолжало помещать новые народы в привычныe ландшафты. Васко да Гама отправлял письма пресвитеру Иоанну, а Колумба сопровождал толмач, изъяснявшийся на еврейском, арабском и халдейском. Открытие означало узнавание, и Новый Свет мог быть осмыслен только в терминах Старого Света. Овьедо называл пум «львами», a ягуаров «тиграми»; Кортес сравнивал ацтекские храмы с мечетями, а рыночную площадь в Теночтитлане с такой же площадью в Саламанке. Туземцы тоже были везде одинаковыми, так что Колумб без особых затруднений отличал кротких аркадийцев Эспаньолы от свирепых песьеголовых обитателей Канибы[143]. Но времена менялись, и когда некоторые европейцы, оставшиеся дома, стали задаваться вопросом, был ли Старый Свет на самом деле таким уж старым и привычным, некоторые eвропейцы, прибывшие в Америку, начали утверждать, что Новый Свет и в самом деле был новым и незнакомым. Метафоры подобия изнашивались, и различия казались все более и более разительными[144]. «Все совсем по-другому, – писал Фра Тома де Меркадо, – нравы туземцев, характер республики, способ управления и даже способность быть управляемыми»[145]. Настолько по-другому, что сводить разнообразие вновь открытых объектов к видам, известным в Европе, было, говоря словами Жозе д’Акосты, «все равно что назвать яйцо каштаном»[146]. Когда слова оказывались бессильны, рисовали картинки, а если и те и другие оказывались неадекватными («поскольку таковые вещи, – согласно Алонзо де Зуазо, – не могут быть поняты без участия трех чувств»), единственное, что оставалось делать, это съездить и посмотреть на эти вещи «в их стране»[147]. Нo, поскольку это мало кому удавалось, решение проблемы состояло в том, чтобы отправить безымянных животных и дикарей домой, чтобы там их назвали, сравнили, осмотрели, потрогали и понюхали. К концу XVI в. на смену единичным выставкам индейцев и игуан пришли постоянно действующие «куриозные кабинеты», кунсткамеры, выставки и хранилища[148]. По бэконовской схеме вещей, «природа» могла быть естественной, «ошибающейся и изменчивой» («Чудеса») или «измененной и сделанной» («Искусства»), и большинствo коллекционеров исходило из того, что дикари принадлежат ко второй категории, наряду с аномалиями и уродствами[149]. Но как быть с «характером республики» и «способом управления», которые нельзя потрогать или понюхать? Как быть с «обычаями, нравами и ритуалами»? Колониальным администраторам необходимо было понимать местные системы землепользования, брака и наследования; купцы желали знать, что туземцы производят и как они торгуют; а миссионеры вскоре обнаружили, что, говоря словами Диего Дюрана, язычников нельзя обратить, «доколе мы не осведомлены обо всех разновидностях религии, кою они исповедуют»[150]. В соответствии с этим, появились бесчисленные собрания обычаев и облачений; «наставления для джентльменов, купцов, ученых, солдат и моряков»; а также словари, учебники грамматики и правительственные анкеты[151]. Более того, существовавшие тогда представления о времени и пространстве, о человеческом роде и дикости, о разуме и страсти должны были вместить в себя вновь обнаруженных людей и вновь открытые миры. Откуда пришли варвары (язычники)? Были ли они людьми в полной мере (восприимчивыми к божественному милосердию)? Каковы основания для наложения на них обязательств (наказания)? Чем объясняется многообразие их обычаев (религий)?
В XVII в. некоторые из ответов на эти вопросы поступили из «Северной Татарии», той части Старого Света, которая долгое время была отрезана от politia, humanita et commertio «снежными пустынями и непроходимыми горными цепями», но становилась все более и более прозрачной благодаря завоеваниям и перечерчиванию карт. Наряду с русским продвижением в Сибирь, английской и датской эксплуатацией Северо-Восточного морского пути, немецкой заинтересованностью в торговле с Востоком через Московию и попытками иезуитов найти кратчайший сухопутный путь в Китай, новые стремления классифицировать человечество в целом и варваров в частности дали детальные описания физического облика, одежды, жилищ, пищи, религиозных обычаев и хозяйственных занятий самоедов и тунгусов[152]. Впрочем, ни одно из этих описаний не было создано русскими, и, как жаловался Исаак Масса в 1612 г., религия енисейских тунгусов до сих пор неизвестна, поскольку «благодаря беззаботности московитов трудно во что-либо вникнуть»[153]. Царские служилые люди путешествовали по самой «прекрасной стране» и «видели много диковинных растений, цветов, фруктов, редких деревьев, животных и чудных птиц. Но так как московиты сами по себе народ нелюбопытный, они не обращают внимания на подобные вещи, ища повсюду одну только прибыль, поскольку они грубый и нерадивый народ»[154]. Действительно, ни дьяки, руководившие из Москвы поставкой пушнины, ни казаки, «собиравшие» местное население под высокую государеву руку, не проявляли никакого интереса к тем вещам, которые Масса называл диковинными и чудными. В их мире гоняться за «чудными птицами» считалось нелепым и, возможно, опасным предприятием, а «любопытство» было ругательным словом.
В отличие от наставлений испанских королей, которые требовали от колониальных чиновников детальной информации о местных верованиях, системах письменности и управления («и есть ли у них короли, и избираемы ли они, или правят по праву наследования, или же ими управляют как республикой, или по родовитости»[155]), наказы, посылавшиеся сибирским служилым людям, редко отвлекались от непосредственных задач сбора ясака. Нет оснований полагать, что царь и его служилые люди проявляли какой-либо интерес к заявлению своих прав на земли и людей так, как это делал Колумб в Новом Свете «во имя их Величеств, провозглашением вступления во владение и водружением королевского штандарта». Казакам надлежало выяснить, может ли «новая река» стать источником «государевой прибыли», и если да, – обезопасить ее путем наложения дани на местных «иноземцев».
Да ему, Василью, велеть служилым людем проведывать и самому промышленых людей роспросить про тот остров, что в море против Калымы реки Новая Земля, и есть ли на том острову морской зверь морж. И буде есть, и иноземцы чюхчи на тот остров для того зверя промыслу зимою ездят ли и тот морской зверь морж побивают ли. И будет ездят и морж побивают, и ему, Василью, посылать к тем иноземцом к чюхче и их призывать под государеву, царскую высокую руку и, уговоря, взять у них в оманаты добрых лутших людей, сколько человек пригож, и велеть им за государев ясак платить тем моржовым зубьем большим и средним[156].
То есть, если на острове нет моржовой кости или если чукчи не могут ее поставлять, служилые люди должны отправиться в другое место и попытаться найти берега побогаче и иноземцев получше. Чтобы получить дозволение и денежные средства на новую экспедицию, служилые люди обязаны были доказать, что «на тех реках немирных землиц розных родов людей много и по тем рекам соболя и всякого зверя много ж, а соболи добрые, черные» и что, таким образом, получив провизию и подкрепление, «тех тунгусов под государеву царскую высокую руку привесть мочно, и государю прибыль учнет быть немалая»[157].
Если прибыль была единственной причиной захвата новых земель (и, что бы ни говорили Масса и прочие «любознательные иноземцы», никто не собирался за это извиняться) и если прибыль означала ясак, то кое-какая «этнографическая» информация не могла помешать. Прежде всего нужно было знать, имеется ли у иноземцев что-либо ценное – по большей части пушнина, но не только: «…серебро родится ли, и медная и свинцовая руда и синяя краска, чем кумачи красят, есть ли, и камки и кумачи», и «пашенная земля туто или в иных местех неподалеку есть ли, и многая ль пашня и какова земля» (а если нет, то смогут ли служилые люди «сытым[и] быть рыбою и зверем без хлеба»)[158]. Удостоверившись, что государь может быть заинтересован в «новых землях», казаки должны были выяснить, нет ли у них конкурентов («И дают ли кому они ясак с себя?»); какой путь туда лучше выбрать («И далече ли ход из той реки до Индигирской вершины?»); хорошо ли вооружены иноземцы («А бой у них лучной, у стрел копейца и рогатины все костяные»); и насколько они многочисленны («А буде… люди неболшие, и на милость Божию и на государское счастье ныне надеясь, мочно над теми людми промыслить»)[159]. Кроме того, как тактические, так и фискальные задачи требовали некоторых знаний о родовом делении, лингвистических различиях и социальной иерархии. «И того, государь, шамана приветчи с бою роспрошивали – какой ты человек и есть ли у тебя родимцы. И он сказал: я де лутчей человек в шоромбойских мужиках и есть де у меня 4 сына. И того, государь, шамана Юляду посадили в аманаты»[160]. Иногда упоминались также местные жилища («а люди де живут… в земляных юртах»), религиозные обычаи («а у них медведи кормленые»), украшения («а на тех де тунгусах… он… видал круги серебряные») и черты внешнего облика («пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных»), но такие упоминания были нечастыми и служили скорее военными и коммерческими донесениями, нежели примерaми своеобразных обычаев[161]. Основополагающими считались и повсеместно использовались следующие категории: «сидячие» и «кочевые» («кочевные»), а в качестве подгрупп – «скотные или пашенные», «пешие, конные и оленные». Будучи добавлены к именам собственным, эти определения содержали полезную информацию относительно способности местного населения к самозащите, пропитанию пришельцев и платежу определенных типов дани.
Любопытно, что сами имена собственные никогда не изменялись. В отличие от первооткрывателей Новой Испании, Новой Англии и Новой Франции, русские казаки XVII в. не пытались растворить новый мир в старом путем переименования, разрушения или обращения в иную веру[162]. Они знали, что находятся на чужих реках среди чужих народов, и сообщали царю в Москву «прямые имена» и «прямые шерти». Со своей стороны, царь приобретал новых подданных, не приобретая при этом новых русских. Иноземцы оставались иноземцами, платили они ясак или нет; никакой Новороссии – т. е. никаких попыток полного присвоения новых территорий – не было вплоть до XVIII в. Западноевропейские современники легко могли описать отношения русских к их северо-восточным владениям в терминах, традиционно применявшихся к дикарям и туземцам, т. е. перечислить то, чего в этих отношениях недоставало (как, среди прочих, предложил Масса). Казаки не ожидали найти ничего, кроме пушнины; их не особенно удивляли или возмущали туземцы; они не говорили об «иноземной вере» как о низшей по сравнению с их собственной; они не относились к туземцам как к дикарям, варварам или язычникам; они не искали ничего, кроме дани, и не знали о других формах завоевания; и они никогда не подвергали сомнению человеческую природу «иноземцев» и не задавались вопросом о том, откуда те произошли.
Стремление к «прибыли» не было исключительной особенностью русских. Согласно «Всеобщей космографии» Себастьяна Мюнстера, испанцы, «ищущие золота и специй, a не чудовищ», отказались попусту тратить время на острове, «где жили люди не просто с висячими ушами, a с ушами такой длины и ширины, что одним из них они могли укрыть всю голову»[163]. И все же, где бы ни появлялись европейцы, всегда где-то рядом был земной рай или еще один баснословный остров, и странных туземцев можно было осмыслить в рамках библейской или классической традиции – или же в сравнении с язычниками и варварами своего времени. Если ацтеки не были похожи на песьеголовых людей или евреев, они могли быть уподоблены скифам или эфиопам[164]. Напротив, народы тайги и тундры Северной Евразии были просто чужеземцами, которые ездили на лошадях, ловили лосося или охотились пешими. Если их и сравнивали с кем-нибудь, то либо со своими земляками («а у тех де ламутцких мужиков по той реки юрты сидячие, как те большие русские посады….а того де [рыбного] запасу у них запасают много, что русские хлебные анбары з запасы»)[165], либо с другими иноземцами, которые также ездили на лошадях, ловили лосося и охотились пешими («чюхчи», среди прочего, «живут что самоядь оленная – кочевные»)[166]. Сказки o сaмопожирающих чудищах полуночной земли были весьма популярны в России XVI и XVII вв., но никто из казаков не отождествлял их с реальными «оленными самоедами», которых они собирались «объясачить». До некоторой степени это можно объяснить отсутствием «широких морей», высоких гор и прочих символически значимых преград между русскими и северянами (граница между Европой и Азией по Танаису не имела никакого значения вне пределов узкого круга читателей переводных западных космографий, а Уральские горы еще не были важной географической межой)[167]. В отличие от испанцев или португальцев, которые пересекали океаны, чтобы открыть новые острова, казаки-землепроходцы двигались чeрез континентальную Eвразию, сталкиваясь сo сплошной чередой иноземцев.
Впрочем, пространственная близость не обязательно служила гарантией от удивления или отвращения, что подтвердили многие греческие и христианские путешественники. Согласно Вильгельму Рубруку, оказавшемуся среди татар, «думалось мне, что попал я в новый мир»[168]. Казаки никогда не попадали в новый мир, поскольку, в отличие от Вильгельма, их туда не посылали и поскольку у них не было «публики», которая ждала рассказов о новых мирах. Бoлее того, собственный мир казаков не был так резко разделен на христианскую и нехристианскую сферы, как мир Вильгельма. Их мир состоял из бесконечногo числа народов, каждый из которых имел свою веру и свой язык. Это не было временным отклонением от нормы, на смену которому должны были прийти обращение или откровение, это было нормальным положением дел, при котором от иноземцев ожидалось, что они останутся иноземцами. Некоторые из местных воинов и женщин могли присоединиться к казакам, и некоторые казаки могли просить местных духов о защите, но никто не предполагал, что боги взаимно исключают друг друга и что русский бог вскоре восторжествует.
Конечно, не все русские смотрели на мир таким образом. Вскоре после своего поставления в 1621 г. архиепископ Тобольский занялся включением сибирских народов, ландшафтов и прошлого в русскую – и, таким образом, всемирно-христианскую – литературную и религиозную традицию. Тобольские писцы радикально переосмыслили казацкие сообщения и воспоминания; их дело продолжили летописцы домa Строгановых и Сибирского приказa, которые, как правило, сотрудничали с церковью в символическом крещении «новых земель». Военная кампания Ермака превратилась в крестовый поход во имя православия, в акт возмездия силам зла («супротивным супостатам») и в снискание отважными казаками «вечной славы», в то время как разнообразные иноземцы стали «безбожными агарянами», «проклятыми неверными» и «скверными варварами», возглавлявшимися «прегордым ханом Кучумом» и понесшими наказание от русских посланцев христианского Бога[169]. Иными словами, если у дикарей, открытых западноевропейскими путешественниками, не было никакой религии, а у иноземцев, «собираемых» казаками, были нейтральные «веры», то те неверные, которых предавали анафемe сибирские священнослужители и чиновники, были единообразно кровожадными и «злочестивыми» врагами Христовой веры. Существовало два основных способа быть язычником: первый ассоциировался с высокомерием и гордостью, второй – с темнотой и нечистотой. Первый пoлагался на образы восточного «коварства, лести и лукавства», второй – на устную и письменную традицию описания дикости и скотоподобия: «[Живут] яко скот в диких лесех»[170],
во истинну и скотом [не] уподоби[ша]ся сии людие, скот бо аще и бессловесно есть, Богом не веленно ясти ему и не яст зверя [ли] или птицы или траву сенну; сии же человецы не уподобишася сим, понеже Бога, иже суть на небесех, не ведающее, ни закона [Его] еже от поведающих им слышати, не приемлющее, сыроядцы, зверина же и гадская мяса снедающее, скверна и кровь пияху, яко воду, от животных и траву и корения едяху[171].
Таким образом, истинный смысл и неизбежный итог движения России на восток состоял в том, чтобы «проповедатися чрез Сибирь Евангелие в концы вселенныя»[172], искореняя безбожие, а значит, всякую чуждость, поскольку в языке Тобольской летописи антонимом «поганому» было «русское».
Купцы и служилые люди не разделяли этих целей, не проповедовали Евангелие и не употребляли словa «язычник». Нo oни пользовались словом «русские» и были согласны, что в основе различий между ними и иноземцами (как и между различными иноземцами) лежит религия. «Иноземец» мог стать «иноверцем», а иногда – «иноязычником»[173]. В любом случае статус иноземца не имел ничего общего со статусом царского подданного. Те северяне, которые соглашались платить ясак, получали монаршую защиту и наименование «мирных», но не становились русскими. Выплата ясака была исключительно обязанностью иноземцев – русские платили налоги или служили государю[174].
Согласно закону был единственный способ перестать быть иноземцем – стать христианином. Будучи крещеным, ясачный человек приобретал полные права «гражданства», прекращал платить ясак и, как государев служилый человек, получал жалованье натурой или деньгами. Крещеных женщин выдавали замуж за служилых людей[175]. Наиболее подходящими кандидатами для добровольного обращения были аманаты, от которых отказались родственники, «преступники», надеявшиеся избежать наказания, рабы, которые не хотели оставаться у хозяев (христиане не могли служить не-христианам), и голодающие ясачные люди, желавшие получать продовольственное жалованье[176]. В целом лишь очень немногие северяне проявляли интерес к этой возможности – отчасти потому, что все «новокрещеные» должны были порвать со своими сородичами и переселиться к русским[177]. Поскольку казна получала тем меньше шкурок, чем меньше становилось иноземцев, правительство в Москве было довольнo таким состоянием дел, постоянно понуждая местные власти «неволею никаких иноземцев крестить не велеть» и не задевать их религиозных чувств, дабы «Сибирская Ленская земля пространялась, а не пустела»[178].
Купцы и служилые люди обычно не выказывали особенного желания заниматься миссионерством, но существовала одна категория местных жителей, чьи души необходимо было спасать, – женщины. В первой половине XVII в. большинство русского населения Сибири были холостыми мужчинами, и было «спечь и сварить на них некому»[179]. К XVIII в. многим из поселенцев позволили брать с собой семьи, но недостаток женщин оставался серьезной проблемой, особенно для купцов и казаков, живших в отдаленных острогах[180]. Снова и снова они просили царя прислать им женщин, потому что «без женишек, государь, нам быти никако неможно»[181]. Поскольку появления большого числа женщин не предвиделось, русские «имали себе у иноземцов жен и детей для блудного дела»[182] и, по словам патриарха Филарета, «и с татарскими, и с остяцкими, и с вагулецкими поганскими женами смешаютца и скверная деют, а иные живут с татарскими с некрещеными как есть с своими женами, и дети с ними приживают»[183]. Самое популярное решение состояло в том, чтобы крестить женщин (и детей). Женщины (как и дети) не регистрировались в качестве плательщиков ясака, так что их уход из тайги и тундры не влек за собой немедленных потерь государственных доходов, позволяя в то же время утешить священников и узаконить детей, рожденных в приграничной зоне[184]. С точки зрения Московского государствa сибирские иноземцы должны были оставаться ясачными людьми – a это значило, что они должны были оставаться иноземцами (иноверцами) и мужчинами (плательщиками ясака). Kрещение туземных женщин и детей увеличивало число русских, не уменьшая при этом числа иноземцев.
Новообращенные, которых не взяли замуж и не усыновили согласно принятым правилам, могли быть перечислены в холопы, при условии, что они происходят от неясачных, «немирных» иноземцев[185]. Домашнее рабство было обычным институтом в Северной Евразии, и женщины неприятеля считались законными военными трофеями. Многие приполярные группы, однако, не могли удовлетворить запросов русских, и некоторые поселения и стойбища лишились почти всех своих женщин[186]. Кроме того, такие традиционные экономические сделки, как уплата выкупа за невесту или усыновление «помощников» в стойбище, могли восприниматься русскими как торговля людьми. Это увеличивало число холопов, равно как и число челобитных, которые направляли в Москву ясачные люди, жалуясь, что от своего разорения они вынуждены «продавать и закладывать» своих жен и детей.
Судя по всему, новообращенных христиан – будь то холопы, жены или государевы служилые люди – признавали христианами и русскими. Немногочисленные, оторванные от своих бывших сородичей, вошедшие в состав определенного российского сословия, они не слишком долго оставались «новыми», хотя бы потому, что альтернативы смешанным бракам не было. Термин «новокрещены» применялся редко, и казаки туземного происхождения в официальных донесениях и указах никогда не обозначались как таковые. Что же в таком случае значило быть христианином (русским)? В стране, где было совсем мало священнослужителей и почти не было церквей, это сводилось к базовым различиям между человеческим и звериным, божеским и безбожным, между «нами» и «ними»: к пищевым и половым запретам. «Скаредная ядь» и «скверная похоть», «сыроядство» и совокупление с идолопоклонниками более всего тревожили приграничных священников[187]. Некоторые казаки были согласны с этим, по крайней мере отчасти. Хотя они не придавали большого значения формальному крещению своих местных сожительниц, казаки признавали, что ничто так не «сквернит душу», как поедание «скаредной яди»[188]. С их точки зрения, различия между народами вообще и между русскими и иноземцами в особенности состояли в их «наречии», «вере» и «обыкновениях», включавших пищевые предпочтения, брачные обычаи, объекты религиозного почитания (иконы, идолы, храмы) и все тo, что делалo людей оседлыми или кочевыми, земледельческими или скотоводческими, лошадными или оленными. Как сообщал якутский служилый человек Нехорошко Колобов в 1646 г., амурские дауры были в меньшей степени иноземцами, чем прочие, поскольку они «живут… дворами, хлеб у них и лошеди, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткут, и прядут со всего обычая с русского»[189].
Таким образом, на протяжении большей части XVII в. ясачным иноземцам, желавшим оставаться иноземцами, охотно предоставляли возможность жить в лесах и платить ясак, в то время как те, кого убедили или принудили стать русскими, имели право сделать это при условии, что они будут соблюдать установленные правила. Разумеется, до тех пор, пока правила не изменятся.
Глава 2
Непросвещенные
Самуэль Батлер. Дамы Ответствуют Рыцарю[190]
- Весь мир, без платья и искусств,
- Был бы одной большой пустыней,
- А люди – дикою ордой,
- Если довериться Природе.
Государство и дикари
Правила начали меняться на рубеже XVIII в. Когда Петр Великий провозгласил, что Россия должна догнать Европу, казалось вполне естественным, что и российским иноземцам есть кого догонять. Согласно одному из идеологов петровской элиты, В.Н. Татищеву, история мира представляет собой непрерывное восхождение от младенчества к «мужеству», в котором каждая новая стадия порождается прогрессом в знаниях. «И тако мнится, что удобно можем сравнить до обретения письма и закона Моисеева со временем младенчества человека»[191]. Концепция мировой истории (универсальная хронология) и идея безоговорочного превосходства «современных» над «древними» были незадолго до того ввезены из Германии и сыграли решающую роль в государственном проекте «взросления»[192]. Цепь бытия стала протяженной во времени, и точно так же, как своеобразные – с точки зрения Европы – черты России были теперь делом возрастных различий, иноземцы стали людьми не только «из иной земли», но и из иного времени. Детей следовало крестить и учить письму, и если русские должны были превратиться в шведов, то ясачные люди должны были стать похожими на шведских лапландцев. «У шведов, – сообщал Татищев, – равно те же лапландцы, что у нас, и гораздо дичае, нежели мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы и пр., но неусыпным духовным трудом многое число крещено и для них книги на их языке напечатаны»[193]. Кроме того, согласно Петру, обращенные азиаты смогли бы «к Российскому народу людям, которые по вся годы с караваны для торга и для всяких посылок порубежных ездят, учинить себя склонительных»[194]. Усилия в деле секуляризации привели к крестовому походу. Принадлежность к новому бюрократическому государству предполагала определенную степень цивилизованности; погоня за цивилизацией начиналась с крещения.
Вопроса о том, кто должен познакомить северных иноземцев с христианством, не возникало. Если практические задачи и умения следовало заимствовать из Европы, то наставники русских в духовных делах приезжали с Украины. Большинство новых церковных иерархов, рекрутированных Петром, были выпускниками Киевской духовной академии, на которую существенное влияние оказали польские иезуитские колледжи. В Польше, как докладывал Петру анонимный доброжелатель в 1700 г., «слышно… [что] повсюду в дальние и незнаемые страны для проповеди слова Божия ходят езуиты без мзды и приводят иноверцов в Православную [sic! – Ю.С.] веру, – яко же и прежде апостоли»[195]. Менее чем через два месяца после получения этого письма Петр наказал митрополиту Киевскому найти добрых людей для миссионерской деятельности в Китае и Сибири, и в 1701 г. первый украинский священнослужитель прибыл в Тобольск, чтобы возглавить одну из обширнейших епархий в мире[196].
Миссионерская деятельность началась незамедлительно. Русским сибирякам было приказано сбрить бороды и носить немецкое платье[197]; коренных жителей следовало окрестить и вознаградить русской одеждой (таким образом, ожидалось, что каждая группа поднимется на шаг выше). Специальные миссии были отправлены в Пекин, на Камчатку, в Иркутск, а позже – на Колыму, Алазею и Анадырь[198], но главным объектом заботы стали обские угры. В 1702 г. новый митрополит Сибирский, Филофей Лещинский, получил дозволение Петра обращать ясачных людей, не освобождая их от дани, и в 1706 г. ему было приказано отправиться вниз по Оби, «кумиры и кумирницы сожигать» и крестить «жителей всех от мала до велика». Впрочем, силу применять не следовало, и первую миссионерскую экспедицию, не поддержанную светскими властями, манси принять отказались[199]. Раздраженный Петр повелел Филофею, «где найдут по юртам остяцким их прелесные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и рубить и капища их разорить, а вместо тех капищ часовни строить и святые иконы поставляти, и их Остяков приводити ко крещению… А естли кто Остяки учинят противность сему нашему великого государя указу, и тем будет казнь смертная»[200]. Тем временем Сибирь стала централизованной губернией, и ее первый губернатор, князь М.П. Гагарин, прибыл в Тобольск в 1711 г. с наставлениями помогать миссионерам. Годом позже у митрополита были корабль, солдаты, толмачи и подарки для обращенных, а будущим христианам было велено, «чтобы они Остяки никуды не разъезжались»[201].
В течение следующего десятилетия Филофей Лещинский раз за разом пускался в путь, чтобы «крепкие нечестия столпы… низрынуть, разорити капища, опровергти и сокрушити вся идолы»[202]. Достигнув угорского поселения, партия из нескольких монахов и десятка солдат сходила на берег, и «наставник» обращался к собравшимся обитателям деревни с проповедью о превосходстве христианства над язычеством. Толмач переводил его слова, и миссионеры приступали к разорению и сокрушению «идолов и языческих капищ». Покончив с этим, они загоняли жителей деревни в реку для крещения, после чего «новые христиане» получали оловянные крестики, рубахи, штаны, хлеб и другие подарки[203]. Некоторые аборигены пускались в бегство, отказывались покидать свои дома или «затыкающы ушы своя, яко аспиды глухии»[204]. Другие пытались выговорить себе право иметь «многих жен» и держать изображения духов «между иконами». Некоторые нападали на миссионеров «убийственной рукой»[205]. (Согласно летописцу Филофея, сам «наставник» получил удар «прамо [в] чрево», но остался цел и невредим благодаря божественному вмешательству[206]). В конечном счете, однако, угроза «кары смертью», щедрая раздача подарков и некоторые особые льготы для крещеных – в первую очередь освобождение от уплаты ясака на три года и прощение нетяжких преступлений – обеспечили успех предприятия, и в 1720 г. Петр поздравил Филофея с успешным крещением более чем сорока тысяч язычников[207].
Другой областью массового обращения была Камчатка. Первый эмиссар Филофея, архимандрит Мартиньян, прибыл туда в 1705 г., но его интересы простирались в иные сферы[208]. В 1711 г. он принял участие в казачьем восстании и заслужил «шубу соболью лапчатую, да Петра Чирикова грабленых дворовых людей камчадальской породы некрещеных робят, иноземским названием Щочка да Чистяк, да Володимера Отласова дворовую ж девку некрещеную Настасью»[209]. Вскоре после этого Мартиньян был задушен дворовыми-ительменами, и его дело унаследовал другой мятежник, Игнатий Козыревский, успевший основать монастырь до того, как был арестован властями[210]. Наконец, в 1745 г. на Камчатку прибыла специальная миссия из девятнадцати священников во главе с архимандритом Иоасафом Хотунцевским с задачей крестить местное население, основывать школы и объяснять местной администрации, что сбор ясака не является их единственным делом[211]. Пятью годами позже Иоасаф сообщал правительству, что
все Камчадалы (кроме Коряков, в дальности от Камчатки, с места на место переезжающих) благодатию Божиею Св. Крещением окрещены, научены и состоят все в Вере, как благодать Христова утверждает; и потому дело проповеди Слова Божия кончилось и более приводить из язычества в Веру Христову некого[212].
К тому времени, однако, в Петербурге это мало кого беспокоило. Ежегодные доходы от торговли пушниной быстро снижались, и в середине XVIII в. наследники Петра не проявляли особого интереса к ясачным людям, будь те язычниками или православными. По-прежнему строились церкви; по-прежнему открывались новые семинарии; по-прежнему крестили многочисленные группы людей (преимущественно в Иркутской епархии); и по-прежнему слышалось беспокойство о качестве подобных обращений[213], но столичные власти более не желали предоставлять для этих целей значительные суммы денег или «добрых людей», не говоря уже о воинских частях. Сосланные в «снежную пустыню» за разнообразные нарушения церковной дисциплины и по большей части забытые вышестоящими иерархами, священники, поставленные на Север, делали нелегкое дело обслуживания христианских потребностей людей, у которых такие потребности отсутствовали. Большинство новообращенных продолжали общаться со старыми духами и, как правило, не помнили свои христианские имена и не желали следовать предписанным ритуалам. Функция священников заключалась в разоблачении и искоренении языческих обычаев, в особенности брачных. Многоженство и кровосмешение (определяемое в соответствии с русскими принципами родства) были объявлены вне закона и спорадически преследовались, а уплата калыма и браки между несовершеннолетними осуждались, но были повсеместно терпимы как неискоренимые[214]. В остальном судьба христианской веры зависела от местных священников. В 1747 г. священник Пыхов дал следующий отчет о своей деятельности:
Прошлого 746 [1747] года в апреле или мае месяцах новокрещенного остяка Никифора Сенкина плетми бил за то, что он дочь свою выдал в замужество в указное время, а пиршество свадебное отправлял в святую велику четыредесятницу на первой неделе. Зятя ево Сенкина… бил же плетми за то, что он умершего своего сына похоронил без ведома его священника самовольно кроме церкви… Семен Корнилов Кортышин плетми бит за то, что никогда не ходил во святую церковь… Вдову Марфу с сыном Козмою… бил плетми 746 года… за то, что найден у них в юрте… каменный шайтанчик, которому они жертву приносили… а оного шайтана… при собрании остяков разбил топором и разбросал порознь[215].
Разбитых шайтанчиков заменяли иконами, которые со временем находили место в религиозном пантеоне новообращенных христиан. В 1754 г. Пыхов раскрыл крупный случай иконоборчества: семеро хантов, расстроенные неудачной охотой, «святые образа похватая збросали на пол и топтали ногами»[216]. Наиболее упорных отступников, в особенности «колдунов», отправляли в тобольскую тюрьму, где подвергали допросам консистории и снова били. Многие из них умерли или покончили жизнь самоубийством, а один шаман был сожжен на костре[217].
Впрочем, хорошим туземцем был живой туземец, поскольку плата за совершение христианских обрядов и штрафы за «идолопоклонство» составляли главные источники дохода священнослужителей. Согласно жалобам ясачных людей, Пыхов брал по рублю за каждое христианское погребение и по пять – за молчание о погребении в соответствии с местными традициями[218]. В подобной практике обвиняли и других священников, трудившихся среди новообращенных «иноземцев», и в некоторых регионах «духовным персонам, по толь великим ныне происходящим от них новокрещеных противностям, в волости их въезжать уже никак… невозможно»[219]. (Один из предводителей восстания ительменов в 1746 г. признал за собой желание «отца архимандрита Иосафа Хотунцевского… убить и христианскую веру истребить»[220].)
Не все «язычники» выступали против христианства и его проповедников. Некоторых привлекали экономические выгоды, предоставлявшиеся новокрещеным; другие желали заручиться поддержкой могущественных русских духов. Благодаря официальному осуждению традиционных брачных обычаев, у всех недовольных этими обычаями появились новые доводы и новые влиятельные защитники. К началу XIX в. бегство туземных женщин от их мужей под защиту церкви стало настолько широко распространенным явлением, что светские власти Иркутской губернии почувствовали необходимость защитить целостность семьи ясачных людей (и, таким образом, сберечь свои источники пушных доходов, поскольку семья, лишившаяся матери, редко была экономически самостоятельной, а традиционное требование, чтобы отец женщины или ее новый муж вернули калым, не могло быть предъявлено церкви). В 1807 г. Иркутское губернское правление выпустило специальный указ, в котором провозглашалось, что крещение полностью совместимо с сохранением традиционных брачных обычаев, за исключением многоженства и кровосмешения. Обращенным в христианство не позволялось использовать свой новый статус для отказа от обязательств по отношению к некрещеным супругам[221].
Крещения «оптом», не сопровождавшиеся переменами в обычном праве, привели к созданию значительной группы христиан, не отличимых от язычников. В отличие от индивидуальных новообращенных XVII в. (которые освобождались от уплаты ясака в той степени, в какой освобождали самих себя от своей иноземной сущности), новообращенные христиане массового производства продолжали платить дань и нарушать священные правила потребления пищи, поселения и размножения. Официальная принадлежность к религиозной общине оказалась оторванной как от формального статуса налогоплательщика, так и от веры в ее традиционном понимании. Некоторые подданные царя отличались от других подданных неким качеством, которое было признано государством, но не имело правовых оснований. К началу XIX в. «иноземцы» стали «инородцами». Чужаки, которые прежде могли перейти в новый статус путем крещения, стали чужаками по рождению – и тем самым чужаками навсегда. Православный хант, купец-якут и погонщик-тунгус были инородцами; польский дворянин, прибалтийский крестьянин и немецкий помещик, как правило, инородцами не были[222].
Разгадка этой тайны кроется в новаторском и продуктивном понятии отсталости. И снова инициатором перемен был Петр. Сам в некотором отношении человек эпохи Возрождения, он унаследовал страсть XVI и XVII столетий к «куриозным кабинетам», кунсткамерам и «бремени моды». В петровских владениях Сибирь была главным источником «вещей чудовищных и занятных», и в одном указе за другим царь требовал редких птиц, зверей, минералов, «древностей всякого рода» и языческих идолов, «которыя во удивление человеком»[223]. Язычники упоминались в тех же списках, особенно такие занятные их разновидности, как «инородцы, именуемые Шитыми Рожами» и шаманы, «которые… о всяких делах с болванами своими говорят, и их вспрашивают, и в том шаманстве… в огонь мечются и иные мечты чинят»[224]. Подобные требования смущали местных чиновников, которые не видели в шаманах ничего интересного. Один березовский воевода не прислал самоедских шаманов в Москву, потому что, с его точки зрения, они только и умели что «бить в бубен и крычать». Впрочем, такие решения были не его ума дело, и следующая грамота грозила наказанием за подобные «отговорки»[225].
Но пока «дикие бараны с великими рогами» и тунгусы с «шитыми рожами» были на пути в зоологические сады и на выставки, эклектические собрания диковинок постепенно сменялись упорядоченными классификациями, основанными на тщательно выстроенных иерархиях. В 1719 г. Петр послал в Сибирь немецкого ученого, Даниила Мессершмидта, изучать географию, естественную историю, медицину и лекарственные растения, народы и их языки, памятники и древности, и «вообще всё достопримечательное»[226]. За Мессершмидтом последовали другие ученые немцы, которым, при помощи их российских студентов и местных шведских пленных, следовало определить перспективы добычи полезных ископаемых, продовольственного обеспечения и торговли; определить, связана ли Азия с Америкой; обосновать претензии России на различные азиатские территории; «и вообще узнать всё, что имеет научный интерес», от «трав, зверей, рыб, птиц, минералов» до «обсерваций астрономических»[227]. Тем временем местные чиновники получили специально подготовленные анкеты, касавшиеся всех аспектов жизни в их округах[228].
Туземцы были вторыми по важности после птиц и минералов – не говоря о «великих богатствах и громкой славе… купечества нашего», – но их также следовало описывать и классифицировать (как разъяснил Линней в 1735 г., категории рода человеческого были частью «системы Натуры»). Причиной этого интереса было «любопытство» и «увеселение», новые добродетели, завезенные в Россию европейцами и считавшиеся важными предпосылками просвещения. Герард Фридрих Миллер радовался «многоцветному раю еще неизвестных трав», «зверинцу, где собрались редкие звери Азии», и «антикварному кабинету языческих могил, где хранились достопримечательности», которые он открыл в Сибири и разместил в Петербурге[229]. В столице любопытство и просвещение всегда сопровождались «пользой» – не «государевой выгодой» казаков XVII в., которая состояла в материальной наживе, а общим благом, которое предполагало определенную образовательную ценность и в конечном счете основывалось на естественном законе[230]. Миллер и его коллеги знали, что научная польза их усилий заключается в установлении научных закономерностей среди различных «многоцветных» объектов. Если казаки определяли ясачных людей по их образу жизни (оседлые или кочевные, конные или пешие), а летописцы возводили все «языки» к определенным библейским предкам или прототипам, то профессиональные ученые XVIII в. отыскивали «научные» – по большей части исторические и филологические – связи и закономерности среди открытых ими многоцветных народов. Основываясь на трудах Лейбница (известных через Шлёцера и Штраленберга), они соглашались в том, что истинное основание этнической классификации состоит «не в нравах и обычаях, не в пище и промыслах, не в религии, ибо все это у разноплеменных народов может быть одинаково, а у единоплеменных различно. Единственный безошибочный признак есть язык: где языки сходны, там нет различия между народами»[231]. По словам Шлёцера, «как Линней делит животных по зубам, а растения по тычинкам, так историк должен бы был классифицировать народы по языкам»[232].
Выполнив эту работу (к концу века большинство народов Заполярья нашло свое место в современных «языковых семьях»), историк или чиновник принимались описывать своих подопечных с максимально возможной полнотой, в попытке сделать их совершенно и навсегда прозрачными. Такие портреты наций – и в конечном счете перечни всего того, из чего состоит человеческая жизнь, – включали в себя происхождение, территорию, черты физического облика, одежду, темперамент, духовную и хозяйственную жизнь, жилища, пищу, религию, системы письменности, счисление времени, брачные и погребальные обычаи, воспитание детей, врачевание и праздники[233]. В пределах этой матрицы все нации были сопоставимы; все они входили в одну и ту же иерархию, которая в XVIII в. все чаще представлялась как историческая. Издатель «Описания всех обитающих в Российском государстве народов» указывал, что этническое разнообразие Российской империи отражает «Мир во всех степенях прехождения к настоящему отонченному и обогащенному надобностями Миру». Низшая стадия была представлена «грубыми, воинствующими… без всяких законов скитающимися Народами, питающимися звериною и рыбною ловлею, одевающимися одними звериными кожами, птичьим перьем»; переходная – кочующими скотоводами; a третья – «земледельческим состоянием», которое простиралось «от первоначального возделывания постепенно до самого совершенства»[234]
