Братство охотников за книгами бесплатное чтение
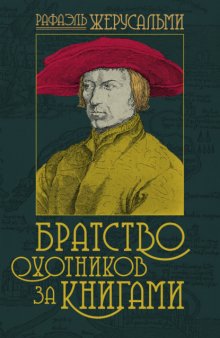
…Написанное стихотворение – всего лишь веха, переправа, межевой столб на бескрайнем поле, коим является жизнь поэта.
Тристан Тцара. Предисловие к «Завещанию» Франсуа Вийона (1949)
.
Raphaël Jerusalmy
© 2008, Raphaёl Jerusalmy
© Éditions Actes Sud 2013
Published by arrangement with Lester Literary Agency
© А. Н. Смирнова, перевод, 2020
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2020
© Издательство Ивана Лимбаха, 2020
Перевод с французского Аллы Смирновой
Raphaёl Jerusalmy La confrérie des chasseurs de livres Roman Actes Sud Arles 2015
Франсуа Вийон, родившийся на закате Средневековья, – первый поэт Нового времени. Он автор знаменитой «Баллады повешенных» и «Баллады о дамах былых времен». А еще Вийон – известный разбойник и вор. В 1462 году в возрасте тридцати одного года он был арестован, подвергнут пыткам и приговорен к повешению. 5 января 1463 года парламент отменил судебное решение и изгнал Вийона из Парижа. Что с ним стало впоследствии, никому не известно…
В слуховом окне появилась красная физиономия стражника. Прищуренные глаза вглядывались в темноту. Даже через дверь было слышно, как позвякивают ключи. Франсуа затаил дыхание. Дверь внезапно распахнулась, впустив в камеру слепящий свет факела. Франсуа свернулся клубком у влажной стены, а на пороге уже вырос сутулый тюремщик с болтающимся на поясе хлыстом. Затем в камеру вошли два лакея в ливреях, поставили небольшой столик с витыми ножками. Пока один с нескрываемым отвращением на лице сметал веником в угол солому и экскременты, второй внес два обитых тканью стула и большую вышитую скатерть. Очень ловко, не делая ни единого лишнего жеста, он аккуратно разместил на столике фаянсовые тарелки и блюда, серебряные приборы, корзинки с печеньем и фруктами, поставил два медных подсвечника, стеклянный графин и глиняный кувшин. Слуги ни единым взглядом не удостоили заключенного, который растерянно наблюдал за их действиями. Закончив работу, они удалились, так и не вымолвив ни слова. Тюрьму окутала ночная тишина. Даже крысы прекратили свою возню в щелях толстых стен.
Тьму дверного проема внезапно озарил силуэт, закутанный в белый льняной стихарь. В одной руке человек держал самшитовые четки, в другой – фонарь, в лучах которого ярко алел вышитый на груди крест.
– Гийом Шартье, епископ Парижский, – представился посетитель, жестом приказывая охраннику снять с заключенного кандалы.
Его преосвященство сел и налил вина. Ничуть, казалось, не обескураженный вонью и грязью, он учтиво предложил гостю присоединиться. Франсуа с трудом поднялся, одернул рубаху, пытаясь спрятать рубцы от ран, неловко пригладил волосы, расправил плечи, ему даже удалось изобразить нечто вроде улыбки. Епископ протянул ему жареную индюшачью ножку. Франсуа жадно схватил ее и, пока Гийом Шартье излагал цель своего визита, обглодал до костей.
Каждое слово прелат выговаривал очень мягко, со спокойной невозмутимостью, свойственной служителям Церкви. В затхлом воздухе камеры сладкий голос разливался, как ладан. Франсуа с трудом заставлял себя слушать епископа. Винные испарения щекотали ему ноздри. Между большими кусками мяса и жадными глотками бургундского он едва улавливал обрывки слов. Следовало, однако, проявить больше внимания, поскольку Шартье, подчеркнув, что обладает всеми полномочиями посланника короля, заговорил о возможности избежать виселицы.
Потянувшись к отбивной из молодого кабана, Франсуа опрокинул полный кувшин соуса из трюфелей. Глуповато посмеиваясь над собственной неловкостью, он искоса взглянул на прелата. Сейчас был самый подходящий момент всадить вилку в сердце нежданного гостя.
Гийом Шартье ожидал более теплого приема, он рассчитывал, что благодарная аудитория станет ловить каждое его слово. А перед ним сидел прожорливый мужлан с грубыми руками и, почти засунув физиономию в миску, жадно поглощал еду. Поручение, которое собирался доверить ему Людовик XI, требовало ловкости и сноровки. Малейшая оплошность – и разразится серьезный политический кризис, а то и вооруженный конфликт. А у этого заключенного репутация строптивца и бунтовщика. Впрочем, мятежный дух – как раз то, что надо епископу Парижскому, не зря он сделал ставку на этого человека.
Пока Вийон расправлялся с огромной порцией козьего сыра, Шартье достал из-под плаща книжный том – грубый переплет из свиной кожи безо всякого орнамента, на корешке жирными буквами выведено заглавие: Res Publica.
– Папский престол любой ценой хочет помешать публикации этого труда.
Шартье не без удовлетворения заметил, что Вийон оторвался от еды. При мерцающем свете свечи два человека переглянулись, словно заговорщики. Но не полумрак камеры способствовал их внезапному единению, такое родство душ возникает, если есть общая страсть, и епископ отбросил сомнения, он понял, почему удостоил смертника визитом: их роднила любовь к книгам, ко всему, что связано с книгами.
Франсуа выпрямился, вытер руки и взял фолиант, положенный Шартье на скатерть. Осторожно погладил обложку, осязая ее, как слепой, пробуя на ощупь текстуру, провел пальцами по обрезу, по складкам кожаного переплета. Когда он открыл книгу, его глаза засияли. Он бережно перелистал страницы. Прожорливый мужлан исчез словно по волшебству. Человек, который сидел сейчас перед епископом, держался уверенно и явно знал толк в книжном деле.
Забыв о знатном посетителе, Франсуа внимательно изучал качество бумаги, чернил. Страницы были заполнены латинским текстом, иногда встречались греческие термины. Строчки плотные и тесные, лишь небольшие интервалы между параграфами. В сплошном потоке слов – робкие знаки препинания. Грубая, некрасивая работа, книга словно сделана наспех. Это не манускрипт переписчика – шедевр каллиграфии, а какое-то нагромождение неуклюжих букв, неаккуратные строчки вкривь и вкось разбегаются на странице. Франсуа доводилось видеть такие тома в университетских библиотеках. Эти изготовленные на машине книги он находил довольно уродливыми.
Епископ кашлянул, чтобы отвлечь Франсуа от размышлений.
– Этот экземпляр продается из-под полы. Он сделан на станке некоего Иоганна Фуста, печатника из Майнца.
Франсуа положил книгу на стол и схватил зеленое яблоко. Он почти не слышал Шартье, чей монотонный голос не мог заглушить чавканья и хруста. Кислый сок щипал разъеденную нарывами слизистую, тюремная диета никому не идет на пользу. С отвращением он выплюнул все на пол. Шартье с сожалением понял, что перед ним неотесанный хам. Вийон, казалось, слушал вполуха, всем своим видом демонстрируя скуку. Епископ вновь принялся излагать суть возложенного на него поручения, все больше убеждаясь в бесполезности своего визита. Впрочем, он не мог вернуться ни с чем. Король по-прежнему был уверен, что Вийон – идеальный кандидат, хотя советники и пытались его разубедить.
Деятельность Иоганна Фуста давно возбуждала любопытство двора. Этот немецкий печатник открыл много мастерских в небольших городках в Баварии, Фландрии, на севере Италии. Похоже, печатные станки не приносили ему никакой прибыли. Однако их количество увеличивалось в пугающей прогрессии, словно войска захватывали все новые и новые территории. Какова же его цель? Согласно полученным сведениям, Фуст ежедневно терял деньги. В Майнце он брал заказы на Библии и религиозные труды, но в других городах его печатные станки производили книги совсем иного рода: сочинения древних греческих и римских авторов, современные трактаты по медицине и астрономии, которые, похоже, он один и мог раздобывать, причем источники их происхождения были неизвестны. Откуда он их берет? В сочинении «Государство», которое Вийон только что держал в руках, Платон излагает свое видение того, как дóлжно управлять городом. Этот текст укрепляет Людовика XI в его политических замыслах. Он также упрочивает статус французской Церкви, желающей освободиться от гнета Ватикана. Отсюда и оппозиция Риму. Отчего Фуст так упорствует в стремлении публиковать подобного рода сочинения, рискуя вызвать гнев инквизиции?
Франсуа склонился над фолиантом, оценивая, достаточно ли он тяжел, чтобы оглушить епископа. Потом он выразительно ткнул пальцем в мокрую стену камеры.
– Неужели в королевстве не хватает шпиков?
– Обличать этого печатника не надо, отнюдь, мэтр Вийон, нам необходимо с ним объединиться.
Франсуа, успокоенный, улыбнулся. Нелепо было бы нанимать его в качестве доносчика. Будучи не раз заключен в тюрьму и подвергнут пыткам, он не выдал ни одного из своих сообщников. Доносительство не входило в число его многочисленных пороков. Словно извиняясь за подобное подозрение, Шартье налил ему полный стакан виноградной водки.
Король Франции стремился ослабить власть Ватикана, дабы упрочить свою собственную. А книгопечатание, возникшее совсем недавно, подтачивало могущество папы. В отличие от монахов-переписчиков печатники Церкви не повиновались. Печатный станок мог бы упрочить господство того, кто будет его контролировать. К большому сожалению, во Франции таковых не было.
Епископ не отводил взгляда от Вийона, пытаясь полностью завладеть его вниманием. Он говорил тихо, почти шепотом. Бандиты и книготорговцы использовали одни и те же незаконные каналы для распространения своих товаров, подальше от глаз жандармов (конной королевской стражи) и цензоров. Одному разбойнику по имени Колен де Кайе из банды кокийяров[1] было доверено следить за деятельностью Иоганна Фуста. Вот уже несколько месяцев он шпионил за ним. Фуст открыл много типографий в соседних странах, но ни одной – во Франции. Колен де Кайе и порекомендовал своего доброго приятеля Вийона, тоже из кокийяров; он, как никто другой, смог бы убедить немецкого книгопечатника обосноваться в Париже.
– Выходит, его величеству нужны негодяи, так, монсеньор?
– Да, но негодяи образованные.
Франсуа кивнул головой, благодаря за комплимент. Он вернул экземпляр Res Publica Шартье, умолчав о том, что хорошо знаком с этим текстом и осознает его политическое значение не хуже, чем Людовик XI. В своем сочинении Платон описывает народ, которым во имя «всеобщего блага» правит монарх, имеющий больше власти и влияния, чем жрецы и богатые землевладельцы.
Вийон задумался. Амбиции молодого короля, стремящегося укрепить королевство, понять легко. Но какие цели преследует Фуст, обычный книгопечатник и книготорговец?
Епископ принялся барабанить по столу кончиками пальцев, на лице появилась недовольная гримаса. В растаявшем воске плавали свечные фитили. Их тонкие отблески плясали на прозрачной поверхности графина. Франсуа поднял голову, с дерзкой усмешкой покусывая губы.
– Скажите Людовику Благоразумному, что его верный слуга Вийон, хотя и очень занят, будет счастлив оказать ему услугу и отказывается от всякого вознаграждения.
Шартье тут же прекратил барабанить по столу, а недовольную гримасу сменила отеческая улыбка.
– Фуст и его зять собираются принять участие в большой ярмарке в Лионе. Твой приятель Колен будет ходить за ними по пятам. Как только король подпишет приказ о смягчении наказания, ты к ним присоединишься. Моя епархия даст тебе все необходимое, чтобы приманить этого книгопечатника. Еще вина?
Франсуа протянул стакан, напиток приятно зажурчал. Прелат и заключенный чокнулись с видом заговорщиков.
Опьяневший Франсуа с трудом сдерживался, чтобы не вскочить со стула и не пуститься в пляс. Опустив глаза, он всем своим видом изображал смирение и признательность, поглядывая на вышитую скатерть, остывшие блюда на подносах и на грудь священника – при каждом вдохе на ней вздымался ярко-алый крест. Он понимал, до какой степени Гийом Шартье его ненавидит. И завидует ему. Потому что из них двоих, сидящих сейчас в этой камере, по-настоящему свободным, безо всяких цепей и оков, был как раз Франсуа, он всегда был свободным.
Шартье резко поставил стакан и распрощался. Белый стихарь на мгновение застыл в дверном проеме, прежде чем прелата поглотили сумерки. А вдруг Вийону все это приснилось? Удастся ли ему обмануть виселицу? Стоит ли доверять словам этого чертова интригана? Все равно он останется под охраной. Впрочем, ради такого ужина можно заключить сделку с самим дьяволом.
В соусе еще плавало немного холодного мяса. Погасли свечи, и в камере стало совсем темно. Это было на руку Франсуа: нож для хлеба и две серебряные ложки можно было незаметно спрятать под лохмотьями.
По-прежнему стоя на пороге, тюремщик зевал от усталости. За стенами тюрьмы расползался ленивый туман, медленно перебираясь через крепостные валы. Наверху уже ясно можно было разглядеть вытянувшиеся в линию бойницы, подернутые ночным инеем. Над крышей донжона раздавались первые крики ворон. Вдалеке колокол звал к заутрене.
Франсуа Вийон еще не написал своей последней баллады.
Под напором ветра резко распахнулась дверь таверны. Водяные брызги и крупные градины намочили опилки и солому, которыми был устлан каменный пол. Заворчали собаки, взревели пьяницы, попрятались под столы кошки. Вдруг разгорелся огонь в очаге, и в красном отсвете заколыхались нечеткие тени. Раздались угрозы и проклятия. В дверях появился человек, с него стекала вода, а на шляпе и на плечах лежали градины, грубо обрисовывая их контуры. На какое-то мгновение он застыл неподвижно, не обращая внимания на царившее вокруг возбуждение, словно портрет во весь рост, вставленный в раму двери. Полы черного бархатного плаща развевались за спиной, как большие крылья. Два штриха словно прорезали этот бесцветный силуэт-призрак, столь неуместный здесь: тусклая безжизненная улыбка и чуть ниже – молочно-белый отблеск лезвия кинжала.
Человек в глубине зала улыбнулся: даже стоя спиной к двери, он понял, кто вошел. В руках он держал кувшин и стакан. Из фаянсового носика полилось темное, почти чернильного цвета вино с резким запахом.
– Добрый вечер, мэтр Колен.
Колен де Кайе уселся напротив приятеля. С широкого плаща стекала ледяная вода. Вийон схватил стакан, одним глотком опорожнил его, распрямил спину и чуть отступил, давая как следует себя разглядеть. После стольких месяцев одиночества так приятно почувствовать внимание старого товарища. Осторожно поставив стакан на стол, Франсуа молча наслаждался этим моментом дружбы. Прожилки на деревянном столе, от которых Вийон не отрывал взгляда, походили на реки, нарисованные на карте незнакомой страны. Еще на этой карте он различал дороги, где они с Коленом устраивали ловушки, леса, где они скрывались, когда жандармы гнались за ними по пятам, деревушки, где их дожидались Марион, Марго, Кюнегонда. Каждое жирное пятнышко – это остров, каждая капля вина – пруд, на берегу которого стоит замок. Такие столы в тавернах – словно верные спутники Вийона в его странствиях. Сколько он их перевидал! Они утешали его, давали силы, принимали на себя его радости и боль, выслушивали сетования, молча терпели насечки, которые он любил делать ножом. Кракелюры – некий тайный язык, ведомый лишь посвященным. Они незаметно подсказывают вам слова и фразы. Не говоря уже о том, что крепкая текстура столов являет собой прекрасную поверхность для письма.
Колен молча смотрел на старого друга. Он давно привык к таким моментам молчания, когда Франсуа покидает его, уносясь в какие-то дали, похоже, общается с ангелами. Или со своим демоном. Колен не сердился на него за это, душа Франсуа – странница.
Буря снаружи стихла. В полной темноте возобновилась работа. Колен слышал глухие удары молотка, хриплый скрежет механизмов, приглушенные приказы бригадиров, крики ослов, которых освобождали от ноши, вопли коммивояжеров на венецианском, немецком, арабском языках. Завтра на заре во что бы то ни стало начнется Лионская ярмарка.
– Ты беспокоишь меня, Франсуа. Я думал, ты угостишь публику какими-нибудь ловкими куплетами. Школяры тоже удивлены твоим молчанием. Они надеялись услышать новые вирши, сочиненные в тюрьме, мятежные песни. А ты ни мычишь, ни телишься.
– У школяров давно уже другие песни. Книготорговцы списали меня со счетов.
– Ошибаешься, Вийон. Твои песни распевают во всех кабаках. Стихи продаются повсюду из-под полы. Их передают друг другу придворные, декламируют в салонах. И даже судейские не отказывают себе в удовольствии!
Колен открыл котомку, достал оттуда кусок сухой колбасы, нарезал тонкими кружочками. Франсуа жевал, следя взглядом за снующей туда-сюда служанкой, – видимо, размышлял о том, как проведет ночь. Над заляпанным фартуком женщины свисала морщинистая грудь.
– Мне стукнуло тридцать два, мой славный Колен. От дуэлей и любовных историй остались одни шрамы. А от моих воровских трофеев – ни единого экю…
Колен слишком хорошо знал друга, чтобы попасться на эту удочку.
– Зато у меня теперь есть вот это!
Вийон протянул список отобранных Шартье произведений, которые должны были соблазнить Иоганна Фуста и побудить его поставить свои печатные машины на службу французскому двору. Это были тома из королевских архивов, а также из тайных собраний Парижской епархии. Каждому произведению сопутствовало описание, причем весьма лаконичное, так что лишь посвященный понимал, какую ценность представляют собой эти труды. Колен быстро просмотрел скучный перечень, решительно не понимая, что могло вызвать такой восторг.
– Еще глоток?
Франсуа наполнил стаканы, свой поднял торжественно, как чашу. Колен бросил смущенный взгляд на соседние столы. Он без труда распознал среди посетителей прибывших на ярмарку чужестранцев: они были одеты в камзолы редкого плетения или шерстяные плащи, на головах – капюшоны или шляпы самых нелепых форм. Приехали ли они из Фландрии или Сарагосы, были бандитами с большой дороги, клириками или торговцами – у всех у них на поясе висели дубинки или кинжалы. Имелось и другое оружие, причем никто не скрывал его наличие, оно оттопыривало полу плаща, выглядывало из голенища сапога, вырисовывалось под рукавом камзола. Крестьяне, чувствовавшие себя неловко, горбились за столами, переговаривались на местном наречии, стараясь не встречаться взглядами с пришлыми. Только трактирщик, радостно распихивавший по карманам звонкие монеты всех стран, казался приветливым. От столика к столику вихляющей походкой переходила горничная, стараясь приманить клиентов. Колен вновь недоверчиво взглянул на листок пергаментной бумаги у себя в руках и чокнулся с приятелем. Вийон стукнул кулаком по столу, указывая на набитый людьми зал.
– Ты держишь в руках судьбу этих людей, несчастный бродяга!
Приятели провели ночь за выпивкой. Франсуа тщетно пытался объяснить Колену истинную цель их миссии. Колен не желал понимать, каким образом список книг может изменить судьбу этих людей: крестьян, лавочников, солдат-наемников. Он внимательно вглядывался в листок, вчитывался в названия, все без толку. Еще Франсуа без конца твердил ему, что дело не в текстах, и это смутно тревожило Колена. Приятелей выбрали Шартье и сам король, чтобы они помогли удовлетворить их нынешние амбиции. Книги из бумаги или из шкуры животных представляли собой оружие. Но что это была за война?
Таверна постепенно опустела. Колен терпеливо выслушал от Франсуа последние инструкции и вышел под моросящий дождь. Закрывая за собой дверь, он увидел, как Вийон заигрывает со служанкой, а та глупо хихикает.
Окутанная плотным утренним туманом, просыпалась рыночная площадь. Звуки, поначалу робкие и разрозненные, клевали зернышки тишины: колокольчики, звеневшие на шеях у животных, мелкий камешек, заскрипевший под тележным колесом, какая-то мелкая вещица, шевельнувшаяся на ветру. Люди еще не разговаривали, скованные утренней дремотой, они таращили заспанные глаза, выхватывавшие из серой мороси редкие цветовые пятна: красный бант, зеленую шляпу, пурпурное знамя. Из боковых улочек на ярмарочную площадь десятками стекались лоточники и оптовые торговцы. Вскоре к ним присоединятся рабочие и погонщики мулов, наемники и стражники. Со всех сторон зазвучат крики зазывал и звон монет. Этим утром начнется новая эра, когда предметом продажи станет все.
Деревянные подмостки сотрясались под весом ящиков и кувшинов. Воздух был наполнен ароматами пряностей и эфирных масел, винными парами и едким запахом краски. На Колена набросились вербовщики, они окликали его, тянули за руки, нисколько не напуганные его гигантским ростом. Он ускорил шаг, вклиниваясь в толпу зевак, прошел мимо навесов, откуда свисали ткани и ковры. Проходя по центральной аллее, Колен заметил лоток с товаром, приглушенные цвета которого диссонировали с буйным многоцветьем шелковых тканей. Тихо переговаривались клиенты и продавцы, не обращая внимания на крики и смех вокруг. Скромная табличка с готическими буквами сообщала: «Иоганн Фуст и Петер Шёффер, книгопечатники». На длинных, плохо оструганных и наспех отполированных деревянных полках вперемешку валялись свитки пергамента и книги в кожаных переплетах.
По ту сторону прилавка худой парень в некогда богатом, а теперь латаном-перелатаном одеянии, положил набитый книгами сундук у ног старика с аккуратной бородкой. Сухие старческие руки, погрузившись в ящик, принялись со знанием дела перебирать тома. Затем книготорговец выпрямился и назвал цену. Явно смущенный, дворянчик отказался. Старик настаивать не стал. Чтобы положить конец сомнениям, он просто развязал бархатный кошелек, понимая, что влезший в долги молодой человек не сможет долго сопротивляться при виде пригоршни серебряных монет. Проигравший эту битву дворянин сунул в карман деньги, не соизволив даже пересчитать, быстро развернулся и ушел, пытаясь принять надменный вид, подобающий его высокому происхождению. Колен подошел к Фусту. Он впервые увидел так близко того, кого выслеживал уже несколько месяцев. Нерешительно протянул список книг. Старый торговец поначалу бросил на листок небрежный взгляд. И вдруг, резко отшатнувшись, недоверчиво уставился на Колена и какое-то время молча его рассматривал.
На деньги, полученные от Гийома Шартье, Вийон оделся во все новое. Купил две пары штанов, две рубашки и плащ, подбитый мехом выдры, – всё невыразительного серого цвета, чтобы дольше казалось чистым. С потолка лавки свисали великолепные головные уборы. Несмотря на настойчивые уговоры лавочника, Франсуа так и не расстался со своей старой шляпой – неопределенного цвета (когда-то она, возможно, была зеленой), из мятого фетра, с загнутыми вверх тремя углами. Эта забавная треуголка[2] благополучно пережила множество злоключений и горестей, каждая ее складка, как морщинка на родном лице, хранила воспоминание. Вийон не променял бы ее ни на какую другую. Эта шляпа была словно якорной цепью, связывавшей его с прошлым.
Еще он зашел в цирюльню, где его тщательно выбрили, подстригли ему волосы до воротника и замазали гипсом дыры в зубах. Цирюльник был чрезвычайно раздосадован: большая ярмарка с ее зазывалами отбирала у него клиентов. Находились даже шарлатаны от медицины, имевшие наглость утверждать, будто умеют чинить зубы лучше, чем он!
Вернувшись в трактир, Франсуа поднялся на самый верх и вошел в маленькую, затхлую, скудно обставленную комнатушку. Колен ждал его, сидя на колченогом табурете. Вийон дотронулся до его плеча, затем вытащил из-под кровати котомку. Книги были здесь. Оставалось только ждать.
Ближе к полудню Франсуа услыхал, как приближаются тяжелые шаги и стучит трость. Колен вскочил еще до того, как эфес шпаги прикоснулся к заплесневелой деревянной двери. Он попытался изобразить нечто вроде поклона, предложил гостю единственный стул со спинкой, изо всех сил стараясь выглядеть учтивым и любезным.
– Фуст. Иоганн Фуст. Золотых дел мастер и печатник из Майнца.
Франсуа, сидевший с поджатыми ногами на соломенном тюфяке, встретил посетителя куда менее радушно, чем Колен, разглядывал его настороженно и недоверчиво. Лицо человека, разменявшего седьмой десяток, немецкая надменность, безупречное платье добропорядочного буржуа не усмирили его тревоги. Пришедший, со своей стороны, тоже разглядывал хозяина комнатушки, сбитый с толку его непрезентабельным видом. Дерзкий. Явно себе на уме. К тому же парень наверняка с похмелья. Во всяком случае, ни внушительного вида туша возле двери, ни этот чумазый бродяга не напугали старого печатника. Не в первый раз он имел дело со скупщиками краденого. Он повидал всяких: священников, лишенных сана, молодых людей из хороших семей, погрязших в долгах, вернувшихся с войны солдат. У самых прекрасных книг часто бывает печальная судьба. Они попадают в руки простофиль, которые недоумевают, зачем терять время, их читая, и тем более – зачем тратить на их приобретение столько денег. И таким вот образом распространяются и передаются от одного к другому знания: книги крадут, продают с торгов после банкротства, получают в наследство. К большой радости книготорговцев.
Вийон прекрасно понимал, что гость чует прибыль. Однако следует играть по правилам, пусть Фуст думает, будто он самый хитрый, ловкий, во всяком случае, самый опытный. Франсуа никогда не выпячивал свою ученость – и неоднократно заставал врасплох университетских профессоров и судейских. Он не пытался извлечь доход из познаний, напротив, он скрывал их за простоватым видом, они должны были сослужить ему службу в нужный момент. Это было что-то вроде тайного укола шпагой, которого никто не ждал: он швырял подходящую цитату в лицо знатному противнику, как бросают нож в мишень, – непринужденно и точно в цель. Внезапному нападению он научился не из книг. Вийон приобрел боевой опыт в многочисленных потасовках и уличных стычках с противниками, к которым испытывал уважение, не то что к придворным и клирикам.
Как бы то ни было, Фуст не показал виду, что такой прием задел его. И это расположило к нему Франсуа. Старик непринужденно уселся, небрежно положил на пол трость, неторопливо стянул перчатки. Хотя одежда его отличалась суровой простотой, на пальце он носил кольцо с неграненым ярким рубином. На тусклом золоте был высечен дракон со сверкающими крошечными глазками из стразов. В когтях чудовище крепко держало драгоценный камень. Из раскрытой пасти струйкой эмали вырывалось пламя.
Не вставая с места, Франсуа открыл котомку и достал фолиант. Глаза Фуста вспыхнули. Впалые щеки, казалось, втянулись еще сильнее, ноздри искривленного носа раздулись, словно у хищника, почуявшего добычу. Франсуа оставался неподвижен, так что печатнику пришлось склониться очень низко, он чуть не упал со стула. Наконец Фусту удалось заполучить книгу. Он жадно схватил ее и тут же ткнул пальцем в имя, вытисненное на обложке: Кёнхан.
– Автор, надо полагать?
Франсуа догадывался, что его собеседник знает ответ. Он кивнул головой в знак согласия.
Фуст старался сохранять невозмутимость. С делано равнодушным видом он принялся перелистывать страницы. Капельки пота блестели на его изборожденном морщинами лбу. Поначалу он испугался, что для этого экземпляра «Чикчи симгён»[3] использовались буквы из терракоты или фарфора. Но нет, перед ним было издание 1377 года, отпечатанное в Корее при помощи комплекта подвижного металлического типографского шрифта. У него уже был один такой экземпляр, принесенный пятнадцать лет назад евреем, прибывшим в Майнц со Святой земли. Фуст был поражен качеством чернил, четкостью оттиска и изяществом букв. Еврей хотел знать, способен ли Фуст, золотых и серебряных дел мастер, воспроизвести сплав корейского шрифта, и могут ли его зять Петер Шёффер и его помощник Иоганн Генсфляйш, известный также под именем Гутенберг, сделать машину, позволяющую использовать полученный таким образом шрифт. Первый печатный станок был слишком ненадежным и хрупким, чтобы можно было печатать на обычной бумаге, шершавой и неровной, на которой плохо держались чернила, – необходима была более качественная китайская бумага. Еврей внес задаток и пообещал, кроме того, поставлять редкие, еще не изданные тексты для первых опытов.
Иоганн Фуст отложил книгу и попросил, чтобы ему дали посмотреть рукопись, описание которой изрядно его удивило. Франсуа вновь порылся в своей котомке и достал изъеденный временем свиток. Грубое письмо, к тому же множество ошибок. Халтурная работа переписчика, спешившего закончить заказ? Нет, старый книгопечатник был отнюдь не глуп. Сняв кольцо, он сильно нажал пальцем на голову вытисненного на золоте дракона. Золотые когти тут же разжались, высвободив неграненый рубин. Фуст извлек камень из оправы, в которую тот был вставлен, и положил его на пергамент. Склонившись к бумаге, он медленно стал перемещать рубин по строчкам, убеждаясь, что слова на велени были процарапаны. Пораженный Франсуа заметил, что красный камень, плотный и хорошо отполированный, увеличивает каждую деталь.
Фуст вздрогнул от изумления: между неровными строчками он различил размытые контуры арамейских букв. Выходит, переписчик скоблил ножом пергамент не для того, чтобы его очистить и повторно использовать, а чтобы спрятать изначальные буквы, нанесенные пером, а затем скрытые под чернилами некоего малосущественного текста. Так иудеи прятали сочинения, которые хотели спасти от костров инквизиции. Эти простые методы использовались только для талмудических или каббалистических текстов, имеющих очень большое значение. Во времена Крестовых походов рыцари, сами о том не ведая, перевозили подобные произведения под видом молитвенников. Они полагали, будто из Иерусалима возвращают их на родину, в Авиньон или Франкфурт, даже не догадываясь, что служат посыльными, а книги предназначены для раввинов этих городов. Впоследствии надо было просто смыть чернила, чтобы открыть тайный слой рукописи. Теперь же ни о чем не подозревающие книгоноши Фуста распространяли по всей Европе подобные сочинения под видом псалтырей или католических требников.
В очередной раз внимательно рассматривая список, Фуст задавался вопросом, не заманили ли его в ловушку. Только очень могущественный человек может собрать столько раритетов. Это же целое состояние! Или это книги, конфискованные цензорами? В таком случае Вийон никакой не посредник, а полицейский агент.
Фуст перешел к делу: цена, способ оплаты, сроки доставки. Но сумма пока не прозвучала. Старик смотрел на необычного человека, расположившегося перед ним прямо на полу. Вийон сидел на корточках среди груды фолиантов в кожаных переплетах и свитков пергамента, как зеленщик на рынке среди своего товара. Но было видно, что эти прекрасные книги ему хорошо знакомы. Он так ловко с ними обращался! Его неряшливый внешний вид диссонировал с утонченными манерами и изящными жестами. Если бы не лукавый блеск в глазах, этот человек мог бы вызвать у Фуста доверие. Дерзкая усмешка в уголках губ не исчезала, даже когда он говорил, да он и не старался ее скрыть. Парень явно не был знаком с правилами приличия. Непохоже, чтобы он ломал комедию. Напротив, это Фуст чувствовал себя, словно на скамье подсудимых, его оценивали и подвергали испытанию. Ему как будто бросали вызов, предлагали сразиться, хотя ни к чему не принуждали. Наконец любопытство взяло верх над осторожностью.
– Могу я предложить вам деньги?
– Продавец не хочет денег.
Печатник из Майнца напрягся и уже готов был распрощаться, но Вийон похлопал его по руке, словно успокаивая. На губах все та же дерзкая ухмылка, лицо казалось хитрым и насмешливым.
– Он готов бесплатно отдать вам эти сочинения в обмен на ваши услуги.
Застигнутый врасплох немец пробормотал нечто невнятное. Вийон тут же изложил ему пожелание Гийома Шартье заполучить для своей епархии печатную мастерскую и некоторые неизданные сочинения. Чтобы не вспугнуть добычу, короля он решил не упоминать.
Фуст быстро произвел подсчеты, но сразу дать ответ не решился: предложение показалось слишком заманчивым, наверняка имелся подвох. Он попросил время на размышление, надо было посоветоваться с компаньонами, получить гарантии, но было понятно, что в голове у него одна мысль: как бы прибрать к рукам все эти книги, сваленные в кучу у ног Франсуа.
Старый книготорговец распрощался, пообещав ответить в ближайшее время. Когда он вышел из комнаты, Колен не смог сдержать радости. Франсуа остался сидеть, молча складывая бесценные тома обратно в котомку. Он не чувствовал себя победителем. Он досадовал, что ему приходится быть на побегушках у Гийома Шартье, что он вынужден покорно выполнять приказы этого лицемера-епископа. А главное – он предает книги.
Епископ Парижский, бранясь и чертыхаясь, перебрался через мостовую, стараясь не угодить в лужу. Рядом с ним семенили два монаха, тщетно пытаясь укрыться от дождя под полотняным балдахином, который скручивался и выворачивался во все стороны под порывами ветра. По сточным канавам улицы Сен-Жак неслись отбросы, которые прелат брезгливо отталкивал епископским жезлом. Иоганн Фуст поспешил распахнуть дверь своей новой лавки, а его зять, Петер Шёффер, уже стоял наготове со щеткой в руке, чтобы почистить забрызганную грязью митру.
Едва войдя в помещение, монсеньор Шартье заткнул нос. От терпкого запаха чернил и пота к горлу подступила тошнота. Фуст призвал рабочих к тишине, и те перестали стучать молотками. Вийон стоял, облокотившись на ручной пресс, на лице его была издевательская усмешка. Он держался чуть в стороне от остальных и не без удовольствия наблюдал за брезгливыми гримасами высокомерного священника, угодливыми улыбками Фуста, усталыми лицами подмастерьев, словно каждый пытался надеть выражение лица, подобающее его персонажу.
Шёффер поцеловал перстень его преосвященства и, не дожидаясь дальнейших указаний, начал экскурсию по типографии, явно гордясь своим детищем. Гийом Шартье последовал за ним, лавируя среди машин и стопок бумаги и рассеянно слушая объяснения. Рабочие стояли навытяжку и мяли в руках головные уборы. Осмотрев мастерскую, епископ торопливо перекрестил ее, благословляя, а один из сопровождавших его монахов в это время энергично тряс медным кадилом. Сияя от гордости, Шёффер вручил Шартье первое сочинение, опубликованное в Париже в год 1463 от Рождества Христова, одобренное королевской цензурой. Он торжественно объявил, что это есть краеугольный камень здания, которое, подобно Александрийскому маяку, озарит весь мир и будет способствовать славе Франции. Шартье, не слишком взволнованный этой речью, небрежно бросил книгу на липкий от смолы верстак.
Вийон с горьким чувством наблюдал за епископом, который так пренебрежительно провел обряд. Это важное событие, безусловно, заслуживало особой процедуры, куда более торжественной. Раздосадованный, он отошел вглубь помещения, где стояли неработающие печатные станки. Их была целая дюжина, они выстроились двумя параллельными линиями, и Франсуа прошел между ними, словно проводя смотр войск. Массивные, сделанные из тяжелого крепкого дерева, они щетинились смазанными жиром рычагами и рукоятками, в них чувствовалась пугающая сила. Они были накрепко приколочены к помосту, чтобы не тряслись во время печати. Горделиво стоя на своем возвышении, они казались величественными, словно статуи правителей. Вийон понимал, какое влияние эти станки окажут на судьбы людей. А еще они были немного похожи на него: с виду послушные, можно подумать, что ими легко управлять. Но они – как и Франсуа – будут служить не только Фусту или Шартье, не станут лишь инструментом для удовлетворения их амбиций, для политических и финансовых интриг, способом достижения их жалких целей. В станках слишком много силы, ее нельзя заставить работать только для пользы этих людей, нельзя лишить свободы, заключив в тюрьму или в мастерскую. В печатных станках Вийон внезапно увидел своих союзников, союзников своей поэзии. Они напомнили ему лошадей, которых он воровал, ломая глубокой ночью ограждение загона, обуздывая их порывы, смиряя их трепет, уводя их в сумрачные леса, все быстрее, все дальше. Может, эти машины тоже способны лягаться и вставать на дыбы?
Фуст велел рабочим вновь приниматься за работу и пригласил знатного гостя к себе в кабинет. Шёффер и Вийон последовали за ними, тщательно закрыв дверь. Старый книгопечатник уведомил Шартье, что арендовал все свободные помещения на улице Сен-Жак. К нему готовы присоединиться многие немецкие печатники, за исключением Гутенберга, его бывшего компаньона, который категорически отказывается открывать отделение в Париже из-за давней ссоры. Несчастный по уши в долгах. Он живет на скудную ренту, пожалованную ему архиепископом из Нассау, хотя мог бы пользоваться щедрым покровительством Людовика XI или Шарля Орлеанского, куда более сведущих в литературе, нежели какие-нибудь придворные викарии.
Не слишком заинтересовавшись рассказом Фуста, Вийон блуждал взглядом по книжным полкам вдоль стен. В дальнем углу в дрожащем свете свечи сверкнул украшенный гербом переплет. Сам герб – чеканка на чистом золоте – узнать было нетрудно: это был один из наиболее известных в христианском мире гербов, он принадлежал флорентийскому семейству Медичи. Как ни странно, девиза на нем не было. Вместо него на гербовом щите виднелся некий орнамент из более тусклого золота, не итальянский, не геральдический. Франсуа напряженно вгляделся в извилистый контур, и в какой-то момент ему показалось, будто он различает очертания семитских букв. Древнееврейские мотивы и причудливые арабески нередко использовались, дабы священные книги выглядели как Библия или восточные фолианты. Сцены из жизни Христа испещрялись иудейскими письменами, а также изображениями Сатаны. Но здесь смешение дворянских символов и еврейских мотивов, похоже, свидетельствовало об особом единстве, это был своего рода союз: два символа, итальянский и еврейский, переплетались, образуя единство.
Заметив изумление Вийона, Петер Шёффер резко вскочил с места. Он встал прямо перед Франсуа и, повернувшись к нему спиной, довольно долго с чем-то возился. Когда он сел, книги уже не было видно – она исчезла, спрятанная среди прочих. Тома, которые прежде валялись в беспорядке, теперь стояли ровными рядами. Свеча погасла.
Епископ начал проявлять нетерпение. Обычного процесса производства книг будет недостаточно. Король требует от Фуста не просто управления книгопечатной мастерской. Выбор пал на немца не потому, что тот ловко управляется с баночками типографской краски, а потому, что он первым стал издавать неизвестные тексты, которые могут дать Парижу преимущество над прочими столицами. Именно с помощью изданных здесь, на улице Сен-Жак, сочинений Людовик XI желает упрочить влияние Франции. Покровительство искусствам – самый верный признак процветания монархии и монарха, свидетельство его могущества. По крайней мере, именно эту мысль Шартье пытался внушить собеседникам, не раскрывая истинной цели данного предприятия. Даже Вийону он не сказал об этом ни слова, и тот был весьма удивлен пристрастием короля к подобного рода вещам.
Истинные мотивы суверена были куда более прозаичны: финансы. В тот момент все, поступавшее из Византии, Александрии, с Востока, шло через долину Роны. Папский сюзеренитет над Авиньоном и Конта-Венессеном лишал короля огромных доходов от дорожных пошлин и налогов на товары. Их взимал папский наместник, пополняя сундуки Ватикана, а не королевскую казну. Король желал заставить Рим уступить ему этот источник доходов. Оказалось, что сочинения, изданные Фустом, в высшей степени раздражают Ватикан, поскольку ослабляют влияние Церкви на человеческие сердца. План молодого государя был прост. Позволив Фусту заполонить Францию текстами, растлевающими души христиан, Людовик XI выступит защитником веры: бросит все силы на борьбу с угрозой. Но дабы остановить этот гибельный поток публикаций, ему будет необходимо получить контроль над всеми военными фортами Прованса. Подобный шантаж может дать результаты лишь в том случае, если папский престол почувствует реальную угрозу, исходящую от произведений, подрывающих основы религиозных догм. Фусту надлежало обеспечить достаточное количество такого рода сочинений. А он все расхваливал свои печатные машины – и только.
Стиснув пальцы на рукоятке жезла, Шартье недовольно хмурился и сверлил взглядом Франсуа. Вийон почувствовал, как что-то стиснуло его горло. Петля виселицы? Хотя Колен следил за Фустом уже несколько месяцев, ему до сих пор не удалось установить, откуда тот берет сочинения, столь необходимые королю для достижения его целей. Шартье имел полное право потребовать отчета. Согласно договоренности с Фустом, патент и исключительное право на осуществление издательской деятельности предоставлялись ему при условии публикации редких и значительных произведений, которые тот получал из неизвестных источников.
В помещении воцарилась непрочная тишина. Фуст прекрасно понимал, чего ждет от него епископ, но ему надлежало неукоснительно следовать инструкциям. Те, кто стоял над ним, не давали ему разрешения вести переговоры дальше. Хотя возможный альянс с королем Франции и сулил нежданную прибыль, они проявляли сдержанность. Париж не должен знать об истинной цели их деятельности. Иначе работа последних лет окажется под угрозой.
Старый книгопечатник нервно крутил кольцо. Золотой дракон то оказывался под пальцем, словно подстерегая неграненый рубин, то появлялся вновь, вцепившись когтями в красный камень, будто высасывая из него кровь.
– Я сообщу о ваших требованиях кому следует. Мои компаньоны польщены вашей заинтересованностью. И несколько обеспокоены…
Гийом Шартье был удивлен, узнав, что Фуст, как и он, всего лишь посредник. Однако он не собирался развеивать тревогу таинственных хозяев Фуста, да и не мог сказать ничего определенного относительно намерений короля. Почтительность, которую проявляли к его государю эти люди, зиждилась на страхе перед ним, так и должно быть.
– Дабы не оскорблять его величество, они готовы принять посланника.
– Где и когда?
– Дата на ваше усмотрение, монсеньор. А вот место отнюдь не близко.
– Это неважно. У нас хорошие лошади.
– Боюсь, лошади не понадобятся. До Святой земли быстрее добираться морем, нежели сушей.
Епископ с трудом сдержал дрожь. Затем с истинно пастырским спокойствием повернулся к Франсуа:
– Ты хорошо переносишь качку, Вийон?
Ответа Франсуа Шартье, разумеется, не ждал. Он дал приказ о немедленном отъезде, продиктовал условия, назначил сроки, потребовал гарантии, тем более что Фуст упорно отказывался раскрыть имена своих покровителей и даже не назвал место их пребывания. Иерусалим? Тверия? Назарет?
Вийону в сопровождении Колена надлежало отправиться в Геную, там его будут ждать и передадут дальнейшие указания. Хозяева Фуста раскроют свои имена лишь в том случае, если переговоры завершатся успешно. Шартье негодовал, полагая, что подобная таинственность оскорбительна для французской короны. Неужели порядочность короля ставится под сомнение? Но пришлось смириться: Фуст куда больше боялся навлечь на себя гнев своих покровителей, нежели нанести обиду Людовику XI, путь даже придется гнить в застенках. Надо сказать, что подобная решимость не могла не произвести впечатления на епископа.
Шартье резко завершил визит и ушел, не попрощавшись с Франсуа. Фуст и Шёффер заискивающе проводили монсеньора до самой двери мастерской. Оставшись в кабинете один, Вийон в последний раз бросил взгляд на полки, стараясь разглядеть украшенный гербом том, который Петер Шёффер поспешил от него спрятать. Всем известно, что Медичи – союзники Людовика XI. Король убедил их перевести в Лион свои женевские предприятия как раз тогда, когда Франсуа встречался там с Фустом. У них имелись давние торговые отношения, но, помимо этого, Медичи, известные своей ученостью и любовью к книгам, вполне вероятно, давали королю советы. Их библиотека была одной из лучших в Европе. Но что все-таки означали древнееврейские знаки на их гербе? Медичи, как и Людовик XI, хитры и коварны. Если понадобится, они заключат союз с самим дьяволом.
Шёффер поспешно вернулся, схватил Вийона за локоть и потащил к двери. Не успев опомниться, Франсуа оказался на улице. Легкий ветерок ласкал его щеки. Он попытался привести мысли в порядок. Во что это он ввязался? Он никогда не боялся неведомого. Напротив, он ненавидит все, что известно заранее, что можно просчитать и предугадать. Но он не любит чувствовать себя марионеткой в чужих руках, не любит, когда им играет капризная судьба. Он всегда старался управлять собственной жизнью, он должен сам делать выбор, пусть даже неправильный. До сих пор так оно и было. И сейчас он мог бы сбежать, прибиться к шайке разбойников в лесу, в Фонтенбло или Рамбуйе, или просто спрятаться в какой-нибудь савойской деревушке подальше от Шартье и судейских, которые в конце концов потеряют его след. Так почему же он мечтает о судне, ожидающем его в генуэзском порту, о натянутых белых парусах, представляет себе, как нос корабля рассекает волны и вот-вот прорвет горизонт?
Встав на пороге типографии, Шёффер убедился, что чужака поблизости нет. Франсуа ускорил шаги и обогнул угловой дом улицы Сен-Жак. Надо было как можно быстрее предупредить Колена, что завтра рано утром им следует явиться в Консьержери, чтобы получить разрешение на выезд и необходимые для путешествия деньги.
Улицы были пустынны, дождь перестал, между крышами виднелось бледное закатное небо. Франсуа шел быстрыми шагами, а его тело сотрясала странная дрожь. Чтобы прогнать озноб, он попытался сосредоточиться на знакомых вещах и согреться их теплом: грязные мостовые, каменные межевые столбы, позеленевшие от мха, вывески над воротами, которые раскачивает ветер: кабан, кружка, циферблат солнечных часов. Он изгнанник. Он покидает Париж, этот благородный город, где тюремщики и палачи считают себя вправе назначать цену поэтам, бросать их в тюрьму и пытать. Он не чувствует себя здесь свободно. Все стало слишком изысканным, угодливо-льстивым, слишком пропитанным духом Сорбонны. А ему нужно другое: энергия, сила, дерзость. Место, где важен каждый шаг, где каждое мгновение бросает новый вызов, где тело и душа всегда должны быть настороже. Но существует ли на этом свете такое место? Если да, то это место, полное страстей и терзаний…
На рассвете Франсуа разбудили хриплые мужские голоса, женская болтовня, грохот тележных колес. Генуя – город чрезвычайно шумный и беспокойный. Люди не умеют разговаривать тихо, только орут: из окон, из подворотен, с высоких террас. Тысячи отголосков эха перекликаются в узких улочках, отскакивают от камней, проскальзывают через слуховые окна, вонзаются в барабанные перепонки и остаются висеть плотной пеленой, не улетая в небо, слишком спокойное, слишком синее, слишком далекое.
Франсуа пнул ногой Колена, тот заворчал, потягиваясь, и сунул руку в миску с водой, стоящую прямо на полу. Кокийяр с отвращением плеснул водой в лицо, намочив при этом бороду, и медленно разлепил ресницы, мрачно окидывая взглядом отнюдь не доброе утро. Вийон уже завязывал свою котомку. Колен повернулся спиной и недовольно пробурчал:
– Корабль отплывает только завтра…
С тех пор как оба они покинули Париж, Колен не переставал ворчать и ругать Франсуа. Он-то Шартье ничем не обязан, его миссия выполнена. Фуст открыл книгопечатную мастерскую. Колен не понимает, с какой стати должен ехать на край света и бросаться в пасть гидры или циклопа, которые наверняка поджидают его в далеких странах. Он представлял, как эти чудовища уже исходят слюной, предвкушая пиршество: какая радость сожрать свежего француза, пропитанного водкой и хорошим вином. И потом, он боится моря.
Если бы Колен был восхищен предстоящим путешествием, тут-то Франсуа и следовало бы обеспокоиться. Колен – вечный ворчун, который постоянно пребывает в дурном расположении духа и наслаждается этим. Он бранится и плюется, топает ногами, пожимает плечами и постоянно ищет ссоры. Попытаться ободрить его и усмирить было бы самой большой ошибкой. Он умирает от желания воочию увидеть всех этих гидр и циклопов и свернуть им шеи.
Франсуа, не дожидаясь спутника, с мешком за спиной спустился по лестнице. Он слышал, как Колен возмущается, посылает ему проклятия, как швыряет об стену и разбивает вдребезги тазик для бритья. В общем, вот-вот присоединится.
На палубе толпились грузчики. Одни катили огромные бочки, другие на тросах волокли сундуки и ящики, энергично жестикулируя и крича, демонстрируя бурный латинский темперамент, свойственный маленькому народу, который, сопротивляясь нужде, несмотря ни на что, ко всему относится философски. За их действиями с мнимо равнодушным видом наблюдали матросы, чувствуя себя куда богаче, поскольку жили и кормились за казенный счет.
Ближе к вечеру грузы разместили и закрепили. Изнуренные работой матросы растянулись под мачтами в тени от парусов. Шум и крики, сопровождавшие погрузку, уступили место безмятежной тишине, которая нежно убаюкивала уставший корабль. Теплые цвета заката медленно ползли вверх по мачтам, окрашивая их в ярко-красный цвет. Канаты и тросы, словно штрихи на гравюре, прямыми четкими линиями расчерчивали на клетки небесную лазурь. Вдали в слабом вечернем свете проступало беспорядочное нагромождение домов и колоколен. В оранжевом мареве тонули пакгаузы и пирсы. Одинокая чайка окликала солнце отчаянными криками.
Вийон повернулся лицом к морю. Он смотрел на расплывающуюся линию горизонта, на бесконечное пространство моря и неба, расстилавшееся перед ним, на сколько хватало глаз, манящее, призывное. День беспечно погружался в него, увлекая за собой прошлое в глубину вод. Как морская вода при отливе, схлынули хорошие и плохие воспоминания, погребенные ночью-победительницей. Франсуа был даже огорчен той легкостью, с какой сжигал за собой мосты. Напрасно он пытался представить уличный перекресток, берег реки, площадь перед собором – перед ним возникали лишь пожелтевшие бездушные изображения. Напрасно он силился удержать хотя бы ненадолго смутные очертания тех, кого так любил: Жанны, Катрин, Аурелии, – все эти женские лица, внезапно настигнутые старостью, растворялись в вечернем воздухе, сметенные порывом ветра. Он досадовал, что его, словно наивного юнгу, так легко соблазнил принесенный бризом аромат приключений.
Грызя черствую корку, Колен поднялся на палубу к Франсуа. Свесившись через леер, он рассмеялся. Там, внизу, капитан сурово бранил захмелевших матросов, которые вернулись из дома терпимости; каждый получил легкий пинок под зад. Он торопил их и подгонял, будто стадо, а матросы были слишком пьяны, чтобы роптать. Колен показал пальцем на берег: по пирсу быстро передвигалась какая-то тень. Молодой монах в слишком широком плаще, который болтался на его тщедушном теле, мелкими запинающимися шажками добрался до судна. Ловко вскарабкавшись на палубу, он направился прямиком к Колену и Франсуа и безо всякого предисловия принялся излагать инструкции. Он выглядел словно послушник из знатного семейства, держался уверенно и даже не старался казаться смиренным и кротким.
– Цель вашей поездки на Святую землю должна оставаться тайной. Вы путешествуете, как простые паломники. Вижу, на вас уже ракушки святого Иакова Компостельского.
Вийон и Колен переглянулись, улыбнувшись друг другу, как два заговорщика. На ракушках, которые висели у них на кожаном шнурке на шее, отсутствовала инкрустация в виде распятия. Края были оправлены в золотой ободок, а в углублении внутри было высечено изображение кинжала, пронзающего сердце. Эта подвеска не имела никакого отношения ни к мученику, ни к его страданиям. Только опасные бандиты и проницательные жандармы решились бы достать оружие при виде этой безделушки, признав в ней, зачастую слишком поздно, знак кокийяров[4].
Посланник протянул Вийону закрытый конверт. Франсуа вздрогнул: на документе стояла печать Козимо Медичи, обвитая девизом на древнееврейском, совсем как на переплете книги в мастерской Фуста. Франсуа спросил молодого монаха о значении этой эмблемы. Тот был озадачен: ему известно только, что это печать из личной библиотеки Козимо, а используется исключительно для сочинений, привезенных из Палестины.
Колен осенил себя крестным знамением и пробормотал слова молитвы. Слово «Палестина» пробудило в нем смутное волнение, воскресило воспоминания о том, как он учился Закону Божьему. Не имея ни малейшего представления о том, что собой представляет эта библейская страна, он воображал ее себе таинственной и прекрасной. Кармель он видел огромной горой с вершинами, увенчанными гигантскими крестами, пронзающими облака. Самария ему представлялась райским садом с пестрыми цветами, где резвились белые ослики и кудрявые овечки. Не забыть бы еще про гидр и циклопов.
Когда монах ушел, Вийон поспешно сломал печать. На пол палубы мелкими красными крошками посыпался сургуч. Франсуа развернул письмо и вгляделся в карандашные строчки: им с Коленом предстоял путь от порта Сен-Жан д’Акр до пустынного плато нижней Галилеи, а вовсе не на гору Елеонскую. Разочарованный Вийон смотрел, как ветер сметает к носу корабля кусочки сургуча, и досадовал на себя за то, что поспешил сломать печать. Рядом с ним, по обыкновению, ругался и ворчал Колен: разве не будет банкета в честь эмиссаров французского короля?
Корабль снимался с якоря рано на рассвете. Старший матрос выкрикивал приказы морякам, устанавливавшим снасти. Невыспавшиеся люди витиевато бранились, карабкаясь на реи. Когда выходили из порта, зыбь стала сильнее, ветер трепал паруса, которые хлопали на ветру, и эти резкие звуки напоминали щелканье хлыста. Капитан стоял возле фок-мачты, следя, чтобы судно не наткнулось на подводный риф. Убедившись, что корабль вышел в открытое море, он закричал помощнику:
– Курс на Святую землю, господин Мартин!
Этот крик долго еще звучал в ушах Франсуа: «Курс на Святую землю, Святую землю, Святую землю…» Он, как и Колен, представлял обширные охровые пространства с пальмами, мясистыми колючими растениями, столетними оливковыми деревьями; синее небо, с которого никогда не сходит солнце, небо, в котором молча парят белые голубки. А еще скалистую почву с четко очерченными рельефами, где нет ни мхов, ни грязи. Загадочная страна, которую он в своем воображении населял ангелами, бородатыми пророками, злыми гениями и мадоннами. А вот простых ее обитателей, людей, он представить себе не мог. Какие они: смуглые? Коротконогие или, напротив, тонкие и высокие? Мускулистые или тщедушные? Похожи на итальянцев, мавров, греков? На женщинах паранджа или их вьющиеся волосы развеваются на ветру? Неважно, эта сказочная страна не может принадлежать кому-то одному. А раз так, значит, ею владеют все. Даже боги оспаривают ее. Нынешние ее хозяева – мамелюки, бывшие наемники и рабы из Египта, как и евреи. Они прогнали крестоносцев, которые когда-то прогнали византийцев, которые прогнали римлян, греков, персов, вавилонцев, ассирийцев. И вот теперь в ворота Иерусалима стучат османы, чтобы прогнать оттуда мамелюков. Здесь все захватчики. Им всем суждено исчезнуть, их присутствие временное, недолговечное главным образом потому, что все они на протяжении многих веков совершают грубую ошибку: они неправильно ставят вопрос. Кому принадлежит Святая земля? Тому, кто ею владеет? Тому, кто ее занимает? Тому, кто ее любит? Если она и вправду святая, как о ней говорят, такую землю нельзя завоевать оружием. Она не может быть чьим-то владением, чьей-то территорией или недвижимым имуществом. Не следует ли поставить вопрос иначе: какой народ принадлежит ей по-настоящему? Мамелюки?
В Акко нет ничего библейского. Такие крепости встречаются повсюду во французских деревушках. Массивные зубцы, грубо высеченные из каменной глыбы, четко вырисовываются на фоне чистого прозрачного неба, где резвятся воробьи, стаей бросаясь на отбросы, которыми усеян пирс. Порт совсем небольшой. У причала стоят два судна, лениво покачиваясь от западного бриза. По причалу слоняются солдаты и моряки, разыскивая дорогу в таверны и к девицам. Повсюду свалены грудой пустые ящики, лоснящиеся бочки с оливковым маслом, мешки с пряностями – какое пиршество для крыс! Ни Франсуа, ни Колен не чувствовали должного волнения. Они не распростерлись ниц, дабы поцеловать священную землю, заваленную мусором.
Вийон лишь преклонил колено, решив, что это приличествует моменту. Он ощутил, однако, над крышами некое присутствие или дыхание, которое достигало склонов горы Кармель и обволакивало прибрежные дюны. Это незримое присутствие не обязательно было Богом – скорее чем-то вроде безжалостного сияния, что делает все более резким и отчетливым. Возможно, именно из-за этого яркого света здесь нет никаких полутонов? У Франсуа создалось впечатление, что суровая засушливая страна бросает ему вызов. Плавные берега Луары, бледные печальные равнины Севера сулили умиротворение. Они были так покорны рифме. Но как приноровиться к этим суровым обжигающим камням, к этому резкому беспощадному свету? Франсуа встает, чувствуя, как от безжалостного солнца и горячего ветра печет щеки. Он принимает вызов.
Возвышаясь на целую голову над арабами, генуэзцами, персами, Колен вышагивал впереди, словно павлин на птичьем дворе. Он углубился наугад в какую-то улочку, свысока поглядывая на шлемы и тюрбаны. Подхватив котомку, Вийон бросился за ним. Он догнал спутника, уже торговавшегося с каким-то кочевником, пытаясь сбросить цену за двух кобыл, но тот оказался несговорчивым и категорически отказывался уступить. Колен бурно жестикулировал, пытаясь изобразить руками то, что в его представлении, видимо, означало скидку. Кочевник стоял на своем, упрямо показывая на счетах требуемую сумму. Если Вийон любезно улыбался и пытался казаться приветливым, то Колен сурово хмурился и нависал над несчастным торговцем всем корпусом. Цену все-таки удалось сбить. Колен и Франсуа принялись выбирать седла, украшенные цветными узорами, которые выткали женщины пустыни. Колен велел барышнику обрезать пучки заплетенных в косичку ниток, свисавших с конской упряжи. Вийон нервно поторапливал товарища, ему не хотелось задерживаться. Вокруг торговца, разгневанного чужестранцами, не желавшими соблюдать приличия, собралась внушительная толпа. Он бы уступил им животных даже за меньшую цену, чем те готовы были заплатить, – не в том проблема. Эти дикари совершенно не умеют вести дела! Обычай велит торговаться не торопясь, долго договариваться, смеяться, жаловаться, сердиться, а затем помириться. Возмущенная публика разделяла его негодование.
Франсуа и Колен одним прыжком вскочили на лошадей и, разрезая толпу, осыпавшую их проклятиями, направились к городской заставе. Они получили бумагу, дававшую право на проезд, безо всяких затруднений пересекли сторожевой пункт, и теперь перед ними, насколько хватало глаз, расстилалась засушливая бесплодная равнина. Вийон сверился с картой, которую вручил ему генуэзский монах. Солнце стояло еще высоко. Предстоявший им путь можно было проделать до наступления темноты.
Мчась галопом по дюнам и пустошам, спутники достигли первых склонов Галилеи. Колен ехал первым, избегая торных дорог и селений, часто оборачивался, разглядывая горные хребты. Лошади рыжей масти изнемогали от усталости. Надо было остановиться, найти какой-нибудь водный источник. На проносившихся в облаке пыли всадников из оливковой рощи смотрел крестьянин-араб. Дождавшись, когда осядет последний клубок песчаной взвеси, он вернулся к своей трудной работе и постарался больше о них не думать. Зачем? И все-таки какая-то частица его существа летела на коне вместе с ними, словно ее нес ветер.
Внезапно Колен сделал знак остановиться и приложил палец к губам. До их ушей донесся далекий прерывистый шум. Над кустарниками, окаймлявшими долину, взвихрилась пыль. Появилась группа мамелюков. Их острые, притороченные к седлам копья торчали, как усики над пчелиным роем. Солнечные блики играли на медных конусообразных шлемах. Несмотря на большое расстояние, Франсуа и Колен поняли, что группа направляется именно по тому пути среди колючих кустарников, который только что проделали они сами. Не говоря ни слова, они во весь опор помчались к холмам.
Ближе к вечеру они добрались до места, обозначенного на карте.
– Похоже на Прованс, – прокричал Колен, стремясь перекрыть голосом топот копыт.
– Лучше и не скажешь. Посмотри-ка вверх!
В небе возвышался крест.
– Черт возьми, рифмоплет, это же распятие!
Колен тут же замедлил рысь, выпрямился и принялся отряхивать одежду. Франсуа проделал то же самое. Теперь, несмотря на удушливую жару, они выглядели более или менее прилично и принялись штурмовать крутую обрывистую тропинку, которая, казалось, вела прямо к облакам. Добравшись до высокого отрога, они увидели полуразвалившееся строение. У входа, скрестив руки, стоял человек внушительного роста. Вокруг прыгали худосочные куры, поклевывая друг друга и кудахча без умолку. Человек оставался невозмутимым. Колен и Франсуа спешились. Несмотря на наступившие сумерки, они разглядели широкий плащ и монашескую тонзуру, веревочные сандалии и деревянные четки. Большой крест наверху, казалось, дрожал в воздухе. Последний луч солнца окрасил его красным, как будто он был из старой меди, а ближе к горизонту цвет распятия становился ярче, темнее и напоминал цвет крови.
Колен перекрестился и процедил сквозь зубы какие-то молитвы. Монах, которого вполне удовлетворило подобное благочестие, развел скрещенные руки и поприветствовал гостей на латыни. Вийон сразу распознал простонародные интонации: это была кухонная, а не церковная латынь. Толстое брюхо монаха свидетельствовало о мере его аскетизма. «У этого кающегося грешника прекрасный аппетит, – подумал Франсуа, – значит, на душе покой».
– Добро пожаловать, господа. Я Поль де Тур, настоятель монастыря. Надо напоить несчастных животных.
Внутренний монастырский дворик походил на двор фермы. У ног Девы Марии были свалены тюки соломы, на стрельчатых арках висели связки чеснока. От этих святых мест исходил не аромат ладана, а резкий запах скисшего молока. Вход в капеллу был завален вязанками каких-то колючих веток, скукожившихся от засухи. Франсуа и Колен последовали за жирным монахом, который, приподняв подол плаща, с неожиданной ловкостью перешагнул через эту кучу. Глазам путников предстало странное зрелище.
Дюжина монахов стояла перед примитивными аналоями, заваленными тетрадями, чернильницами, листами пергамента. Вокруг при свете свечей блестели расположенные на низких стеллажах книжные переплеты. В центре спала старая кошка, свернувшись клубком в лужице белого воска.
Словно Господь, простирающий руки над своими владениями, отец Поль гордо продемонстрировал неф с книгами:
– Библиотека!
Несколько лысых голов повернулись к вошедшим, монахи сурово посмотрели на незваных гостей и вновь погрузились в чтение. Шершавые пальцы ползли по страницам, словно насекомые, пробираясь сквозь параграфы и раскрашенные миниатюры, лаская тексты, касаясь толкований, сбирая нектар тайн.
Вийон вглядывался в полумрак в поисках алтаря, исповедальни, кропильницы, но здесь были только книги.
Под конец вечернего богослужения пробил колокол, возвещая о предстоявшей трапезе. Трапезной служил небольшой, без окон, зал. Настоятель благословил пищу. Громко глотая, монахи прямо из мисок пили жидкую кашу с тимьяном. После того как были наскоро прочитаны благодарственные молитвы, они снова устремились в капеллу. Похоже, необходимость питаться казалась им бессмысленной потерей времени, вызывавшей досаду.
Отец Поль пожертвовал собой ради долга гостеприимства и остался с двумя путниками. Голодные Колен и Франсуа жадно проглотили остатки хлеба, дочиста выскребли котелок и выпили по несколько стаканов козьего молока.
– Мы не привыкли принимать здесь гостей. Толпы паломников редко появляются в наших местах. Ох уж эти святоши со своими дешевыми распятиями! Надо следовать по дорогам сердца, мерить шагами одиночество души, а потом уже идти толкаться у ворот Иерусалима!
Толстый монах поднялся, направился к дубовому сундуку, ключ от которого имелся у него одного, и достал оттуда пару литров вина. Сам он выпил всего глоток, но с удовольствием смотрел, как проворно Колен и Франсуа поглощают остальное прямо из горлышка бутыли.
Вийон вытер рукавом губы.
– Дозволено ли нам будет посмотреть ваши бесценные книги?
– Это зависит от брата Медара, а он редко пребывает в хорошем расположении духа. Он все время молится за людей, но их общество переносит с трудом. Даже наше. Он без конца нас бранит, упрекая в том, что мы плохо обращаемся с книгами, плохо читаем, слишком быстро или слишком медленно.
А не здесь ли находятся тексты, которые он ищет и которые заставят склониться Ватикан, подумал Вийон. Отец Поль решительно встал и, улыбаясь, благословил путников.
– Вы можете ночевать здесь. В том углу солома.
Отказавшись принять монету, протянутую ему Франсуа, настоятель вышел из трапезной. В двери на мгновение мелькнул квадрат чистого неба, затем она закрылась, а они остались сидеть в этой удушливой полутьме, вдыхая прогорклые запахи. Банкет в честь эмиссаров Людовика XI оказался весьма скудным, прием не отличался торжественностью. У поставщиков Фуста дурные манеры. Странно, что немец получает тексты от этих монахов-оборванцев, тем более что сочинения, которыми они его снабжают, посягают на единство Церкви. А отец Поль производит впечатление добропорядочного христианина.
Изнуренный Колен приткнул соломенную подстилку к стене и заснул, проклиная свою злосчастную судьбу. А Вийон вовсе не был оскорблен столь холодным приемом. Он как раз боялся оказаться на торжественном обеде для послов или негоциантов. Какая разница, войдет ли он через парадный вход или узкую калитку, если это порог тайного королевства. А что это так, у него сомнений не было.
Пребывая в возбуждении, он позволил себе еще один изрядный глоток церковного вина, чокнулся с собственной тенью на стене и задул свечу. Он положил на пол треуголку и тоже вытянулся на соломе. Лежа с открытыми глазами, закинув руки за голову, он улыбнулся, представляя себе тысячи звезд над крышей трапезной.
Бледное солнце с трудом пробивалось сквозь утренний туман. Во дворе суетились едва различимые тени монахов. Дверь в капеллу была приоткрыта. От потухших свечей шел неприятный запах. Вийон не мог сопротивляться искушению: ему хотелось погладить корешки мягкой свиной или веленевой кожи. Он проник в неф, наугад взял какой-то том, открыл его и, не читая, кончиками пальцев принялся скользить по корешку, словно проводя рукой по уступам водопада. Со страниц на него обрушился поток черных букв. Никакие знаки пунктуации не подавляли эти скомканные строчки и не обуздывали невнятный текст. Франсуа затрепетал от наслаждения. Не так ли слово становится поэзией?
– Убери от книги свои грязные лапы, нечестивец!
На пороге стоял злобный карлик и даже подпрыгивал от возмущения. Огромная голова дергалась на искривленном болезненном тельце, словно сломанная погремушка. У него было мертвенно-бледное лицо, а кожа казалась помятой, как плохо высушенное белье.
– Брат Медар?
– Я никому не брат!
Человечек тряс палкой, словно собираясь ударить непрошеного гостя. Франсуа какое-то время разглядывал его без всякого смущения, потом отступил в затемненный угол нефа. Давясь смехом, он пробирался между книжных стеллажей, полки которых прогибались от веса валяющихся в беспорядке томов с массивными застежками, с ремешками, с орнаментами из декоративных гвоздей. Потрясая палкой, карлик бросился за ним в погоню. В глубине нефа, отрезав пусть к отступлению, дорогу Франсуа преградила огромная дверь со стальными крюками. В ней имелся один засов, тяжелый, отлитый из цельного куска металла. Крупные шляпки гвоздей скрывали места сварки. Дверь преграждала доступ, но куда? Зажатый в угол, Франсуа прислонился спиной к этой внушительной двери, уверенно поджидая Медара и по-прежнему еле сдерживая смех. Прямо перед ним тонкая полоска радужного света пронзила витраж и упала на возвышение, на котором лежали несколько книг – в переплетах, покрытых пчелиным воском, с золочеными обрезами. В расколовшем сумрак луче света на самом верху стопки книг засверкал герб Медичи. Том весьма внушительного формата, что-то вроде атласа. Тот, другой, в мастерской Фуста, хотя и гораздо более толстый, был ин-кварто. Но герб – такого же размера и тоже с каббалистическими знаками по кругу, словно оттиск той же печати.
Наконец прибежал Медар и, поднявшись на цыпочки, с угрожающим видом встал перед Франсуа. С веревки, опоясывавшей его туловище, свисал массивный бронзовый ключ. Глядя на причудливые очертания ключа, Вийон по-прежнему опирался на дверь:
– Ты хорошо охраняешь свою тайну, монашек, – только и произнес он.
Карлик молчал, угрожающе потрясая дубинкой. Не торопясь, к ним приблизился отец Поль и слащавым голосом велел Вийону покинуть капеллу.
Оказавшись на свету после темного помещения, Франсуа опустил глаза. На мелком гравии четко вырисовывалась какая-то тень. Судя по контурам, это была тень сидящего на корточках человека. Он был совершенно неподвижен, словно находился в засаде. Франсуа поднял голову и, ослепленный солнцем, приставил ко лбу руку козырьком: в него прицеливался притаившийся на крыше сарая лучник. Чтобы увернуться от стрелы, Вийон быстро упал на землю и откатился в сторону. Вытащив из-за голенища кинжал, он резко выпрямился и намеревался его бросить. Но человек на крыше не шевельнулся и не выстрелил. Его лук был по-прежнему натянут, а стрела направлена на Франсуа. Если кинжал попадет в него, он ослабит захват и выпустит стрелу. Франсуа колебался, разглядывая противника: маленького роста, но не карлик, как Медар. Прямая осанка. Лица разглядеть невозможно, потому что с остроконечного шлема свисает кольчужная сетка, защищающая глаза. Грудь затянута в кожаный камзол. Сбоку на поясе, какие носят всадники, висит кривой меч без ножен. Вийон скривил в усмешке губы. Потом сделал нелепую гримасу и даже изобразил несколько танцевальных движений, стараясь вывести противника из себя. С таким же успехом можно было бы пощекотать мраморную статую. Как же его обмануть?
Громовой голос отца Поля положил конец этому странному противостоянию. Лучник тут же опустил оружие, но Франсуа по-прежнему оставался настороже и не выпускал из рук кинжала. Настоятель принес извинения: часового встревожили шум и вопли брата Медара.
– Это часовой?
Отец Поль постарался успокоить Вийона.
– И монах тоже. На свой лад. В свободное время он помогает нашим монахам переписывать учения одного великого мудреца, которого именует Буддой. Его предки сражались бок о бок с крестоносцами. Многие его соотечественники и сейчас живут в Сирии, Ливане, Персии. Их очень ценят, потому что они знают толк в лошадях.
Франсуа внимательным взглядом окинул крепостную стену, испещренную бойницами. Сомнений не оставалось: это место, показавшееся поначалу таким мирным и безмятежным, было замаскированным фортом. И обороняли его наемники-монголы!
Проснувшись, по обыкновению, в дурном настроении, Колен ударом ноги отпихнул соломенную подстилку и разразился ругательствами в адрес Вийона, Гийома Шартье, Людовика XI и Бога Отца. Укусы комаров, оглушительное пение цикад, колокольный звон лишили его спокойного сна. Ему не терпелось поскорее покинуть этот убогий монастырь, это святое место, от которого несло, как из чана с забродившим виноградом. Он чувствовал себя узником. Какого черта покрываться здесь плесенью? Больше всего Колен злился на свою собственную глупость. Его одурачила магия слов: «Святая земля», «Галилея», «Иерусалим»; тайна, которую эта страна скрывает под своими камнями; ветер, который дует здесь не так, как везде. Еще как дует! Горячий ветер поджаривает ваши ягодицы! Колен ненавидит жару, резкий, почти слепящий свет, прогорклый запах и песок, от которого некуда деться. Не говоря уже о пище, слишком острой, когда все вымачивается в оливковом масле или вялится на солнце.
В трапезной появился отец Поль, за ним шел Франсуа. Монах взял Колена за руку, он прекрасно понимал его раздражение и желание как можно скорее убраться отсюда.
– Немного терпения, мэтр Колен, мы ждем одного человека, он горит желанием с вами познакомиться.
Мамелюки осматривали караван: три запряженные мулами повозки. В двух первых были навалены всякие безделушки, украшения из стекла, деревянные статуэтки, изображающие святых. В третьей, менее нагруженной, везли съестные припасы, какие-то инструменты, несколько книг и одну картину на религиозную тему. Молодой торговец-флорентинец был одет в великолепное платье, украшенное вышивкой. На голове шестиугольная шляпа с плюмажем из длинных разноцветных перьев. Этот нелепый головной убор, завязанный на шее под подбородком кожаной тесьмой, венчал высокомерную и невозмутимую физиономию дворянина – явно европейца. Из его тонких холеных пальчиков, унизанных кольцами с негранеными драгоценными камнями, словно невзначай, выпал небольшой кошелек, и господин, не мешкая, поприветствовал воинов и велел погонщикам мулов продолжить путь. Несмотря на нелепый наряд, выдающий в нем придворного, он ловко вскочил на коня с блестящей шерстью и вплетенными в уздечку помпонами и бубенчиками. Мамелюки провожали караван изумленными взглядами. Разноцветный плюмаж еще долго колыхался, выделяясь ярким пятном на суровой охре полей, а затем исчез в купе деревьев, окаймлявших долину. И только за поворотом дороги, убедившись, что его не видно, молодой торговец вытер пот, который заливал его лицо и шею.
Различив наконец вдали приветливую округлость холма, покатую верхушку старой колокольни, высокий заржавленный крест, поднявшийся к небу, он почувствовал облегчение. Сколько испытаний пришлось ему вынести, чтобы добраться до монастыря. Война венецианцев против турок сделала путь еще опаснее, чем прежде. В Эгейском море хрупкая каравелла прокладывала себе путь среди боевых кораблей, опасаясь встречи с греческими или османскими корсарами и сарацинскими пиратами. Заметив вдали какой-нибудь парус, капитан резко менял курс, грозясь повернуть обратно. Впрочем, возвращаться во Флоренцию, особенно при неблагоприятном ветре, было бы весьма рискованно.
Предписания Козимо Медичи, хотя он и давал их, лежа на смертном одре, были весьма определенными и категоричными. Более того, они являли собой его последнюю волю, его завещание: спасти картину и секретные рукописи, которые он прятал в подвалах Платоновской академии в Кареджи, в окрестностях Флоренции. Миссия обещала быть непростой, но фортуна улыбнулась молодому торговцу, когда Лоренцо Медичи (Великолепный), фактический правитель Флоренции, принял энергичные меры для защиты евреев. Лоренцо не только отменил для флорентийских евреев унизительные запреты, но и, вопреки папской цензуре, призвал ученых вновь изучать талмудические труды, трактаты по еврейско-арабской медицине и даже каббалу. Университеты Болоньи и Пармы открыто заказывали экземпляры раввинских антологий, комментарии и толкования, составленные в еврейских кварталах Толедо и Праги или в школах Тверии и Цфата. Заручившись покровительством Лоренцо Великолепного и получив деньги факультетов и Платоновской академии, а также секретных фондов Козимо Медичи, молодой охотник за книгами смог снарядить корабль на Святую землю. Под предлогом приобретения выдающихся древнееврейских трудов он, на самом деле, помимо редких и ценных книг, завещанных Козимо монастырю, привозил в Палестину последние сочинения непокорного кардинала Николая Кузанского, тайные заметки философа Марсилио Фичино о «Герметическом корпусе», восточный трактат о ноле, картину Филиппо Брунеллески – все это было запрещено папской цензурой.
В библиотеке Козимо Медичи молодой человек, пребывая в состоянии крайнего волнения, записывал сведения, которые должен был предоставить таинственным покровителям брата Медара, в том числе указания, как добыть секретные сочинения. Час настал, – лаконично заключил Козимо, снаряжая в путь охотника за рукописями. Скажите им, что пора переходить в наступление.
Козимо спокойно ждал конца в окружении бесценных коллекций, вдыхая напоследок запах книг, готовясь присоединиться к их авторам в мире, где человеческий дух парит среди небесных сфер, беседует с ангелами и беспричинно улыбается суровым теням богов. Именно в смерти он достигнет идеала всей своей жизни – стать uomo universal[5].
Известие о другой смерти опечалило христианский мир. Это была кончина папы Пия II – как раз после его последней попытки снарядить Крестовый поход. Войско, которое он набрал в Мантуе и Анконе, разграбило несколько городов и истребило сотню неверных, затем крестоносцы разбрелись по домам. В апреле еще один неудавшийся Крестовый поход оставил в память о себе три десятка трупов на улочках краковского гетто, на этом все и закончилось. Неужели христиане утратили Иерусалим навсегда?
На Святую землю стекались толпы искателей приключений и наемников без роду и племени. Священники же предпочитали получить крошечную епархию где-нибудь в Анжу или Рейнской области, нежели епископство в Палестине. Монархи нисколько не были заинтересованы в завоевании опустошенной страны, терзаемой эпидемиями и отравленной миазмами. Даже эмир Иудеи мечтал лишиться своей ничтожной должности и получить доступ к богатствам Александрии или Багдада. Он ненавидел орды паломников, что беспрестанно высаживались на побережье и отправлялись вглубь страны, огромные караваны, пересекавшие территорию в обратном направлении, шедшие к портам, бесконечные перемещения кочевников, спасавшихся от голода и засухи. Ослики пилигримов, верблюды торговцев, козы крестьян в конце концов сожрали остатки жалкой растительности, которая хоть как-то прикрывала постыдную наготу почвы и скал, прятала уродство каменистой земли. Эта территория, бремя управления которой несли мамелюки, являла собой запутанное переплетение дорог и тропинок, словно дорожная станция между двумя мирами – Востоком и Западом. Овеянные легендами и славой поля сражений давно заросли сорняками. Гробницы пророков, рыцарей, римских центурионов разрушены солнцем и ветром. Остались только евреи да поэты, которые все еще стекались к Иерусалиму, – так запоздалые клиенты дома терпимости почтительно приветствуют его содержательницу, увядшую с возрастом. Впрочем, большинство из них никогда не видело города, которому они так упорно возносили хвалу. А Иерусалим, словно проститутка, приспосабливался ко всему, был готов принять все символы, все рифмы, все надежды, всех священников и солдат, невозмутимо кладя в карман плату за свое несчастье и нужду. И все-таки поэты упорно продолжали славить его в изысканных одах, а евреи – предсказывать его возрождение из пепла. Ибо для них судьба Иерусалима была запечатлена не в войнах, а в Священном Писании. Этот город был построен не из камней и кирпичей, а из речей и грёз.
Облокотившись на край крепостной стены, ограждавшей внутренние монастырские галереи, Франсуа и Колен наблюдали за приближением каравана. Они уже различали кричащие цвета плюмажа, которые ярко выделялись на фоне рыжих зрелых колосьев и бурых повозок, словно городская заносчивая пестрота бросала дерзкий вызов сдержанным тонам сельского пейзажа.
У подножия холма монахи разгрузили повозки, затем, закинув на спины тюки и свертки, стали подниматься по крутой отвесной тропинке, ведущей к монастырю. Часовые-монголы заняли позиции на крышах, башнях и колокольне. Похоже, приезд книготорговца обострил бдительность мамелюков. Один из стражников даже разглядел какого-то разведчика, рыскающего вокруг монастыря. Или это был всего лишь охотник?
Элегантный чужестранец вышел из густого кустарника, примыкающего к холму. Он почти не запыхался и в своих высоких башмаках со шнуровкой, не спотыкаясь, шагал по гравию легко и непринужденно, словно собрался на торжественный ужин. Бросил быстрый взгляд на Вийона и Колена, но сделал вид, будто их не увидел, возможно, его ослепил свет. Подойдя к воротам, стянул с головы пеструю шляпу и низко поклонился настоятелю. Затем достал из дорожной сумки бочонок, кинжалом подцепил крышку, опустошил содержимое – судя по запаху, это была водка – и, вскрыв двойное дно, извлек шкатулку, наполненную золотыми и серебряными монетами.
– Это вам за работу.
В трапезной, перед тем как усесться за стол, отец Поль представил вновь прибывшего. В честь ужина итальянец переоделся в домашний халат теплых цветов, отделанный бархатом. Он был расстегнут – явно не без умысла, – и присутствующие могли разглядеть шелковую рубашку с манишкой и верх волосатого мускулистого торса. При всей нарочитости в этом кокетстве было что-то элегантное. Юный Артабан обладал хорошим вкусом и умел выбирать для себя необыкновенные туалеты. А его знаменитые головные уборы были один экстравагантнее другого. Сейчас на голове у него красовался широкий черный бархатный берет. Край берета был заколот камеей из сердолика с изображением женской головки с римским профилем. Подлинный, из раскопок, поделочный камень времен Марка Аврелия был заключен в оправу современной работы из необработанного жемчуга с подписью венецианского ювелира. За край оправы выступало золотое литье, смешиваясь с волосами античной гетеры. И наконец, величественный вид флорентинца подчеркивали высокие каблуки, делавшие его выше по крайней мере на десять дюймов, из-за чего Франсуа вынужден был тянуть шею.
Вийон, никогда особенно не обращавший внимания на правила этикета, пытался тем не менее держаться пристойно. Хотя он любил притвориться неотесанным мужланом и порой вел себя как грубиян и невежа, в его физиономии побитой собаки было нечто притягательное. Под старой треугольной шляпой блестели насмешливые глаза, а уголки губ кривила сдержанная улыбка. Впрочем, возможно, это была врожденная деформация лица, а не усмешка, этого не знал никто.
Итальянец окинул взглядом Франсуа, пытаясь с первого раза разгадать, что скрывается за этой гримасой: в ней были и бравада, и чистосердечие, и память о пережитых страданиях, и – что совсем странно – доброта и приветливость, а еще вдумчивость и основательность. Он ожидал встретить надменного бунтовщика, который считает себя выше других, но перед ним стоял человек, не ведавший притворства и лицемерия, во Флоренции таких уже не встретишь. Путешественник поклонился, любезно протянул руку и представился:
– Федерико Кастальди, флорентийский торговец и посланник мессира Козимо Медичи.
Франсуа в свою очередь удивленно и недоверчиво разглядывал вновь прибывшего. Что означают эти неожиданные напоминания о ветвях великой династии Медичи? Возможно, это петли сети, которую на него накидывают?
– Каким ветром занесло вас на Святую землю, мэтр Вийон?
– Не одним ветром, а несколькими противоположными: зефирами побега и пассатами удачи.
Мужчины обменялись понимающими взглядами. Федерико, ненавидевший ученых червей и надменных гениев, счел Вийона весьма любезным для модного автора. А Франсуа, который испытывал ужас перед педантами и жеманными щеголями, догадался, что флорентинец куда более прозорлив, чем показалось на первый взгляд. Возможно, эта нарумяненная кукла, какой он хочет выглядеть, – просто хитрость торговца или маскарад для отвода глаз?
Затем Федерико взглянул на Колена, который обжирался за милую душу, громко чавкая. Его внушительный торс грубой лепки, бугры бицепсов, исполосованная шрамами физиономия внушали страх. И странно было видеть на этом лице вытаращенные глаза удивленного ребенка. Играя на контрасте: устрашающая внешность и наивный взгляд, – он отвлекал стражу или заговаривал причетников, пока его товарищи опустошали церковные сундуки или кассы казначейства. Самый сильный удар кокийяры нанесли в 1456 году, прямо перед Рождеством, Наваррскому коллежу. Пятьсот золотых экю получилось украсть так же просто, как колосок с пшеничного поля. Пока Колен торчал у дверей коллежа, болтая и бурно жестикулируя перед озадаченными зеваками, внутри Табари и Вийон сокрушали замки ризницы.
В конце трапезы флорентинец церемонно протянул Франсуа какую-то книгу. От переплета все еще исходил запах квасцов, которые используются при дублении кожи. Его поверхности были обиты посеребренными цветами, из их стеблей выступали золотые тоненькие, аккуратно прочерченные нити. В центре расправляла прозрачные крылья настоящая бабочка, ее контуры были вырезаны прямо на коже переплета. Корешок, отделанный под мрамор, инкрустирован перламутром, выложенным в виде растительного орнамента. Нитки для сшивания книги укреплены кожей саламандры и чешуйками ящерицы. Гладкие навощенные рубчики переплета свидетельствовали о том, что книгу никогда не читали. Франсуа осторожно открыл застежку с тонко вырезанными арабесками. Внутри были совершенно пустые страницы великолепной текстуры, гораздо более мягкие и нежные на ощупь, чем те, что получаются после промывки в чане. Вийон восхищался каждой деталью. В этой работе были задействованы таланты многих искусных мастеров.
– Позвольте преподнести вам ее в дар. Для баллад, которые вы еще не написали.
Застигнутый врасплох Франсуа пробормотал слова благодарности, подозревая, однако, что столь щедрое подношение сделано не бескорыстно. Такой хитрый негоциант, как Федерико, расточает милости не без задней мысли. Разве не так же действовал сам Вийон, чтобы заманить Иоганна Фуста? Что рассчитывает получить от него этот флорентийский торговец, с которым он познакомился всего несколько минут назад?
Увидев смущение Франсуа, Федерико широко ему улыбнулся. Он схватил бутылку; ее изысканная форма, красные печати вокруг горлышка, мелкие пузырьки, что шипели на дне, – все говорило о том, что это исключительный напиток. Ловко выдернув зубами пробку, он налил полные до краев стаканы. Вийон со знанием дела вдохнул аромат, готовясь воздать должное сорту винограда, насыщенному вкусу, бархатистости. Но итальянец поспешно удалился: его окликнул брат Медар, воткнув свой безволосый подбородок между блюдами и стаканами.
На столе при свете масляной лампы мерцали крылья бабочки. Франсуа вновь залюбовался тщательно отделанным переплетом, искусным тиснением – аккуратным и тонким. В своеобразном орнаменте умело соединялись острые очертания насекомого с воздушной округлостью оплетающей их позолоты. Совсем как в той древнееврейской скорописи, порхавшей вокруг герба Медичи.
С потолка свисало паникадило. Брат Медар педантично разложил на аналое толстые тетради и карандаши. Федерико расположился рядом, оставив под ногами драгоценные свертки. Хотя в капелле кроме них никого не было, разговаривали они вполголоса.
– Вы умеете польстить. Мэтр Вийон был растроган. Так вы читали его сочинения?
– Ни единой строчки, мой славный Медар. Я просто знаю, что…
Продолжая писать, карлик забормотал:
– Минутку, прошу вас. В день двенадцатый июня, года одна тысяча четыреста шестьдесят четвертого… раз-ное иму-щест-во… по-лу-че-но от… Федерико… Кастальди… в качестве… наименование товара… Вот. Первое поступление?
– Три манускрипта епископа из Кузы, Николая Кузанского, об устройстве Вселенной. Путем алгебраических вычислений и наблюдений за небом якобы установлено, что, цитирую, terra non est centra mundi [6]… Будто бы в эфире тысячи других звезд и планет. А мы всего лишь песчинка в бескрайнем пространстве.
Брат Медар возмущенно подпрыгнул, чуть не свалившись со своего табурета.
– Разве, вычисляя при помощи счетов, можно постичь тайну Создателя? – проворчал он.
– А вот мой господин Медичи, истинный католик, полагает, что папство погружается в болото догматов. Оно упорно не желает следовать за Аристотелем, страшась поколебать веру, которая упрочивает слепое повиновение паствы. Оно отказывается от ноля, которым пользуются арабы и евреи, не потерявшие, однако, веры в своего Бога.
– Ноль? Ни Пифагору, ни Евклиду не нужна была эта цифра-призрак. Они возвели мир на прочных основаниях, а не на символах, какими пользуются гадалки!
– И чем же пустое, не имеющее значения число может угрожать Всемогущему?
Освободив пять досок с живописью от грубой ткани, в которую они были замотаны, Федерико разложил их на полу, воссоздав картину. Поначалу Медара ничто не встревожило. Он увидел бледные пальцы Мадонны, лицо младенца Иисуса с розовыми щеками, Его увенчанную нимбом голову. На заднем плане посреди сельского пейзажа вырисовывалась каменная колоннада. Можно было различить синеватые излучины реки, теряющейся за невысокими холмами. На удивление четкие, подробно выписанные деревья выделялись на фоне неба с плывущими облаками. На возвышенности, подобно трону, красовался античный мавзолей. Несмотря на ярко-красное платье Мадонны и насыщенные цвета центральной сцены, взгляд, не задерживаясь на главных фигурах, погружался вглубь картины и блуждал среди холмов и долин. Вы испытывали головокружение. Дева Мария и Ее дитя, казалось, сидели совсем близко, но облака и деревья, их чистые и глубокие тона увлекали вдаль, в необыкновенный мир. И вы уже не замечали ни женщины, ни младенца. Они ощущались, как ощущается некое присутствие, но взгляд струился вместе с рекой, его словно поглощали мелкие мазки, которые идеально совмещались с прожилками дерева. Зазоры между панелями были частью этой оптической иллюзии, глаз сам ткал текстуру пространства и света. Религиозная сцена была всего лишь предлогом.
Эта картина художника и архитектора Брунеллески совсем недолго украшала баптистерий собора во Флоренции. Она была поспешно снята, пока ее автор не вызвал гнева заказчиков, и длительное время оставалась спрятанной в подвалах Медичи. Один лишь Верроккьо смог увидеть ее и объяснить тайну своим подмастерьям. Как раз сейчас один из его учеников по имени Леонардо овладевал новым способом изображать мир в перспективе.
– Это всего лишь тромплей, обманка, вот и всё. Мадонна стала от этого святее прежнего?
Федерико вернулся к описи. Как бы то ни было, монах не имеет права голоса в капитуле. Окончательное решение принимается в другом месте, его хозяевами. Свою таинственную печать рядом с гербом Медичи они поставят лишь в том случае, если одобрят выбор Козимо. А далее они вольны спрятать книги в библиотеке или распространить их содержание. В противном случае Федерико заберет обратно отвергнутые книги и картины и продаст их в своей лавке как диковинки.
Составление описи затянулось. Торговец, зевая от усталости, молча открывал ящики и одну за другой протягивал рукописи Медару. Карлик с раздосадованным видом, но тоже не говоря ни слова, вписывал манускрипты в тетрадь. Автор, название, дата, автор, название, дата… И так почти до утра.
Еще до того, как небо на востоке начало розоветь, кучера проверили лошадей и упряжь, осмотрели подпруги мулов, постучали носками сапог по колесам.
К этому времени отец Поль уже получил указания относительно эмиссаров короля Франции. Была назначена дата их первой встречи с тайным союзником Медичи. Их ожидали в Цфате. Путь предстоял трудный. Сарацины и турецкие разбойники подстерегали сбившихся с дороги путников и отправляли их на тот свет. Ядовитые испарения и болезни тоже сбирали свою смертоносную дань. Лазареты при монастырях были переполнены ранеными и умирающими. В окрестностях рыскали отряды мамелюков. Отец Поль не знал, что они высматривают, но видели их повсюду. Завоеватели этих земель, неважно, кем они были: бледными рыцарями или смуглыми торговцами, – не ведали отдыха ни днем, ни ночью.
Настоятель решил, что Вийон и Колен присоединятся к каравану Федерико, официальная миссия которого – приобрести в Тверии и Цфате древнееврейские сочинения для итальянских университетов. Это не должно было вызвать подозрений. В конце концов, перевозить они будут только книги. В случае неприятной встречи можно откупиться от мамелюков парой-другой монет.
Франсуа и Колен погрузили головы в корыто с водой, затем выпрямились и по-собачьи встряхнулись. Колен нахлобучил кабассет, отчего его череп сделался совсем плоским. Франсуа надел измятую треуголку. Обжигающий ветер дул им прямо в затылки. Федерико появился на пороге трапезной, освещенный первым лучом солнца. В своем пестром сияющем наряде он вышагивал, как придворный, отправляющийся на бал. Изумленные монголы-часовые невольно расступились, давая ему дорогу, словно выстроились в почетном карауле, что выглядело довольно нелепо. Отец Поль, неожиданно сделавшись строгим и суровым, шепнул ему на ухо несколько слов. Федерико кивнул в знак согласия и преклонил колени, получая благословение священника. Он отряхнулся и лентой перевязал сзади волосы. Бросив довольный взгляд на людей и верховых животных, он дал приказ к отправлению.
День обещал быть знойным. Палящие лучи солнца обрушивались на бесплодную равнину, на неподвижные кусты, которые не тревожил ни один порыв ветра; где-то вдали парил одинокий ястреб. Поля словно скукожились в знойном мареве. Тень хмурого облака накрыла линию горизонта, затем его серое пятно расплылось на охровой скатерти равнины. Всадники ускорили шаг, оставляя монахов за их каменными стенами.
Щеки обдувал воздух свободы. Лошади, опьяненные светом, неслись вскачь, били копытами о землю, мчались сквозь позолоченные солнцем колючие кустарники, рассекали тучи мошкары, а на их спинах тряслась поклажа. В сосудах весело плескалась вода. Франсуа вдыхал ароматы этих пустынных мест. Он обводил взглядом неровные округлости плато, волнообразные излучины дороги, тропинки, проложенные еще апостолами, ложбины, испещренные холмиками – могилами пророков, отыскавших наконец Святую землю. Он впитывал все это. Поначалу он жадно пытался отыскать знаки, надписи на фронтоне какого-нибудь храма. Не было ни одного межевого столба. Только каменистые тропинки, которые, казалось, никуда не вели. И все-таки эта земля нашептывала ему неясное послание, идущее откуда-то из ее глубин. Некое откровение. Он интуитивно чувствовал, что она всегда ждала его.
С наступлением темноты Федерико стал искать место для ночлега. В легендарной Галилее спрятаться можно было только в скудном подлеске. Хилые сосны, худосочные кипарисы и карликовые дубы служили плохим укрытием для лошадей. Луна была в первой четверти. Флорентинец решил не разводить огня, и люди сидели в темноте, их голоса мешались с заунывными криками шакалов. Франсуа уселся на плоском камне. Он держал кувшин фалернского вина и копченую ногу индейки. Федерико сел на корточки, чтобы не запачкаться.
– Завтра к вечеру мы доберемся до Цфата. Хотите лепешку?
В сумерках блеснули зубы итальянца. Вийон протянул ему кувшин, вытер руки о влажные от росы ветки.
– Вы связаны с благородным домом Медичи. Мне кажется, я видел их герб на одном из томов в монастыре.
– Все может быть.
– Он отличается от знаменитой эмблемы: добавлены какие-то каббалистические символы, я не могу понять их значения.
– Я не читаю по-древнееврейски, – сухо ответил торговец.
Вдалеке закричала сова. Вздрогнула испуганная лошадь. Федерико поднялся и подошел к ней, успокаивая, слегка похлопал по холке, убедился, что поводья крепко обвязаны вокруг сухого ствола. Вийон следил за ним взглядом, он не сомневался, что итальянец знает больше, чем готов признать. Федерико явно ожидал встретить Франсуа в монастыре и ту прекрасную книгу с бабочкой приготовил специально для него. А ведь отец Поль уверял обоих французов, что книготорговец ничего не знает о миссии, которая привела их сюда. Приезд Федерико был запланирован давно, задолго до прибытия Вийона и Колена. И, судя по всему, он был здесь далеко не впервые. Как бы то ни было, человека, состоящего на службе у Медичи, опасаться не стоило. Но рядом с итальянцем Франсуа ощущал странное беспокойство. Этот весельчак явно разыгрывал комедию. Франсуа чувствовал фальшь, как никто: слащавое выражение лица торговца, его аристократические манеры, настолько преувеличенно изысканные, что казались неестественными, его эффектные одеяния – под всеми этими слоями был спрятан совсем другой персонаж. От него исходила властность человека, который привык главенствовать, твердость солдата, непреклонность, внушающая страх. Меньше всего он походил на придворного лицемера, скорее на человека, который владеет какой-то тайной. Тем не менее ему не просто было скрывать свои намерения. Маска, которую он носил, никого не вводила в заблуждение, но подавляла всякое желание снять ее, открыть его настоящее лицо. Эта настороженность была Франсуа хорошо знакома, еще со времен кокийяров, когда любопытный человек, пожелавший узнать больше, чем ему было дозволено, мог получить удар кинжалом. Вот почему Франсуа остерегался Федерико. И именно поэтому относился к нему с подчеркнутым уважением.
