Революционные дни. Воспоминания русской княгини, внучки президента США. 1876-1918 бесплатное чтение
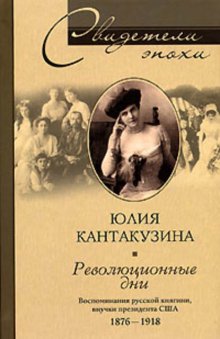
Глава 1
Детские впечатления
Из многочисленных пересказов моей любимой истории с самого раннего детства узнала я о храбром и красивом мальчике[1], который в возрасте двенадцати или тринадцати лет три раза убегал из школы. В первый раз он отправился прямо к отцу[2] на поле битвы. Последний тотчас же вернул его к учителям; во второй раз он присоединился к солдатам армии своего отца, где его обнаружил один из штабных офицеров и отвез в генеральский лагерь. Там мальчика отчитали и вновь вернули к занятиям, но он снова бросил их и в третий раз отправился в армию как раз накануне Виксберга. В конце концов отец, покоренный настойчивостью и преданностью сына, позволил юному солдату остаться и подвергнуться всем трудностям лагерной жизни вместе с командующим, быт которого отличался еще большей суровостью, чем у большинства окружающих. Для него нашли пони и походную кровать. По ночам отец и сын спали бок о бок в генеральской палатке, или же мальчик лежал в полусне, смутно ощущая, как молчаливый мужчина ходит взад-вперед и перебирает карты, планируя предстоящие битвы и кампании, а затем садится писать приказы для завтрашнего боя.
На рассвете отец и сын объезжали с инспекцией войска или поднимались на какое-нибудь возвышение, откуда генерал мог руководить сражением. Они всегда были вместе. По-видимому, этот благородный и преданный мальчик никогда не мешал командующему, и тот впоследствии с удовольствием рассказывал о том, какое мужество проявлял его младший товарищ под огнем и с какой жизнерадостностью переносил неудобства походной жизни во время военных действий.
4 июля 1863 года он рядом с отцом вошел в Виксберг и с тех пор оставался на фронте. Когда в 1865 году наступил мир, на счету пятнадцатилетнего мальчика было два года постоянных участий в походах и большой накопленный опыт, сделавший его взрослее и немало послуживший ему в дальнейшей карьере. После войны последовал год подготовительных занятий, и юный ветеран поступил в Уэст-Пойнт. Дисциплина в академии, несомненно, казалась суровой для того, кто скитался по полям сражений, а озорство этого кадета нередко доводило его до беды, но его превосходное знание математики и талант ко всему, что касалось лошадей, муштры, стрельбы и прочих военных дисциплин, помогали ему. В итоге он окончил Уэст-Пойнт.
В качестве адъютанта генерала Шермана[3] новоиспеченный второй лейтенант осуществил поездку в Европу, где впервые увидел зарубежные страны. Ему удалось побывать во Франции сразу же после Франко-прусской войны[4], посетить Ближний Восток, а оттуда отправиться на Кавказ. Он остановился в Тифлисе у наместника – великого князя Михаила[5], сына императора Николая I и младшего брата Александра II[6]. Из Тифлиса хозяин отправил моего отца на север с одним из своих адъютантов, который должен был доставить какие-то сообщения императору. Два молодых офицера помчались по обширным степям России по направлению к Москве. Мой отец влюбился в таинственную красоту равнин, где раздавались только стук копыт лошадей, запряженных в тройки, и звон колокольчиков. Затем последовала остановка в Москве, откуда по единственной в России железной дороге они отправились в Петербург.
Здесь молодой симпатичный офицер снова получил теплый прием. Великий князь Михаил предупредил свою жену, и великая княгиня Ольга Федоровна (урожденная принцесса Баденская)[7] оказала чужестранцу радушный прием, так что он чувствовал себя как дома в ее дворце на набережной. Ее гость никогда не забывал удовольствия, доставленного ему этим посещением, и обаяние тех людей, которые были так добры к нему в юности.
Вернувшись домой в 1872 году, он активно сражался с индейцами на Крайнем Западе, принимал участие в работе созданных правительством инспекционных комиссий в Монтане и в засушливых пустынях Аризоны, где наблюдал исполненную приключений и поэзии жизнь Дальнего Запада.
Следующим этапом в карьере моего отца стало назначение в штаб генерала Филипа Г. Шеридана[8], расположенный в Чикаго. Там он познакомился с очень красивой молодой девушкой[9], только что с отличием закончившей учебу в монастыре в Джорджтауне. Быстро разгорелся роман. Ему было двадцать четыре года, а ей двадцать, когда они поженились в октябре 1874 года. Загородный дом мистера и миссис Оноре стал рамой блестящей сцены. Родители невесты принадлежали к числу наиболее примечательных жителей Чикаго, а невеста и ее сестра обладали редкой красотой и очарованием. На церемонии присутствовали генерал Шеридан и весь его штаб в парадных формах, жених был окружен и членами семьи, включая президента Соединенных Штатов и его выдающихся сподвижников и друзей, – все приехали, чтобы присутствовать при заключении счастливого брака офицера.
Новобрачные поселились в Белом доме, откуда молодой полковник Грант, как и прежде, осуществлял свои длительные экспедиции на Запад. В столице, так же как и в Чикаго, молодая жена стала всеобщей любимицей. Две зимы миновало, и в июне 1876 года в тихой комнате президентского особняка, окна которой находились в тени огромного портика, родился первый ребенок, необыкновенно крупная девочка, фунтов тринадцать[10] пухлой плоти, – это была я.
Будучи первым ребенком любящих друг друга родителей и первой внучкой таких дедушки и бабушки, какими были Улисс С. Грант и его жена, я была обречена стать обласканным ребенком. Мне часто рассказывали о моем крещении, когда меня назвали Юлией в честь моей бабушки Грант. Крестил меня в большой Восточной комнате доктор Джон П. Ньюман, пастор методистской церкви, которую посещал мой дедушка Грант.
Затем мы поехали на Запад. Помню, как меня внезапно разбудили и одели ночью в поезде, медленно продвигавшемся среди кричащих толп. Поезд остановился, кто-то взял меня на руки и перенес из вагона в большой открытый экипаж. На заднем сиденье уже разместились дедушка и бабушка Гранты, только что вернувшиеся из кругосветного путешествия, нас окружало море лиц – мужских и женских. Факелы, огромное их количество, горели, вспыхивали ярким пламенем, коптили и дрожали, отбрасывая переменчивые отблески на лица, которые в моем детском воображении казались дикими от волнения. В сущности, они просто встречали национального героя, проявляя весь энтузиазм, на который только были способны. Все рты были открыты, и крики «ура!» заполняли воздух так же густо, как освещенные лица заполняли мой горизонт. «Грант! Грант! Добро пожаловать, Грант!», «Ура Гранту!», «Ура! Грант! Грант!».
Мой дедушка сидел абсолютно спокойно на своем месте среди всего этого бедлама, но я впервые заметила глубину и мощь его взгляда и обратила внимание на то, какими темными казались его глаза, хотя они и сияли. Бабушка, напротив, помахивала рукой, раскланивалась и улыбалась. Она радовалась и выражала свою радость мужу, моей матери и всем вокруг. Когда меня, перепуганную шумом, передали матери, огромная толпа качнулась вперед, казалось готовая накрыть нас. Все более и более охваченная паникой, я спрятала голову в колени матери. Потребовалась изрядная доля усилий, чтобы вернуть мне утраченную смелость.
Почти сорок лет спустя, во времена большевистского переворота в России, я увидела огромные толпы, которые держали всех в напряжении, и была напугана точно так же, как все остальные, но даже в 1917 году я не испытывала такой паники, как в тот день, когда огромная дружелюбная американская толпа выкрикивала свои приветствия моему молчаливому дедушке в Колорадо-Спрингс по возвращении из триумфальной поездки по всему миру.
После недолгого пребывания в Колорадо-Спрингс мы все вместе поехали в Галену[11], и я наконец преодолела страх перед толпами народа, которые встречали нас на каждой станции, выкрикивая приветствия и размахивая руками. Люди обступали мое окно, дарили мне цветы или, напротив, просили у меня цветок «на память», как они говорили. Они заставляли меня что-то им говорить, смеялись и аплодировали, и я начала ощущать себя важной особой, но понимала, что мой маленький личный прием был частью торжественной встречи Гранта.
В Галене мы поселились у дедушки с бабушкой, вернувшихся в свой маленький домик, где они жили до войны. Проведя четыре года на полях сражений и восемь лет в Белом доме, посетив различные европейские и азиатские дворцы, они вернулись в свой старый дом и с удовольствием поселились там, что много говорит о выдающейся паре. Вскоре мы покинули их и вернулись в наш дом в Чикаго.
Мой отец, служивший в штабе генерала Шеридана, чаще находился в Чикаго и меньше на Дальнем Западе, а однажды они с мамой уехали в путешествие, оставив меня на попечение моей прелестной тетушки, сестры матери, миссис Палмер[12]. Это был официальный визит, который мой дедушка нанес президенту Диасу[13]. Генерал Шеридан сопровождал моего деда, а мой отец поехал как адъютант Шеридана, в их группу входило и несколько важных гражданских лиц. Бабушка тоже поехала, как и прочие жены, – веселая умная компания вокруг великой центральной фигуры.
Когда мне исполнилось пять лет, в мою маленькую жизнь вошло нечто новое – в доме появился новорожденный мальчик. Моего малютку брата назвали Улиссом в честь деда, и мне доставляло огромное удовольствие помогать за ним ухаживать. Мать обладала слабым здоровьем, и отец, вышедший в отставку, перевез нас всех в Нью-Йорк, где мы переехали в новый дом номер 3 по Восточной Шестьдесят шестой улице. Мне он казался большим и мрачным. С огромным интересом я услышала, как взрослые говорили, что его подарили моему деду жители Филадельфии.
Отец и дедушка решили принять участие в банковском бизнесе, в котором уже состоял один из моих дядюшек. Фирма называлась «Грант и Уорд». Это был процветающий концерн, и отец с дедом решительно вложили в него все свои сбережения, сделанные во время службы в армии. А дедушка даже вложил деньги, предоставленные ему Нью-Йорком, чтобы выразить признательность за его патриотическую службу.
Мама все еще была слаба, и, чтобы укрепить ее силы, мы переехали на зиму в прелестный коттедж в Морристауне в Нью-Джерси. Им с отцом очень понравилось это место, и я прекрасно помню, как увлеченно они обставляли мебелью свой новый дом и каким привлекательным его сделали.
Однажды вечером весной 1884 года, когда отец пришел домой, он выглядел очень усталым, бледным и взволнованным. Он, как всегда, обнял меня и поднялся с мамой в гостиную. Раздался ее возглас, полный удивления и огорчения, затем до холла, где внизу сидели испуганные дети, стали доноситься громкие вопросы и тихие ответы. Когда они спустились, глаза у мамы были красные, и она велела мне поскорее отправляться в постель, что я и сделала, размышляя о том, что же произошло.
На следующее утро я узнала: у нас совершенно не осталось денег, и нам предстояло переехать к бабушке, которая каким-то образом сохранила достаточно средств, чтобы содержать свой дом, в то время как нам приходилось отказаться от нашего. Для меня возможность поехать к бабушке являлась компенсацией за любые неприятности, но со временем я осознала всю глубину драмы банкротства компании «Грант и Уорд» и увидела, как глубоко переживал ее отец. Он стал уходить из дому раньше обычного и возвращаться позднее. Наших лошадей и экипажи увели в первый же день и продали. Каждый день приходили рабочие, чтобы упаковывать и вывозить мебель. Ежедневно, возвращаясь домой, отец спрашивал, готовы ли мы. Охваченная лихорадочным волнением и желанием помочь, я упаковывала и снова распаковывала свои игрушки и маленькие сокровища. Через несколько дней, возможно через неделю, мы закончили.
Лишь годы спустя я осознала весь героизм, проявленный моими родными в то время. Когда в это ужасное утро отец и дедушка приехали в город, за ними прислал мой дядя Улисс-младший, партнер Уорда по банку. Они узнали страшную весть: Уорд сбежал со всеми деньгами, и фирма обанкротилась. Практически все, что мой отец имел, было вложено в эту фирму, а то немногое, что у него оставалось, он тотчас же вложил в общую собственность, чтобы расплатиться с инвесторами, вложившими небольшие суммы. Мой дед поступил точно так же. Его дом в городе еще задолго до этого по его просьбе был переписан на имя бабушки, а еще он подарил ей коттедж Элберон во время своего президентства, так что он решил, что она должна сохранить их за собой и принять туда всю семью.
Именно из-за банкротства фирмы «Грант и Уорд» мы переехали в дом деда и стали там жить. Мой отец продолжал работать в Нью-Йорке, а в свободное время помогал деду просматривать старые бумаги, отыскивая военные записи и документы. Они нужны были для статей, которые дедушка намеревался написать для журнала, обещавшего заплатить неслыханную сумму в пятьсот долларов за их серию.
Весной 1884 года дед, выйдя из дому и направляясь по тротуару к экипажу, поскользнулся на апельсиновой или банановой кожуре, упал и сильно повредил бедро и ногу. Ему помогли вернуться домой, несколько дней усиленного ухода позволили избавиться от серьезных последствий, но после этого у него осталась небольшая хромота, и он стал медленней ходить.
Я знаю, какое облегчение и удовлетворение испытывал дедушка от того, что его статьи повсеместно пользовались шумным успехом и приносили ему доходы. Я слышала, что его просили написать мемуары в форме книги и что он получал весьма лестные предложения.
Мой отец, генерал Портер, мистер Дрексел и мистер Чайлдз[14] всегда говорили по поводу книги. К ней уже собирались приступить, и дедушка должен был предоставить свои записи о Гражданской войне.
Таково было положение вещей, когда до меня стали доноситься отдельные замечания членов нашей семьи или старых слуг о том, что он не очень хорошо себя чувствует. Кое-кто говорил, что он немного простудился и у него слегка побаливает горло; прошел слух, будто у него не простуда, а горло заболело, когда он однажды проглотил кусочек кожуры персика; возможно, на персиковой кожуре было что-то, оцарапавшее нежную ткань горла. Приглашенный доктор сказал: «Горло курильщика» – и прописал лекарство для полоскания.
Казалось, дедушка как-то притих, а когда наступила осень, он время от времени упоминал, что горло не стало лучше и его нужно будет подлечить, когда семья переедет в город. К тому же порой члены семьи говорили друг другу, что у дедушки болит голова. Они приписывали это тому сидячему образу жизни, который он теперь вел, боли в бедре, испытываемой им при ходьбе, и сосредоточенности, необходимой ему при написании книги.
Вскоре отец по какой-то причине перестал ездить в город на работу и стал постоянно присутствовать в кабинете деда. Я не совсем понимала причину этих перемен, но слышала, что пожилому автору с больным бедром трудно передвигаться в поисках нужных документов, карт и книг, а диктовка утомляла его горло и голос.
Глава 2
Болезнь и смерть дедушки
В том году мы переехали в нью-йоркский дом дедушки ранней осенью. Дедушка, похоже, чувствовал себя не очень хорошо. Следовало ли в этом винить его бедро, горло или головные боли, не знаю.
Не помню, чтобы в ту зиму устраивались вечера. Рано поутру дедушка обычно отправлялся в деловой центр города на лечение горла, затем возвращался и приступал к работе над книгой – то диктовал, то писал. Многие великие люди подолгу проводили в верхней гостиной.
Постоянным гостем был генерал Шерман. Он много говорил, был высоким и энергичным, обладал незаурядной внешностью. Часто приходил посидеть и генерал Логан Черный Джек[15]; сначала он хранил молчание, затем разражался проникновенной речью, вспоминая военные истории и какие-то случаи, когда гений моего деда проявлялся в наиболее полной мере.
С наступлением зимы в гостиной бабушки время от времени стали появляться генерал Букнер[16] и некоторые другие бывшие противники, они хотели продемонстрировать свою симпатию и побеседовать со своим победителем.
Приходило и много гражданских лиц. Самым интересным из них был сенатор Роско Конклинг[17] – высокий, импозантный, с красивыми седыми вьющимися волосами, седеющей бородой и гордо откинутой головой. Он выглядел настолько значительно, что заставлял своих собеседников испытывать благоговейный трепет. Не помню, о чем он говорил – я не очень хорошо понимала, – но, когда он говорил, все слушали и, казалось, испытывали огромный интерес.
Один из частых посетителей ужасно меня пугал. Это был Марк Твен, с лохматой гривой длинных белых волос, то лежащих волной, то небрежно свисающих на его низкий лоб, а выступающие брови почти скрывали сверкающие из-под них глубоко посаженные глаза. Пожимая руку он чуть не раздавливал мою маленькую пухлую руку и смотрел на меня с несколько причудливым выражением, возможно даже не думая обо мне в этот момент. Затем он медленно, растягивая слова, произносил какое-нибудь замечание странным скучающим, монотонным голосом. Мне почему-то пришла в голову мысль, что он сумасшедший, я никому не осмеливалась сказать об этом, но, когда он приходил, старалась держаться поближе к кому-нибудь из взрослых. Помню, как однажды летом в Маунт-Макгрегор он незамеченным подошел ко мне в саду, где я играла, и когда заговорил, я обернулась, увидела его и, не ответив, с криком бросилась домой. Впоследствии, прочитав его книги, внесшие большой вклад в американскую литературу, я часто сожалела о том, что вела себя так глупо.
В эти дни в дом моих родителей приходили и другие люди. Помню, деду доставляло огромное удовольствие, когда приходил или присылал какие-то сообщения человек по имени Джефферсон Дэвис.[18]
Зима медленно тянулась, и деду становилось все хуже. Он постоянно оставался в своей комнате. Время от времени мне позволяли зайти к нему, строго-настрого запретив шуметь и даже разговаривать. Он постоянно работал, отказываясь сделать передышку, как его об этом ни умоляли. В то же время все говорили о замечательной работе, которую он делал, и о главах, которых накапливалось все больше и больше.
Когда стали обсуждать планы на лето, кто-то предложил Маунт-Макгрегор у подножия Адирондака – доступное, сухое, прохладное, способное придать силы место, все что только можно желать: маленький отель, где можно было поесть, к нему был пристроен крошечный, но вполне достаточный по размеру, чтобы вместить семью, коттедж; дубовые и сосновые леса; величественный вид на простирающуюся вдали долину. Вопрос был решен. Хотя все боялись перевозить инвалида, но путешествие прошло благополучно.
Какое-то время перемены и воздух оказывали благотворное воздействие, хотя он, конечно, как прежде, испытывал боль и ему было трудно глотать. Через день-два стали прибывать силы, и дедушка стал выходить, носить свою одежду, процесс одевания и раздевания уже не так, как прежде, утомлял его; он снова стал играть большую роль в жизни семьи, организованной таким образом, чтобы он мог иметь общение в достаточной мере.
Вскоре – это произошло день, два или три спустя – мама вышла на балкон и позвала нас, детей. «Быстро, папа хочет, чтобы вы пришли повидать своего дорогого дедушку», – сказала она.
Мы прибежали к ней, и она отвела нас в комнату, где, откинувшись в кресле, сидел дедушка. Бабушка расположилась рядом с ним и тихо плакала. Она держала в руках носовой платок и маленькую бутылочку, наверное с одеколоном, и смачивала дедушке лоб. Мне показалось, что волосы у него длиннее, чем обычно, и сильнее вьются, глаза были закрыты, а лицо выглядело немного исказившимся и бледнее, чем всегда. Капли пота выступили на широком лбу, а когда я подошла поближе, старый Харрисон[19] осторожно вытер такие же капли с тыльной стороны руки, неподвижно лежавшей на подлокотнике кресла. Отец сидел с противоположной стороны от бабушки, а доктор и сиделка стояли за спиной у инвалида. Старик Харрисон стоял на коленях рядом с моим отцом, но встал, и я заняла его место. Мама подошла ко мне сзади и сказала: «Поцелуй дедушку», но я не могла дотянуться до его щеки. Я снова обратила внимание на то, как прекрасна его рука. Я взглянула на отца, и тот, кивнув, поддержал меня. Минуту-другую я стояла рядом с ним, затем мама прошептала: «Теперь мы должны уйти». Ощущая комок в горле, я наклонилась и поцеловала прекрасную руку, и меня вывели из комнаты.
Когда няня Луиза разбудила нас на следующий день рано утром, она сказала, что ночь была тяжелой для генерала, и вся семья провела ее рядом с ним.
Когда мы открыли дверь детской и вышли в холл, Харрисон бежал по нему от комнаты моих родителей, дверь которой оставил широко распахнутой, к комнате бабушки. И принялся стучать в нее. Мы подошли к лестнице, и я увидела, что отец надевает френч, – похоже, он спал в брюках и рубашке, готовый выйти в случае необходимости. Он выскочил из спальни и бросился к лестнице, совершенно нас не замечая, я представить себе не могла, что он может так быстро взбежать по лестнице. Мама, одеваясь на ходу, тоже поспешила мимо. А из бабушкиной комнаты раздалось рыдание и возглас: «Я иду», прозвучавший в ответ на стук Харрисона.
Детей отвели в отель. Меня посадили на стул и, как всегда, велели съесть все, что лежало передо мной, но я не могла. Завтрак тянулся ужасно медленно; вдруг кто-то из прислуги сказал: «Там в коттедже все закончено»; а когда Луиза возразила, слуга добавил: «Да, да, только что принесли телеграмму, чтобы отправить ее из конторы отеля, и посыльный сказал, что генерал Грант только что умер».
Пожалуй, тогда впервые в жизни я по-настоящему испытала горе. Порой я ощущала его страдания и терпение, так что восхищение и жалость смешивались с другими чувствами, и, наконец, они всецело овладели мной, и я расплакалась. Буря миновала, я вытерла глаза и подумала, не могу ли я чем-нибудь помочь отцу, который находился в коттедже, «заботясь обо всем», как мне сказали.
Мне казалось, что я не смогу принести никакой пользы, затем я вспомнила, что для умерших делают венки. Может, и мне сделать венок? Мне пришло в голову, что самый красивый венок, какой мне когда-либо удавалось сделать, был плоский венок из дубовых листьев. Я нарвала листьев с маленьких побегов высоких деревьев и принялась за дело. Работа продвигалась быстро, и примерно через полчаса венок из широких сверкающих листьев был сплетен и выглядел очень красиво, лежа на плоском камне.
Оставалось только отнести его к дедушке. Я побежала домой и приблизилась к нему с задней стороны, чтобы не идти через сад и не встретить там няню, поднялась на балкон и заглянула в окно комнаты смерти. Отца там не было, но в центре комнаты стоял гроб, вещь, доселе невиданная мною; а вокруг ходили двое незнакомых мне мужчин и расставляли стулья. Старший из них тотчас же увидел меня, подошел к двери и спросил, что я хочу.
«Я принесла дедушке венок; я думала, папа здесь», – ответила я. Немного поколебавшись, он произнес: «Конечно, мисс. Ваш папа ушел ненадолго вздремнуть, и я на вашем месте не стал бы его беспокоить. Может, вы отдадите венок мне, чтобы я положил его генералу. Это очень хороший венок; и, думаю, не будет вреда, если вы зайдете и поможете мне сами».
Я зашла вместе с гробовщиком, и он аккуратно положил венок на гроб. Затем он позволил мне постоять рядом, всматриваясь в знакомое лицо под стеклом, в то время как он продолжал делать свое дело, приводя все в порядок. У меня разрывалось сердце при виде дедушки, такого неподвижного и мертвого.
Позже с каждым поездом нам привозили множество цветов, и флористы приносили особые большие цветочные композиции, украсившие дом и наполнившие его своим ароматом, но я очень гордилась тем, что мой венок оставался единственным, лежавшим на гробе. Со временем он стал увядать, и листья немного загнулись, но отец заверил меня: «Ничего, малышка, венок покроют лаком, и он сохранится, а потом его похоронят вместе с дедушкой. Уверен, что он захотел бы взять его с собой навсегда».
Невозможно подробно описать, как проходила жизнь нашей семьи с 23 июля по 8 августа. Помню огромные толпы мужчин с непокрытыми головами и женщин, облаченных в черное. Складывались в груды цветы, а также выгравированные и заключенные в рамку послания с выражением соболезнования. Корзинами приносили письма. И в то же время не было никакой неразберихи или пустой болтовни. Благодаря организаторским способностям моего отца, его терпению и самоконтролю наилучший результат всегда был обеспечен.
Отец отправился в Нью-Йорк сопровождать гроб с телом деда на специальном поезде, задрапированном черным. К нам приехал дядя Улисс, чтобы позаботиться о семье и отвезти нас в Нью-Йорк. Приехав в город, мы поселились в старом отеле на Пятой авеню. У нас под окнами по улице бродили огромные толпы народа, и мне нравилось наблюдать за людьми. Принесли черную одежду, и каждый член нашей семьи купил все необходимое для траура, в том числе креповые повязки. Флаги повсюду были приспущены, и бесконечная процессия проходила через двери нью-йоркской ратуши, чтобы отдать долг моему деду. На несколько дней его тело было выставлено для прощания, и люди торжественно проходили мимо: мужчины, женщины и дети, медленно передвигаясь на усталых ногах, напряженно всматривались последний раз в черты знакомого лица.
Наступило 8 августа, рано утром наша семья заняла свое место в погребальном кортеже, готовом выстроиться в линию и двинуться, как только проедет огромный катафалк. Даже мой детский ум преисполнился благоговением перед размахом огромной демонстрации. С Двадцать третьей по Сто шестнадцатую улицы на пять миль протянулась вереница сочувствующих людей, они толпились на тротуарах и изгородях, стояли у окон и в дверях; и все лица выражали печаль, некоторые даже плакали. Я почти ничего не помню об этих часах, проведенных в погребальном экипаже, – только эту толпу. Вместе с родителями и моей тетушкой Нелли мы оказались запертыми в жаркой полутьме. Несколько сандвичей, длительное молчание, время от времени прерываемое заданным вопросом и ответом на него; порой я ощущала свое усталое тело и влажные глаза, но очень хорошо помню бледное застывшее лицо отца и его хриплый голос.
Наконец мы прибыли в Риверсайд[20] – полуденное солнце ярко сияло, освещая временное маленькое кирпичное надгробие. Службы, простые и прекрасные, были проведены быстро и гладко и закончились сигналом горна. Затем мы вернулись назад в отель, испытывая чувство невыразимой усталости и потери.
С этого времени до весны 1889 года мы жили с моей бабушкой Грант. Отец приступил к работе над книгой, которую дедушка оставил в рукописи своим наследникам, ее нужно было перечитать, исправить корректуру, предстояла и бесконечная детальная работа по тщательной подготовке карт и иллюстраций.
Маленький кабинет на втором этаже вновь превратили в бабушкин будуар, и она вскоре переехала в комнату, недавно бывшую спальней дедушки. Простую скромную мебель перенесли на третий этаж, и там, в комнате, расположенной как раз над бывшим кабинетом, отец приступил к осуществлению ежедневной работы – встречался с издателями, обсуждал условия договора, воплощал в жизнь инструкции покойного автора. Когда первое издание мемуаров было распродано и получили деньги, он взял на себя вдобавок все бабушкины дела.
Мы испытали чувство глубокого удовлетворения, когда два тома, написанные в страданиях и с таким мужеством в борьбе со смертью, были высоко оценены общественностью и достигли той цели, ради которой создавались.
Первый чек, присланный издателями, своим размером побил все рекорды. Он превышал 300 тысяч долларов!
Глава 3
В Вене и мой дебют при дворе
Весной 1889 года, когда мне было почти тринадцать лет и я была тихой высокой девочкой с длинными густыми волосами без каких-либо отличительных черт, мама как-то вечером позвала нас к себе в комнату и объявила, что у нее для нас большой сюрприз: мы все поедем надолго в Вену! Президент Гаррисон назначил моего отца чрезвычайным и полномочным послом в Австрию, и мы должны подготовиться к скорому отъезду. Меня охватило огромное волнение. Я снова и снова писала название новой должности отца до тех пор, пока не выучила, как правильно ее писать и произносить. Прежде я располагала лишь ограниченной и туманной информацией об Австрии, но я стала расспрашивать и узнала, что Вена считается одной из самых блистательных столиц Европы, что там жило множество великих династий, прославившихся в веках, включавших и баронов-разбойников, и императоров Священной Римской империи. А также она славилась искусством, музыкой, превосходными нарядами, придворными приемами, прекрасными кожаными товарами, сокровищницами и дворцами.
Мы должны были прибыть в Саутгемптон, провести некоторое время в Лондоне, а затем отправиться в Вену через Францию или Германию, в точности родители должны были решить в последний момент. В любом случае нам предстояло совершить настоящее путешествие, и я пребывала в приподнятом настроении в предвкушении этого приключения.
Мы выехали в начале марта. Бабушка с компаньонкой решила поехать с нами и провести лето за границей, так что наша компания состояла из шести человек.
Наконец с помощью книг долгая и довольно унылая поездка, продолжавшаяся около десяти дней, подошла к концу. Поездом, согласованным с пароходным расписанием, мы добрались до Лондона, огромного караван-сарая, где нетрудно потеряться. Плохая еда, комнаты, которые сами забыли, когда были чистыми, изморось, слякоть, темнота – все это вносило свою долю уныния, когда мы знакомились с достопримечательностями.
Родителей пригласили на прием, и они отправились туда, причем оба выглядели превосходно. Мне позволили помочь маме одеваться. Она, казалось, излучала свет в своей оранжевой парче, расшитой серебряными бусинами.
В тот день королева Виктория устраивала прием при дворе и была столь любезна, что припомнила, как мой отец несколько лет назад посетил ее в Виндзорском замке. По словам мамы, принц Уэльский Альберт-Эдуард казался безумно скучным, а принцесса – улыбчивой и очень милой. Многие выдающиеся люди, государственные деятели различных стран хотели пообщаться с моим отцом и обсудить интересы Америки и текущие события европейской политики, поэтому родители встретили необычайно любезный прием в официальных кругах.
После недолгого пребывания в Англии мы отправились в Вену через Бельгию и Германию. Отец стремился поскорее занять свой пост и приступить к исполнению обязанностей, чувство долга не позволило ему допускать дальнейших остановок в пути. Он сожалел, что ему пришлось разочаровать нас, но пообещал, что когда-нибудь привезет нас туда снова, чтобы осмотреть эти земли, которые мы так быстро проскочили.
В Вене нас ожидал экипаж дипломатической миссии и лакей, и мы с первого взгляда влюбились в этот город. От поезда до нашего отеля в центре Старого города пролегал долгий путь. В первом квартале, который мы миновали, были широкие открытые улицы. Затем мы добрались до Ринга с его роскошными общественными зданиями и парками, покрывавшими то место, где когда-то стояли укрепленные стены старой Вены. Внезапно мы резко повернули направо и оказались на крошечной улице, такой узкой, что, казалось, можно было обменяться рукопожатиями, стоя на противоположных сторонах. А какие тротуары! Они могли вместить только двоих человек, а третьему пришлось бы идти по дороге.
Неожиданно мы остановились. Наш лакей, по имени Франц, сразу же объявил, что давно уже работает в дипломатической миссии и говорит по-английски свободно, он спустился и открыл дверцу. Мы высадились перед не обещающим ничего хорошего зданием и зашли в него. Франц объяснил, что есть еще другой отель, более новый, но не такой элегантный, он не подходит для того, чтобы там «жили превосходительства».
Лифта не было, вверх вела широкая лестница, огороженная стеной с обеих сторон, белая с толстым красным ковром. Один марш вверх – и открылась темная лестничная площадка, тяжелые красные бархатные портьеры и окрашенная в белый цвет деревянная дверь. Она широко распахнулась, и мы оказались на пороге апартаментов королей, принцев и превосходительств!
Две огромные комнаты, одна отделана коричневой и голубой парчой с крупным узором, другая – красным камчатным полотном; повсюду множество золота: на рамках, зеркалах, резных спинках стульев; огромные люстры из позолоченной бронзы или богемского стекла; канделябры, часы и вазы, искусно сделанные из металла, стояли на высоких каминах. Даже если бы сто человек зашли в одну из комнат, она не выглядела бы переполненной. Возможно, короли, принцы и превосходительства воспринимали подобное жилье вполне привычно, но простой американской девочке оно казалось огромным дворцом. Наши спальни были соответствующих размеров, но ванн не было, не было даже туалетных комнат. Отец осведомился о цене, и ему назвали цифру, доказывающую, что такое жилое пространство в Вене было неходовым товаром. Так что мы сняли эти комнаты.
Первый месяц мы провели в причудливом отеле «Мунш». Там было удобно, и нам все больше и больше нравился вид на площадь и роскошь обедов, подаваемых в огромном салоне. Мы даже привыкли к отсутствию ванн, и вид лохани в комнате стал казаться вполне приемлемым.
Двор был в глубоком трауре по кронпринцу Рудольфу, умершему всего за несколько недель до нашего приезда. Поэтому мои родители почти не вели светской жизни в начале нашего пребывания в Австрии. Отец сразу принялся за дипломатическую работу и так управлялся с ней, что клерки и секретари изумлялись, как много успевали сделать под его руководством. Нам подыскали квартиру в том же здании, где находились дипломатические службы, куда мы и переехали в начале осени.
Отец вернулся домой чрезвычайно довольный монархом, когда во время первого приема вручил свои верительные грамоты. Его величество проявил безграничную сердечность: он сказал, что чрезвычайно рад тому, что мой отец представляет Соединенные Штаты в Австрии, припомнил, как принимал моего деда в Шёнбрунне[21] много лет назад, когда тот во время своего кругосветного путешествия ненадолго остановился в Вене. Император расспрашивал отца о последних годах президента Гранта, спрашивал о бабушке, которую тоже помнил. Он расточал улыбки и дружелюбие, проявлял огромное обаяние – пример того, как человек в его положении должен себя вести, чтобы завоевать сердца тех, кто приближается к нему. Он не говорил по-английски, а мой отец – по-французски, но каждый из них имел некоторое представление о языке другого, так что они вполне обходились без активного участия присутствовавшего здесь переводчика.
Мы, дети, быстро привыкли к австрийским обычаям, летом с нами занималась австриячка фрау Митци, а осенью мой брат поступил в Терезианум – замечательную школу, основанную Марией-Терезией для аристократии.
В дипломатической миссии все шло гладко. Отцу нравился штат, особенно морской и военный атташе (последний был его старым товарищем по Уэст-Пойнту), у них обоих были очаровательные жены, так что его официальная семья представляла собой веселую и счастливую группу.
В нашем доме постоянно бывало много привлекательных людей, и к тому времени, когда я достаточно повзрослела, чтобы быть представленной ко двору, у меня появилось довольно много благожелательных друзей среди коллег моего отца и среди jeunesse doree[22], входившей в секретариат посольств. Было у меня и немало подруг среди молодых девушек-австриячек.
К этому времени мы с родителями чувствовали себя в прекрасной австрийской столице как дома. Я научилась говорить по-немецки почти как на родном языке.
Только мне исполнилось шестнадцать лет, как в ноябре 1892 года президентом был избран Кливленд. Вскоре после этого он оказал моему отцу честь, прислав очаровательное личное письмо, в котором сообщал молодому американскому посланнику о том, с каким удовольствием он узнал о его превосходной работе в течение четырех прошедших лет. Он писал, что будет рад, если мой отец останется на своем посту при его демократическом правительстве. Отец был чрезвычайно польщен и тотчас же написал ответ, где выражал свою признательность, но отклонил предложенную ему честь остаться на посту посланника в Вене. Ему казалось, что эту должность следует занять представителю президентской партии. Тем не менее он заверил мистера Кливленда, что с радостью останется на посту до тех пор, пока тот не подберет ему преемника.
Это означало, что мы останемся в Вене до конца весны, и родители решили, что мне следует выходить в свет или по крайней мере принять участие в большом придворном балу.
Мой предстоящий дебют вызвал у меня огромное волнение. Это означало, что те огромные перемены, которые обычно происходят в жизни девушки постепенно, я должна была преодолеть одним махом. До нового 1893 года я продолжала посещать уроки, носила короткие юбочки и заплетала волосы в косички, а затем, как по мановению волшебной палочки, я выросла, мои волосы были теперь зачесаны наверх, а платье касалось пола.
Три платья, сделанные для меня самим великим Дреколлом[23], были закончены и сидели на мне очень красиво. У моей мамы был превосходный вкус, и я очень радовалась.
Нарядившись для большого бала, я пошла показаться родителям, и мама, в последний раз внимательно осмотрев меня, подправила тут и там прядь волос и добавила кое-где булавку к платью. Затем она надела мне на шею прекрасное старинное ожерелье из мексиканской филиграни.
Мое представление при австрийском дворе произошло в красивом зале в более современной части дворца; его убранство, состоящее из белых с золотом деревянных панелей и блестящей парчи, принадлежало к стилю ампир или какому-то более позднему стилю. Мой отец и его секретари выделялись из толпы своей простой вечерней одеждой, в то время как большинство мужчин соперничали с женщинами великолепным золотым и серебряным кружевом и многоцветными одеяниями – красными, синими, зелеными и белыми.
Вскоре после нашего прихода мне представили несколько мужчин, каждый из них произнес подобающий случаю незначительный банальный комплимент. Те, кто помоложе, просили меня не забыть о них позже в бальном зале.
Вдруг все замолчали, были слышны только три удара в пол, оповещающие о торжественном выходе императора и его свиты. Затем мы повернулись к двери, где стоял император, кивая головой и приветливо улыбаясь и держа под руку герцогиню Камберленд. Мы все присели в реверансе, и длинная процессия вошла в комнату.
Император начал со старшего посла и пошел довольно быстро вдоль ряда, при этом не проявляя признаков скуки или спешки. Он оставлял всех мужчин и женщин с убеждением, будто ему, императору, было очень приятно обменяться этими несколькими фразами со своими гостями. Он приблизился к моим родителям и с теплым рукопожатием произнес по-французски: «Как поживаете, полковник Грант? Добрый вечер, мадам. Слышал, что ваша девочка сегодня здесь и что она очень мила. Я непременно должен с ней познакомиться».
Родители тотчас же немного раздвинулись, я вышла вперед и сделала глубокий реверанс, его величество сердечно протянул мне руку и на мгновение крепко сжал мою. Он бросил на меня быстрый проницательный взгляд и снова заговорил по-французски: «Рад, что вы пришли ко мне на бал, мадемуазель. Надеюсь, вам здесь понравится и вы хорошо повеселитесь. Несомненно, так и будет, если вы говорите по-немецки; наши люди любят тех, кто говорит на их языке, и чувствуют себя с ними непринужденно. Вы провели здесь несколько лет со своим отцом, научились ли вы говорить?» Я ответила по-немецки: «Ja, Majestat![24] Я говорю по-немецки даже лучше, чем по-английски, и чувствую себя в Вене как дома».
Император запрокинул голову и искренне рассмеялся: «Но вы говорите на венском наречии, это так очаровательно! Где вы выучили наш местный говор?» Я ответила, что научилась ему потому, что считаю его намного красивее, чем северогерманское наречие. Эти слова, похоже, очень обрадовали и позабавили его величество, он задал мне еще несколько вопросов и, наконец, произнес: «Уверен, что вы будете иметь большой успех, а я с удовольствием за этим понаблюдаю!»
Наконец мы прошли по сводчатому проходу и очутились в огромном бальном зале Габсбургов, где уже много веков они устраивали свои приемы. Император повернулся и поклонился герцогине Камберленд, и заиграл оркестр – подобную музыку нечасто можно было услышать – вальсы Штрауса в исполнении оркестра, не имеющего себе равных в Европе, ибо по приказу императора им дирижировал сам Штраус, и исполнялась его собственная музыка.
Затем наступило время ужина, и к нам присоединилось большое количество мужчин. Я очень хорошо провела время; как только музыка заиграла, мы снова устремились вальсировать и танцевали до тех пор, пока по какому-то сигналу вечер не окончился, королевские особы поклонились и удалились, а все прочие устремились по направлению к разным дверям.
Наступил день отъезда, и мы отправились на вокзал в старом экипаже в сопровождении все того же Франца, встретившего нас когда-то ранним утром более четырех лет назад. Франц был в слезах, и я была близка к тому, чтобы разрыдаться. Родителям тоже было грустно покидать этот приятный пост. Нам принесли множество цветов и сладостей; многие австрийские друзья и почти все сослуживцы отца пришли нас проводить. Царило огромное волнение. Когда мы отъезжали от станции, нас провожали взмахами шляп и пожеланиями счастливого пути.
Глава 4
Возвращение домой
Мы долго ехали до Саутгемптона, а там сели на корабль и отправились домой. Мы увозили с собой в Америку много приятных воспоминаний. Родители часто брали нас, детей, в поездки по Западной Европе. Отец лично планировал каждую поездку с тем, чтобы мы могли извлечь как можно больше полезного для своего образования из наших путешествий.
Высадившись на берег в Нью-Йорке, мы сразу же отправились в «Кранстон-отель» на Гудзоне, где остановилась бабушка. Она чувствовала себя хорошо и, казалось, была рада видеть нас и тому, что наше длительное пребывание за границей закончилось. Родители придумали восхитительный план, к осуществлению которого намеревались приступить немедленно. Мы собирались поехать в Чикаго и нанести продолжительный визит семье моей матери. Всемирная выставка[25] была в полном разгаре, и моя красавица-тетушка миссис Палмер[26] была председательницей Отдела женского труда. В то время, когда женщины еще только начинали приступать к гражданской службе, они обрели признание в связи со Всемирной выставкой и рьяно пытались сделать все как можно лучше. Тетя согласилась на роль председательницы после некоторых колебаний. Здание Отдела женского труда выглядело наиболее художественно в Белом городе на озере[27], здесь устраивались различные празднования и большие торжества, которыми правление могло по праву гордиться.
Когда мы в конце июля приехали в Чикаго, выставка была в полном разгаре, и тетя хотя и была очень занята, но уже привыкла к своей роли и играла ее непринужденно и изящно, не проявляя никаких признаков волнения или усталости. Ей было сорок два года, и она, казалось, излучала энергию. Доброжелательная, быстрая и умелая, она умудрялась справляться со своими нелегкими обязанностями спокойно, с приятной улыбкой, и это очаровывало ее помощниц и удваивало их старания и энтузиазм. Ей помогало немало выдающихся женщин, их было слишком много, чтобы я могла назвать всех по имени, они достойно представляли Чикаго и многие другие города Америки. Там были и женщины, приехавшие из-за границы, они привезли экспонаты из своих далеких стран. Такое движение женщин было совершенно новым явлением, и все наблюдали за ним с интересом.
Это лето оставило после себя только приятные воспоминания и о родственниках, и о волнующих событиях Всемирной выставки. Когда она закончилась, мы с сожалением покинули Чикаго, и я обнаружила, что жизнь дома была даже лучше, чем в Вене!
В начале октября мы поехали в Нью-Йорк. Мама сказала, что мы теперь очень бедны, и будет довольно тяжело после того комфорта, который окружал нас в Вене, обосноваться на родине и жить здесь чрезвычайно скромно.
Мы нашли маленький новый трехэтажный домик на Западной Семьдесят третьей улице, и родители сняли его на зиму; и, хотя он был крошечным, нам каким-то образом удалось втиснуть туда мебель, которую мы привезли из Вены.
Наша бедность не имела для меня большого значения, просто мы не могли устраивать званых вечеров, а вместо экипажей дипломатической миссии пришлось пользоваться трамваями. Но другие устраивали так много развлечений, что было бы трудно вместить нечто большее в сезон.
Отец много писал, он готовил новое популярное издание дедушкиной книги со своими примечаниями и с большим количеством карт и иллюстраций, чем было в первом издании. Книга вскоре поступила в широкую продажу.
Мой брат полюбил американский образ жизни и с жаром погрузился в школьную жизнь в Катлерсе. Он хорошо учился и становился высоким сильным парнем. Закончив Катлерс в шестнадцать лет, мальчик прозанимался год в Колумбийском колледже, а затем поступил в Уэст-Пойнт.
Месяцы пролетали, и мой отец все глубже погружался в политическую ситуацию как в Нью-Йорке, так и в стране. Он общался со многими выдающимися людьми: вскоре умерший ветеран Роско Конклинг; сенатор Рут[28], чьи таланты и личные качества поставили его в первые ряды великих людей; Джозеф Чоут[29]; сенатор Уильям Эвартс[30]; генерал Шерман и генерал Портер; экс-президент Гаррисон; президент Макинли и руководители политических организаций сенатор Платт[31] и Марк Ханна[32] прошли через наш салон, запросто обедали с нами или приходили поговорить с отцом об интересах страны, штата или города, о целях и работе республиканской партии.
Деятельность отца принимала все более и более серьезный характер, и ему приходилось оставаться в городе даже летом. Мама не покидала его, старалась, чтобы в доме было всегда удобно и уютно даже в жаркую погоду. Я посещала друзей за городом, по их приглашению, где проводила вместе с другими гостями по нескольку дней. Мои тетя и дядя Палмеры два лета снимали коттедж в Бар-Харбор и брали меня с собой. После этих сезонов те же родственники пригласили меня в Ньюпорт, тогда я впервые появилась на этом модном курорте, где у меня уже было немало друзей среди нью-йоркских весельчаков. Обычаи в Ньюпорте были тогда проще, чем теперь, а мы представляли собой толпу беззаботной молодежи. Мы скакали на лошадях, ездили на пикники, отправлялись на ловлю крабов, танцевали и вместе обедали – в общем, поступали так, как душе заблагорассудится.
Только один год был омрачен Испано-американской войной. Уже весной в предчувствии войны отец поступил добровольцем на военную службу. Первоначально он не знал, в каких войсках будет служить. За несколько недель ожидания он подготовил форму и снаряжение. Наш дом заполнился различными принадлежностями: седлами и упряжью, форменной одеждой, оружием и прочим. Постоянно приходили и уходили группы каких-то мужчин, которые хотели, чтобы отец присоединился к той или иной группе волонтеров, отправлявшихся на фронт. Он отказался от всех этих предложений, хотя и помог многим в организации, используя свой старый армейский опыт.
Наконец поступило приглашение, которое привлекло его. Достаточно известный пехотный полк национальной гвардии, довольно бедный и скромный в своих притязаниях, прислал к нему свою делегацию. Его члены предлагали свое подразделение правительству для службы на месте боевых действий. На собрании, состоявшемся накануне, они выбрали отца своим командиром и теперь спрашивали, согласится ли он принять этот пост. Он сразу же согласился, и несколько дней мы жили в огромном волнении, ибо, как только они поступили добровольцами на службу, правительство отдало им приказ расположиться лагерем на Лонг-Айленде для того, чтобы в скором времени отправить их на фронт.
Две недели отец провел с этими людьми, затем военный департамент отозвал его и направил в учебный лагерь на юг, где, невзирая на испепеляющую летнюю жару, он сражался с малярией и дизентерией и обучал молодых неопытных рекрутов. Он перенес короткий острый приступ распространенного здесь заболевания, но продолжал выполнять свои обязанности до тех пор, пока не ослабел и пока доктора не сказали, что он почти умирает. Прислали телеграмму матери. После недели хорошего ухода его великолепное физическое состояние откликнулось на ее заботу, и он снова вернулся в лагерь. Наконец в конце лета пришел долгожданный приказ, посылающий его на фронт. Ему присвоили звание бригадного генерала, перевели в том же звании в регулярную армию и назначили комендантом острова Пуэрто-Рико.
Время между июлем 1893 года и сентябрем 1898-го прошло чрезвычайно быстро, мое детство было беззаботным. Я была единственной девочкой в нашей семье, и меня очень баловали. Мой дядя и милая тетушка тоже радовали меня как могли и предоставили мне многое из того, что оказывалось не по средствам нашей семье. Моя стройная и изящная тетя, чьи волосы стали серебристо-белыми, сохранила свежесть и казалась еще более красивой, чем всегда. У нее не было своих дочерей, и она дарила мне привязанность, которая предназначалась бы дочери.
Когда бы ни вставал вопрос о моем замужестве, я всегда находила в ней истинного друга, совету которого было легко следовать, так как он совпадал с моими собственными представлениями о том, что правильно. Я благодарна своим родным за то, что, несмотря на наши ограниченные средства, на меня никто не нажимал и не подталкивал сделать «блестящую партию».
Глава 5
Месяцы путешествия
Ранней осенью 1898 года мама должна была присоединиться к отцу в Пуэрто-Рико, где он занимал пост военного коменданта. Ей не хотелось брать меня с собой из-за климата и из опасения проявлений жестокости со стороны жителей недавно завоеванной страны. Дядюшка Палмер плохо провел лето в Ньюпорте, и ему посоветовали на время холодов отправиться на Нил. Тетя брала с собой также и двоих своих сыновей в годичное путешествие, прежде чем они приобщатся к какому-то делу. Семья Палмер предложила взять и меня с собой за границу. Я пришла в восторг, когда мама от моего имени приняла это предложение.
Лондон показался мне удобным и приятным. Мы сделали там кое-какие покупки, в основном для мужчин, и переехали в Париж, где остановились очень ненадолго, – так жаждали добраться поскорее до южного солнца, которое должно было помочь моему дяде. В Риме мы задержались подольше. Нашему инвалиду настолько понравился Рим, что мы с тетей оставались там с ним до того самого дня, когда наш пароход отплывал из Неаполя.
В Каире мы как следует развлеклись: посетили пирамиды при лунном свете и предприняли много других разнообразных изумительных экскурсий, побывали в прелестных деревушках и на базарах, увидели внушительные руины, но особый интерес у нас вызывали величавые и грациозные местные жители. Наша компания проявляла редкое единодушие, путешествие доставляло всем нам наслаждение, за исключением моего бедного дядюшки, которому становилось все хуже и хуже.
Наконец по возвращении в Каир после классического путешествия в первый Катаракт и обратно мы с грустью вынуждены были отказаться от остальной части предполагаемого путешествия и поспешили в Рим, где дядя чувствовал себя лучше и где ему понравились врачи. Мы приехали туда как раз вовремя, ибо тотчас же по прибытии наш инвалид слег в постель, и пришлось призвать ему на помощь немало различных медицинских светил. Тетя почти все время проводила с ним.
Веселый римский карнавальный сезон был в полном разгаре, и по прошествии небольшого периода времени нас разыскали старые друзья моих родителей и тети.
Я подружилась с некоторыми молодыми людьми, среди них были почти все представители той золотой молодежи, которых я видела обедающими в «Гранд-отеле» в декабре. Ланчи, обеды, вечеринки и балы следовали один за другим. Мы даже были приглашены на небольшой дневной прием и чай королевой-матерью, красивой, изящной женщиной с восхитительными манерами, она уже знала мою тетю и родителей. Мы также посетили придворный бал, хорошо организованный и чрезвычайно приятный, хотя и лишенный причудливых исторических и колоритных качеств придворных приемов Габсбургов.
Среди дипломатов, с которыми я познакомилась, было три или четыре особенно любезных молодых человека, сопровождавших нас на пикники и считавших своей обязанностью устраивать для нас осмотры достопримечательностей, посещая вместе с нами дворцы и музеи. Один из них, русский, был только временно прикомандирован к посольству. Князь Михаил Кантакузин, профессиональный военный и спортсмен, приобрел известность среди итальянской элиты сноровкой в верховой езде и умением править четверкой быстрых лошадей. Он лечился на юге от травмы, полученной им на скачках. У него было не слишком много обязанностей в посольстве, и он, казалось, был рад, несмотря на свою репутацию человека, ненавидевшего общество, посещать вместе с нами балы и участвовать в других развлечениях.
Дяде стало лучше, и мы должны были вскоре переехать в Канн, перемена климата ранней весной, по мнению врачей, должна была благотворно отразиться на его здоровье.
Несколько человек из нашей компании поговаривали о том, чтобы поехать с нами в Канн на каникулы, все они обещали написать мне поподробнее о своих планах и любезно сдержали обещания, предоставив мне возможность привести в порядок дела, чтобы не было никаких недоразумений. Все, за исключением одного, сделали это, но не прошло еще и недели после нашего приезда на Ривьеру, как, войдя в холл нашего отеля, держа в руках целую охапку свертков и открытую коробку конфет, я вдруг увидела сидящего в кресле и читающего Кантакузина. Он опустил книгу и подошел ко мне. Я только что получила от него письмо, где он сообщал, что уезжает из Рима в Париж, отказавшись от прежнего намерения заехать на Ривьеру. Его внезапное появление так изумило меня, что руки мои опустились, конфеты и свертки рассыпались по всему полу. Когда моя тетя и кузены присоединились к нам, Кантакузин все еще собирал эти злосчастные вещицы. Все члены семьи были очень рады видеть его, поскольку он был чрезвычайно приятным молодым человеком. Он уверенно объяснил, что уже собирался выехать в Париж, как вдруг получил телеграмму от великого князя Кирилла[33] с приглашением на несколько дней в Канн, сегодняшний же вечер он проводит со своим старым товарищем. Мы тоже обедали в гостях, так что назначили встречу на следующий день.
За обедом я по счастливой случайности оказалась рядом с самим великим князем, и в ходе разговора я заметила, как мило с его стороны, что он пригласил Кантакузина на Ривьеру.
– Но я не приглашал его, – возразил великий князь Кирилл. – Я, безусловно, обрадовался, когда он явился ко мне сегодня вечером, но и удивился. Всю зиму он проторчал в Риме, не знаю почему, а теперь, когда я отказался от мысли увидеть его, он вдруг явился. Мне пришлось его отослать, так как я был уже приглашен на сегодня. Он кажется мне необычайно непостоянным!
Рассказ великого князя Кирилла явно не совпадал с версией Кантакузина, какая-то тайна окружала действия последнего. Я получила пищу для дальнейших размышлений и погрузилась в них, а через день или два старый приятель моего кузена по колледжу вдруг заявил, что я совершу большую ошибку, если свяжу свою жизнь с иностранцем, каким бы хорошим он ни был.
– Место Грантов в Америке, и я готов серьезно поспорить с вами по этому поводу. – Произнося эти слова, он бросил взгляд через стол, туда, где сидел русский.
– Полагаю, вам известно, что ни один иностранец не хочет жениться на мне. Все девушки, которые выходят замуж за англичан, французов или итальянцев, имеют приданое. Я слишком бедна, чтобы подвергаться такой опасности. Помимо того, меня не слишком привлекает жизнь за границей, разве что ненадолго, как, например, во время этого путешествия. С уверенностью могу обещать вам сохранить свободу для американца, который мне может когда-нибудь понравиться.
