Жангада бесплатное чтение
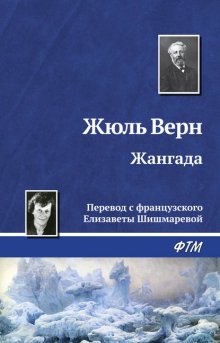
Карты
Часть первая
1. Лесной стражник
СГУЧПВЭЛЛЗИРТЕПНДНФГИНБОРГЙУГЛЧД
КОТХЖГУУМЗДХРЪСГСЮДТПЪАРВЙГГИЩВЧ
ЭЕЦСТУЖВСЕВХАХЯФБЬБЕТФЗСЭФТХЖЗБЗ
ЪГФБЩИХХРИПЖТЗВТЖЙТГОЙБНТФФЕОИХТ
ТЕГИИОКЗПТФЛЕУГСФИПТЬМОФОКСХМГБТ
ЖФЫГУЧОЮНФНШЗГЭЛЛШРУДЕНКОЛГГНСБК
ССЕУПНФЦЕЕЕГГСЖНОЕЫИОНРСИТКЦЬЕДБ
УБТЕТЛОТБФЦСБЮЙПМПЗТЖПТУФКДГ
Человек, державший в руке документ, последние строчки которого представляли собой этот нелепый набор букв, внимательно перечитал его и глубоко задумался.
В документе было около сотни таких строк, даже не разделенных на слова. Как видно, он был написан много лет назад, ибо плотный лист бумаги, усеянный этими непонятными письменами, уже пожелтел от времени.
Однако на основе какого принципа были расставлены буквы? Ответить на такой вопрос мог только этот человек. Мы знаем, что существуют тексты, зашифрованные так же, как замки на современных несгораемых шкафах: они открываются одинаковым способом. Но чтобы найти к ним ключ, пришлось бы проделать миллиарды комбинаций, на что не хватило бы целой жизни отгадчика. Надо знать «слово», чтобы открыть замок с секретом, надо знать «шифр», чтобы прочесть такого рода криптограмму.[1] Вот почему, как мы увидим дальше, понять этот листок никому не удавалось, несмотря на самые хитроумные догадки, и притом при таких обстоятельствах, когда прочесть его было особенно важно.
Человек, перечитывавший документ, был простым «лесным стражников». В Бразилии лесными стражниками называют агентов полиции, разыскивающих беглых негров. Такая должность была установлена с 1722 года. В ту пору мысль о недопустимости рабства приходила в голову только редким человеколюбцам. Лишь более столетия спустя цивилизованные народы усвоили ее и стали проводить в жизнь. И хотя право быть свободным, принадлежать только себе – казалось бы, первое естественное право человека, однако прошли тысячелетия, прежде чем некоторые народы решились провозгласить эту благородную идею.
В 1852 году, когда происходило действие нашей повести, в Бразилии еще были рабы, а следовательно, и лесные стражники, которые за ними охотились. Особые экономические условия на время задержали здесь полное освобождение рабов, но негры уже имели право выкупать себя у хозяина, а дети их рождались свободными. Итак, уж недалек был день, когда в этой прекрасной стране величиной с три четверти Европы, среди десяти миллионов жителей не останется ни одного раба.
Несомненно и должности лесного стражника суждено было скоро исчезнуть, вот почему доходы, получаемые за поимку беглых негров, значительно уменьшились. И если в течение долгого времени, пока этот промысел был достаточно выгоден, в лесные стражники шли всевозможные авантюристы, главным образом из вольноотпущенников, отщепенцев, недостойных уважения, то понятно, что теперь тем более охотники на рабов принадлежали к последним отбросам общества, и, вероятно, человек, читавший документ, тоже не служил украшением малопочтенного отряда лесной полиции.
Торрес – так его звали – не был ни метисом, ни индейцем, ни негром, как большинство его сотоварищей, а белым, родившимся в Бразилии; он получил кое-какое образование, чего, впрочем, не требовала его теперешняя профессия. Однако его нельзя было считать одним из тех людей без роду и племени, каких немало встречается в далеких уголках Нового Света; если в те времена, когда бразильские законы еще запрещали занимать некоторые должности мулатам и вообще людям смешанной крови, на Торреса и мог распространиться этот запрет, то отнюдь не за происхождение, а лишь за его пороки.
Впрочем, сейчас Торрес находился не в Бразилии. Совсем недавно он перешел ее границу и вот уже несколько дней бродил по лесам Перу, раскинувшимся в верховьях Амазонки.
Торрес, человек лет тридцати, был крепко сложен, и треволнения довольно беспорядочной жизни не отразились на его внешности, ибо он обладал исключительной выносливостью и железным здоровьем.
Он был среднего роста, широкоплеч, с твердой походкой, с резкими чертами лица, сильно загоревшего под жгучим тропическим солнцем и обрамленного густой черной бородой. Его глубоко сидящие глаза под сросшимися бровями бросали быстрые и холодные взгляды, выдававшие врожденную наглость. Даже в те времена, когда жаркий климат еще не покрыл его кожу медным загаром, вы не увидели бы краски стыда у него на лице, его лишь искажала злобная гримаса.
Торрес был одет весьма неприхотливо, как все лесные бродяги. Платье его истрепалось от долгой носки; на голове криво сидела широкополая кожаная шляпа; грубые шерстяные штаны он заправлял в высокие, крепкие сапоги – самую прочную часть его туалета, а на плечах носил желтоватый вылинявший плащ «пуншо», который скрывал, во что превратилась его куртка и что стало с жилетом.
Но если прежде Торрес и состоял лесным стражником, то теперь он несомненно оставил это занятие; во всяком случае, не служил в настоящее время, на что указывало отсутствие у него средств защиты и нападения, необходимых для поимки негров: никакого огнестрельного оружия – ни ружья, ни пистолета. Только за поясом длинный нож, так называемая «маншетта», больше похожая на саблю, чем на охотничий нож. Кроме того, у Торреса была еще «эншада» – нечто вроде мотыги, обычно употребляемой для ловли броненосцев;[2] и агути[3] в лесистых верховьях Амазонки их водится множество, но почти не встречается крупных хищников.
Как бы то ни было, но в этот день – 4 мая 1852 года – наш искатель приключений был либо слишком поглощен чтением документа, который держал перед глазами, либо, привыкнув бродить по южноамериканским лесам, оставался совершенно равнодушен к их красотам. И верно, ничто не могло отвлечь Торреса от его занятия: ни громкие вопли обезьян-ревунов, которые Сент-Илер[4] удачно сравнивал с гулкими ударами топора дровосека по ветвям деревьев; ни сухое потрескиванье колец гремучей змеи, правда редко нападающей на человека, но чрезвычайно ядовитой; ни пронзительный крик рогатой жабы, по своему уродству занявшей первое место в классе земноводных; ни даже громкое басовитое кваканье древесной лягушки, которая, правда, по величине неспособна тягаться с волом, но зато может сравниться с ним силой голоса.
Торрес не слышал этого оглушительного гомона, как бы сливавшегося в единый голос лесов Нового Света. Он лежал у подножия великолепного железного дерева, но даже не любовался могучей кроной этого гиганта, покрытого темной корой и твердого, как металл, вместо которого он и служит индейцам при изготовлении оружия и орудий труда. Нет! Углубившись в свои мысли, лесной стражник рассматривал со всех сторон странный документ. С помощью известного ему тайного шифра он находил значение каждой буквы; он читал, проверяя скрытый смысл этих строк, понятных ему одному, и лицо его кривилось в злобной усмешке.
Затем он не удержался и пробормотал вполголоса несколько слов, которые, впрочем, в этом диком уголке девственного леса никто не мог подслушать, да никто не мог бы и понять.
– Да, – сказал он, – вот сотня очень четко написанных строк, и я знаю человека, для которого они имеют огромное значение! А ведь этот человек богат! И для него это вопрос жизни или смерти, а за жизнь всегда дорого платят!
Он смотрел на документ жадным взглядом:
– Если взять по конто рейс[5] за каждое слово одной последней фразы, и то уже получится кругленькая сумма! Ох и дорого же стоит эта фраза! Она подводит итог всему документу. Она называет настоящие имена настоящих участников. Но, прежде чем пытаться ее понять, надо разбить ее на слова, а впрочем, если б это и удалось, все равно никому не докопаться до смысла!
Торрес замолчал и принялся считать в уме.
– Здесь сорок четыре слова! – воскликнул он. – Это составило бы сорок четыре конто. С такими деньгами можно жить и в Бразилии, и в Америке, да где угодно – жить припеваючи и ничего не делать! А что, если б я получил такую плату за каждое слово всего документа! Ведь тогда я считал бы конто сотнями! Тысяча чертей! У меня в руках целое состояние, и я буду последним дураком, если упущу его!
Казалось, руки Торреса уже ощупывают это богатство, а пальцы сжимают груды золотых монет.
Тут мысли его вдруг приняли иное направление.
– Наконец-то я близок к цели! – вскричал он. – И ничуть не жалею о трудностях долгого пути от берегов Атлантического океана до верховьев Амазонки! Ведь этот человек мог уехать из Америки, поселиться далеко за морями, и тогда как бы я до него добрался? Но нет! Он здесь: стоит мне влезть на вершину любого из этих деревьев, и я увижу крышу дома, где он живет со всей своей семьей!
Затем, снова схватив листок и возбужденно помахивая им, он продолжал:
– Сегодня же вечером я буду у него! Сегодня же вечером он узнает, что его честь, его жизнь заключены в этих строчках! А когда он захочет получить шифр, чтобы их прочитать, – ну что ж, тогда пускай раскошеливается! Если я потребую, он отдаст за него все свое состояние, как отдал бы даже свою кровь. Эх, тысяча чертей! Мой товарищ по отряду, который доверил мне эту бесценную бумагу, объяснил ее тайну, да еще сказал, где я могу разыскать его бывшего сослуживца и под каким именем тот скрывается столько лет, этот мой почтенный сотоварищ и не подозревал, что сделает меня богачом!
Торрес в последний раз взглянул на пожелтевший листок и, бережно сложив его, спрятал в крепкую медную коробку, служившую ему также кошельком.
По правде сказать, если все состояние Торреса умещалось в этой коробочке величиной с портсигар, то нигде в мире его не сочли бы богачом. Он хранил тут разные монеты из всех граничивших с Бразилией стран: два двойных кондора из Соединенных Штатов Колумбии, каждый стоимостью примерно по сто франков; венесуэльские боливары франков на сто; перуанские соли на такую же сумму; несколько чилийских эскудос, самое большее на пятьдесят франков, и еще кое-какую мелочь. Эти деньги составляли круглым счетом не более пятисот франков, к тому же Торрес был бы в большом затруднении, если б его спросили, где и каким образом он их раздобыл.
В одном не приходилось сомневаться: несколько месяцев назад Торрес вдруг бросил свою должность лесного стражника, ушел из провинции Пара, поднялся вверх по бассейну Амазонки и, перейдя границу Бразилия, вышел на территорию Перу.
Впрочем, этому искателю приключений требовалось весьма немного денег, чтобы прожить. Какие были у него расходы? Он ничего не платил ни за квартиру, ни за одежду. Лес снабжал его пищей, а готовил он сам кое-как, без всяких затрат, подобно всем лесным бродягам. Ему хватало нескольких рейс на табак, который он покупал в миссиях или деревушках по пути, и на водку, чтобы наполнить флягу. Он мог проделать большой путь, почти ничего не тратя.
Положив бумагу в металлическую коробку с герметически запирающейся крышкой, Торрес, вместо того чтобы снова спрятать ее в карман куртки под плащом, перестарался в своих заботах о ней и, растянувшись под деревом, положил коробку рядом с собой в дупло у корневища.
Эта неосмотрительность чуть не обошлась ему очень дорого.
Стоял палящий зной. Тяжелый воздух как будто застыл. Если бы на церковной колокольне в ближайшей деревне были часы, они пробили бы два часа пополудни, и даже слабый ветерок донес бы их бой до Торреса, который лежал не более чем в двух милях от нее.
Но время, как видно, его не интересовало. Бродяге, привыкшему определять час дня только по высоте солнца над горизонтом, незачем размерять свои действия с особой точностью. Он завтракает и обедает, когда ему захочется или когда удастся поесть. А засыпает где придется, когда его сморит сон.
Если для него не всегда накрыт стол, зато всегда готова постель под тенистым деревом, в глухой чаще леса. Торрес был совсем нетребователен по части комфорта. К тому же он все утро шагал по лесу, а теперь немного перекусил и был не прочь соснуть. Часика два отдохнув, можно с новыми силами пуститься в дорогу. Итак, он улегся поудобнее на траве и собрался вздремнуть.
Однако Торрес был не из тех, кто сразу засыпает, не сделав предварительно кое-каких приготовлений. Он привык сначала пропустить глоток-другой чего-нибудь покрепче, а потом закурить трубочку. Водка возбуждает мозг, а табачный дым навевает туманные грезы. Во всяком случае, так считал Торрес.
Итак, он начал с того, что поднес к губам флягу из выдолбленной тыквы, висевшую у него на боку. В ней был налит напиток, известный в Перу под названием «шика», а в верховьях Амазонки чаще именовавшийся «кайсума». Его гонят из корней сладкого маниока,[6] после чего дают перебродить; однако наш лесной стражник, человек с луженой глоткой, считал необходимым прибавлять к нему еще изрядную дозу тафии.[7]
Отхлебнув несколько глотков этого напитка, он встряхнул флягу и с огорчением убедился, что она почти пуста.
– Надо долить! – заключил он.
Затем, вытащив короткую трубку из древесного корня, набил ее крепким и едким бразильским табаком, принадлежащим к старинному сорту «петен», завезенному во Францию Нико,[8] которому мы обязаны внедрением самого доходного и самого распространенного из пасленовых растений.
Табак Торреса не имел ничего общего с современным первосортным «скаферлати», изготовляемым на французских табачных фабриках, но Торрес в этом вопросе, как и во многих других, не был привередлив. Он достал огниво, высек огня, разжег немного липкого вещества, известного под названием «муравьиного трута», и раскурил трубку.
После десятой затяжки глаза его закрылись, трубка выскользнула из пальцев, и он уснул, или, вернее, впал в забытье, которое нельзя назвать настоящим сном.
2. Вор и обворованный
Торрес проспал около получаса, когда под деревьями послышался легкий шорох. Казалось, кто-то шел босиком, стараясь ступать осторожно, чтоб его не услышали. Если бы наш бродяга не спал, он бы сразу насторожился, так как всегда избегал нежелательных встреч. Но чуть слышные шаги не могли его разбудить, и тот, кто пробирался в чаще, подошел и остановился в десяти метрах от дерева, под которым лежал Торрес, не потревожив его сон.
То был не человек, а гуариба.
В лесах Верхней Амазонки водится множество цепкохвостых обезьян: легкие и изящные сахиусы, «рогатые сапажу», моносы с серой шерстью; сагуины, строящие такие рожи, что порой кажется, будто они в масках. Но из всех обезьян самые своеобразные, бесспорно, гуарибы. У них общительный и вовсе не злобный нрав, в отличие от свирепых и мерзких мукур; к тому же в них силен общественный инстинкт, и они чаще всего живут стаями. Они дают о себе знать еще издали монотонным гулом голосов, напоминающим церковный хор, поющий псалмы. Однако если от природы гуариба и незлобива, то нападать на нее все же не безопасно. Во всяком случае, как мы увидим дальше, уснувший путешественник подвергается некоторой опасности, если гуариба застанет его врасплох в таком беспомощном состоянии.
Эта гуариба, называемая в Бразилии также «барбадо», была крупным животным. Ее гибкое и крепкое тело свидетельствовало о том, что этот сильный зверь может сражаться на земле не хуже, чем перебрасываться с ветки на ветку на вершинах лесных исполинов.
Но сейчас гуариба двигалась вперед осторожно, мелкими шажками. Она бросала взгляды то налево, то направо, беспокойно помахивая хвостом. Этим представителям обезьяньего племени природа дала не только четыре руки – отчего их и называют четверорукими, – но проявила еще большую щедрость, добавив им сверх того и пятую, ибо кончик их хвоста обладает такой же способностью хватать, как и руки.
Гуариба бесшумно приближалась к спящему, размахивая толстым суком, который в ее могучих руках мог стать грозным оружием. Должно быть, несколько минут назад она заметила лежащего под деревом человека, а его неподвижность, как видно, успокоила обезьяну, и ей захотелось рассмотреть его поближе. Итак, она подошла и с некоторой опаской остановилась в трех шагах от него.
Ее бородатое лицо исказила гримаса, обнажив острые зубы, белые, как слоновая кость, и она угрожающе подняла свой сук – движение, не сулившее ничего хорошего лесному стражнику.
Без сомнения, вид спящего Торреса не вызывал у гуарибы никакой симпатии. Были ли у нее особые причины питать враждебные чувства к представителю рода человеческого, который по воле случая оказался в ее власти? Весьма возможно! Известно, что некоторые животные долго не забывают причиненных им обид, и, быть может, эта гуариба затаила злобу против лесных бродяг.
Дело в том, что для местных жителей, особенно для индейцев, обезьяны – лакомая добыча, к какой бы породе они ни принадлежали, и охотники преследуют их с особым пылом не только из любви к охоте, но и ради их мяса.
Как бы то ни было, но если гуариба и не собиралась поменяться с охотником ролями, если она помнила, что природа создала ее животным травоядным, и не помышляла сожрать лесного стражника, то все же она, видимо, твердо решила разделаться с одним из своих исконных врагов.
Некоторое время она пристально разглядывала его, а потом тихонько двинулась вокруг дерева. Шла она очень медленно, задерживая дыхание, но понемногу все приближалась к спящему. Движения ее были угрожающи, а выражение лица свирепо. Ей ничего не стоило убить этого неподвижно лежащего человека одним ударом дубины, и, без сомнения, жизнь Торреса в ту минуту висела на волоске.
Гуариба остановилась сбоку у самого дерева и занесла свой сук над головой спящего, готовясь нанести удар.
Но если Торрес поступил неосторожно, положив в дупле подле себя коробку, в которой лежал документ и все его богатство, то именно эта неосторожность и спасла ему жизнь.
Луч солнца, проникнув сквозь ветви, скользнул по металлической коробке, и ее полированная поверхность сверкнула, как зеркало. Обезьяна, со свойственным ее породе непостоянством, тотчас отвлеклась. Ее мысли – если у животного могут быть мысли – сразу приняли иное направление. Она нагнулась, схватила коробку, попятилась и, поднеся ее к глазам, принялась вертеть в руках, с удивлением разглядывая, как она блестит на солнце. Быть может, ее еще больше удивил звон лежащих в коробке монет. Как видно, ее пленила эта музыка. Точь-в‑точь погремушка в руках у ребенка! Потом обезьяна сунула находку в рот, и зубы ее скрипнули, скользнув по металлу, однако она не пыталась его прокусить.
Должно быть, гуариба подумала, что нашла какой-то неведомый плод, что-то вроде громадного миндаля, у которого ядро болтается в скорлупе. Но если обезьяна вскоре поняла, что ошибается, она все же не захотела бросить коробку. Напротив, она крепче зажала ее в левой руке и выпустила дубину, которая, падая, обломила сухую ветку.
Этот треск разбудил Торреса, и, как человек, привыкший быть всегда начеку и мгновенно переходить от сна к бодрствованию, он в ту же секунду вскочил на ноги.
С первого взгляда он узнал, кто перед ним.
– Гуариба! – вскричал он.
Рука его схватила лежавшую возле него «маншетту», и он принял оборонительное положение.
Испуганная обезьяна тотчас попятилась и, чувствуя себя менее уверенно перед проснувшимся человеком, чем перед спящим, сделала два-три быстрых прыжка и скользнула в чащу.
– Вот, что называется, вовремя! – воскликнул Торрес. – Эта образина не раздумывая прикончила бы меня!
Обезьяна остановилась шагах в двадцати и глядела на него, отчаянно гримасничая, как будто насмехаясь: тут Торрес вдруг увидел у нее в руках свою драгоценную коробку.
– Мерзавка! – закричал он. – Убить она меня не убила, а выкинула штуку почище – она меня обокрала!
Сначала мысль, что в коробке лежат все его деньги, не слишком огорчила Торреса. Но, вспомнив, что там спрятан документ, с потерей которого безвозвратно погибнут все его надежды, он так и подскочил.
– Тысяча чертей! – завопил он.
Теперь, желая во что бы то ни стало вернуть свою коробку, он бросился вслед за обезьяной.
Торрес прекрасно понимал, что догнать этого ловкого зверя будет совсем не легко. По земле обезьяна бегала слишком быстро, а по деревьям прыгала слишком высоко. Только меткая пуля могла настигнуть ее на земле или в воздухе. Но у Торреса не было никакого огнестрельного оружия. Его охотничий нож и мотыга послужили бы ему лишь в том случае, если бы он догнал гуарибу.
Торрес сразу убедился, что взять обезьяну можно только обманом. Стало быть, надо постараться перехитрить умное животное: спрятаться за деревом, скрыться в густой чаще, разжечь ее любопытство и заставить либо остановиться, либо вернуться назад – ничего другого не придумаешь.
Так он и поступил. Некоторое время Торрес проделывал все эти маневры, но, когда он скрывался, обезьяна терпеливо дожидалась, пока он появится вновь, и Торрес только попусту тратил силы. Он устал, но ничего не добился.
– Проклятая гуариба! – вскоре воскликнул он. – Этак я ее не выманю, а она, чего доброго, заведет меня обратно к бразильской границе. Если б она хоть бросила мою коробку! Так нет же! Ей нравится звон золотых монет. У, ворюга! Попадись ты мне в руки…
И Торрес вновь пустился в погоню, а обезьяна с такой же ловкостью ускользала от него.
Прошел целый час, но ничего не изменилось. Торрес продолжал преследовать гуарибу с вполне понятным упорством. Как же он добудет себе состояние без этого документа?
Постепенно им овладело бешенство. Он ругался, топал ногами, осыпал гуарибу угрозами и проклятиями. Обезьяна отвечала ему только насмешливыми гримасами, выводившими его из себя.
И Торрес снова бросался к ней. Он бежал во всю прыть, задыхаясь, путаясь в высокой траве, продираясь сквозь густой кустарник, цепляясь за переплетающиеся лианы, сквозь которые гуариба проскакивала со скоростью призового скакуна. В траве кое-где прятались толстые корни, преграждавшие ему путь. Он спотыкался, падал и снова вскакивал на ноги. Вскоре, сам того не замечая, он принялся кричать: «На помощь! Ко мне! Держи вора!» – как будто кто-нибудь мог его услышать.
В конце концов силы ему изменили, он совсем задохнулся и вынужден был остановиться.
– Вот дьявол! – выругался он. – Когда я охотился в зарослях за беглыми неграми, и то было легче! А все-таки я поймаю эту проклятую обезьяну. Я не отстану от нее, пока меня носят ноги, она еще увидит…
Заметив, что лесной стражник прекратил погоню, гуариба остановилась. Она тоже отдыхала, хотя не была так измучена, как Торрес, который не мог пошевелиться от усталости.
Она простояла на месте минут десять, жуя какие-то корешки, вырванные ею из земли, и порой помахивала над ухом коробкой, звеня монетами.
Взбешенный Торрес стал швырять в обезьяну камнями и даже не раз попадал в нее, но на таком расстоянии не мог причинить ей вреда.
Однако пора было принимать какие-то меры. С одной стороны, продолжать гоняться за гуарибой без надежды ее поймать было попросту бессмысленно. С другой – окончательно примириться с нелепой случайностью, погубившей все его хитроумные замыслы, признать себя не только побежденным, но обманутым и одураченным глупой обезьяной было бы уж очень обидно.
И все же Торрес понимал, что когда стемнеет, воровка без труда скроется от него, а он, обворованный, пожалуй, не сможет даже выбраться на дорогу из этой чащи. Погоня завела его на несколько миль в сторону от берега реки, и теперь ему будет нелегко вернуться назад.
Торрес заколебался. Он постарался хладнокровно обдумать свое положение и, выкрикнув последнее проклятие, уже готов был отказаться от мысли вернуть себе свою коробку, как вдруг снова вспомнил о похищенном документе, о связанных с ним планах будущей жизни, и решил, что должен сделать еще одну, последнюю попытку.
Он встал.
Гуариба тоже встала.
Он сделал несколько шагов вперед.
Гуариба сделала столько же шагов назад, но на этот раз, вместо того чтобы углубиться в чащу, она остановилась у подножия громадного фикуса, – разнообразные виды этого дерева широко распространены во всем бассейне Верхней Амазонки.
Обхватить ствол четырьмя руками, вскарабкаться вверх с ловкостью акробата, или, вернее, обезьяны, обвиться цепким хвостом за горизонтальные ветви в сорока футах над землей и взметнуться на самую вершину дерева – все это было для ловкой гуарибы сущей забавой и заняло несколько секунд.
Усевшись поудобнее на тонких, сгибавшихся под ее тяжестью ветвях, она продолжала прерванную трапезу, срывая теперь плоды, висевшие у нее под рукой. По правде говоря, Торресу тоже не мешало бы подкрепиться и промочить горло, но – увы! – сумка его совсем опустела, а флягу он давно осушил до дна.
Однако он не повернул назад, а направился к дереву, хотя сейчас обезьяна стала и вовсе недоступной для него. Нечего было и думать о том, чтобы взобраться на фикус – воровка тотчас перескочила бы на соседнее дерево.
А она по-прежнему позванивала над ухом монетами в заветной коробке!
В бессильной ярости Торрес разразился бешеной бранью. Невозможно передать, какими словами он поносил гуарибу.
Но обезьяну, которая была всего лишь четвероруким животным, нисколько не трогало то, что возмутило бы представителя человеческой породы.
Тогда Торрес принялся швырять в нее камни, обломки корней – все, что попадалось ему под руку. Неужто он надеялся серьезно ранить обезьяну? Нет! Он просто не соображал, что делает. От бессильной злобы у него помутилось в голове. Быть может, в первую минуту он подумал, что гуариба, перепрыгивая с ветки на ветку, нечаянно выронит коробку, или что она, не желая оставаться в долгу у противника, вдруг запустит коробку ему в голову. Но нет! Гуариба не хотела расставаться с добычей, и хотя она крепко сжимала коробку в одной руке, у нее оставалось еще три руки для передвижения.
Торрес совсем отчаялся; он собирался уже бросить бесплодные попытки и вернуться к Амазонке, когда невдалеке вдруг послышались голоса. Да, звуки человеческой речи! Кто-то разговаривал шагах в двадцати от того места, где стоял лесной стражник.
Первым побуждением Торреса было спрятаться в густых зарослях. Как человек осторожный, он не хотел показываться, пока не узнает, с кем ему придется иметь дело.
Взволнованный, настороженный, он ждал, прислушиваясь, когда вдруг раздался выстрел.
Затем послышался крик, и смертельно раненная обезьяна рухнула на землю, по-прежнему сжимая в руке коробку.
– Черт побери! – вскричал Торрес. – Эта пуля прилетела весьма кстати!
Теперь он выскочил из чащи, не боясь, что его заметят, и увидел под деревьями двух молодых людей.
Они оказались бразильцами и были одеты в охотничьи костюмы: кожаные сапоги, легкие шляпы из пальмового волокна, блузы, или, скорее, куртки, стянутые у пояса и более удобные, чем национальные «пуншо». По чертам и цвету лица легко было узнать, что родом они португальцы.
Оба держали в руках длинные ружья, какие изготовляются в Испании и немного напоминают арабские, с верным и довольно дальним боем; жители лесов Верхней Амазонки хорошо владеют такими ружьями.
Это подтверждал и только что прозвучавший выстрел. Гуариба была убита пулей в голову с расстояния более восьмидесяти шагов. За поясом у молодых людей виднелись особые кинжалы, называемые в Бразилии «фока», с которыми охотники бесстрашно нападают на ягуаров и других хищников, хоть и не очень опасных, но довольно многочисленных в здешних местах.
По-видимому, Торресу нечего было бояться этой встречи, и он бросился к трупу обезьяны. Но молодые люди шли туда же, а так как они были ближе к убитой гуарибе, то, пройдя несколько шагов, оказались лицом к лицу с Торресом.
Лесной стражник уже вполне овладел собой.
– Благодарю вас, господа! – весело сказал он, приподнимая шляпу. – Убив этого злого зверя, вы оказали мне огромную услугу!
Охотники с недоумением переглянулись, не понимая, за что он их благодарит. Но Торрес в нескольких словах рассказал им суть дела.
– Вы думали, что убили просто обезьяну, – закончил он, – а на самом деле убили хитрого вора.
– Если мы вам помогли, – ответил младший из охотников, – то, поверьте, сами того не зная. Тем не менее мы очень рады, что нам удалось выручить вас.
Отойдя на несколько шагов, он наклонился над обезьяной и, не без труда разжав ей пальцы, вынул коробку из ее сведенной руки.
– Должно быть, это и есть нужная вам вещь? – спросил он.
– Она самая, – ответил Торрес, схватив коробку; из груди его вырвался вздох облегчения.
– Кого же мне благодарить, господа? Кто оказал мне эту услугу? – спросил он.
– Мой друг Маноэль, военный врач на службе бразильской армии, – ответил молодой человек.
– Хоть я и застрелил обезьяну, – заметил Маноэль, – но показал мне ее ты, милый Бенито.
– В таком случае, господа, я обязан вам обоим: как господину Маноэлю, так и господину…
– Бенито Гарралю, – закончил Маноэль.
Лесной стражник должен был сделать очень большое усилие, чтобы не вздрогнуть, услышав это имя, особенно когда молодой человек любезно добавил:
– Ферма моего отца Жоама Гарраля всего в трех милях отсюда, и если господин…
– Торрес, – подсказал искатель приключений.
– Если господин Торрес пожелает нас навестить, он встретит радушный прием.
– Это вряд ли возможно, – ответил Торрес. Смущенный этой неожиданной встречей, он колебался, не зная, как поступить. – Боюсь, право, что не смогу воспользоваться вашим приглашением…
Из-за происшествия, о котором я вам только что рассказал, я потерял много времени. А теперь мне надо поскорей вернуться к Амазонке. Я собираюсь спуститься до провинции Пара.
– Ну что ж, господин Торрес, возможно, мы встретимся с вами на этом пути, – сказал Бенито. – Отец тоже меньше чем через месяц собирается со всей нашей семьей спуститься вниз по течению Амазонки.
– Вот как! – живо откликнулся Торрес. – Ваш отец думает пересечь бразильскую границу?
– Да, он намерен отправиться в путешествие на несколько месяцев, – ответил Бенито. – Во всяком случае, мы надеемся его уговорить. Верно, Маноэль?
Маноэль молча кивнул головой.
– Ну что ж, господа, – заключил Торрес, – тогда весьма возможно, что мы и правда встретимся по дороге. Но сейчас я, к сожалению, не могу принять ваше приглашение. Тем не менее еще раз благодарю вас и считаю себя вдвойне вашим должником.
И Торрес поклонился молодым людям, а они ответили ему тем же и, повернувшись, отправились на ферму.
Он же продолжал стоять, глядя им вслед. Наконец, потеряв их из виду, Торрес пробормотал:
– Ага, значит, он собирается перейти границу! Так пусть же переходит: тогда я буду еще крепче держать его в руках! Счастливого пути, Жоам Гарраль!
С этими словами лесной стражник направился к югу, чтобы выйти на левый берег Амазонки кратчайшим путем, и вскоре скрылся в чаще леса.
3. Семья Гарраль
Деревня Икитос расположена на левом берегу Амазонки, приблизительно на семьдесят четвертом меридиане, в той части великой реки, где она еще называется Мараньон и где ее русло отделяет Перу от республики Эквадор, в пятидесяти пяти лье к западу от бразильской границы.
Икитос была основана миссионерами, как и все городки, деревни и самые маленькие поселки, встречающиеся в бассейне Амазонки. До 1817 года индейцы племени Икитос, бывшие некоторое время единственными обитателями этого края, селились в глубине страны, довольно далеко от реки. Но однажды, после извержения вулкана, все источники на их земле иссякли, и жители были вынуждены переселиться на левый берег Амазонки. Вскоре племя их слилось с индейцами прибрежной полосы – Тикуна и Омага, и теперь в деревне Икитос смешанное население; в состав его вошло еще несколько испанцев и две-три семьи метисов.
Четыре десятка крытых соломой хижин, таких убогих, что только по крышам можно догадаться, что это человеческое жилье, – вот и вся деревня; однако она очень живописно раскинулась на небольшом плато, возвышающемся футов на шестьдесят над рекой. К деревне ведет лестница из цельных бревен, укрепленных на склоне; но пока путник не взберется по ее ступеням, он не может увидеть селения, так как снизу не хватает перспективы. Поднявшись, путник оказывается перед легко преодолимой живой изгородью из кустарников и древовидных растений, переплетенных длинными лианами, а над ними кое-где высятся банановые деревья и стройные пальмы.
В ту пору индейцы племени икитос ходили почти нагие; впрочем, надо полагать, мода не скоро изменит их первобытную одежду. Только испанцы и метисы, с пренебрежением относившиеся к своим темнокожим согражданам, носили простые рубашки, легкие хлопчатобумажные брюки и соломенные шляпы. Все они жили довольно бедно, к тому же мало общались между собой и собирались все вместе, лишь когда колокол миссии сзывал их в обветшалый домик, служивший им церковью.
Однако, если условия жизни в деревушке Икитос были почти первобытными, как, впрочем, в большинстве селений Верхней Амазонки, то стоило пройти меньше одного лье вниз по реке, и вы встречали на том же берегу богатую усадьбу, где жизнь протекала со всевозможным комфортом.
То была ферма Жоама Гарраля, к которой направлялись двое молодых людей, недавно повстречавших лесного стражника.
Эта ферма, или хутор, а по-местному «фазенда», была построена много лет назад на излучине Амазонки, шириной в пятьсот футов, у места впадения в нее притока Риу-Наней, и теперь всячески процветала. К северу земли ее тянулись на целую милю вдоль правого берега Риу-Наней, а к востоку – на такое же расстояние вдоль левого берега Амазонки. На западе маленькие речушки, впадающие в Наней, и несколько небольших озер отделяли ее от саванны и лугов, служивших пастбищем для скота.
В 1826 году, за двадцать шесть лет до начала событий, описанных в нашем рассказе, Жоам Гарраль впервые вошел в дом к владельцу этой фазенды.
Ее хозяин, португалец по имени Магальянс, жил только тем, что добывал в окрестных лесах, и его недавно построенная усадьба занимала тогда не более полумили вдоль берега реки.
Здесь Магальянс, гостеприимный, как все португальцы старой закваски, жил с дочерью Якитой, которая после смерти матери вела его хозяйство. Магальянс был настоящим тружеником, упорным и неутомимым, но ему не хватало образования. Он еще мог руководить кучкой рабов и дюжиной наемных индейцев, но, когда ему приходилось иметь дело с торговцами, он пасовал. Итак, из-за недостатка у него знаний хозяйство Магальянса не развивалось и дела были немного запущены.
Вот при каких обстоятельствах Жоам Гарраль, которому исполнилось тогда всего двадцать два года, встретился с Магальянсом.
Гарраль попал в эти края измученный, без средств к существованию. Магальянс нашел его в лесу еле живого от голода и усталости. У португальца было доброе сердце. Он не спрашивал молодого человека, откуда он пришел, а спросил только, в чем он нуждается. Благородное и гордое, хоть и измученное лицо Жоама Гарраля тронуло Магальянса, он приютил юношу, поставил на ноги и предложил остаться у него на несколько дней; тот согласился и остался… на всю жизнь!
Вот при каких обстоятельствах Жоам Гарраль поселился на ферме в Икитосе.
Бразилец родом, Жоам Гарраль не имел ни семьи, ни состояния. Несчастья, говорил он, заставили его покинуть родину без надежды вернуться обратно. Гарраль попросил у хозяина разрешения не рассказывать о постигших его бедах – столь же тяжких, сколь и незаслуженных. Он жаждал начать новую жизнь – жизнь, полную труда. Он пришел сюда наудачу, думая устроиться на какой-нибудь фазенде в глубине страны. Он был умен и образован. Во всем его облике было что-то внушавшее доверие и говорившее, что он человек честный и прямой. Проникшись к нему симпатией, Магальянс предложил ему остаться на ферме, где своими знаниями он мог восполнить то, чего не хватало ее достойному хозяину.
Жоам Гарраль согласился не раздумывая. Раньше у него было намерение устроиться в «серингаль» – на добычу каучука, где умелый рабочий зарабатывал в то время пять-шесть пиастров в день и мог надеяться, что со временем, если ему повезет, сам станет фермером. Однако Магальянс правильно заметил, что хотя плата там и высока, зато работу можно получить только на время сбора каучука, то есть всего на несколько месяцев, а это не дает человеку прочного положения, к какому стремился Жоам Гарраль.
Португалец был прав. Жоам сразу согласился и без колебаний пошел работать на фазенду, решив посвятить ей все свои силы.
Магальянсу не пришлось раскаиваться в своем великодушном поступке. Дела его стали поправляться. Торговля лесом, который он сплавлял по Амазонке в провинцию Пара, с помощью Жоама Гарраля значительно расширилась. Фазенда постепенно росла и вскоре протянулась по берегу реки до самого устья Наней. Старое жилище перестроили, и оно превратилось в прелестный двухэтажный дом, окруженный верандой, скрывавшейся в тени великолепных деревьев: смоковниц, мимоз, баугиний, паулиний, стволы которых были покрыты сеткой ползучих страстоцветов, увиты бромелиями с пунцовыми цветами, причудливыми лианами.
Вдали, за гигантским кустарником, в густой чаще прятались различные постройки, где жили слуги фазенды, – хижины негров, шалаши индейцев и службы. Но с берега реки, заросшего тростником и водяными растениями, виден был только хозяйский дом.
Широкая луговина, старательно очищенная от кустарника по берегам лагун, представляла собой прекрасное пастбище. Там паслось множество скота. Это служило новым источником дохода, ибо в этой богатой стране за четыре года стадо удваивается, да еще приносит десять процентов прибыли от продажи шкур забитого скота, мясо которого идет на пищу скотоводам. Кое-где на месте лесных вырубок были возделаны плантации маниока и кофе. Посадки сахарного тростника вскоре потребовали постройки мельницы для перемалывания стеблей, из которых потом изготовляли патоку, тафию и ром. Короче говоря, через десять лет после появления Жоама Гарраля на ферме Икитос она стала одной из самых богатых фазенд на Верхней Амазонке. Благодаря правильному ведению хозяйства молодым управляющим и его умению вести торговые дела, благосостояние фазенды росло с каждым днем.
Но Магальянсу не понадобилось так много времени, чтобы понять, чем он обязан Жоаму Гарралю. Желая наградить его по заслугам, португалец сначала выделил ему долю доходов со своей фермы, а затем, четыре года спустя, сделал Гарраля своим компаньоном, пользующимся равными правами и равной долей дохода.
Однако он задумал сделать еще больше. Его дочь Якита, как и он сам, открыла в этом молчаливом юноше, мягком с другими и строгом к себе, редкое сердце и недюжинный ум. Она его полюбила. Но хотя Жоам не остался равнодушным к достоинствам и красоте этой прелестной девушки, однако, то ли из гордости, то ли из скромности, он не думал просить ее руки.
Несчастный случай ускорил его решение.
Однажды Магальянс, распоряжавшийся на рубке леса, был смертельно ранен упавшим на него деревом. Его перенесли, почти недвижимого, на ферму; чувствуя, что конец его близок, он подозвал рыдавшую у его постели Якиту и, соединив руки дочери и Жоама Гарраля, заставил его поклясться, что он женится на ней.
– Ты вернул мне мое состояние, – проговорил Магальянс, – и я не умру спокойно, пока не упрочу этим союзом будущее моей дочери.
– Я могу оставаться ее преданным слугой, ее братом и защитником, не будучи ее мужем, – возразил Жоам Гарраль. – Я вам обязан всем, Магальянс, и никогда этого не забуду; а награда, которой вы одариваете меня, превышает все мои заслуги.
Отец настаивал. Близкая смерть не позволяла ему ждать, он требовал обещания, и Жоам Гарраль дал ему слово.
Яките было тогда двадцать два года, а Жоаму – двадцать шесть. Они любили друг друга и обвенчались за несколько часов до смерти Магальянса, у которого еще хватило сил благословить их союз.
Вот каким образом Жоам Гарраль в 1830 году стал владельцем фазенды в Икитосе, к радости всех ее обитателей. Ведь его союз с Якитой, союз их умов и сердец, сулил лишь дальнейшее процветание фермы.
Год спустя после свадьбы Якита подарила мужу сына, а еще через два года – дочь. Бенито и Минья, внуки старого португальца, должны были стать достойными своего дедушки; дети Якиты и Жоама – достойными своих родителей.
Маленькая Минья превратилась в прелестную девушку. Она ни разу не покидала фазенды. Девочка выросла в чистой и здоровой среде, на лоне великолепной тропической природы, а данного ей матерью воспитания и полученных от отца знаний было для нее вполне достаточно. Чему бы еще научили ее в монастырской школе Манауса или Белена? Где нашла бы она лучшие примеры семейных добродетелей? Разве ее сердце и ум стали бы тоньше и отзывчивее вдали от родного дома? Если ей не суждено стать после матери хозяйкой фазенды, то она будет достойна занять любое положение в другом месте.
Что до Бенито, то тут другое дело. Его отец разумно считал, что ему нужно получить такое основательное и полное образование, какое давали в ту пору только в больших бразильских городах. К этому времени богатый владелец фазенды мог ни в чем не отказывать сыну.
У Бенито были недюжинные способности, пытливый и живой ум и высокие душевные качества. В двенадцать лет его отправили в Белен, и там, под руководством прекрасных педагогов, были заложены основы, благодаря которым он стал впоследствии выдающимся человеком. Ему не были чужды ни наука и литература, ни искусство. Учился он так усердно, как будто состояние его отца не позволяло ему ни минуты сидеть без дела. Он был не из тех, кто считает, что богатство избавляет от труда, напротив, честный, прямой и решительный юноша был убежден, что тот, кто уклоняется от своих обязанностей, недостоин называться человеком.
В первые годы жизни в Белене Бенито познакомился с Маноэлем Вальдесом, сыном купца из Пара, с которым учился в одном учебном заведении. Сходство характеров и вкусов сблизило их, они крепко подружились и вскоре стали неразлучны.
Маноэль, родившийся в 1832 году, был на год старше Бенито. Он жил с матерью на скромное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Закончив среднюю школу, Маноэль поступил в медицинский институт. Его всегда привлекала медицина, и он избрал себе благородную профессию военного врача.
В то время, когда мы встретили двух друзей, Маноэль уже получил звание врача и приехал погостить несколько месяцев на фазенде, где обычно проводил каникулы. Этот молодой человек, с приятными манерами, благородным лицом и врожденным чувством собственного достоинства, сделался вторым сыном для Жоама и Якиты. Но если, став им сыном, он и считал себя братом Бенито, то по отношению к Минье звание брата казалось ему недостаточным, ибо вскоре он почувствовал к ней гораздо более нежную привязанность, чем братская любовь.
В 1852 году – к началу нашей истории прошло уже четыре месяца этого года – Жоаму Гарралю исполнилось сорок восемь лет. В изнурительном климате, который так быстро подтачивает здоровье, Гарраль, благодаря своей воздержанности, умеренным вкусам и скромной трудовой жизни, сохранил силы, хотя многие люди здесь преждевременно старились. Коротко остриженные волосы и длинная борода его уже серебрились, придавая ему строгий вид пуританина. Неподкупная честность, которой славились бразильские купцы и землевладельцы, была словно написана на его лице, отличавшемся искренностью и прямотой. В этом внешне спокойном человеке угадывался внутренний огонь, сдерживаемый твердой волей. В ясном взгляде светилась живая сила, и чувствовалось, что на него может положиться всякий, кто обратится к нему за помощью.
А между тем в этом спокойном человеке с крепким здоровьем, который как будто всего добился в жизни, можно было заметить какую-то глубоко затаенную грусть, и победить ее не могла даже нежная привязанность Якиты.
Почему этот справедливый, всеми уважаемый фермер, имеющий все основания быть счастливым, никогда не сияет от счастья? Почему кажется, что он может радоваться лишь чужому счастью, но не своему? Неужели его гложет какое-то тайное горе? Вот вопрос, который постоянно мучил его жену.
Яките минуло сорок четыре года. В этой тропической стране, где женщины часто становятся старухами уже в тридцать лет, она тоже сумела устоять против разрушительного влияния климата. Ее слегка отяжелевшее, но еще красивое лицо сохранило благородство линий классического португальского типа, в котором гордость так естественно сочетается с душевной прямотой.
Бенито и Минья на нежную любовь родителей отвечали такой же горячей привязанностью.
Бенито, веселый, смелый, привлекательный юноша – ему шел тогда двадцать второй год, – с душой нараспашку, отличался живостью характера от своего друга Маноэля, который был более сдержан, более серьезен. Для Бенито, проведшего целый год в Белене, вдали от родной фазенды, было великой радостью вернуться в отчий дом со своим молодым другом, вновь увидеть отца, мать и сестру, опять очутиться среди величественной природы Верхней Амазонки – ведь он был завзятым охотником! – среди девственных лесов, тайны которых еще много веков останутся недоступными человеку.
Минье только что сравнялось двадцать лет. У этой прелестной девушки с темными волосами и большими синими глазами, казалось, вся душа отражается во взоре. Среднего роста, стройная, грациозная, она красотой напоминала мать. Характером чуть посерьезнее брата, добрая, ласковая, приветливая, она была общей любимицей, что, без сомнения, подтвердил бы каждый слуга на ферме. А друга ее брата – Маноэля Вальдеса – не стоило и спрашивать о достоинствах девушки: он был слишком заинтересованной стороной и потому не мог бы дать беспристрастный ответ.
Описание семьи Гарраль было бы неполным, если б мы ничего не сказали об их многочисленных домочадцах.
Прежде всего следует упомянуть шестидесятилетнюю негритянку Сибелу, отпущенную хозяином на волю, но из горячей привязанности к нему и его семье оставшуюся у них в доме; в молодости она была нянькой Якиты. Как старый член семьи она говорила «ты» и матери и дочери. Вся жизнь доброй женщины прошла на этих полях, среди этих лесов, на берегу реки, которая служила границей фермы. Она попала в Икитос ребенком в ту пору, когда еще существовала торговля неграми, и никогда не покидала этого селения; здесь она вышла замуж, здесь овдовела и, потеряв единственного сына, осталась служить у Магальянса. Она знала только ту часть Амазонки, которая всегда была у нее перед глазами.
Назовем также и хорошенькую, веселую мулатку, считавшуюся служанкой Миньи, ее ровесницу, горячо преданную своей юной хозяйке. Звали ее Лина. Этому милому, немного избалованному созданию прощали некоторую вольность обращения, она же обожала свою госпожу. Живая, своевольная, ласковая и насмешливая, она делала что хотела – ей все разрешалось в этом доме.
Что касается работников фазенды, то они делились на две части: индейцы – около сотни человек – работали на ферме за плату, и негры – их было вдвое больше – оставались еще рабами, но дети их рождались уже свободными. Жоам Гарраль в этом отношении опередил бразильское правительство.
Надо сказать, что в этой стране, не в пример другим, с неграми, привезенными из Бенгелы, из Конго и с Золотого Берега, обычно обращались довольно мягко, и уж во всяком случае на фазенде в Икитосе никто не проявлял жестокости к невольникам, что так часто бывало на плантациях в других странах.
4. Колебания
Маноэль любил сестру своего друга Бенито, и она отвечала ему взаимностью. Каждый из них сразу оценил другого: поистине они были достойной парой.
Когда у Маноэля не осталось никаких сомнений в своих чувствах к Минье, он прежде всего открылся Бенито.
– Дружище Маноэль! – тотчас откликнулся восторженный юноша. – Как я рад, что ты хочешь жениться на моей сестре! Только позволь действовать мне. Прежде всего я поговорю с матушкой. И думаю, что могу обещать тебе ее согласие.
Не прошло и получаса, как все было улажено. Бенито не сообщил своей матери ничего нового: добрая Якита давно догадалась о чувстве, зародившемся в сердцах молодых людей.
Десять минут спустя Бенито уже был у сестры. Надо признаться, что и здесь ему не пришлось прибегать к красноречию. После первых его слов головка милой девушки склонилась на плечо брата, и Минья воскликнула от всего сердца:
