Kudos бесплатное чтение
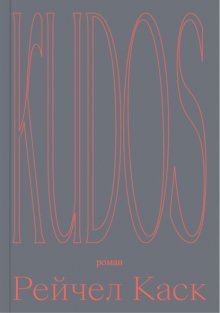
Rachel Cusk
Kudos
Faber & Faber
Перевод: Анастасия Басова
Copyright © 2018, Rachel Cusk
All rights reserved
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2022
Она встала и ушла.
Может, ей не стоило? Не стоило что?
Вставать и уходить.
Нет, я думаю, стоило,
Потому что становилось темнее.
Становилось что? Темнее. Да, но,
Когда она ушла,
Было еще достаточно
Светло, чтобы видеть путь.
И это был последний раз, когда она могла…
Могла? …встать и уйти.
Это был последний раз, самый последний раз,
После она бы уже не смогла
Встать и уйти.
Стиви Смит. Она встала и ушла
Мужчина рядом со мной в самолете был таким высоким, что не помещался в кресле. Его локти выступали за пределы подлокотников, а колени упирались в переднее сиденье, из-за чего человек, сидящий там, раздраженно оборачивался всякий раз, когда мужчина двигался. Он изогнулся, пытаясь закинуть ногу на ногу, и случайно задел человека, сидящего справа.
– Извините, – сказал он.
Несколько минут он сидел неподвижно, глубоко вдыхая и выдыхая через нос и сжав на коленях руки, но вскоре ему стало неудобно, и он снова попытался выпрямить ноги, так что весь передний ряд кресел двинулся туда-сюда. В конце концов я спросила, не хочет ли он поменяться местами, так как я сидела у прохода. Он согласился с таким рвением, будто я предложила ему коммерчески выгодную сделку.
– Обычно я путешествую бизнес-классом, – пояснил он, пока мы менялись местами. – В нем больше пространства для ног.
Он вытянул ноги в проход и с облегчением уронил голову на спинку кресла.
– Большое спасибо, – сказал он.
Самолет медленно покатился по взлетной полосе. Мой сосед удовлетворенно вздохнул и, кажется, почти сразу заснул. В проходе возникла стюардесса и остановилась у его ног.
– Сэр? – сказала она. – Сэр?
Проснувшись, он дернулся и неуклюже убрал ноги в узкое пространство перед собой, чтобы она могла пройти. Самолет остановился на несколько минут, затем резко двинулся вперед и снова остановился. Из иллюминатора была видна очередь из других самолетов, ожидающих взлета. Мужчина начал клевать носом, и вскоре его ноги опять оказались в проходе. Стюардесса вернулась.
– Сэр, – сказала она. – Во время взлета проход должен оставаться свободным.
Он подобрал ноги.
– Извините, – сказал он.
Она ушла, и через некоторое время он снова стал засыпать. За окном над плоским серым ландшафтом лежал туман, так что земля сливалась с пасмурным небом едва различимыми горизонтальными полосами, напоминая море. В переднем ряду разговаривали мужчина и женщина. Так грустно, сказала женщина, и мужчина вздохнул в ответ. Это действительно очень грустно, повторила она. В проходе, застеленном ковролином, послышались приближающиеся шаги, и у кресла вновь появилась стюардесса. Она положила руку на плечо моего соседа и потрясла его.
– Боюсь, мне придется попросить вас убрать ноги с прохода, – сказала она.
– Извините, – сказал мужчина. – Похоже, я всё время засыпаю.
– Мне придется всё-таки попросить вас не засыпать.
– Я совсем не спал прошлой ночью, – сказал он.
– Боюсь, это не моя проблема, – сказала она. – Загораживая проход, вы подвергаете опасности других пассажиров.
Он потер лицо и сменил позу. Вытащил телефон, проверил его и положил обратно в карман. Она ждала, наблюдая за ним. В конце концов, будто удовлетворившись тем, что он действительно ей подчинился, она ушла. Он покачал головой и пожал плечами, будто выражая непонимание перед невидимой аудиторией. Ему было за сорок, лицо его было одновременно красивым и заурядным, а высокую фигуру облачал чистый, выглаженный, ничем не примечательный выходной костюм делового человека. На его запястье были тяжелые серебряные часы, а на ногах блестящие и, похоже, новые кожаные ботинки; его образ внушал безликую и условную мужественность, как солдатская форма. К этому времени самолет продвинулся в очереди и медленно поворачивал по широкой дуге в сторону взлетной полосы. Туман сменился дождем, и капли стекали по стеклу иллюминатора. Мужчина устало посмотрел на блестящую взлетную полосу. Грохот двигателей нарастал, самолет наконец устремился вперед и затем, трясясь и дребезжа, стал подниматься через слои толстых ватных облаков. Еще какое-то время в разрывах серой пелены под нами виднелась унылая зеленая сеть полей с похожими на кубики домами и островками деревьев, пока облака полностью не скрыли их. Мужчина еще раз глубоко вздохнул, и через несколько минут его голова склонилась к груди: он снова задремал. В салоне загорелись лампы и раздался звуковой сигнал. Вскоре у нашего ряда появилась стюардесса и встала там, где спящий мужчина снова вытянул ноги в проход.
– Сэр? – сказала она. – Извините?
Он поднял голову и недоуменно осмотрелся. Увидев стюардессу, стоящую перед ним с тележкой, он медленно, c усилием убрал ноги, чтобы она могла пройти. Она смотрела на него, поджав губы, ее брови поднялись дугой.
– Спасибо, – сказала она, почти не скрывая сарказм.
– Это не моя вина, – сказал он ей.
Она бросила на него взгляд из-под густо накрашенных ресниц. Взгляд был холодным.
– Я просто пытаюсь выполнять свою работу, – сказала она.
– Я понимаю, – ответил он. – Но это не моя вина, что кресла расположены слишком близко.
Последовала пауза, во время которой они смотрели друг на друга.
– С этим вопросом вам нужно обратиться в авиакомпанию, – сказала она.
– Я обращаюсь к вам, – сказал он.
Она скрестила руки и подняла подбородок.
– Обычно я путешествую бизнес-классом, – сказал он, – так что это не проблема.
– На этом рейсе не предусмотрен бизнес-класс, – сказала она, – но есть много других авиаперевозчиков.
– Так что, вы предлагаете мне лететь другим рейсом? – спросил он.
– Да, – сказала она.
– Превосходно, – сказал он. – Огромное спасибо!
Он раздраженно рассмеялся ей вслед. Некоторое время он продолжал смущенно улыбаться, как человек, который по ошибке вышел на сцену, а потом, очевидно, чтобы скрыть неловкость, повернулся ко мне и спросил, зачем я лечу в Европу.
Я сказала, что я писательница и еду выступать на литературном фестивале.
На его лице тотчас появилась вежливая заинтересованность.
– Моя жена много читает, – сказал он. – Она даже состоит в каком-то книжном клубе.
Мы оба замолчали.
– Что именно вы пишете? – спросил он немного погодя.
Я сказала, что это трудно объяснить, и он кивнул головой. Он стал барабанить пальцами по бедрам, а ботинками неритмично постукивать по ковровому покрытию. Затем он потряс головой и энергично потер пальцами виски.
– Если я перестану говорить, – сказал он наконец, – я снова засну.
Он сказал это прагматично, будто привык решать проблемы за счет личных чувств, но, когда я повернулась к нему, к моему удивлению, оказалось, что он смотрит на меня умоляюще. Его глаза с желтоватыми белками были воспалены, а аккуратно подстриженные волосы стояли торчком в тех местах, где он тер голову.
– В салоне при взлете явно понижают уровень кислорода, чтобы вогнать людей в сонное состояние, – сказал он, – так что пусть не жалуются, когда это срабатывает. У меня есть друг-пилот, – добавил он. – Это он мне рассказал.
Странность в том, продолжил мужчина, что, несмотря на свою профессию, этот друг – фанатичный защитник окружающей среды. Он водит маленький электромобиль и живет в доме на солнечных батареях и с ветряными мельницами.
– Когда он приходит к нам в гости на ужин, – сказал он, – его всегда можно найти у мусорных контейнеров, где он сортирует упаковки и бутылки, пока все остальные веселятся за столом. Его представление об отпуске, – сказал он, – это забраться со всем своим снаряжением в горы где-нибудь в Уэльсе и сидеть там в палатке под дождем две недели, разговаривая с овцами.
И тем не менее этот же самый человек регулярно надевает форму, забирается в кабину пятидесятитонной машины, изрыгающей дым, и с пьяными туристами на борту летит на Канарские острова. Сложно придумать маршрут хуже, и всё-таки его друг летает по нему много лет. Он работает на бюджетную авиакомпанию, которая безжалостно экономит на всём, а пассажиры, похоже, ведут себя как животные в зоопарке. Он забирает их бледными, а обратно привозит загорелыми, и, несмотря на то, что зарабатывает меньше всех в кругу их друзей, часть денег он отдает на благотворительность.
– Просто мой друг, – сказал он растерянно, – действительно хороший парень. Я знаю его много лет, и, похоже, чем хуже все вокруг, тем лучше он становится. Однажды он сказал мне, – продолжил он, – что в кабине у них есть экран, на котором видно, что происходит в салоне. Он сказал, что сначала просто не мог на него смотреть, потому что слишком тягостно было наблюдать за тем, как ведут себя эти люди. Но через какое-то время он стал чуть ли не одержим этим экраном. Он смотрел в него сотни часов. Он говорил, это чем-то похоже на медитацию. – И всё равно, – сказал он, – я бы не смог работать в этой сфере. Первое, что я сделал, когда ушел в отставку, – разрезал карту постоянного клиента авиакомпании. Я поклялся, что никогда больше никуда не полечу.
Я сказала, что он выглядит слишком молодо, чтобы быть в отставке.
– На моем рабочем столе была таблица под названием «Свобода», – сказал он, криво ухмыльнувшись. – По сути, она состояла из столбцов цифр, которые в итоге должны были сложиться в определенную сумму, и я дал себе обещание, что, когда это произойдет, я смогу уйти.
Он был директором международной управляющей компании, сказал он, и работа предполагала постоянные разъезды. К примеру, за две недели он мог побывать в Азии, Северной Америке и Австралии, и в этом не было ничего необычного. Однажды он полетел в Южную Африку ради одной встречи и сел в обратный самолет, как только встреча закончилась. Несколько раз они с женой выбирали точку на карте между теми городами, в которых находились, чтобы провести отпуск вместе. Однажды, когда из-за кризиса в австралийском филиале компании ему пришлось остаться там, чтобы со всем разобраться, он три месяца не видел детей. Он начал работать в восемнадцать, сейчас ему сорок шесть, и он надеется, что у него будет достаточно времени, чтобы успеть пожить иначе. У него есть дом в Котсуолдс, куда он почти никогда не ездил, и гараж с велосипедами, лыжами и разным спортивным инвентарем, которым он толком не успел воспользоваться; у него есть семья и друзья, всё общение с которыми в последние двадцать лет сводилось к словам «привет» и «пока», так как обычно он либо собирался уезжать и должен был готовиться к поездке и ложиться спать раньше, либо возвращался страшно уставшим. Он читал где-то об одном средневековом методе наказания: арестанта заточали в помещении, специально спроектированном так, чтобы узник не мог никуда вытянуть ни руки, ни ноги, и, хотя от одной только мысли об этом наказании его прошибает пот, это, пожалуй, хорошая метафора его образа жизни.
Я спросила, соответствует ли его жизнь после освобождения из этой тюрьмы названию его таблицы.
– Смешно, что вы спросили, – сказал он. – С того момента, как я ушел с работы, я начал замечать, что постоянно ссорюсь с людьми. Моя семья жалуется, что я теперь всё время дома и пытаюсь их контролировать. Они не говорят, конечно, что хотят вернуть всё как было. Но я знаю, они об этом думают.
К примеру, он и представить не мог, что они так поздно встают. Все эти годы он уходил из дома еще до рассвета, и мысль о них, дремлющих в темноте, придавала его жизни смысл и позволяла чувствовать себя их защитником. Если бы он знал, насколько они ленивы, он бы думал о них иначе. Иногда ему приходится ждать до обеда, пока они проснутся; он даже стал заходить к ним в спальни и раздвигать шторы, как это делал в его детстве отец, и поразился тому, с какой враждебностью они это восприняли. Он попытался упорядочить их приемы пищи – все они, как он выяснил, едят разную еду в разное время – и привить им привычку делать зарядку, и упорно старается верить, что всеобъемлющий бунт, который спровоцировали эти новые меры, служит доказательством их необходимости.
– Я много разговариваю с уборщицей, – сказал он. – Она приходит к восьми. Она говорит, что так продолжается уже долгие годы.
Он рассказывал всё это смущенно и доверительно, и было понятно, что он говорит ради развлечения, а не для того, чтобы вызвать во мне возмущение. На его губах играла неодобрительная улыбка, приоткрывая ровный ряд крепких белых зубов. За время разговора он оживился, и его отчаянное, диковатое выражение лица сменилось добродушной маской рассказчика. У меня сложилось впечатление, что он рассказывал эти истории раньше и ему это нравилось: он будто открыл для себя силу и притягательность проживания событий заново, когда их жало уже вынуто. Для этого, как я понимала, надо было суметь подобраться вплотную к тому, что создает впечатление правды, но не позволять своим чувствам обрести над тобой власть.
Я спросила, каким образом, несмотря на клятву, он опять оказался в самолете.
Он улыбнулся снова, как-то застенчиво, и провел рукой по тонким темно-русым волосам.
– Моя дочь выступает на музыкальном фестивале, – сказал он. – Она играет в школьном оркестре. На этом, как его, гобое.
Он должен был вылететь вчера с женой и детьми, но их собака заболела, и ему пришлось отпустить их одних. Это может прозвучать смешно, но собака, похоже, самый главный член их семьи. Ему пришлось просидеть с ней всю ночь и наутро сразу ехать в аэропорт.
– По правде говоря, мне не следовало садиться за руль, – сказал он тихим голосом, положив руку на разделявший нас подлокотник. – Я почти ничего не видел. По дороге я то и дело натыкался на рекламные плакаты с одинаковыми словами и в какой-то момент начал думать, что они стоят там специально для меня. Вы понимаете, о чем я, – они повсюду. Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, что это за плакаты*. Я даже подумал, – сказал он со всё той же смущенной улыбкой, – что схожу с ума. Я не мог понять, кто их выбрал и почему. Казалось, они обращаются ко мне лично. Конечно, – добавил он, – я слежу за новостями, но с тех пор, как ушел с работы, я немного отстаю от жизни.
Я сказала, что вопросом «уйти или остаться» мы и вправду обычно задаемся наедине с собой, и можно даже сказать, что он лежит в основе самоопределения. Если не знать политической повестки, то можно подумать, что наблюдаешь не за играми демократии, а за высвобождением индивидуального сознания в поле публичного.
– Смешно, – сказал мужчина, – но, кажется, я задавался этим вопросом всю сознательную жизнь.
Я спросила, что случилось с собакой.
Поначалу он смутился, будто не мог вспомнить, о какой собаке речь. Затем нахмурился, надул губы и тяжело вздохнул.
– Это довольно длинная история, – сказал он.
Их пес – его звали Пилот – был уже довольно старым, сказал он, хотя никто бы так не подумал, глядя на него. Пилот появился у них с женой сразу после свадьбы. Они купили дом за городом, сказал он, и это было идеальное место, чтобы завести собаку. Пилот был маленьким щенком, но уже тогда у него были огромные лапы; они знали, что собаки этой породы бывают очень большими, но оказались совсем не готовы к тому, что Пилот вырастет до таких размеров. Они всё время думали, что дальше расти уже некуда, но он рос и рос, и иногда было даже смешно наблюдать за тем, как рядом с ним всё становилось несоразмерно маленьким – их дом, машина и даже они сами.
– Я очень высокий, – сказал он, – и иногда устаешь быть выше всех остальных. Но рядом с Пилотом я чувствовал себя совершенно обычным.
Его жена была беременна их первым ребенком, так что забота о Пилоте легла на его плечи: тогда он не путешествовал так много по работе и в течение нескольких месяцев почти всё свободное время дрессировал Пилота, гулял с ним по холмам, воспитывал его характер. Он никогда не баловал его и не шел на уступки; он усердно тренировал его и умеренно поощрял, и когда, будучи еще молодым, Пилот погнался за стадом овец, он, не колеблясь, ударил его с такой силой, что сам удивился. Он был очень внимателен к тому, как ведет себя в присутствии Пилота, будто тот был человеком, и действительно, повзрослев, Пилот стал необычайно умным, огромным и крепким и научился яростно лаять. Он относился ко всем членам семьи внимательно и с уважением, что настораживало других людей, хотя сами они со временем привыкли. Например, когда в прошлом году их сын серьезно заболел пневмонией, Пилот сидел у двери его комнаты и днем и ночью, и, если ребенок звал родителей, он сразу же приходил за ними. Он чувствовал, когда у их дочери начинался депрессивный эпизод, и это даже отражалось на нем самом, а они иногда замечали неладное только из-за того, что Пилот становился замкнутым и отрешенным. И в то же время, когда в дом приходил незнакомец, он превращался в невероятно бдительную и суровую сторожевую собаку. Незнакомые люди при виде него испытывали ужас, и не без оснований, потому что он без колебаний убил бы их, если бы они представляли угрозу для членов его семьи.
Когда Пилоту было года три-четыре, карьера моего соседа резко пошла вверх, и он начал ездить в длительные командировки: он мог себе это позволить, потому что знал, что в его отсутствие семья будет в безопасности. Иногда, сказал он, в отъезде он думал о Пилоте и чувствовал, что собака близка ему, как никто другой. Поэтому в трудный час он не мог оставить Пилота одного, несмотря на то что его дочь должна была исполнять сольную партию на концерте и репетировала ее много недель. Она выступает на международном фестивале, где должно собраться много людей, – это фантастический шанс. И несмотря на это, Бетси не хотела оставлять Пилота. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы заставить ее поехать: она как будто не доверяла ему заботу о его собственной собаке.
Я спросила, какое произведение она играет, и он снова взъерошил волосы.
– Я точно не знаю, – сказал он. – Ее мама, конечно, смогла бы ответить.
Он даже не представлял, что его дочь так хорошо играет на гобое, добавил он. Она начала брать уроки, когда ей было шесть или семь, и, по правде говоря, звучало это так ужасно, что ему приходилось просить ее заниматься в своей комнате. От этого писка у него сводило челюсть, особенно после длительного перелета. Иногда пронзительный и назойливый звук проникал через закрытые двери, и если он пытался отоспаться после смены часовых поясов, то это сильно раздражало. Пару раз он даже задумался, не издевается ли дочь над ним, но, скорее всего, ровно столько же она занималась и в его отсутствие. Несколько раз он даже предложил ей меньше заниматься на гобое и уделять больше внимания другим вещам, но его слова были встречены с тем же пренебрежением, что и попытки добиться соблюдения дисциплины в распорядке дня. И по правде говоря, когда она спросила, на что именно ей лучше тратить время, он мог предложить только то, чем сам увлекался в детстве, – общение и телевизор, – что почему-то казалось ему более нормальным. Но насколько ему известно, Бетси едва ли можно назвать нормальным ребенком. К примеру, она страдает от бессонницы, а много ли четырнадцатилетних девочек не могут спать? Вместо ужина она горстями закидывает в рот сухие хлопья прямо из коробки, стоя у кухонного шкафа. Она никогда нигде не бывает и, поскольку мама ее повсюду возит, редко ходит пешком. Ему говорили, что, когда его нет дома, она гуляет с Пилотом каждый день, но верится с трудом, так как он никогда этого не видел. Дошло до того, что он начал беспокоиться, как она вообще сможет покинуть родительский дом. Вдруг им придется оставить ее у себя навсегда как своего рода неудавшийся эксперимент?
Однажды вечером Бетси играла на школьном концерте, и он пошел туда вместе с женой. Ожидая, что втайне ему будет скучно, он кое-как уместился на маленьком стуле рядом с другими родителями. В зале загорелся свет, и перед оркестром на сцене появилась девочка, в которой он не сразу узнал Бетси. Прежде всего, она казалась намного старше, но было в ней и что-то еще – казалось, она в нем не нуждается и не упрекает его одним только своим существованием, и это было поразительным облегчением. Стоило ему признать, что это она, как он почувствовал сильнейший страх, предвещающий недоброе. Он был абсолютно уверен, что она опозорится, и сжал руку жены, полагая, что она испытывает то же самое. В зал зашел дирижер – мужчина, которого он приготовился возненавидеть, одетый в черные джинсы и водолазку, – и оркестр начал играть, а чуть позже вступила и Бетси. Он заметил, как внимательно Бетси смотрит на дирижера большими немигающими глазами и как слушается малейших его жестов, кивая головой и поднимая инструмент к губам. Он и не знал, что его дочь способна на такой молчаливый подвиг близости и повиновения: сам он не мог убедить ее есть хлопья из тарелки. Только через несколько минут он связал жуткий, ползучий звук с ней в буквальном смысле: он повидал немало зрителей, чтобы понять, что эта публика очарована, заворожена, и только тогда смог действительно слушать. От этих звуков из глаз у него ручьями потекли слезы, и люди начали оборачиваться на него. После концерта Бетси утверждала, что видела со сцены, как он плачет, из-за его роста. Она сказала, что ей было очень неловко.
Я спросила, как он думает, почему он заплакал; его рот неожиданно дернулся вниз, и он постарался закрыть его своей большой рукой.
– По правде говоря, – сказал он, – думаю, я всегда беспокоился, что с ней что-то не так.
Я сказала, что, как мне кажется, многим легче видеть проблемы в детях, чем в себе, и он посмотрел на меня так, будто на мгновение задумался над этой теорией, а потом решительно покачал головой.
С раннего детства, сказал он, Бетси отличалась от других детей – и не в лучшую сторону. Она была невероятно нервной: на пляже, например, она не выносила ощущение песка под ногами, так что им приходилось повсюду носить ее на руках. Она ненавидела звучание определенных слов и начинала кричать и закрывать уши руками, если кто-то их произносил. Список продуктов, которые она не ела, и причин, по которым она их не ела, был таким длинным, что его было невозможно запомнить. У нее была аллергия на всё, и она постоянно болела, а кроме того, как он уже говорил, страдала бессонницей. Они с женой часто просыпались среди ночи из-за того, что Бетси стояла у их кровати, как привидение, в ночной рубашке и смотрела на них. Когда она стала старше, наиболее серьезной проблемой оказалась ее необычайная чувствительность к тому, что она называла ложью, но на самом деле, с его точки зрения, это были обычные условности и особенности взрослой речи. Она утверждала, что люди почти всегда говорят фальшиво и неискренне, и когда он спрашивал, откуда она это знает, она отвечала, что определяет по звуку. Как он уже говорил, даже в детстве она не могла выносить звучания определенных слов, но, когда она стала старше и начала ходить в школу, это только усугубилось. Они перевели ее в другую школу, где с ее проблемами работают более умело, но тем не менее, когда твой ребенок выбегает из комнаты, зажав уши руками, просто потому, что гостья сказала, что уже сыта и не сможет съесть десерт, или что бизнес процветает, несмотря на ухудшение экономической ситуации, – это несколько осложняет семейные и социальные отношения. Они с женой изо всех сил пытались понять дочь и даже, когда дети ложились спать, разговаривали друг с другом и старались развить в себе ее чувствительность. Прислушиваясь к фразам, чтобы выявить в них фальшь, они обнаружили, что многое из того, что мы говорим, уже задано самой ситуацией и что, если действительно задуматься над этим, можно признать, что слова часто не отражают наших чувств. Но они всё еще регулярно попадают в немилость дочери, и он заметил, что его жена говорит всё меньше и меньше, – он думает, это из-за Бетси, общаться с которой – всё равно что ходить по минному полю, так что легче молчать.
Возможно, именно потому, что Пилот не мог говорить и, следовательно, врать, Бетси обожала его так сильно, что это иногда пугало. Однако не так давно случился эпизод, который впервые заставил его усомниться в том, что такое правда в понимании Бетси, и задуматься о ее тирании в отношении того, как преподнести историю. Он взял ее с собой на прогулку с Пилотом, и собака неожиданно сбежала. Они были в парке старого поместья, а он совсем забыл, что там держат оленей, и спустил Пилота с поводка. Обычно Пилот был безупречно послушным и не трогал домашний скот, но в этот раз повел себя совершенно несвойственно своему характеру. Только что он был рядом с ними, а затем вдруг пропал из виду.
– Вы не поверите, – сказал он, – какую скорость мог развить Пилот. Он был огромным, и, если уж он решил куда-то побежать, никто не мог его догнать. Его скачки становились такими длинными, будто он переключал передачу. Не успели мы опомниться, а он был уже в пятидесяти ярдах от нас, – сказал он, – и мы просто стояли и смотрели, как он летит через парк. Когда олени увидели его, они бросились бежать, хотя было уже слишком поздно. Их было, наверное, несколько сотен. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь нечто подобное, – сказал он, – но это было ужасное и всё-таки красивое зрелище. Олени бежали рядом, как одно целое, – так льется вода. Мы смотрели, как они потоком несутся через парк, а Пилот наступает им на пятки, и, несмотря на всё это, я был заворожен. Они то и дело поворачивали и петляли большими восьмерками, а он бежал вслед за ними; это выглядело так, будто он направляет их, заставляя чертить узор, который уже был у него в голове. Около пяти минут они продолжали двигаться в том же духе, описывая круг за кругом большими плавными линиями, а потом ему вдруг будто стало скучно или он решил положить этому конец. Без особых усилий он удвоил скорость, ворвался в середину стада, схватил одного из самых молодых оленей и повалил на землю. Рядом с нами стояла женщина, – сказал он, – и она начала кричать и грозить, что донесет на нас и вызовет сюда кого-нибудь, кто пристрелит собаку. Пока я пытался успокоить ее, мы вдруг услышали шум позади, обернулись и увидели, что Бетси упала в обморок. Она лежала без чувств на траве, и у нее из головы шла кровь – при падении она ударилась о камень. Честно говоря, – сказал он, – казалось, будто она умерла. Пилот к этому времени убежал в лес, а женщина стала так сильно переживать за Бетси, что забыла о желании пристрелить собаку, помогла мне дотащить Бетси до машины и даже поехала с нами в больницу. С Бетси, конечно же, было всё в порядке.
Он невесело рассмеялся и покачал головой.
Я спросила, что случилось с собакой.
– Пилот вернулся той же ночью, – сказал он. – Я услышал его возле двери, и, когда открыл, он не стал заходить, а просто стоял снаружи и смотрел на меня. Он был совершенно грязный и весь в крови, и он знал, что ему грозит. Он ждал этого. Хотя я ненавидел его бить, – сказал он грустно, – мне пришлось сделать это два или три раза в жизни. Мы оба знали, что без этого он не мог бы быть тем, кем был. Но Бетси отказалась принять то, что он сделал. Она не прикасалась к нему и не говорила с ним в течение многих недель. Со мной она тоже не говорила. Она просто этого не поняла. Я сказал ей: знаешь, ты ничему не научишь собаку, если будешь обижаться на нее или будешь постоянно не в настроении. Она просто станет хитрой и нечестной. Знаешь, сказал я ей, ты чувствуешь себя в безопасности, когда меня нет, потому что понимаешь, что, если кто-то тронет одного из вас, Пилот сделает с ним то, что сделал с этим оленем. Он может сидеть с тобой на диване, приносить тебе вещи, лежать рядом на кровати, когда ты болеешь, но, когда в дверь стучит кто-то незнакомый, он готов при необходимости убить его. Он – животное, сказал я, и ему нужна дисциплина, а когда ты навязываешь ему свою чувствительность, ты пытаешься изменить его природу.
На какое-то время он замолчал и, подняв подбородок, стал смотреть в серый проход, где сквозь море людей стюардесса толкала свою тележку. Она поворачивалась к пассажирам налево и направо, сгибаясь в талии, и приподнятые уголки ее глаз и губ были так резко очерчены, что казались вырезанными в гладком овале ее лица. Ее автоматические движения были завораживающими, и мужчина, по-видимому, впал в оцепенение, наблюдая за ней. Через некоторое время он начал клевать носом, пока его голова вдруг не свалилась на грудь, и тогда он снова выпрямился.
– Простите, – сказал он.
Он энергично потер лицо, посмотрел через меня в иллюминатор и, глубоко вдохнув и выдохнув через нос, спросил, была ли я раньше в этой части Европы.
Я сказала, что была тут всего один раз, много лет назад, вместе с сыном. Жизнь тогда казалась ему трудной, и я подумала, сказала я, что поездка пойдет ему на пользу. Но потом в последнюю минуту я решила взять с собой еще одного мальчика, сына моей подруги. Подруга болела, ей нужно было ложиться в больницу, и я подумала, что это может ей помочь. Мальчики не очень ладили между собой, сказала я, мне надо было опекать сына подруги, так что уделить всё внимание моему собственному сыну, как он, вероятно, ожидал, у меня не вышло. В это время проходила выставка, на которую я очень хотела попасть, так что однажды утром я уговорила их обоих пойти со мной в галерею. Я думала, мы сможем дойти до нее пешком, но неправильно рассчитала расстояние, и в конце концов мы бесконечно долго шли по какому-то шоссе под проливным дождем. Оказалось, что сын моей подруги никогда не ходил в галереи и не интересовался искусством; он начал безобразничать, смотрителям пришлось сделать ему выговор, и в конечном счете его попросили покинуть галерею. В результате мне пришлось сидеть с ним в кафе в мокрой одежде, пока мой сын смотрел выставку один. Его не было около часа, сказала я, и, вернувшись, он описал мне всё, что видел. Я не знаю, сказала я, возможно ли приписать окончательную ценность опыту родительства, увидеть его во всей полноте, но то время, когда мы сидели в кафе и он рассказывал о выставке, было одним из самых светлых моментов. В числе прочего он видел огромный деревянный короб, в котором художник воссоздал свою собственную комнату в натуральную величину. В ней было всё: мебель, одежда, печатная машинка, стопки бумаг и открытые книги на столе, грязные чашки из-под кофе, – но она была перевернута так, что пол превратился в потолок, и вся комната была вверх дном. Эта комната, попасть в которую можно было через маленький дверной проем, особенно сильно поразила моего сына, и он провел в ней много времени. Спустя годы я часто вспоминала его описание, сказала я, и представляла его сидящим там – в мире, который содержит все те же элементы, но в нем всё наоборот и выглядит совсем не так, как ты ожидаешь.
Мужчина слушал меня слегка озадаченно.
– Он учится на художника? – спросил он, будто это было единственное объяснение тому, что я ему рассказала.
Осенью он пойдет в университет, сказала я, и будет изучать историю искусств.
– О, хорошо, – сказал он, кивая.
У его собственного сына намного более научный склад ума, чем у Бетси. Он хочет стать ветеринаром. У себя в комнате он держит разных необычных животных: шиншиллу, змею, двух крыс. У них есть друг-ветеринар, и сын проводит большинство выходных у него в приемной. Именно сын, кстати говоря, заметил, что с Пилотом что-то не так. Последние несколько недель собака была очень тихой и вялой. Они списывали это на его возраст, но однажды вечером сын гладил Пилота и заметил на боку припухлость. Через несколько дней, когда жены не было дома, а дети ушли в школу, он повез Пилота к другу-ветеринару, не подозревая ничего опасного. Ветеринар осмотрел Пилота и сказал, что у него рак.
Он умолк и снова посмотрел через меня в иллюминатор.
– Я даже не знал, что у собак может быть рак, – сказал он, – я никогда не думал о том, как умрет Пилот. Я спросил, может ли он сделать операцию, но он сказал, что в этом нет смысла – уже слишком поздно. Так что Пилоту дали обезболивающих, и я отвез его обратно домой. Всю дорогу, – сказал он, – я вспоминал, каким был Пилот, когда был молодым, сильным и мощным. Я думал обо всех тех годах, что он провел с моей семьей, пока я неделями был в разъездах, и то, что теперь, когда я вышел в отставку, он начал чахнуть, почему-то казалось мне неслучайным. Больше всего я боялся рассказать остальным, потому что, честно говоря, не был уверен, что они не предпочли бы Пилота мне. Я начал чувствовать, что, вернувшись домой, я всё испортил. Казалось, они все были так счастливы, когда меня не было, а сейчас мы с женой постоянно ругаемся, а дети кричат и хлопают дверьми, и в довершение всего, – сказал он, – из-за меня заболела собака, хотя всю жизнь Пилот не позволял себе слабости ни на секунду. В любом случае, – сказал он, – я сообщил им, хотя, надо признать, прозвучало это менее серьезно, чем было на самом деле. Мы устроили всё так, что, пока мы будем в отъезде, он останется в гостинице для собак, но я знал, что до нашего приезда он не дотянет, и сказал им ехать без меня. Они насторожились. Они заставили меня пообещать, что я позвоню, если ему станет хуже, чтобы они могли вернуться. Я сказал, что он в порядке, что это наверняка простуда или что-то вроде того, и утром с ним всё будет хорошо. – Он умолк и посмотрел на меня искоса. – Я даже не сказал жене.
Я спросила почему, и он снова замолчал.
– Когда она рожала, она не хотела, чтобы я был с ней, – сказал он. – Помню, она говорила, что не сможет вытерпеть боль, если я буду в комнате. Ей нужно было пройти через это одной. Они любили Пилота, – сказал он, – но это я выдрессировал и воспитал его, сделал из него того, кем он был. В каком-то смысле я создал его, – сказал он, – чтобы он подменял меня в мое отсутствие. Не думаю, что кто-то понял бы, что я чувствую к нему, даже они. И мысль, что они тоже останутся и их чувства окажутся важнее моих, была невыносима; думаю, именно это, – сказал он, – моя жена тогда и подразумевала.
Как бы то ни было, – продолжил он, – у Пилота в кухне была большая лежанка, где он всегда спал, и он вытянулся в ней на боку, а я пошел, достал несколько подушек, постарался сделать его постель удобной, насколько мог, и затем сел рядом на пол. Он очень часто и тяжело дышал и смотрел на меня такими огромными, грустными глазами, и длительное время я просто сидел вот так, и мы смотрели друг на друга. Я гладил его по голове и говорил с ним, а он лежал и по-прежнему тяжело дышал, и около полуночи я задумался, сколько это будет продолжаться. Я ничего не знал о смерти – я никогда не был рядом с умирающими – и понял, что теряю терпение. Дело даже не в том, что я хотел, чтобы всё это кончилось ради его же блага. Я просто хотел, чтобы хоть что-то произошло. В общем-то, всю свою взрослую жизнь, – сказал он, – я собирался куда-то ехать или откуда-то возвращался. Я никогда не был в ситуации, в которой непонятно, когда наступит конец, или в которой мне не нужно в определенное время уезжать, и, несмотря на то что такой образ жизни порой был малоприятен, в той или иной степени я привык к нему. В то же время я думал, что животных, как говорят, следует избавлять от мучений, и спрашивал себя, что я должен сделать: усыпить его или положить ему на морду подушку, и боюсь я или это просто слабость. И странным образом я почувствовал, будто Пилот знает ответ на этот вопрос. В конце концов, около двух часов ночи я сдался и позвонил ветеринару, и он сказал, что, если я хочу, он может приехать и сделать инъекцию. Я спросил его, что случится, если мы оставим всё как есть, и он сказал, что не знает – смерть может наступить через несколько часов или даже недель. Тебе решать, сказал он. На что я сказал ему: слушай, собака умирает или нет? И он сказал: да, конечно, она умирает, но это непостижимый процесс, и ты можешь либо ждать, либо решиться положить этому конец. И тогда я начал думать о том, как Бетси будет играть на концерте на следующий день, и о том, какой я буду уставший, и обо всём, что нужно сделать, так что я попросил его прийти. И через пятнадцать минут он приехал.
Я спросила, что происходило в эти пятнадцать минут.
– Ничего, – сказал он. – Совсем ничего. Я продолжал сидеть рядом с Пилотом, он тяжело дышал и смотрел на меня своими большими глазами, а я не чувствовал ничего особенного, я просто ждал, чтобы кто-то пришел и помог мне выпутаться из этой ситуации. Я чувствовал, что она стала фальшивой, хотя сейчас, – сказал он, – я бы отдал буквально что угодно, чтобы оказаться в той комнате в тот момент времени.
Вскоре пришел ветеринар, и всё случилось очень быстро, и он закрыл глаза Пилота и дал мне номер, чтобы утром я вызвал кого-нибудь, кто приедет и заберет его тело, а затем ушел. Так что я опять оказался в той же самой комнате с той же самой собакой, только теперь собака была мертвой. Я начал думать о том, что сказали бы жена и дети, если бы они знали, если бы видели меня сидящим там, и понял тогда, что сделал что-то ужасное, что-то, что они бы никогда не сделали, что-то такое трусливое и противоестественное и теперь такое необратимое, что, казалось, я никогда не смогу этого пережить и ничего уже не будет прежним. И в каком-то смысле просто чтобы скрыть свидетельства того, что я сделал, я решил сразу похоронить его. В темноте я пошел в сарай и взял лопату, а затем выбрал место в саду и начал копать. И всё то время, пока я копал, я не мог понять, делаю ли я нечто мужественное и благородное или же лицемерное, потому что, копая, я представлял, как расскажу об этом людям. Я представлял, что они будут восторгаться моей физической силой и решительностью, но на самом деле эта работа оказалась намного тяжелее, чем я ожидал. Сначала я думал, что не справлюсь. Однако я знал, что никак не могу сдаться. Я так и видел, как это будет выглядеть при дневном свете: я сижу с мертвой собакой и наполовину вырытой ямой в саду. Земля была невероятно твердой, лопата постоянно натыкалась на камни, а яма должна была получиться довольно большой, чтобы Пилот мог в нее поместиться. Пару раз я уже готов был признать поражение. Однако через какое-то время, – сказал он, – я начал чувствовать, что именно это и значит быть мужчиной. Я понял, что испытываю злость и что эта злость придает мне сил, так что разрешил себе злиться всё больше и больше, пока не перестал бояться того, что скажет семья, потому что им не пришлось убивать собаку и рыть яму, чтобы похоронить ее. Одна из фраз, которую моя жена начала повторять, когда мы ругаемся по поводу того, как она хозяйничает, – это «Тебя здесь не было». Я всегда ненавидел эту фразу, но тогда я представил, как сам ее произнесу. Я понял, что жена наверняка была очень зла, когда говорила это, и вдруг обрадовался, что Пилот умер. Я обрадовался, потому что мне стало ясно: без него нам придется признать то, что мы на самом деле чувствуем.
Он умолк, на его лице читалось замешательство.
– Я закончил рыть яму, – сказал он через некоторое время, – пошел обратно в дом и завернул Пилота в одеяло. Я поднял его с лежанки, и он оказался невероятно тяжелым, так что я чуть его не уронил. Было бы легче его волочить, – сказал он, – но я знал, что не смогу, потому что его тело уже внушало мне ужас. Когда я вернулся домой и увидел его мертвым, мне невероятно сильно захотелось убежать. Мне пришлось заставить себя поверить, что это всё еще Пилот, иначе я бы не смог ничего сделать. В конце концов мне пришлось прижать его к груди, – сказал он, – и то, выходя из дома, я умудрился ударить его головой о дверной косяк, и я говорил с ним и извинялся перед ним вслух, и кое-как вытащил его на улицу, перенес через сад и опустил в яму. Начинало светать, и я уложил его там, затем пошел обратно в дом, взял с лежанки некоторые его вещи и отнес к нему. Потом я засыпал яму, разровнял землю сверху и пометил края камнями. После этого вернулся в дом, собрал сумку и принял душ. Я был весь в грязи, – сказал он, – и рубашку пришлось выбросить. Потом я сел в машину и поехал в аэропорт.
Он вытянул перед собой свои большие руки и внимательно осмотрел их со всех сторон. Они были чистыми, за исключением темных полумесяцев грязи под ногтями. Он посмотрел на меня.
– Единственное, что я не смог сделать, – вычистить землю из-под ногтей, – сказал он.
Отель был абсолютно круглым. Это здание – бывшая водонапорная башня, сказала женщина за стойкой регистрации, и проект ее реконструкции выиграл множество премий. Она положила передо мной карту города, разглаживая ее по столу изящными, покрытыми ярким лаком ногтями.
– Мы здесь, – сказала она, обводя место ручкой.
Несколько толстых колонн в фойе поднимались вверх сквозь середину здания, откуда, словно спицы колеса, простирались крытые галереи. За одной из колонн у стола, заваленного информационными буклетами, сидела девушка в футболке с логотипом фестиваля. Она переворошила целую стопку бумаг, пытаясь найти данные обо мне. Согласно программе, я выступаю на мероприятии днем, сказала она, и потом, насколько ей известно, одна из центральных ежедневных газет должна взять у меня интервью. Мероприятие будет проходить в отеле. Вечером в центре города будет организована вечеринка. На фестивале для покупки еды используется система купонов: я могу воспользоваться ими здесь в отеле и позже на вечеринке. Она достала пачку напечатанных купонов, оторвала несколько из них по линии перфорации и, записав их серийные номера на листке бумаги перед собой, отдала мне. Она также протянула мне буклет и передала сообщение от моего издателя: перед выступлением он хотел встретиться со мной в баре отеля.
Часть бара была отгорожена по случаю свадебного торжества. Люди стояли в темном помещении с низкими потолками и держали в руках бокалы с шампанским. Из окон вдоль одной из закругленных стен падал яркий, холодный свет, и контраст света и тени придавал лицам и одежде гостей немного жутковатый вид. Фотограф выводил людей парами или небольшими группами на террасу, где они позировали на холодном ветру, улыбаясь на камеру. Жених и невеста, окруженные гостями, разговаривали и смеялись, стоя рядом, но спиной друг к другу. Они смотрели неловко, практически виновато. Я заметила, что все собравшиеся почти одного возраста с женихом и невестой, и из-за того, что среди гостей не было ни старшего, ни младшего поколения, казалось, что происходящее не связано ни с прошлым, ни с будущим и что никто не может быть уверен, потеряна ли эта связь из-за свободы или из-за безответственности.
Оставшаяся часть бара была пуста, только невысокий светловолосый мужчина сидел в кожаном полукабинете с книгой на столе. Заметив меня, он поднял книгу, чтобы я могла увидеть обложку. Он посмотрел на обратную сторону обложки, затем на меня и затем снова на задник.
– Вы совсем не похожи на эту фотографию! – воскликнул он с упреком, когда я подошла достаточно близко, чтобы услышать его.
Я отметила, что фотография была сделана больше пятнадцати лет назад.
– Но мне она нравится, – сказал он. – На ней у вас такое открытое лицо!
Он начал рассказывать о другом своем авторе. На портрете с книжной обложки она выглядит стройной, миловидной женщиной с копной длинных струящихся волос. Во плоти же она седая, полноватая дама, которая, к сожалению, страдает заболеванием глаз, из-за чего ей приходится носить очки с толстыми стеклами. Когда она появляется на фестивалях и чтениях, контраст становится особенно очевидным, и он несколько раз пытался деликатно намекнуть ей, что стоило бы поставить на обложку более актуальную фотографию, но она и слышать ничего не хочет. Для чего фотографии быть достоверной? Чтобы ее могла опознать полиция? Весь смысл ее профессии, сказала она, в том, что это побег от реальности. Кроме того, ей больше нравится быть сильфидой со струящимися волосами. Она верит, что отчасти такой и осталась. Небольшая доля самообмана, сказала она, – это важная часть таланта жить.
– Она одна из самых популярных писательниц, – сказал он, – как можно догадаться.
Он спросил, как мне отель, и я сказала, что его круглая форма приводит меня в замешательство. Уже несколько раз я пыталась куда-нибудь попасть, но возвращалась на прежнее место. Я не осознавала, сказала я, что для ориентации в пространстве так нужна вера в движение вперед и в то, что позади всё останется в неизменном виде. Я прошла по всей окружности здания в поисках того, что сразу находилось совсем рядом, – эта ошибка была, по сути, гарантирована, потому что источники естественного света в здании скрыты размещенными под углом перегородками, и повсюду царит почти полная темнота. Другими словами, увидеть свет издалека здесь нельзя – его можно разве что случайно обнаружить через больший или меньший отрезок пути; то есть ты понимаешь, где находишься, только уже оказавшись на месте. Я не сомневаюсь, что именно за эти метафоры архитектор получил множество премий, но он явно считал, что у людей недостаточно своих проблем или, по крайней мере, что им нечем заняться. Глаза издателя округлились.
– Если уж на то пошло, – сказал он, – то же самое можно сказать о романах.
На вид он был человеком тщедушным, по-щегольски одетым в пиджак и полосатую рубашку, с аккуратно зачесанными назад льняными волосами и очками геометрической формы в серебряной оправе; от него пахло свежевыглаженным бельем и одеколоном. Из-за худобы он казался еще моложе, чем был на самом деле. У него была очень светлая кожа – у манжет и воротника она выглядела такой белой и гладкой, что казалась пластиковой, а его бледно-розовый рот был маленьким и пухлым, как у ребенка. Он занимает руководящую должность в издательстве уже полтора года, сказал он, а до этого работал в сфере продаж. Некоторые удивлялись, что одно из самых старых и титулованных издательств страны было передано в руки тридцатипятилетнего продажника, но, поскольку ему удалось в такие короткие сроки спасти издательство от банкротства и добиться того, что нынешний год обещает стать наиболее прибыльным за долгую историю компании, критики один за другим поутихли.
Пока он говорил, с его лица не сходила легкая улыбка, а светло-голубые глаза за стеклами очков искрились мягко, как блики на воде.
– К примеру, – сказал он, – еще год назад я бы не смог утвердить подобную книгу. – Он поднял книгу с моей фотографией не то обвинительным, не то триумфальным жестом. – Грустно то, – сказал он, – что даже наши самые прославленные писатели впервые за десятилетия получили отказ. Ну и стонов же было, – сказал он, улыбаясь, – как будто страдающие звери ревут из смоляной ямы. Некоторые считали, что это их право – писать что вздумается вне зависимости от того, хотят ли это читать другие, и при этом из года в год печататься, – и не смогли смириться с тем, что оно было поставлено под вопрос. К сожалению, – сказал он, едва касаясь тонкой стальной оправы своих очков, – кое-кто забыл о вежливости и даже потерял над собой контроль.
Я спросила, что, кроме отказа от невыгодных литературных произведений, способствовало возвращению компании к финансовой стабильности, и он улыбнулся шире.
– Своим успехом мы обязаны судоку, – сказал он. – На самом деле я даже сам им увлекся. Конечно, кто-то стал кричать, что мы только портим свою репутацию. Но это быстро прекратилось, как только менее популярные авторы поняли, что таким образом их снова будут печатать.
То, что ищут все издатели, продолжил он, – святой Грааль, так сказать, современной литературной сцены – это те писатели, которые хорошо продаются на рынке и при этом сохраняют связь с ценностями литературы; другими словами, те, чьи книги люди читают с удовольствием, нисколько не стыдясь того, что кто-то увидит обложку. Ему удалось собрать для издательства немало таких авторов, и, помимо судоку и популярных триллеров, в основном именно благодаря им компания достигла финансового благополучия.
Я сказала, что меня поразило его наблюдение, что сохранение литературных ценностей – хоть и номинальное – это важный фактор успеха. В Англии, сказала я, люди любят жить в старых домах, полностью приспособив их под современные стандарты, и мне стало интересно, можно ли применить тот же самый принцип по отношению к романам, и если да, то не является ли причиной притупление или потеря нашего собственного влечения к красоте. На его белом лице с тонкими чертами появилось выражение восторга, и он поднял палец в воздух.
– Людям нравится сжигать! – воскликнул он.
На самом деле, продолжил он, всю историю капитализма можно рассматривать как историю сжигания – не только полезных ископаемых, которые пролежали в земле миллионы лет, но и знаний, идей, культуры и в том числе красоты – другими словами, всего, что успело развиться и накопиться.
– Может быть, мы сжигаем само время! – воскликнул он. – Возьмем, к примеру, английскую писательницу Джейн Остин; я заметил, что романы этой давно умершей старой девы за последние несколько лет использовали уже до предела, – сказал он, – сжигая их один за другим в виде новой продукции: сиквелов, фильмов, книг по саморазвитию и даже, если не ошибаюсь, реалити-шоу. Несмотря на то что о жизни Остин известно очень мало, даже саму ее умудрились положить в погребальный костер популярной биографии. Можно спорить, является ли это сохранением наследия или нет, – сказал он, – но это совершенно точно желание выжать из него всё до последней капли. Из мисс Остин получился хороший огонь, – сказал он, – но в случае с моими успешными авторами сжигается само понятие литературы.
Существует, добавил он, обобщенное томление по идеалу литературы, как по потерянному миру детства, который часто кажется значительнее и реальнее, чем нынешний. Однако вернуться в ту реальность, даже всего на день, для большинства людей будет и невыносимо, и невозможно: несмотря на ностальгию по прошлому и по истории, мы быстро обнаружим, что не можем там жить из-за отсутствия комфорта, так как определяющая мотивация нашего времени, сказал он, сознательная или нет, – это погоня за свободой от ограничений и трудностей.
– Что такое история, если не память без боли? – сказал он, довольно улыбаясь и складывая перед собой на столе маленькие белые руки. – Если люди в наши дни хотят снова испытать похожие трудности, они идут в спортзал.
Подобным же образом многим видится привлекательным, продолжил он, погрузиться в нюансы литературы без тяжелого труда, – к примеру, без чтения Роберта Музиля. Например, в юности он читал очень много поэзии, особенно Т. С. Элиота, и всё-таки, возьми он сейчас цикл «Четыре квартета», он уверен, что чтение принесло бы ему только боль – не только из-за пессимистичного взгляда на жизнь самого Элиота, но и потому, что он будет вынужден заново вернуться в тот мир, в котором впервые прочел эти поэмы в их неприкрашенной реальности. Не каждый, конечно, в подростковом возрасте читает Элиота, сказал он, но достаточно трудно пройти через систему образования и в какой-то момент не столкнуться с тем или иным отжившим свое текстом; таким образом, для большинства людей чтение символизирует интеллект – возможно, потому, что в свое время они не смогли или понять книги, которые были обязаны прочесть, или насладиться ими. Чтение даже ассоциируется с моральной добродетелью и превосходством, и, если дети не читают, родители начинают беспокоиться, что с ними что-то не так, хотя, возможно, и сами ненавидели литературу. Более того, как он уже сказал, именно забытое страдание, вызванное литературными произведениями, могло оставить этот налет уважения к книгам; если, конечно, можно верить психоаналитикам, которые говорят, что мы склонны неосознанно повторять болезненный опыт. Таким образом, продукт культуры, который порождает это противоречивое влечение, не предъявляя при этом никаких требований и не причиняя боли, обязан стать успешным. Бурное развитие книжных клубов, читательских групп и сайтов, переполненных читательскими отзывами, не прекращается, потому что этот костер постоянно подпитывает снобизм противоположного вида, который так хорошо понимают наиболее успешные авторы в его издательстве.
– Больше всего на свете, – сказал он, – люди не любят, когда их заставляют чувствовать себя глупыми, и если ты вызываешь эти чувства, то делаешь это за свой счет. Я, к примеру, люблю играть в теннис, – сказал он, – и знаю, что если буду играть с кем-то, кто немного лучше меня, то и сам начну играть лучше. Но если партнер сильно превосходит меня в мастерстве, он становится моим палачом, и мою игру уже ничто не спасет.
Иногда он развлекается тем, сказал он, что изучает глубины интернета, где читатели высказывают мнение о приобретенных книгах так, будто дают оценку чистящему средству. Изучая эти комментарии, он понял, что уважение к литературе довольно поверхностно и что люди всегда были способны ее ругать. В каком-то смысле даже весело видеть, что из пяти звезд Данте получает одну, а «Божественную комедию» кто-то характеризует как «полное дерьмо», но для чувствительного человека это может быть огорчительно, пока он не вспомнит, что Данте – как и другие великие писатели – основывал свое видение на глубоком понимании человеческой природы и мог сам за себя постоять. Многие его коллеги и современники рассматривают литературу как нечто хрупкое, что нуждается в защите, но это, по его мнению, позиция слабости. Точно так же он не придает большого значения тому, что литература якобы учит нас морали: совершенствоваться в игре будет только тот, кто – как он уже говорил – уступает сопернику совсем чуть-чуть.
Он откинулся назад и посмотрел на меня с довольной улыбкой.
Я сказала, что нахожу его наблюдения немного циничными, и поразительно, что он так равнодушен к справедливости, тайны которой, оставаясь для нас неясными, внушают мне – и, кажется, небезосновательно – определенный страх. На самом деле именно неясность этих тайн, сказала я, сама по себе вызывает ужас, так как если мир полон людей, творящих зло безнаказанно, и людей, живущих добродетельно без воздаяния, то искушение отбросить личную мораль может возникнуть именно в тот момент, когда эта мораль наиболее важна. Другими словами, справедливость – это то, что нужно отстаивать ради нее самой же, и независимо от того, верит он или нет, что Данте может сам за себя постоять, мне кажется, что нужно защищать его при каждой возможности.
Пока я говорила, издатель то и дело украдкой отводил взгляд от моего лица, чтобы посмотреть куда-то через мое плечо, и я повернулась и увидела женщину, которая стояла у входа в бар и в замешательстве осматривалась, заслоняя рукой глаза, будто путешественник, вглядывающийся в даль.
– Ага, – сказал он. – Вот и Линда.
Он помахал ей, и она резко помахала в ответ с таким облегчением, будто уже измучилась искать нас, хотя на самом деле мы были в баре одни.
– Я по ошибке спустилась на цокольный этаж, – сказала она, когда добралась до нашего столика. – Там внизу парковка. Все эти машины стоят рядами. Было ужасно.
Издатель рассмеялся.
– Мне не было весело, – сказала Линда. – Я чувствовала себя так, будто нахожусь в чьей-то толстой кишке. Будто здание меня переваривало.
– Мы издаем первый роман Линды, – сказал он мне. – Рецензии пока что были очень обнадеживающими.
Она была рослой, пышной женщиной с полноватыми руками и ногами и казалась еще выше из-за роскошных босоножек на высоком каблуке с множеством ремешков, которые смотрелись нелепо в сочетании с ее черным мешковатым нарядом и неуклюжим видом. Взъерошенные волосы падали ей на плечи спутанными локонами, и ее кожа была такого оттенка, будто она редко выходила из дома. У нее было круглое, рыхлое, немного испуганное лицо, и она приоткрыла рот, с изумлением наблюдая через большие очки в красной оправе за свадебным торжеством в другом конце бара.
– Что это? – спросила она озадаченно. – Они снимают кино?
Издатель объяснил, что этот отель – популярное место для проведения свадеб.
– А, – сказала она, – я думала, это какая-то шутка.
Она тяжело упала на диван нашего полукабинета, одной рукой обмахивая лицо, другой – дергая воротник своего черного наряда.
– Мы только что говорили о Данте, – любезным тоном сказал издатель.
Линда пристально посмотрела на него.
– Мы должны были прочитать его к сегодняшнему дню? – спросила она.
Он громко рассмеялся.
– Единственная тема на сегодня – это ты, – сказал он. – За это люди и платят деньги.
Мы обе слушали, как он подробно рассказывал о сегодняшнем мероприятии, в котором мы участвовали. Он представит нас, сказал он, а затем побеседует с нами несколько минут до начала чтений и задаст каждой из нас два-три вопроса.
– Но ты уже знаешь ответы, да? – спросила Линда.
Это формальность, сказал он, просто чтобы дать всем возможность расслабиться.
– Чтобы растопить лед, – сказала Линда. – Я знаю, как это делается. Хоть и люблю немного льда на поверхности, – добавила она. – Мне просто так больше нравится.
Она рассказала о чтениях, в которых участвовала в Нью-Йорке вместе с одним известным писателем. Они заранее договорились о том, как будут проходить чтения, но, когда они вышли на сцену, писатель объявил публике, что они собираются не читать, а петь. Публика встретила эту идею с энтузиазмом, и писатель встал и запел.
Издатель рассмеялся и захлопал в ладоши так, что Линда подпрыгнула.
– Что он спел? – спросил он.
– Не знаю, – сказала Линда, – какую-то ирландскую народную песню.
– А что спела ты? – спросил он.
– Это было худшее, что происходило со мной в жизни, – сказала Линда.
Издатель улыбнулся и покачал головой.
– Гениально! – сказал он.
В других чтениях она участвовала вместе с одной поэтессой, сказала Линда. Эта поэтесса – культовая фигура, и в зале собралось много людей. Бойфренд поэтессы всегда участвует в ее публичных выступлениях: прохаживается вдоль рядов, присаживается людям на колени или поглаживает их ноги. В тот раз он принес с собой огромный клубок бечевки и стал ползать по рядам, завязывая петлю на щиколотке каждого зрителя, так что к концу мероприятия все присутствующие были связаны вместе.
Издатель снова рассмеялся.
– Вы должны прочитать роман Линды, – сказал он мне. – Он уморительно смешной.
Линда посмотрела на него озадаченно, без улыбки.
– Он не был таким задуман, – сказала она.
– Но именно поэтому люди здесь и любят его, – сказал он. – Он убеждает их в абсурдности жизни, не заставляя при этом чувствовать абсурдными самих себя. В твоих рассказах ты всегда… как бы это лучше сказать?
– Посмешище, – сказала Линда безразлично. – Здесь жарко? – добавила она. – Мне душно. Должно быть, это менопауза. Писательница перегревается, и лед тает, – сказала она, изображая пальцами воздушные кавычки.
В этот раз издатель не рассмеялся, а посмотрел на нее сквозь очки равнодушно, не моргая.
– Я так давно езжу по миру, что начинаю проходить все стадии старения, – сказала она мне. – У меня уже лицо болит оттого, что приходится всё время улыбаться. Я ем всю эту странную еду, и сейчас это платье – единственное, во что я влезаю. Я ношу его так часто, что оно уже будто стало моей квартирой.
Я спросила, где она была до этого, и она ответила, что во Франции, Испании и Великобритании, а еще раньше – на писательском ретрите в Италии. Жить надо было в какой-то глуши, в замке на холме. Для места, которое предполагает размышления в одиночестве, оно оказалось довольно суматошным. Замок принадлежит графине, которой нравится тратить деньги покойного мужа на то, чтобы окружать себя писателями и художниками. По вечерам надо сидеть с ней за столом и поддерживать оживленную беседу. Графиня сама выбирает и приглашает писателей; большинство из них – молодые мужчины. По правде говоря, помимо Линды там была всего одна женщина.
– Мне сорок, и я толстая, – сказала Линда, – а вторая писательница – лесбиянка, так что можете себе представить…
Один из гостей, молодой чернокожий поэт, сбежал на второй день. Графиня была особенно горда тем, что заполучила его, и хвасталась этим всем, кто был готов слушать. Когда он объявил о своем намерении уехать, она вышла из себя, то требуя, то умоляя дать объяснение. Это неподходящее для него место, сказал он. Он чувствует себя здесь некомфортно и не может работать. Он собрал вещи и прошел пешком три мили до деревни, чтобы сесть на автобус, так как графиня отказалась вызвать для него такси. Оставшиеся две недели графиня яростно критиковала его самого и его стихи перед всеми, кто был готов слушать. Линда смотрела из своей комнаты ему вслед, пока он не исчез за поворотом длинной извилистой дороги. Он шел легким, пружинистым шагом и нес на плече маленький холщовый рюкзак. Она очень хотела сделать то же самое, но знала, что не может. Причина была в огромных размерах ее чемодана. А еще она не была уверена, что пройдет три мили в туфлях. Вместо этого она сидела в своей обставленной старинной мебелью комнате с красивым видом на долину, и всякий раз, когда она смотрела на часы, ожидая, что прошел час, выяснялось, что прошло только десять минут.
– Я не могла написать ни слова, – сказала она. – Я даже читать не могла. На столе стоял старинный телефон, и я всё время хотела позвонить кому-то и попросить приехать и спасти меня. Однажды я наконец сняла трубку, но телефон не был подключен – он был всего лишь для красоты.
Издатель коротко и пронзительно рассмеялся.
– Но почему тебя нужно было спасать? – спросил он. – Ты в итальянском замке за городом, у тебя своя комната, и никто тебе не мешает – абсолютная свобода работать. Для большинства людей это мечта!
– Я не знаю, – сказала Линда вяло. – Наверное, это значит, что со мной что-то не так.
В той комнате в замке было множество картин, изысканных книг в кожаных переплетах, дорогих ковров, продолжила она, и роскошное постельное белье. Каждая деталь подбиралась с превосходным вкусом, и всё в комнате было безупречно чистым, отполированным и приятно пахло. Через какое-то время она осознала: единственное, что было несовершенным, – это она сама.
– В этой комнате поместилась бы вся наша квартира. – сказала она. – Там был большой деревянный шкаф для одежды, и я часто открывала его, думая, что могла бы обнаружить в нем своего мужа, который следит за мной через замочную скважину. В конечном счете, – сказала она, – думаю, какая-то часть меня действительно надеялась обнаружить его там.
Ее окно выходило прямо на террасу с красивым бассейном, но она никогда не видела, чтобы в нем кто-то плавал. Вокруг бассейна были шезлонги, и если ты ложился на один из них, к тебе автоматически выходил человек и приносил на подносе напиток. Она наблюдала за этим механизмом несколько раз, но так и не решилась опробовать его на себе.
– Почему? – удивленно спросил издатель.
– Если бы я вышла, легла, а официант бы не появился, – сказала Линда, – это значило бы что-то ужасное.
Каждое утро графиня появлялась в золотом халате и ложилась на один из шезлонгов на солнце среди цветов. Она распахивала халат, обнажая худое коричневое тело, и лежала, как ящерица, загорая. Через несколько минут какой-нибудь писатель обязательно проходил мимо, якобы случайно. Кто бы он ни был, он всегда заговаривал с графиней, и иногда беседа длилась довольно долго. Из своей комнаты Линда слышала, как они разговаривают и смеются. Эти другие писатели, продолжила Линда, насмехались над графиней за ее спиной так осторожно и остроумно, что не оставалось никаких свидетельств, которые бы могли быть позже использованы против них. Происходило ли это из любви к графине или из ненависти, Линда не знала, но через какое-то время поняла, что это было ни то, ни другое. Они ничего не любили и ничего не ненавидели – по крайней мере, в открытую; они просто привыкли никогда не раскрывать карты.
За столом графиня съедала совсем чуть-чуть, а затем брала сигарету, медленно выкуривала ее и тушила о тарелку. На ужин она спускалась в обтягивающих платьях с глубоким вырезом, вся увешанная драгоценностями – золотом, бриллиантами и жемчугом; украшения были у нее на руках, на пальцах, на шее, в ушах, так что в темной комнате от нее исходил свет. Другими словами, ее было невозможно не заметить: ее глаза сверкали, она смотрела на людей за столом соколиным взором, следя за разговором, как хищник за добычей. Они постоянно ощущали ее присутствие, и поэтому каждый старался сказать что-нибудь остроумное и интересное. Однако, поскольку она оставалась на виду, разговор всегда получался ненастоящим: это был разговор людей, только имитирующих беседу писателей, и те его кусочки, которыми графиня питалась, были искусственными и безжизненными, и, кроме того, их клали прямо к ее ногам, так что ее удовлетворение тоже было искусственным. Все усердно участвовали в этой постановке, сказала Линда, и это приводило в замешательство, потому что было непонятно, что каждый из них может получить взамен. Графиня, добавила она, собирала волосы так высоко, что ее шея выглядела необычайно хрупкой, и казалось, можно протянуть руку и переломить ее надвое.
Услышав это, издатель нервно рассмеялся, и Линда посмотрела на него без всякого выражения.
– Но я, конечно, ничего такого не сделала, – сказала она.
Собрания за столом были настоящей пыткой, продолжила она вскоре, и не только, как она поняла сейчас, из-за атмосферы взаимной проституции, но и потому, что из-за постоянного напряжения ее желудок будто связали в тугой узел, и она не могла ничего есть. По правде говоря, она, наверное, ела даже меньше, чем сама графиня, и однажды вечером та повернулась к ней, разглядывая ее сверкающими глазами, и выразила удивление, что Линда так мало ест и при этом такая крупная.
– Я думала, что она, наверное, злится, – сказала Линда, – потому что прислуге приходилось забирать у меня полную тарелку еды, к которой я почти не притрагивалась, но на самом деле это был единственный раз, когда она проявила ко мне хоть какой-то интерес, как будто идея дружбы с другой женщиной заключалась для нее в том, чтобы разделять с ней моменты самоистязания. И собственно, когда бы прислуга ни приходила убрать со стола или принести новые блюда, мне приходилось останавливать себя, чтобы не встать и не начать помогать.
Дома она обычно избегает хозяйственных дел, продолжила она, потому что эти обязанности заставляют ее чувствовать себя такой незначительной, что потом она уже не может ничего писать. Она предполагает, что они заставляют ее чувствовать себя обычной женщиной, тогда как бо́льшую часть времени она об этом не думает или, возможно, даже не верит, что она женщина, потому что дома эта тема не поднимается. Ее муж почти всеми домашними делами занимается сам, сказала она, потому что ему это нравится, и они не оказывают на него такого же действия, как на нее.
– Но в Италии я начала чувствовать, что, если буду работать по хозяйству, это сможет как-то оправдать мое существование, – сказала она. – Я даже начала скучать по мужу. Я всё время думала о нем и о том, насколько я критична по отношению к нему, и всё чаще не могла даже вспомнить, за что обычно критикую его, потому что чем больше я думала о нем, тем более совершенным он мне казался. Я начала думать о нашей дочери и о том, какая она милая и невинная, и совсем забыла, что рядом с ней я иногда чувствую себя загнанной в комнату с роем пчел. Я всегда мечтала о том, что поеду на писательский ретрит, – сказала она, – и смогу по вечерам говорить с другими писателями, а не сидеть в квартире, ругаясь с мужем и дочерью из-за всяких мелочей. Но теперь всё, чего я хотела, – это снова оказаться с ними, несмотря на то, что дома я считала дни до отъезда. Однажды вечером я позвонила им, – сказала она, – мой муж снял трубку, и его голос звучал слегка удивленно, когда я сказала, что это я. Мы недолго поговорили, затем повисло молчание, и наконец он спросил: что я могу для тебя сделать?
Издатель рассмеялся.
– Как романтично! – сказал он.
– Я спросила, как у них дела, – продолжила Линда, – и он ответил, что потихоньку-помаленьку. Мой муж любит подобные словечки, – добавила она. – Это немного раздражает.
– Так что мужчина, по которому ты скучала, – это не он, – с довольным видом сделал вывод издатель.
– Наверное, нет, – сказала Линда. – Разговор меня отрезвил. Внезапно я ясно увидела нашу квартиру. Пока мы говорили, я видела пятно на ковре в прихожей, где протек один из пакетов с мусором, и кухню, где все дверцы шкафов перекошены, и раковину в ванной, на которой есть трещина, по форме напоминающая очертания Никарагуа, – сказала она. – Я даже чувствовала этот вечный запах из слива. После этого стало лучше, – сказала она, складывая руки на груди и оглядываясь на свадьбу в другом конце бара. – Вообще я неплохо провела время. Каждый вечер я стала просить добавку пасты, – добавила она. – Выражение лица графини стоило того. И, надо признаться, некоторые другие авторы оказались интересными, как и было заявлено.
И всё-таки спустя две недели она убедилась, что хорошего иногда бывает слишком много. Вместе с ней в Италии был писатель, который прямиком оттуда должен был отправиться в другую резиденцию во Франции, а после еще в одну в Швеции; насколько она могла судить, он всю жизнь проводил у писательских кормушек – всё равно что всю жизнь есть одни только десерты. Она сомневается, что это полезно для здоровья. А однажды вечером она разговорилась с другим писателем, и он рассказал, что каждый день, садясь писать, думает о ничего не значащем для него объекте и ставит перед собой задачу включить его в свою работу. Она попросила его привести пример, и он сказал, что за последние несколько дней выбрал в качестве таких объектов газонокосилку, изысканные наручные часы, виолончель и попугая в клетке. Виолончель единственная не сработала, сказал он, потому что, когда он выбирал ее, он забыл, что родители пытались заставить его научиться на ней играть. Его мать любила звук виолончели, но у него получалось ужасно. Жалобный звук, который издавал его инструмент, был совсем не таким, как представляла себе его мать, и он бросил занятия. Так что он начал писать, – сказала Линда, – о ребенке, который гениально играет на виолончели, и этот рассказ был таким преувеличенным и невероятным, что ему пришлось его выбросить. Смысл всех этих объектов, как он объяснил, в том, чтобы помочь увидеть вещи такими, какие они есть. Так или иначе, – сказала Линда, – я сказала, что попробую этот способ, потому что с момента приезда не написала ни слова, и попросила, чтобы он для начала задал мне объект, и он предложил хомяка. Ну вы понимаете, – сказала она, – маленькое пушистое существо в клетке.
Хомяк действительно не значил для нее ничего, сказала она, так как в их доме строгий запрет на животных, и она сразу же почувствовала, что этот грызун дает ей инструмент для описания треугольника человеческих взаимоотношений. Она и раньше пыталась писать о динамике внутри семьи, но почему-то, какими бы холодными ее чувства ни выходили из морозильной камеры сердца, в руках они всегда превращались в растаявшую кашицу. Проблема, как она теперь поняла, была в том, что она пыталась описать мужа и дочь на основе собственных чувств – материала, который никто больше не мог увидеть. Факт существования хомяка менял ситуацию. Она могла описать, как муж и дочь гладят и тискают его, а у нее самой его клетка вызывает раздражение, как их двоих этот хомяк объединяет, а она оказывается за бортом. Что это за любовь, которой необходим одомашненный и запертый в клетке объект? И если любовь раздают, то почему она сама ее не получает? Ей в голову вдруг пришло, что раз уж дочь нашла себе в хомяке удовлетворительную компанию, муж мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы исправить положение и уделить внимание жене, однако произошло ровно противоположное: он еще реже обычного оставлял ребенка в покое. Каждый раз, когда девочка подходила к клетке, он вскакивал и присоединялся к ней, пока Линда не поинтересовалась, уж не ревнует ли он к хомяку, только делая вид, что любит его, чтобы не отпускать от себя дочь. Линда задавалась вопросом, не хочет ли он втайне убить хомяка, и так как за это время она поняла, что испытывает по меньшей мере противоречивые чувства при мысли о том, что муж может снова проявить к ней интерес, для нее стало важно, чтобы хомяк жил. Иногда ей было жалко хомяка, превратившегося в невольную жертву взаимного нарциссизма человеческих отношений; она слышала, что если посадить в клетку двух хомяков, то они в конце концов убьют друг друга, поэтому они вынуждены жить в одиночку. По ночам она не могла уснуть из-за жужжания колеса, в котором он остервенело бегал. В одной из версий рассказа ее дочь полюбила хомяка так сильно, что выпустила его на свободу. Но в финальной версии его выпускает Линда, открывая клетку и выгоняя его из квартиры, пока дочь в школе. Хуже того, она не разубеждает дочь, которая думает, что случайно оставила клетку открытой и, значит, сама виновата.
– Это хороший рассказ, – сказала Линда решительно. – Мой агент только что продал его в «Нью-Йоркер».
И всё-таки она не знает, что еще ей дал писательский тур, кроме лишнего веса, который она набрала из-за пасты. Ей пришло в голову, что, позвонив мужу и положив конец чувству потерянности и неприкаянности, она, может быть, упустила возможность что-то понять. Она читала роман Германа Гессе, сказала она, где он описывает нечто подобное.
– Герой сидит у реки, – сказала она, – и просто смотрит на игру света и тени на ее поверхности и на странные очертания, похожие на рыбу под водой, которая появилась и затем снова исчезла, и понимает, что смотрит на нечто такое, что ни сам он, ни кто-либо другой не может описать средствами языка. И он вроде как чувствует, что именно то, что он не может описать, и есть настоящая реальность.
– Гессе сейчас совсем не популярен, – сказал издатель, презрительно махнув рукой. – Почти стыдно быть замеченным с его книгой.
– Это объясняет, почему на меня так странно смотрели в самолете, – сказала Линда. – Я думала, это из-за того, что я нанесла макияж только на половину лица. Я добралась до отеля, посмотрела в зеркало и поняла, что накрасилась только с одной стороны. Должно быть, единственным человеком, который этого не заметил, была моя соседка, – сказала она, – так как она сидела сбоку и не видела второй половины моего лица. Впрочем, она и сама выглядела довольно странно. Она сказала мне, что переломала почти все кости и вот только что вышла из больницы. Она лыжница и в снежную бурю упала в обрыв. Полгода ее пересобирали заново. Они восстановили ее кости с помощью металлических штифтов и сложили по кусочкам.
Во время полета, продолжила Линда, женщина подробно рассказала об этом инциденте, который произошел в Австрийских Альпах, где она работала лыжным инструктором. Она вышла с группой в горы, несмотря на плохой прогноз, так как это были профессиональные лыжники, которые хотели пройти известную своей опасностью трассу по свежему рыхлому снегу, необычному для того времени года. Они уговорили ее пойти, хотя здравый смысл подсказывал ей, что не стоит, и за полгода в больнице у нее появилась уйма времени на то, чтобы оценить масштаб их ответственности за случившееся, но в конце концов она признала: никакое давление не могло изменить тот факт, что решение она приняла сама. По правде говоря, только чудом ни один из лыжников не сорвался вместе с ней, потому что все они очень торопились, стремясь спуститься до того, как их накроет метель. Она помнит, сказала женщина, что за несколько мгновений до падения испытала необычайное чувство собственного могущества и свободы, хотя знала, что горы могут в один миг отобрать у нее эту свободу. И всё-таки в те моменты происходящее казалось детской игрой, возможностью попрощаться с реальностью, и, когда она оказалась над пропастью и гора ушла из-под ног, на секунду она поверила, что может летать. То, что случилось дальше, нужно было собирать из воспоминаний других людей, так как сама она ничего не помнит, но, кажется, группа решила продолжить путь вниз без нее: они были убеждены, что она не выжила после падения. Два дня спустя она дошла до горного приюта и потеряла сознание. Никто не мог понять, как она туда добралась, учитывая, сколько у нее было сломанных костей; это невероятно, и всё-таки она, без сомнения, это сделала.
