В погоне за искусством бесплатное чтение
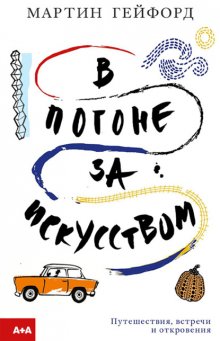
MARTIN GAYFORD
The Pursuit of Art. Travels, Encounters and Revelations
Thames & Hudson
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы ООО «Ад Маргинем Пресс» и ООО «АВСдизайн».
Перевод – Елена Дунаевская
Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
The Pursuit of Art © 2019 Thames & Hudson Ltd, London
Text © 2019 Martin Gayford
This edition first published in Russia in 2022 by Ad Marginem, Moscow
Russian edition © 2022 Ad Marginem, Moscow
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2022
© ООО «АВСдизайн», 2022
От автора
Известный искусствовед Клемент Гринберг однажды сказал, что его работа позволяет ему непрерывно учиться в общении с людьми. В какой-то мере это верно для большинства пишущих людей, и безусловно верно для меня. Поэтому события, описанные в этой книге, можно рассматривать как иллюстрацию моего непрерывного самообразования за последние двадцать пять лет.
Другими словами, эта книга о произведениях, которые я видел, и о художниках, с которыми встречался. Во многих поездках, о которых пойдет речь, знакомство с искусством и разговоры с его создателями шли рука об руку. Например, беседа с Ансельмом Кифером обогатила ярчайшие впечатления от его мастерской (она же частный музей художника) на юге Франции. Одно усилило воздействие другого. Точно так же личная встреча с Эллсвортом Келли при ярком, резком свете Нью-Йорка помогла мне яснее увидеть его работы. Окружение художника, его «личный пейзаж» часто самым непосредственным образом связаны с его творчеством.
Этот пейзаж открывает глаза на многое, даже когда художник уже не с нами и не может ответить на наши вопросы. Я стал куда лучше понимать первобытное искусство после посещения пещер с наскальной живописью на юго-западе Франции. Классические китайские пейзажи стали значить для меня куда больше после того, как, побывав в Шанхайском музее древнего искусства, я оказался в толще тумана, клубящегося на вершинах Желтых гор. И, разумеется, почти всегда путешествия необходимы, чтобы понять произведения по-настоящему. Если вы рассматриваете произведение искусства, сидя дома, то значительная часть заключенной в нем информации остается вам недоступной, по крайней мере еще сегодня. Самые глубокие и яркие впечатления связаны не с умозрительным, а с физическим опытом: чтобы испытать их, нужно видеть подлинники и говорить с живыми людьми.
Когда вы стоите перед Бесконечной колонной Бранкузи, вы почти физически ощущаете ее вес, объем и высоту. В той или иной степени это верно для всех произведений искусства: нужен непосредственный контакт, чтобы ощутить их воздействие в полной мере, хотя одни вещи теряют в репродукции больше, другие меньше. Например, о небольшой картине фотография даст куда лучшее представление, чем о крупной скульптуре.
Особого внимания заслуживает набирающая всё большую популярность практика медленного смотрения – Slow Looking (возможно, возникшая как аналог итальянского кулинарного движения Slow Food). Действительно, скорость, с которой мы воспринимаем произведения искусства, бывает разной. Человек, подкованный в творчестве того или иного художника, с первого взгляда скажет, насколько характерна для него конкретная работа и насколько она хороша. Но затем приходит черед неспешного созерцания, растягивающегося на часы, на дни – на всю жизнь. И тут лучше быть рядом с произведением.
Дело не только в том, что, находясь рядом с подлинником, вы расширяете свой опыт. Вы и сами меняетесь. Как мне однажды объяснила Рони Хорн, уже просто перемена точки обзора влияет на ваше восприятие. В определенной степени это верно всегда, поскольку мы не машины для обработки данных, а живые и эмоциональные существа, и чувств у нас больше пяти.
Многие люди отмечали, что прогулка стимулирует мышление. Вы идете – и мысли бегут. Но если для того, чтобы увидеть произведение искусства, вы пускаетесь в очень долгий путь, то вы получите еще больше: теперь ваше внимание полностью сфокусировано на этой работе.
Путешествие позволяет по-настоящему сосредоточиться. Какое-то время вы думаете только о первобытном искусстве, или о Бранкузи, или о чем-то еще – в зависимости от цели поездки. В результате вы узнаёте много нового и, соответственно, меняетесь сами, то есть возвращаетесь домой уже не таким, каким выехали. Во всяком случае, так получается, если поездка прошла хорошо.
Разумеется, часто бывает и по-другому. В дороге может случиться множество накладок: отчасти поэтому я побаиваюсь путешествий, хотя и путешествую постоянно. Едва ли была хоть одна поездка, перед которой я не думал: «Зачем, ну зачем я ввязался в эту мороку, если мог прекрасно остаться дома?»
Я терпеть не могу сам процесс отъезда. И не люблю тревожного страха не успеть на поезд или самолет. Самого полета я не боюсь, ведь в воздухе моя судьба в руках компетентных профессионалов, но боюсь опоздать к вылету, как несколько раз ухитрился сделать. Склонного к перемещениям любителя искусства поджидают и другие ловушки: музеи, церкви и храмы могут неожиданно оказаться закрытыми, работы художников – отданными на реставрацию или на выставку (со всем этим сразу я столкнулся, когда отправился изучать Лоренцо Лотто).
Уже четверть века я храню в памяти образ длинной вокзальной платформы, которую я с внутренним ужасом мерил взглядом перед началом моей долгой дороги в Пекин в 1993 году. То, что я до сих пор ее помню, показывает, как я опасался этой поездки.
Ниже вас ждет рассказ не только о радостном волнении при встречах с необыкновенными работами, но и о сорвавшихся планах, нестыковках и неудобствах на пути к ним. Я не могу умолчать о них и ввести читателя в заблуждение: дорожные трудности – тоже часть опыта.
Путешествия нужны не только для того, чтобы разглядеть произведения как следует, но и для знакомств с новыми людьми. Некоторые из поездок, описанных ниже, я воспринимал как встречи с творцами, с которыми нельзя пообщаться в реальности, как, например, с Микеланджело, но зато можно – во всяком случае, я на это надеюсь, – познакомиться через слова и произведения. Но чаще меня ждали реальные знакомства: с Мариной Абрамович, Рони Хорн, Анри Картье-Брессоном, Робертом Раушенбергом и другими. И тогда я не просто перемещался в пространстве, но и переживал душевные сдвиги.
ВХОД В ПЕЩЕРУ ФОН-ДЕ-ГОМ
Лез-Эзи, Дордонь
Встречи с такими людьми – это привилегия. Как заметил Билл Клинтон, лучшее в должности президента США – то, что ты можешь познакомиться с кем захочешь. К счастью, я получил это преимущество без утомительных хлопот, связанных с выборами. Во время интервью действуют особые условия, и многие правила обычного светского общения отменяются. Вы можете спрашивать (разумеется, в разумных пределах), о чем пожелаете, а ваши собеседники вам ответят. На самом деле многие из них просто жаждут рассказать о себе и о своей работе. А если есть внешний стимул, как, например, предстоящий вернисаж, даже самые замкнутые натуры могут внезапно раскрыться.
Не раз в ходе интервью я с удивлением замечал, что начинаю откровенно и непринужденно говорить с людьми, которых прежде не знал лично, – порой это была наша первая встреча. Иногда, сталкиваясь с такими собеседниками уже в более обыденных обстоятельствах, например на званом обеде, я чувствовал, что прежняя лицензия на откровенность утратила силу и опять начали действовать обычные правила. По сути, нам приходилось знакомиться заново.
Интервью – это особый тип беседы, а удавшаяся беседа – это, можно сказать, обмен «интеллектуальной ДНК». И для такой беседы, помимо прочих навыков, необходимо умение слушать. Когда я только начинал брать интервью, я прибег к советам Дэвида Сильвестра, критика и журналиста, который был старше и опытнее меня. Он любил говорить, что из неутомимых болтунов получаются плохие интервьюеры. Цель интервью вовсе не в том, чтобы сесть напротив выдающегося человека и выложить ему всю массу соображений, которая накопилась у вас в голове.
Вы должны представлять возможные ответы, как бы создать мысленный сценарий диалога. Но вы также должны быть готовы к любым поворотам разговора, потому что именно неожиданные мысли и идеи часто оказываются самыми плодотворными.
Это доказывают мои беседы с Дженни Хольцер. Эти беседы не повлекли дорожных тягот: потребовался всего лишь один телефонный звонок и билет на поезд до Оксфордшира. Но ее воспоминания о Даме с горностаем Леонардо да Винчи – в детстве она думала, что эта дама сама написала свой автопортрет – всплыли в разговоре абсолютно неожиданно. Этот разговор подтолкнул меня к интеллектуальному странствованию – исследованию о том, как неверное истолкование может стимулировать творчество.
В 1947 году историк искусства и политик Андре Мальро опубликовал книгу Воображаемый музей, или, как ее озаглавили в английском переводе, Музей без стен. Он утверждал, что долгое время люди создавали картины, скульптуры и прочие артефакты, не воспринимая их как искусство. Потом, несколько столетий назад, в Европе появились первые музеи, куда помещали самые разнородные предметы, чтобы их изучать и восхищаться их эстетическими достоинствами. Насильственному перемещению того, что теперь считали искусством, были, однако, положены некоторые пределы: например, из церквей и храмов вывозили только то, что поддается транспортировке. Ни один музей не является всеобъемлющим и универсальным. Какие-то предметы слишком велики для музея, какие-то крайне редки. К тому же, отмечал Мальро, даже у самого неутомимого путешественника возможности памяти ограниченны. Но в наше время, благодаря революционному изобретению – фотографии, – мы получили возможность сравнивать всё без исключения.
Полагаю, сказанное Мальро верно, но я бы добавил, что возможности фотографии тоже не безграничны. И мне хочется всё увидеть и прочувствовать непосредственно – насколько это максимально возможно, хотя это предприятие бесконечное и неосуществимое. Тем оно притягательнее.
Путешествия затягивают, как наркотик, в том числе потому, что их конечная цель по большому счету недостижима. И дело не только в том, что всегда появляются новые места, произведения и художники, которых можно для себя открыть. Найдя то, что вам действительно интересно, вы можете возвращаться к этому месту или предмету снова и снова. Потому что вы сами всё время меняетесь и меняются они. Во всяком случае, я объясняю это так.
Схожую мысль однажды высказала Джиллиан Эйрс – художница, у которой я очень многому научился. Она рассуждала об изменчивости видимого и, как я полагаю, изменчивости всего вообще. «Каждый раз, когда перевешиваешь эту чертову картину, она выглядит по-новому, – с нажимом и с удовольствием сказала она. – Каждый раз что-то меняется – или свет, или ты, или что-то еще!»
Потом она рассказала мне об одном из своих путешествий: «Я поехала в Шартр, а возвращалась уже при другом свете, – и другим стало всё вокруг, даже этот чертов собор».
Джиллиан считала эту постоянную изменчивость благословением. «Мне это нравится. Я это принимаю, и раз можно увидеть по-новому, по-новому и смотришь. Вот и отлично!» Я тоже так думаю, и это еще одна ступенька к пониманию искусства, на которую я поднялся благодаря разговорам с художниками.
В том самом месте
1. Долгая поездка к Бесконечной колонне Бранкузи
«Всё в Румынии делается медленно», – обреченно констатировал наш водитель Павел, и, как оказалось, он не преувеличивал. Он вез нас с моей женой Джозефиной по маршруту в сто пятьдесят километров, от Сибиу до Тыргу-Жиу, где мы намеревались посмотреть на Бесконечную колонну Бранкузи. Нам объяснили, что добраться до нее можно двумя способами: более короткий путь займет больше времени, чем более длинный. Но быстро мы в любом случае не доедем, предупредил Павел. Так и получилось. Выбрав более быстрый путь, мы выехали в начале десятого и достигли цели около двух часов дня, усталые, с затекшими ногами и готовым ответом на вопрос, почему этот прославленный шедевр модернизма так редко посещают. Мы пустились в это безумное путешествие, потому что я хотел увидеть вживую несколько произведений искусства. За последние несколько лет это желание увлекло нас в несколько донкихотских вылазок. В частности, в долгий путь на самый «носок» итальянского «сапога», в Реджо-ди-Калабрия, где я хотел посмотреть на бронзовых воинов из Риаче. Думаю, многие согласятся с тем, что нет лучших образцов искусства Древней Греции. Но, как заметила Джозефина, не каждый стал бы несколько дней добираться до городка без иных достопримечательностей и расположенного за сотни миль от всех прочих интересных мест только для того, чтобы посмотреть на двух голых бронзовых мужчин довольно грозного вида.
По сравнению с калабрийской наша нынешняя поездка казалась короткой увеселительной экскурсией. Мы проводили отпуск в Румынии, в Сибиу, очаровательном старом городе с руританским[1] колоритом. Шедевр Бранкузи был не особенно далеко, во всяком случае так казалось по карте. Я не хотел упустить возможность увидеть Бесконечную колонну: это был редкий и мало кому доступный, а потому особенно притягательный шанс. Хотя Колонна принадлежит к самым прославленным образцам искусства XX века, почти никто, во всяком случае в художественном мире Лондона, не видел ее в оригинале. По расспросам я узнал, что, кажется, какой-то отважный куратор из галереи Тейт-Модерн всё же добрался до нее, но то было больше десяти лет назад.
Карты, однако, могут ввести в заблуждение. Как мы в конце концов поняли, никто в здравом уме и твердой памяти не решился бы на вылазку вроде нашей, которая включала перевал через Карпаты по полуобрушившейся в бурлящую реку дороге. Вообще, путешественнику, решившему посетить Тыргу-Жиу, стоит ехать туда с другой стороны. Но до Тыргу-Жиу далеко отовсюду! Столица Румынии Бухарест в пяти часах езды в противоположном направлении.
Необоснованной самоуверенности мне прибавило то, как легко мы одолели начало пути. Под утренним солнцем мы стремительно выдвинулись по шоссе на запад от Сибиу. Но шоссе оказалось единственным приличным участком дороги за весь день, и довольно коротким. Когда мы по нему мчались, Павел спросил, не стоит ли остановиться возле замка Дева и полюбоваться открывающимся видом.
Предложение показалось отличным, тем более что мы двигались к цели так быстро. Мы заехали к замку, а вот потом я совершил ошибку. Заметив, что мы будем проезжать совсем близко от замка Корвинов в Хунедоаре, я предложил ненадолго остановиться, чтобы осмотреть и его. Джозефина засомневалась, а Павел – крупный, добродушный молодой человек – сразу помрачнел, услышав о новом отклонении от маршрута. И вскоре свернул в лабиринт проулков, где нас ждали несколько железнодорожных переездов, масса светофоров и других препятствий. Наконец мы остановились вблизи живописного, хотя и заметно измененного реставрацией средневекового здания. Осмотреть его как следует нам явно не хватало времени. Но чтобы не уронить себя в глазах Павла, мы всё же вышли из машины и окинули крепость взглядом через замковый ров. Когда мы вернулись на парковку, где Павел жевал бутерброд и посматривал на часы, солнце ушло за тучи, и наш график был под угрозой.
После этой остановки мы действительно поползли. Мы тащились в хвосте колонны грузовиков; перевал через хребет казался нескончаемым. Все в машине пали духом. Джозефина, которая планировала после встречи с шедевром Бранкузи заскочить в городок, славящийся своей керамикой, время от времени повторяла, что теперь мы туда, наверное, не успеем. Павел периодически замечал, что нам еще ехать и ехать. О ланче никто и не вспомнил.
Наконец мы миновали предгорья и двинулись по равнине к городу. Тыргу-Жиу оказался окружен широким поясом индустриальных окраин. Каждого, кто вздумает посетить этот город, надо предупредить, что, за исключением современного искусства, интересного там немного. Наш путеводитель сообщал о «мрачных угольных копях», находящихся поблизости, и о «грубой модернизации», которой Тыргу-Жиу подвергся в период правления коммунистического диктатора Николае Чаушеску.
И действительно, бетона вокруг хватало. Я упал в собственных глазах, приняв фабричную вдали трубу за шедевр Бранкузи, но ни Павел, ни Джозефина не удивились моей ошибке.
КОНСТАНТИН БРАНКУЗИ
БЕСКОНЕЧНАЯ КОЛОННА
Тыргу-Жиу, Румыния
1938
Неожиданно мы приехали. Погода исправилась, мы воспряли духом. Перед нами была Бесконечная колонна, взлетевшая над маленьким парком и мягко поблескивающая на солнце, как тусклое золото. Мы с Джозефиной вышли на нее посмотреть. Павел, по дороге размышлявший вслух о том, как странно, что он до сих пор не видел этого шедевра румынского искусства, предпочел оценить его достоинства, сидя в машине.
Подходя к колонне, Джозефина призналась, что зрелище стоило нашей нелегкой поездки. Когда мы были в паре метров от постамента, из кустов навстречу нам выскочил, размахивая руками, человек в униформе и с огромными, как у моржа, усами. Оказывается, близко подходить к Бесконечной колонне запрещалось, но это уже не имело значения. Мы стояли рядом и могли не только видеть ее, но и прочувствовать, и это оправдывало нашу одиссею. Теперь, когда мы были на месте, поездка сюда уже не казалось такой безумной идеей.
Как и большинство произведений абстрактного искусства, эту колонну трудно описать; проще сказать, на что она не похожа. Она не похожа ни на фабричную трубу, которую я по дороге за нее принял, ни на башню, ни на столб. Бесконечная колонна легче, тоньше, она скорее сродни свисающим сверху бусам или цепочке. Она состоит из семнадцати с половиной повторяющихся элементов – слегка вытянутых скругленных ромбоидов из черного металла, напоминающих кристаллы или массивные бусины. Они один за другим взбираются всё выше и выше к небу. Верхняя, отсеченная по середине бусина – самая значимая: это половинка, которая говорит нам о смысле целого.
Перед нами скульптурное воплощение бесконечности. Разумеется, оно глубоко парадоксально: ведь это трехмерное, осязаемое воплощение времени. Вот почему, среди прочего, Бесконечную колонну, как и многие сильные произведения искусства, трудно сфотографировать. У вас получится снимок длинного тонкого объекта, торчащего над местностью на фоне неба. Но когда вы находитесь рядом с колонной, то видите, как она взмывает вверх и парит над вами. На самом деле ее высота едва достигает тридцати метров, но благодаря своему изяществу она кажется куда более высокой. Порой Бранкузи не без высокопарности называл ее «лестницей в небо».
Изначально эту и несколько других работ для Тыргу-Жиу у Бранкузи заказала Женская лига уезда Горж – так называется район, где находится городок, – чтобы почтить память сотен тысяч румын, павших в боях с Австро-Венгрией и Германией во время Первой мировой войны. В 1916 году многие из них погибли, сражаясь за Тыргу-Жиу.
Этот уезд был родным для Бранкузи: он родился неподалеку от Тыргу-Жиу, в деревушке Хобица у подножия Карпат. Он был из крестьянской семьи и еще в юности обнаружил талант к резьбе по дереву – популярному среди местных жителей ремеслу, эффектные образцы которого встречаются в румынских деревнях. В Музее народного искусства в Клиу мы видели кувшины для вина, прессы для отжима масла и ловушки для животных, которые выглядели как мелкие предметы из мастерской Бранкузи.
Глядя на них, понимаешь, почему парижские этнографические коллекции, которые поразили и вдохновили Пикассо, Бранкузи не требовались. На Монпарнасе такие грубые, потрепанные временем вещи могли бы восприниматься как «образцы примитивного искусства», но для Бранкузи они были утварью, среди которой он вырос.
Поразительная высота колонны, как мы выяснили, тоже вполне обычное дело для Румынии. Так же резко устремляются вверх деревянные шпили церквей, построенных в XVII–XVIII веках в уезде Марамуреш близ нынешней украинской границы; они покрыты сосновой дранкой, похожей на чешую дракона.
В молодости Бранкузи покинул крестьянский мир, который практически не менялся со Средневековья, чтобы войти в мир международного авангарда, но сумел сохранить связь с корнями. Это был долгий путь. Мальчиком он сбежал из дома и работал у бакалейщика и в баре, прежде чем его талант заметили и он смог поступить в школу ремесел, откуда попал в художественную школу в Бухаресте и, наконец, пришел, согласно легенде – пешком, в Париж Пикассо и Матисса. Как скульптор, он был единственным соперником этих двух гигантов начала XX века.
Несомненно, Бранкузи очень любил окрестности Тыргу-Жиу и местных жителей, ведь здесь прошло его детство. Тем не менее утверждать, как это делает английская Википедия, что «Колонна символизирует бесконечное самопожертвование румынских солдат», было бы преувеличением. На самом деле Бранкузи много лет вынашивал замысел скульптуры: его влекло к этому образу. Первую подобную колонну из дуба он вырезал еще в 1918 году; она была шестиметровой и стояла в саду у американского фотографа Эдварда Стайхена. За ней последовали другие, но колонна в Тыргу-Жиу стала самой высокой, хотя могли появиться колонны и выше. Интересно, что Бранкузи лелеял планы более высокой колонны, но не осуществил их. По-видимому, семнадцати с половиной бусин-ромбоидов оказалось достаточно, чтобы изобразить бесконечность.
Найденный им образ сработал. Когда мы стояли рядом с колонной, она казалась нам устремленной в космос. Напоследок Джозефина сняла на телефон короткое видео, направляя объектив от пьедестала колонны вверх, – это отчасти передавало наши ощущения. Я отправил ролик нашему приятелю, скульптору Энтони Гормли, и тот ответил через пару минут единственным восклицанием: «Вау!»
И действительно: колонна – одно из художественных чудес света, волшебное явление. Она лишний раз подтверждает мое глубокое убеждение: когда речь идет о произведении искусства, ничто не может заменить его непосредственного созерцания, нахождения рядом с ним. Важнейшие параметры Бесконечной колонны: вертикальность, соотношение высоты сооружения с человеческим ростом, а также то, что колонна не просто тянется вверх, как фабричная труба, но создает вокруг себя силовое поле, вырывается из окружения и словно парит в воздухе, подвешенная к небесам.
Несколько лет назад английский скульптор Филип Кинг объяснил мне механизм этого эффекта. Он судил по собственному опыту – опыту человека, который всю жизнь работает с абстрактными формами. «Размер и форма каждой бусины продуманы так, что, вопреки естественным ожиданиям, колонна не кажется сужающейся кверху. Поэтому она остается абстрактной линией в пространстве, почти что лучом света, поразительным образом отрицающим законы перспективы и притяжения».
Я перечитал эти слова перед отъездом в Румынию, и они оказались правдой, хотя Филип и признался, что никогда не видел Бесконечной колонны своими глазами. Это противоречит моей теории о необходимости быть «в том самом месте», и всё же, когда я стоял перед колонной, мне снова показалось, что понять произведение на расстоянии и испытать его физическое воздействие, находясь рядом, – это разные вещи.
Вообще-то, стоя перед колонной, в чисто интеллектуальном смысле понимаешь ее куда хуже, но зато куда сильнее ощущаешь ее воздействие. Стоит солнцу зайти за облако, стоит тебе переместиться, как она меняется. В отличие от куба, сферы или параллелепипеда, прикованных к земле, колонна слишком вертикальная и слишком высокая в прямом и переносном смысле слова, чтобы ее понять.
По мнению Филипа, «Бесконечная колонна – самая одухотворенная и невесомая из всех современных скульптур». Он прав, и нам повезло, что она сохранилась. Отчасти тут помогла ее очень прочная и надежная конструкция. При послевоенном коммунистическом режиме Колонну решено было уничтожить как образец «буржуазного упадничества». В пятидесятых годах мэр Тыргу-Жиу распорядился свалить Колонну, что и попытались сделать при помощи мощного советского трактора (или, по другим источникам, даже танка). К счастью, как ни удивительно, скульптура устояла. Акт вандализма не удался, и вот почему: хотя Бранкузи устремил колонну в небо, он накрепко связал ее с землей. Стальная ось колонны уходит глубоко в грунт, а чугунные бусины-звенья к ней приварены.
Однако, несмотря на все предосторожности Бранкузи, к 1990-м годам колонна накренилась и так потрескалась, что в ее полость стали попадать капли дождя. В результате внутри набралось полторы сотни литров ржавой воды, и стальная ось сооружения заржавела. Последовала долгая, вызвавшая много споров реставрация, в результате которой прежний стальной стержень заменили новым, из нержавеющей стали.
Потратив немало времени на то, чтобы осмотреть колонну в различных ракурсах – и издали, и вблизи (насколько позволял сторож с моржовыми усами), мы решили дополнить впечатление, изучив другие элементы ансамбля Бранкузи. Согласно его замыслу, зритель должен был идти километр с лишним по парку, за которым виднеются Карпаты. Но за минувшие десятилетия луга и поля превратились в оживленные городские улицы. Время поджимало, и мы приняли предложение Павла доехать до нужного места на машине. Он высадил нас на противоположной от него стороне шоссе и, поскольку насытился модернистской скульптурой, отправился есть пиццу. Мы с трудом пробились через бесконечный поток машин, спаянных друг с другом, несмотря на высокую скорость, почти так же плотно, как бусины в колонне Бранкузи, и наконец вошли в парк, где находились еще две скульптуры: Врата поцелуя и Стол молчания. Первая – тоже шедевр, пусть и чуть менее красноречивый, чем Бесконечная колонна: это известняковая арка, составленная из очень абстрактных вариаций на тему обнимающихся фигур, – модернистский аналог триумфальной арки, посвященный любви, а не войне. В румынских деревнях мы видели перед домами великолепные деревянные ворота, во многом перекликающиеся с Вратами поцелуя, но, как и в случае с колонной, Бранкузи радикально преобразовал традиционную форму. Вот вам еще один аргумент в пользу необходимости побывать «в том самом месте»: благодаря этой поездке мы поняли, что национальные румынские традиции значили для Бранкузи не меньше, чем модернистские поиски.
Мы решили вернуться из Тыргу-Жиу более длинным путем, который в итоге оказался чуть быстрее предыдущего, хотя наш многострадальный водитель заметил, что это самая опасная трасса в стране: узкий серпантин, полный норовящих обогнать друг друга камикадзе. Мы не смогли удержаться от остановки в городке, где продавались керамические плошки и кувшины, которые Бранкузи одобрил бы, признав знакомую по детству утварь. Когда спустя одиннадцать часов после отъезда мы вернулись в Сибиу, Павел попросил нас минутку подождать в машине. Мы предположили, что после такой поездки он вполне обоснованно попросит у нас дополнительную плату. Но оказалось, что он ушел за подарком – это было условное орнаментальное изображение живописных старых домов Сибиу. Впрочем, на самом деле подарка заслуживал он, а не мы.
2. В стране Танцующего Бога
В храме Аннамалаияра (город Тируваннамалай) мы отважились спуститься по лестнице. Она вела из помещения с колонами в темную крипту. Колеблющееся пламя озаряло украшенную гирляндами статую бога Нанди – молодого быка, который охраняет врата Шивы. Священнослужитель с голой грудью поставил нам, как и всем двигавшимся чередой посетителям, душистым пеплом на лоб метку, которая называется «тилака», и благословил нас. Он предложил, что будет двадцать лет ежедневно молиться от нашего имени, если мы прямо сейчас пожертвуем полусотню фунтов или около того, но мы вежливо отказались.
Снаружи были шумные и суетливые толпы паломников, заполнивших то, что можно назвать священным городом: храм Аннамалаияра занимает площадь в десять гектаров. Мы тщетно искали храмового слона: он, вероятно, отдыхал от служебных обязанностей в предвечернее время, но зато мы увидели музыкантов в длинных одеждах, игравших на большом, из двух труб, духовом инструменте под названием «надасварам». Там и сям попадались садху – бродячие святые люди, живущие, как средневековые нищенствующие монахи, за счет подаяния; многие из садху были с роскошными бородами и усами, в оранжевых и желтых одеждах. В целом скитание по территории этого храма ничем не напоминало поход в картинную галерею.
Мы приехали в Тамилнад (Тамил-Наду), штат на юговостоке Индостана, чтобы посмотреть тамошнюю скульптуру, чем на тот момент и занимались. В храме Тируваннамалая скульптур не меньше, чем живых верующих. На четырех гопурамах – надвратных башнях – стоит такое скопище переплетенных фигур, что они почти скрывают архитектуру. Восточный гопурам в Тируваннамалае около двухсот футов в высоту, статуи расположены на его одиннадцати ярусах, пирамидально поднимающихся к вершине. В залах та же картина: каждая из многочисленных колонн покрыта барельефами, изображающими богов и религиозные сюжеты.
Люди, которые любят искусство и вообще визуальные впечатления, часто попадают в зависимость от Индии, как это случилось, например, с покойным художником Говардом Ходжкином. Их легко понять: художественное богатство Индии неисчерпаемо. Но когда мы обходили храм в Тируваннамалае, это не было похоже на упражнение по созерцанию искусства; скорее это напоминало путешествие в прошлое. Несомненно, что некогда, до того, как возникла сама идея искусства, большая часть мира, включая Европу, была такой же – повсюду стояли бесчисленные изваяния, сделанные не для того, чтобы ими восхищались, но для того, чтобы им поклонялись.
Сначала мы с Джозефиной прилетели в Ченнаи. Первые впечатления об Индии мы получили на рассвете, пока ехали на такси через окраины города к нашему отелю. Этого было достаточно, чтобы встряхнуть наше восприятие и чтобы мы поняли: здесь действуют совсем новые для нас правила жизни. В окна машины мы видели коров, которые лениво и привычно бродили в потоке транспорта, – и это было на главных магистралях, в городе с населением почти как в Лондоне.
Разумеется, коровы для индуистов – священные животные, уважаемые и почитаемые. Они в своем праве, когда плутают между мчащимися грузовиками и всем, что движется по дороге, в том числе велосипедами и мопедами, причем зачастую на юрких мопедах позади водителя беспечно балансирует укутанная в сари фигура. Наш водитель Руди разогнал машину, с поразительной легкостью лавируя между всеми возможными видами транспорта, часть которого летела прямо на нас, не обращая внимания на стороны дороги.
Вообще, в Тамилнаде двадцать первый век соседствует с обычаями тысячелетней давности.
Созерцать статуи Шивы, Вишну или Парвати в таком окружении – это совсем иное, нежели осматривать их, скажем, в Музее Виктории и Альберта. И, кстати, это было совсем не похоже на атмосферу в доме Дэвида Сильвестра в Ноттинг-Хилле, где почти двадцать лет назад я провел утро, размышляя о скульптуре древних индусов.
Я пришел к нему в гости, чтобы взять интервью, но едва мы приготовились обсуждать взгляды Дэвида на искусство, как в дверь позвонили. Снаружи мы увидели двух носильщиков, которые доставили индийскую скульптуру Х века, мужскую фигуру, прекрасную, но безголовую. Дэвид обдумывал ее покупку, и скульптуру принесли как бы на смотрины: впишется она в его коллекцию или нет.
Остаток утра прошел в попытках найти идеальное место для этой скульптуры среди других его сокровищ. Дэвид раздавал инструкции: «Два дюйма влево, на полдюйма выше», – и двое мужчин из галереи терпеливо подчинялись. Для меня это завораживающее зрелище послужило уроком того, насколько воздействие работы зависит от ее правильного расположения.
Такие вещи имеют принципиальное значение, считал критик Клайв Белл, автор модернистской теории о значимой форме (significant form), согласно которой выразительность произведения искусства определяется соотношением площадей и объемов, особенностями цвета и линии. Смысловое наполнение при этом зачастую игнорировалось. Квентин Белл, сын Клайва и художницы Ванессы Белл, с юности пропитался идеями группы Блумсбери. Однажды он рассказывал мне о лекции Роджера Фрая, гуру этого круга, в Национальной картиной галерее. Во время лекции Фрай, указывая на измученное тело распятого Христа, воскликнул: «Какое значимое цветовое пятно!» – и это было нелепо. С другой стороны, и для Роджера Фрая, и для Дэвида Сильвестра, и для меня, коль на то пошло, очень важны цветовые пятна, объемы и другие составляющие произведения искусства.
ХРАМ АННАМАЛАИЯРА
Тируваннамалай штат Тамилнад, Индия
Жизнь Дэвида на свой лад была таким же служением, как жизнь садху в храме Тируваннамалай, но его существование было подчинено искусству. Большую часть своего дома он превратил в частный музей. Относительно обычным домашним помещением у него была только кухня, но и там красовался египетский сосуд, высеченный из очень твердого камня. («Первая династия?» – неосторожно спросил я. «Додинастический период», – отрезал он.)
