Лондон. Биография бесплатное чтение
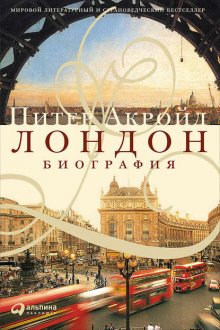
Художник Андрей Бондаренко
Перевод Владимира Бабкова и Леонида Мотылева
Руководитель проекта С. Турко
Корректоры Е. Аксёнова, С. Мозалёва
Компьютерная верстка А. Абрамов
Арт-директор Ю. Буга
© Peter Ackroyd 2000
This edition published by arrangement with the Susij n Agency
© В. Бабков, перевод, 2015
© Л. Мотылев, перевод, 2015
© А. Бондаренко, оформление, 2016
© ООО «Альпина Паблишер», 2016
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Посвящается Иэйну Джонстону
и
Фредерику Николасу Робертсону
Хронология
54 до н. э. Первая британская экспедиция Цезаря.
41 Вторжение римлян в Британию.
43 Наименование города Лондиниумом.
60 Сожжение Лондона Боудиккой.
61–122 Перестройка Лондона.
120 Лондонский пожар в эпоху Адриана.
ок. 190 Постройка великой стены.
407 Уход римлян из Лондона.
457 Бегство из Лондона бриттов под натиском саксов.
490 Саксонское владычество в Лондоне.
587 Лондонская миссия Августина.
604 Создание в Лондоне епархии и постройка собора Св. Павла.
672 Упоминание о «Лондонском порте». Рост Лунденвика.
851 Лондон штурмуют викинги.
886 Альфред отвоевывает и восстанавливает Лондон.
892 Лондонцы отбивают нападение датского флота.
959 Большой пожар в Лондоне. Сгорел собор Св. Павла.
994 Лондон осажден датским войском.
1013 Вторая осада Лондона. Город взят Свеном.
1016 Кнут осаждает Лондон в третий раз. Нападение отбито.
1035 Лондонцы избирают королем Гарольда I.
1050 Перестройка Вестминстерского аббатства.
1065 Освящение Вестминстерского аббатства.
1066 Захват Лондона Вильгельмом Завоевателем.
1078 Постройка Белой башни.
1123 Рахере воздвигает церковь Сент-Бартоломью.
1176 Постройка каменного моста.
1191 Создание лондонской «коммуны».
1193–1212 Правление первого мэра Лондона – Генри Фицэйлуина.
1220 Перестройка Вестминстерского аббатства.
1290 Изгнание евреев. На Чипсайде и Чаринг-кроссе воздвигнуты кресты в память о королеве Элеоноре.
1326 Лондонская революция – свержение короля Эдуарда II.
1348 «Черная смерть» уничтожает треть лондонского населения.
1371 Основан Чартер-хаус.
1373 Чосер живет над Олдгейтом.
1381 Восстание Уота Тайлера.
1397 Ричард Уиттингтон – первый избранный мэр.
1406 Эпидемия чумы.
1414 Восстание лоллардов.
1442 Стрэнд вымощен.
1450 Восстание Джека Кейда.
1476 Уильям Кэкстон создал первую типографию.
1484 Эпидемия «потницы» в Лондоне.
1485 Триумфальное вступление в Лондон Генриха VII после битвы при Босворте.
1509 Восшествие на престол Генриха VIII.
1535 Казнь Томаса Мора на Тауэр-хилле.
1535–1539 Разграбление лондонских монастырей и церквей.
1544 Великая лондонская панорама Уингарда.
1576 Постройка «Театра» в Шордиче.
1598 Публикация «Обзора Лондона» Стоу.
1608–1613 Прорыт канал Нью-ривер.
1619–1622 Постройка Иниго Джонсом Банкетинг-хауса.
1642–1643 Сооружение земляных валов и укреплений для защиты от королевской армии.
1649 Казнь Карла I.
1652 Появление первой кофейни.
1663 Постройка театра «Друри-лейн».
1665 Великая чума.
1666 Великий пожар.
1694 Создание Английского банка.
1733 Река Флит заключена в трубу.
1750 Постройка Вестминстерского моста.
1756 Прокладка Нью-роуд.
1769 Постройка моста Блэкфрайарс.
1769–1770 Агитация Уилкса и его сторонников.
1774 Акт о строительстве.
1780 Мятеж лорда Гордона.
1799 Создание «компании Вест-Индского дока».
1800 Основание Королевского хирургического колледжа.
1801 Численность лондонского населения достигла миллиона.
1809 На Пэлл-Мэлл появилось газовое освещение.
1816 Сходки радикалов на Спа-филдс. Волнения в Спитл-филдс.
1824 Основана Национальная картинная галерея.
1825 Нэш перестраивает Букингемский дворец.
1829 Образована «лондонская столичная полиция».
1834 Здание парламента уничтожено огнем.
1836 Основан Лондонский университет.
1851 В Гайд-парке открылась Великая выставка.
1858 Год «великой вони». Начало работ по созданию новой системы канализации под руководством Джозефа Базалджетта.
1863 Начал действовать первый в мире метрополитен.
1878 Внедрение электрического освещения.
1882 Появление электрического трамвая.
1887 «Кровавое воскресенье». Разгон демонстрации на Трафальгар-сквер.
1888 В Уайтчепеле орудует Джек-потрошитель.
1889 Создание Совета Лондонского графства.
1892 Начата прокладка Блэкуоллского туннеля под Темзой.
1897 Возникновение первых автобусов.
1901 В Лондоне 6,6 миллиона жителей.
1905 Эпидемия тифа. Открыто движение по Олдуичу и Кингсуэй.
1906 Демонстрация суфражисток на Парламент-сквер.
1909 Открытие универсального магазина Селфриджа.
1911 Осада дома на Сидни-стрит.
1913 Начала проводиться Челсийская цветочная выставка.
1915 На Лондон падают первые бомбы.
1926 Всеобщая забастовка.
1932 Постройка Дома радиовещания на Портленд-плейс для корпорации «Би-би-си».
1935 Создание вокруг Лондона «зеленого пояса».
1936 Сражение на Кейбл-стрит.
1940 Начало «лондонского блица».
1951 Фестиваль Британии на южном берегу Темзы.
1952 Большой смог.
1955 Открытие аэропорта Хитроу.
1965 Упразднение Совета Лондонского графства. Создание Совета Большого Лондона.
1967 Закрытие Ост-Индского дока. Постройка Сентерпойнта.
1981 Брикстонские волнения. Образована компания «Доклендс девелопмент корпорейшн».
1985 Волнения в Бродуотер-фарм.
1986 Завершение строительства кольцевой дороги M25. Упразднение Совета Большого Лондона. «Большой взрыв» на фондовой бирже.
1987 Постройка здания Канари-уорф.
2000 Выборы мэра.
Лондон, около 1800 г.
