Гении тоже люди… Леонардо да Винчи бесплатное чтение
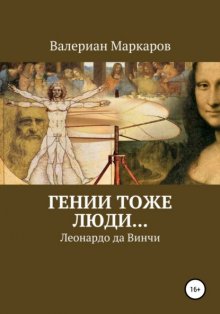
ПРЕДИСЛОВИЕ
Жил когда-то необыкновенный человек – художник и изобретатель, архитектор и инженер, естествоиспытатель и философ, музыкант и мечтатель. Его имя известно каждому – Леонардо да Винчи. Один из самых загадочных гениев человечества, он стал живым символом эпохи Возрождения. Его жизнь – череда побед и поражений, любви и одиночества, триумфа и безмолвной печали. Он знал, что значит отчаяние – и как звучат медные трубы всеобщего восхищения.
Создатель несомненных шедевров, он внезапно охладевал к искусству, оставляя картины незаконченными. Его рисунки с равным совершенством передавали и красоту мира, и уродство, и жестокость бытия. Он предвосхитил целые эпохи своими изобретениями, многие из которых до сих пор поражают гениальностью и точностью мысли.
Загадочна была и его личная жизнь. Он прятал чувства так же искусно, как и свои идеи, записывая труды зеркальным письмом. У него были преданные ученики и непримиримые соперники – среди них Микеланджело и Рафаэль. Он разговаривал с простолюдинами и правителями, с кардиналами и королями – и все они прошли перед его холодным и проницательным взглядом.
Его эпоха – в его трудах. Сам же он продолжает волновать воображение и тем, что оставил, и тем, что унес с собой. Научные открытия, интригующие тайны, личная драма – всё это пронизывает судьбу Леонардо.
Книга переносит нас в Италию конца XV – начала XVI веков. Перед читателем разворачивается драматичный и блистательный период истории, а её герои – папы, кардиналы, короли, полководцы, художники – оживают на страницах, испытывая радости и утраты, любовь и предательство, наслаждение и боль. Более пяти столетий отделяют нас от них – но они ближе, чем кажется.
Понять Леонардо можно, пожалуй, лишь прожив его жизнь. Мы можем только приблизиться к нему – вглядываясь в его наследие, вслушиваясь в его слова, чувствуя сердцем. Он показал миру, что мудрость немыслима без любви и человечности, без стремления к истине и красоте.
Это художественное произведение, основанное на фактах, но наполненное авторским взглядом и чувствами. Оно приглашает по-новому взглянуть на Ренессанс – трагичную и одновременно полную надежд эпоху.
Прочитав эту книгу, вы прикоснётесь к жизни гения, которому были не чужды человеческие слабости, желания и сомнения. К жизни, наполненной светом разума и жаждой знаний. К жизни, ставшей легендой.
Приятного чтения!
С уважением,
Валериан Маркаров
Глава 1
Ясным, залитым солнцем утром 3 марта 2019 года профессор Марко Тоскано, молодой преподаватель Флорентийского университета, переступил порог своего дома в самом сердце Флоренции и буквально нос к носу столкнулся с районным почтальоном – тем самым, что ежедневно к полудню приносил ему прессу и корреспонденцию.
– Доброе утро, синьор Тоскано! Как поживаете? – спросил тот, чуть склонив голову набок и расплывшись в простодушной улыбке, обнажившей передние зубы, пожелтевшие от многолетнего табака.
– И вам доброго утра, синьор Джерпонимо! Спасибо, всё хорошо. А вы сегодня выглядите просто великолепно! – вежливо ответил Марко.
– Божьими молитвами, синьор Тоскано… Надеюсь дотянуть до возраста моего дядюшки. Представьте себе – сто лет прожил! А всё благодаря грибам…
– Грибам? – Марко удивлённо поднял брови. – Неужели они продлевают жизнь?
– Да нет же! Он их просто никогда не ел! – весело хмыкнул Джерпонимо, снова обнажив свои кривоватые, но по-доброму наивные зубы.
– Ах, вы шутник, синьор! – улыбнулся Марко, прищурившись и глядя в глаза почтальону. – А у вас, как всегда, новости с передовой! – И, взяв из его рук увесистую кипу свежих газет, вперемешку с несколькими письмами, добавил:
– A presto! До скорого!
Оставив прессу у входа, Марко аккуратно вложил письма в кожаный портфель, машинально взглянул на небо и, вернувшись за зонтом и солнечными очками, неторопливо направился в сторону университета. До первой лекции оставалось сорок минут – времени более чем достаточно.
Следует заметить: в отличие от большинства итальянцев, считающих пунктуальность пустой тратой времени, Марко был человеком точным. Его аккуратность проявлялась во всём: в любви к чистоте и порядку, в безукоризненном внешнем виде, в организованности и исполнительности. До некоторой степени его можно было бы назвать педантом, но без той тяжёлой занудности, что делает настоящих педантов невыносимыми. Темперамент же у него был самый что ни на есть итальянский: живой, открытый, с доброй шуткой наготове и неизменной белозубой улыбкой, способной вмиг рассеять хмурое настроение.
В Италии говорят: «мартовские дожди приносят майские цветы». И правда – в это время года Флоренция уже согрета солнцем, а воздух напоён предвкушением весны. Свободные часы Марко посвящал прогулкам по городу. Хотя он родился во Флоренции и знал каждый её уголок, снова и снова открывал её для себя – как влюблённый, которому никогда не наскучит взгляд любимой.
Ещё в старших классах школы он стал подрабатывать экскурсоводом и вскоре вступил в Ассоциацию гидов Флоренции. Сначала всё давалось непросто, но по совету опытного коллеги Алессандро Марко стал работать над дикцией, культурой речи, углублять знания. Он копался в архивах, расширял кругозор, учился уносить слушателей в другую эпоху.
Практика научила его, что туристов куда больше трогают не даты, а живые, артистичные рассказы – особенно с «жареными фактами» о великих личностях. Алессандро, признанный мастер экскурсионного жанра, как-то сказал ему:
– Марко, ты не только отлично владеешь английским, но и обладаешь настоящей страстью к этому делу. Туризм – это искусство. Мы и актёры, и поэты, и шуты, и педагоги. Не бойся проявлять эмоции! Дари людям истории, даже если в них больше красоты, чем правды. Разожги огонь в их глазах, уведи их от повседневной суеты. И тогда ты будешь по-настоящему востребован. Главное – люби своё дело…
Слова Алессандро навсегда остались в памяти Марко. Проводя экскурсии, он повторял: Флоренция – это место, где можно прикоснуться к вечной красоте. И действительно, её было здесь в избытке. Город, имя которого означает «цветущая», и сам словно цветок, вобравший в себя всё лучшее из западной культуры. Здесь каждый уголок дышит историей: дворцы Медичи, сады Боболи, площадь Синьории, купола Санта-Мария дель Фьоре, золотые двери Баптистерия, фасады Санта-Мария Новелла и Санта Кроче, где покоятся Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини, Огинский и сотни других великих имён. Базилика Сан Лоренцо, усыпальница Медичи, строгий Барджелло, где была тюрьма, а ныне музей, Академия с «Давидом» Микеланджело, галереи Палатина и Уффици – всё это единый живой организм города.
Особое место занимала в сердце Марко Галерея Уффици. Он часто подчёркивал, что именно здесь, в разгар Ренессанса, по воле Козимо I де Медичи, возник музей, имя которому дал древнегреческий термин – место, посвящённое Музам. Сегодня Уффици – одно из сокровищ Европы. В нём собраны шедевры живописи от Средневековья до современности, античная скульптура, гобелены, миниатюры, уникальная коллекция автопортретов, пополняемая до сих пор.
Флоренция вдохновляла, рождала стихи, музыку, картины. Леонардо, Рафаэль, Бокаччо, Петрарка, Брунеллески – все они вписаны в её ткань. Город награждён изяществом, гармонией, вечным цветением.
Прошло более двадцати лет с тех пор, как Марко начал водить экскурсии, и теперь он с тем же вдохновением проводил «исторические прогулки» для студентов. Без прошлого нет будущего – говорил он, перенося молодых искусствоведов в эпоху, когда по этим улицам ходил Микеланджело, когда Савонарола проповедовал на площади, когда Моцарт давал свои концерты, а в переулках сталкивались могущественные кланы.
Марко мог часами бродить по улицам родного города, если только внезапная гроза не гнала его в уютное кафе, где туристы смаковали пекорино, тонко нарезанное прошутто и нежное маскарпоне с лимончелло. Он и сам не прочь был задержаться за чашкой крепкого эспрессо. Один – себе. Второй – caffè sospeso, «подвешенный» кофе для незнакомца, который не может себе его позволить. Эта простая традиция, пришедшая из Неаполя, казалась Марко по-настоящему флорентийской – щедрой, человечной, негромкой.
Проходя мимо ресторана La Spada, любимого и туристами, и местными, Марко почувствовал лёгкий голод. Утренний капучино был пока единственным, что он съел. Иногда он заглядывал туда за таглиолини с лососем, каппеллети или за их знаменитой bistecca alla fiorentina – ароматной, с хрустящей корочкой, сочной и кровавой внутри. Солят её только после жарки, а запивают неспешно – тосканским кьянти, напитком, воспетым поэтами и артистами.
Эти вина, рожденные на холмах Кьянти, хранят в себе тепло земли и вкус времени. Кажется, даже Мона Лиза улыбается на фоне тех самых пейзажей – Леонардо, как считал Марко, писал их по памяти именно отсюда. В этой простоте – изысканность. В каждом блюде – оттенки, в каждом глотке – история.
Марко, хмелея то ли от внезапно нахлынувшего чувства голода, то ли от свежего полуденного воздуха, в котором растворились еще холодные капельки реки Арно, несущей свои совершенно непредсказуемые воды от самих Апеннин, почувствовал, как сильно его потянуло за столик! Он как раз проходил мимо церкви Святой Маргариты дей Черки, той самой, которую еще называют церковью Данте Алигьери, поскольку именно здесь поэт встретил свою музу Беатриче, чьи останки в итоге обрели вечный покой в этой церкви. Безуспешные попытки обуздать голод не привели ни к чему, и вот уже ноги понесли его к ларьку с закусками, что находился рядом. Да, он бы сейчас не отказался даже от лампредотто, невзирая на то, что эту незатейливую булочку-бутерброд для простолюдинов, начиненную отваренным коровьим желудком, во Флоренции едят с 15 века!
Жадно откусывая от горячей булочки и второпях прожевывая немного неподатливое, тянущееся мясо, он не смог не отметить для себя, что очередь из желающих съесть этот флорентийский фаст-фуд была вовсе не меньше, чем очередь жаждущих заглянуть в церковь Данте. Так что же первично, усмехнулся Марко себе под нос – сознание или материя? Извечный спор! В данную минуту, ускоренно поглощая лампредотто, эта дилемма для Марко однозначно разрешилась в пользу материалистов. Голова отказывалась думать, а душа – трудиться, пока в пустом желудке играл духовой оркестр, дирижируемый голодным сквозняком.
Марко ускорил шаг – он спешил на очередную лекцию в Университете Флоренции, где вот уже восьмой год преподавал на факультете искусств. Его академическая карьера началась в Оксфорде, где он блестяще защитил диссертацию по теме, связанной с Леонардо да Винчи и искусством эпохи Возрождения.
Сегодняшняя лекция была посвящена именно этой теме – периоду, который история окрестила Возрождением, и его гению – Леонардо.
– В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари вспоминает более ста пятидесяти художников – небывалый расцвет, сравнимый лишь с античной Грецией. У каждого – свой стиль, своя индивидуальность. В этом блестящем созвездии школ и направлений особенно выделяются три фигуры, три сверхъестественных гения, – говорил Марко, проходя вдоль аудитории. – Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Они не похожи друг на друга, не продолжают, а противостоят друг другу. Были соперниками, порой врагами, но вместе – они олицетворяют разумную душу Ренессанса.
Он замолчал, давая паузе наполнить зал тишиной и вниманием. Затем продолжил:
– Они воплотили тайную мечту эпохи – соединение эллинского и христианского идеалов. Леонардо в этой триаде – маг, посвящённый, волхв. Вместе с Микеланджело и Рафаэлем он открывает перед человечеством новую Вселенную, где Природа и Человек преображаются под взглядом богов, доступных лишь прозрению гения.
И пусть столетия отделяют нас от этих личностей, – продолжал Марко, – наш интерес к ним не ослабевает. Нас влечёт их тайна. Мы хотим понять: что сделало их такими? Что в их характере, в способе мышления позволило подняться на такую высоту? В искусстве, науке, технике, общественной мысли, литературе – в каждом проявлении человеческого духа.
– Леонардо да Винчи принадлежал к тем редким гигантам, – продолжал Марко, – которые, опережая свою эпоху, пролагали путь в будущее.
Он жил в те времена, когда знание о мире было фрагментарным и наивным. Путешествия были опасны, дороги непроходимы, а карты полны фантастических надписей вроде: «Здесь живут люди с птичьими головами» или «Страна Обезьян». Даже в просвещённой Европе ученый казался почти колдуном, а любой образованный человек был и математиком, и алхимиком, и астрологом, и немного гадателем. Несмотря на грязные улицы и предрассудки, именно тогда начали вырастать величественные соборы, появляться шедевры и идеи, изменившие историю.
– Леонардо был универсальным гением, – подчеркнул Марко. – Его талант был столь многогранен, что поражал даже современников: живопись, анатомия, инженерия, архитектура, гидротехника, проекты машин и летательных аппаратов, – список почти бесконечен. Он изобрёл парашют, предвосхитил вертолёт, создал таинственную Джоконду…
– Может, он был пришельцем? – раздался голос с задней парты.
– Или застрял во времени, – с улыбкой добавила студентка.
– Нет, – покачал головой Марко. – Это всё фантазии тех, кто не понимает, на что способен человеческий ум, если он одержим идеей и творчеством. Гении эпохи Возрождения горели внутренним огнём, двигались вперёд с дерзкой решимостью, не щадя себя. Их энергия позволяла поднимать соборы, сочинять музыку, писать бессмертные картины – и при этом конструировать катапульты, мосты и водолазные костюмы. Мы обязаны преклониться перед масштабом их личности и духа.
Он замолчал, позволяя словам отзвучать в воображении студентов.
К вечеру, вернувшись домой, Марко разогрел купленную по пути пиццу, переоделся в уютный свитер и джинсы, аккуратно повесив пиджак в шкаф. Помыв руки, он прошёл на кухню, где уже прозвучал сигнал микроволновки, и налил себе бокал сухого Кьянти.
Он сделал первый глоток и, прищурившись от удовольствия, проговорил:
– Ах, этот божественный Кьянти! Ещё недавно – простое вино в соломенной оплётке, а теперь – мировой феномен, который перевернул представление о виноделии Италии.
Он помолчал, держа бокал на просвет, любуясь глубоким рубиновым оттенком.
– Да, пусть все знают: лучшие вина – из Тосканы, – произнёс он торжественно, почти театрально. Ему даже показалось, что он сказал это вслух.
По вечерам Марко, как обычно, включал телевизор. Экран надёжно вещал одно и то же – бесконечный поток новостей с канала Rai News 24, перемежаемый дорожными сводками, прогнозами погоды и аналитикой, порой сомнительной полезности.
Сегодня, например, сообщалось о вспыхнувших волнениях у здания префектуры: группа сомалийских беженцев протестовала из-за пожара в бывшей фабрике, где они временно проживали. Один человек погиб, десятки требовали помощи с жильём. Несколько протестующих попытались прорваться в здание, но были остановлены полицией.
Следом шёл сюжет о другой части мигрантов, наладивших уличную торговлю: кебабы, шаурма, палатки на каждом углу. Однако гигиена в таких точках оставляла желать лучшего – в больницы попадали молодёжь и туристы. Местные власти отреагировали строго: санитарные проверки, закрытие подозрительных лавок и новое правило – не менее 70% традиционных тосканских блюд в меню заведений центра. «Флоренция – это наследие, а не гастрономическая лотерея», – цитировали чиновников.
Телевизор продолжал бубнить, создавая привычный звуковой фон. Марко слушал избирательно, научившись отделять суть от шумовой шелухи. Он давно считал: перегруз информацией не менее опасен, чем её отсутствие.
Пицца, которой он собирался поужинать, называлась то ли «Четыре сыра», то ли «Четыре сезона» – Марко так и не освоил гастрономическую классификацию, да и нужно ли это, если перед тобой такая ароматная круглая прелесть?
На ней, как на палитре, сочетались четыре сыра: Рикотта, Моцарелла, Горгонзола и Пармезан. Каждый сектор символизировал время года: весна – с артишоками и оливками, лето – с ярким перцем, осень – с томатами и тягучей Моцареллой, зима – с грибами и варёными яйцами. Пицца была сочной, горячей и исчезла быстрее, чем Марко успел заметить.
Насытившись, он вернулся к привычному: разложил бумаги и стал править конспекты завтрашних лекций. По расписанию их было несколько. – Надо бы лечь пораньше, – пробормотал он себе под нос, точно договариваясь с собой.
Закончив с бумагами, Марко пробежал глазами утренние газеты и вдруг вспомнил о письмах, которые сегодня ему принес почтальон. Первое – от старого друга Дэвида, одноклассника, приглашавшего в Рим на свадьбу. «И ты, Брут», – усмехнулся Марко, зная, что Дэвид давно считает его последним из Могикан, ведь он был единственным в их классе, кто еще не создал семью.
Второе письмо вызвало у него живой интерес – официальное приглашение на международную конференцию в Лондоне, посвящённую Леонардо да Винчи – фигуре, вокруг которой вращалась вся его научная жизнь и личная страсть.
Марко быстро пробежал глазами текст и тут же начал читать вслух, словно заучивая:
«Уважаемый профессор Марко Тоскано, Международный Фонд Исторических Исследований приглашает Вас принять участие в конференции „Леонардо да Винчи и его наследие“, которая состоится 2 мая 2019 года в Музее Виктории и Альберта, Лондон. Просим подтвердить участие…»
Прочитав письмо, Марко ощутил сильное волнение: сердце застучало быстрее, лицо горячо, в горле пересохло. «Нужно успокоиться и как можно скорее лечь спать», – пытался он убедить себя.
Лёжа в кровати, накрывшись лёгким одеялом, Марко не мог уснуть. Его разум был полон переживаний, и вместо покоя пришёл тревожный сон – ему снилась Луарская долина, замок Амбуаз, последняя ночь великого мастера. И голос – шёпот, почти ветер: «Я всё ещё здесь…»
Глава 2
Ранним утром, когда первые лучи бледного майского солнца едва касались тихих вод Луары, в древних каменных стенах замка Кло, расположенного в полудневной тени лесов и виноградников неподалёку от Амбуаза, медленно угасал огонь гения. Здесь, вдали от яркого флорентийского света, в пронизанном дыханием вечности дворце, жил последние дни своего долгого и величественного пути художник, учёный и волшебник – Леонардо да Винчи.
Седой, с глазами, что видели необъятные просторы человечества и таинства природы, он уже не мог встать без посторонней помощи – но душа его оставалась неудержимой, стремительной и пылкой, как в годы его молодости. Четыре года покровительства короля Франциска I окружали маэстро заботой, величием и покоем, достойным лишь самых высоких титулов. Великий французский монарх, поражённый необычайной силой духа и многоликой мудростью итальянца, превозносил его как первого художника, архитектора и инженера двора – статус, открывший перед Леонардо двери королевских салонов, в которых звучали итальянские слова, произнесённые с французским изяществом, лишь бы угодить его утончённому слуху.
В этом убежище, сотканном из древности и красоты, Леонардо сумел завершить проекты, которые давно блуждали в его творческом сознании – загадочные машины, архитектурные замыслы, построения идеального города, названного Маленьким Римом. Но теперь его силы иссякали, и однажды к его постели подошёл нотариус, чтобы принять последние распоряжения великого маэстро.
В последней воле, выписанной рукой, измождённой и дрожащей, Леонардо оставил наследие, пропитанное духом веков и таинственной силой творчества. Все книги, чертежи, изобретения, инструменты – всё, что когда-либо наполняло его мысли и придавало смысл его существованию – должно было достаться верному ученику Франческо Мельци, хранителю его памяти и продолжателю великого дела.
Не забыл он и других, кто разделял с ним жизнь и судьбу: слуге Баттисте Вилланису – уютные комнаты замка и виноградники под Миланом, братьям – символическое примирение, завершение давних распрей, чтобы сердце маэстро могло уйти спокойно. Верная служанка Матурина была отмечена тёплыми дарами – платьем из чёрного сукна, меховым головным убором и двумя дукатами – как благодарность за годы преданности и заботы.
Последняя просьба маэстро была исполнена с трепетом: покой и вечный дом он избрал в тихой часовне амбуазской церкви, а Франческо Мельци назначил своим душеприказчиком – хранителем памяти и продолжателем света, который зажёг этот Великий Человек.
В комнате давно уже незримо гостила Смерть – неотвратимая, властная и безмолвная, словно тень, прильнувшая к стенам замка. Её холодный взор не отрывался от умирающего, лежавшего беззащитным под тяжестью вечности. Левая рука маэстро подпирала голову, покрытую длинными седыми локонами, плавно обрамлявшими благородные черты его лица – лица человека, который пережил эпохи и носил в себе огонь вечного поиска.
Утром, когда небо просветлело хмурым светом, а горизонт вспыхнул кроваво-алым заревом, началась агония. Вокруг стояла мертвая тишина, лишь печальное пение птиц за окном наполняло комнату скорбным звуком – казалось, сама природа присоединилась к прощанию с гением, которому суждено было уйти в небытие.
Возле ложа, словно верный страж, сидел Франческо Мельци – самый преданный из учеников, сжимающий в ладонях парализованную правую руку своего учителя. Его глаза были наполнены слезами, но сознание примирения с неминуемым придавало сил – сил принять величие Смерти Гения в её неизбежной печали.
Недалеко оттуда в полумраке покоя молчаливо сидели два монаха – францисканец и доминиканец, приглашённые исполнить священный долг: сопровождать душу умирающего на последнем пути, помогая ей перейти за грань бытия. Но скука и ожидание толкали их в извечный спор, древний как сама вера.
– Не видишь ли ты здесь, брат мой, параллели со смертью святого Франциска Ассизского? – прошептал францисканец, наклоняясь к другу. – Помнится, что преподобный был отпет певчими жаворонками, ещё до церковного отпевания. Вот и ныне птицы возносят голос, предчувствуя уход мастера.
– Брат мой, – отозвался доминиканец, хмуро нахмурив брови, – поведение Леонардо противоречит истинам Откровения и учениям отцов церкви. Он пишет левой рукой, переворачивая буквы, словно еретик, скрывающий свои мысли. Его гордыня уводит душу по окольным тропам, где она блуждает и спотыкается, не видя прямого пути.
– Да, брат, – согласился францисканец, – вы, доминиканцы, называете себя псами Господними, символом у вас собака с факелом, что освещает путь в темноте, обличая заблуждения. Но не забывай: умирающий – не простой человек, он признанный гений!
– Все равны пред Богом, – ответил доминиканец, – но умереть гением сложнее, чем им родиться.
Так продолжалась их вечная полемика: один – с оттенком милосердия, другой – с решимостью осудить. И в то время как слова гудели в тишине, на мгновение стихла агония. Леонардо глубоко вдохнул, и в его усталых глазах вспыхнул живой огонёк. С трудом, преодолевая немощь, он приподнялся, словно отвергая приближающийся мрак, и попытался сесть в постели.
– Франческо, друг мой, – произнёс он тихо, с оттенком незримой силы в голосе, – знай, мне спокойно с тобой. Всё подходит к своему завершению, и недалёк час, когда душа моя покинет тело – то хрупкое вместилище, что более не станет моей обителью. Но, невидимая для глаз смертных, она останется блуждать среди тех мест, где отзвуки жизни моей звучали ярко. Я понимаю: тело моё умрёт, растворится в вечности, а душа вступит на путь мытарств и скитаний. И прежде всего, я должен дать отчёт самому себе – о каждой тени, о каждом забытом мгновении, о том, что не замечал или считал незначительным.
Прожитая жизнь разворачивается передо мной, как свиток с крупными, почти осязаемыми деталями – невыполненные обещания, горькие обиды, незаконченные дела. Сколько было упущено, сколько – предано забвению, сколько – не сделано! Всё, что делал и забыл, всё, что мог, но не осмелился – сейчас мерцает перед моими глазами в своих самых горьких чертах. Нет голоса, чтоб закричать, нет слёз, чтобы омыть раны, нет рук, чтобы скрыться от мира, нет ног, чтобы пасть ниц. Остаётся лишь клубок боли и стыда, сжимающий сердце – и этот груз вечен, ибо время для меня растворилось в пустоте.
Мы ответственны за каждое деяние в своей жизни! Теперь ты пойдёшь дальше один, Франческо, а я останусь здесь, на пороге и буду ждать тебя. Помни: лишь у истоков решаются судьбы рек и людей. И теперь, стоя на краю пропасти, я готов сделать следующий шаг – в бездну тайного и неизведанного мира, что ждёт меня с распростёртыми объятиями. Здесь, на земле, я был лишь гостем, и с благодарностью принимаю дары, явленные моим глазам.
Жизнь – это тайна, смерть – это тайна, красота – тайна, и любовь – тайна. Я был причастен к миру через тайну, и ухожу легко, без страха, ибо меня любили, и я любил. Цени каждое мгновение своей жизни, Франческо, и верь в ту силу, что делает нас бессмертными – это есть любовь, что движет нами и вершит судьбы.
Я жил ради любви, пел, творил, писал ради неё – и вот теперь умираю ради любви.
Предчувствуя близость Смерти, Леонардо тихо попросил Франческо Мельци позвать священника. Вскоре в комнату вошёл священнослужитель с Святыми Дарами – символом вечной благодати и утешения для умирающего. Все, кто не был необходим, покинули помещение, оставив лишь тишину и тяжесть приближающегося часа.
В своей исповеди художник искренне просил прощения у Бога и людей – за то, что «не сделал для искусства всего, что мог и должен был сделать».
Доминиканец, стоявший неподалёку, уловил эти слова и с довольной, почти удовлетворённой улыбкой на блестящем лице кивнул – не было тайной, что Леонардо за свою жизнь не отличался набожностью и вёл образ жизни, далёкий от монашеского строгого. Но именно этот строгий страж церковных канонов обратил внимание на то, что, несмотря на покаяние, в сердце Леонардо вновь и вновь звучала одна и та же тема – искусство.
– Что бы люди ни говорили о нём, сын мой, – торжественно произнёс священник, словно обращаясь к Франческо, но глядя прямо в глаза доминиканцу, – он оправдается по слову Господа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Приняв Святое Причастие, Леонардо, с трудом взяв за руку своего преданного друга Франческо, прошептал последние слова, полные философской глубины и мира:
– Как хорошо проведённый день приносит счастливый сон, так плодотворно прожитая жизнь дарует глубокое удовлетворение. Я – словно вода в реке… Меня уносит течение Смерти…
Зловещая ночь принесла с собой невыносимые приступы удушья. Франческо Мельци, сжимая холодные пальцы Мастера, боялся самого страшного – что Леонардо умрет у него на руках. Как ужасно это равенство перед непреклонной Смертью, что не щадит ни гениев, ни ничтожных, стирая все грани между драгоценной жизнью и бренным прахом!
К утру 24 апреля, на Светлое Христово Воскресенье, Мастеру, казалось, стало легче. Но, так как он все еще задыхался, а в комнате было жарко, Франческо осторожно распахнул окно.
Над ним раскинулось нежно-голубое небо, по которому медленно парили белоснежные голуби – словно живые облака, что плавно скользили сквозь свет пасхального утра. С их крыльев нежно доносился шелест – подобный тайному шепоту, сливаясь с мелодичным звоном колоколов, возносящихся издалека, призывающих к Воскресению и надежде.
Но умирающий уже не слышал ни звон колоколов, ни нежных крыльев. Его сознание погрузилось в тёмные видения: каменные глыбы, огромные и холодные, падали с небес, грозя раздавить его. Он пытался подняться, оттолкнуть их, освободиться – но тщетно. Эта нескончаемая борьба длилась бесконечно, словно тягучий кошмар без надежды.
И вдруг – с последним неимоверным усилием – Леонардо, как птица на исполинских крыльях, взмыл ввысь. В первый раз в жизни он ощущал эту высоту, этот безграничный полёт – взлет бесконечности, где время и пространство теряли всякий смысл. Сердце его наполняло блаженство, которое нельзя было ни описать, ни понять иначе как высшее наслаждение. Это была воплощённая мечта всей его жизни – стремление к бесконечности, к свету, к свободе.
Сердце Леонардо билось еще несколько дней – слабым, но неугасимым пульсом, словно последним отблеском закатного света. Он не приходил в сознание, и тело его пребывалo в полусне – между жизнью и бездной. Но вот, ранним утром 2 мая, Франческо заметил, что грудь великого Мастера больше не поднимается с прежней силой, а дыхание стало едва уловимым шепотом. В нем еще тлела искра жизни, тонкая свеча, быстро догоравшая на ветру, который вот-вот задул последний огонь.
Монах, стоявший неподалеку, начал тихо читать молитву отходную – слова, словно ласковые перья, омывали и обволакивали умирающую душу. Франческо, приглушая рыдания, приложил руку к груди учителя и ощутил – сердце перестало биться. Смерть, равнодушная к титулу и заслугам, забрала у мира этого гения, уравняв его с каждым смертным.
Душа Леонардо, словно освобожденная птица, отлетела ввысь, показывая пример немощному телу, которое всю жизнь тщетно стремилось к полету, но так и не могло взмыть выше земных оков.
С рыданиями Франческо прикрыл глаза Мастера, а затем, с болью, что рвалась наружу, бросился к кухарке Матурине:
– Это Салаи… Салаи погубил его!
Та, нежно обнимая и утешая, тихо шептала, а затем закрыла лицо руками, утирая слезы. Лицо Леонардо сохранило то же выражение, что и при жизни – глубокое, сосредоточенное, полное тихого внимания и непостижимой мудрости.
За темно-красным бархатным занавесом комнаты засияло раннее майское солнце. Его свет, теплый и живой, наполнил зелёные поляны и свежую листву платанов парка, где птицы пели свои первые песни, а цветы раскрывали нежные лепестки. Он так и не смог понять тайны той необъяснимой радости, которую приносит природа людям – радости, несмотря на всю бренность бытия.
Дубовые доски пола спальни, пропитанные многовековой историей, казались сейчас покрытыми золотом солнечных лучей. Из окна весело развевались в воздухе узкие флажки над башнями замка – символы жизни, продолжающейся без конца.
Радостная волна вечного обновления медленно разливалась по земле, и эта необъяснимая несправедливость – конец великой драмы, разыгранной на маленькой сцене его постели – казалась вопиющей и жестокой.
В это самое мгновение, снизу, из затенённой мастерской, где маэстро Леонардо проводил дни и ночи в трудах и размышлениях, влетел маленький воробушек – птица, которую он приучил хлебными крошками. Серое создание, словно тайный посланник судьбы, кружилось над телом великого Мастера, окружённым мерцающим светом погребальных свечей, пламя которых танцевало мутными бликами в нарастающем сиянии первого утреннего солнца. Воробей плавно опустился по привычке на сложенные руки покойника – как будто желая проститься, прикоснуться к душе, а потом внезапно встрепенулся, взвился к потолку и через открытое окно взмыл в светлое небо, весело чирикая.
Франческо, глядя вслед маленькому крылатому страннику, подумал: в последний раз учитель сделал то, что так любил – отпустил на волю пленницу, даря ей свободу. В памяти вдруг всплыла старая сказка, которую рассказывал ему когда-то сам Леонардо – сказка о завещании Орла.
Старый орел, что давно потерял счет годам, жил в гордом одиночестве среди неприступных скал. Но силы ему стали изменять, и он почувствовал, что конец его близок. Мощным призывным клекотом орел созвал своих сыновей, живших на склонах соседних гор. Когда все были в сборе, он оглядел каждого и молвил:
— Все вы вскормлены, взращены мной и с малых лет приучены смело смотреть солнцу в глаза. Вот отчего вы по праву летаете выше всех остальных птиц. И горе тому, кто посмеет приблизиться к вашему гнезду! Все живое трепещет перед вами. Но будьте великодушны и не чините зла слабым и беззащитным. Не забывайте старую добрую истину: бояться себя заставишь, а уважать не принудишь.
Молодые орлы с почтением внимали речам родителя.
— Дни мои сочтены, – продолжал тот. – Но в гнезде я не хочу умирать. Нет! В последний раз устремлюсь в заоблачную высь, куда смогут поднять меня крылья. Я полечу навстречу солнцу, чтобы в его лучах сжечь старые перья, и тотчас рухну в морскую пучину…
При этих словах воцарилась такая тишина, что даже горное эхо не осмелилось ее нарушить.
— Но знайте! – сказал отец сыновьям напоследок. – В этот самый миг должно свершиться чудо: из воды я вновь выйду молодым и сильным, чтобы прожить новую жизнь. И вас ждет та же участь. Таков наш орлиный жребий!
И вот, расправив крылья, старый орел поднялся в свой последний полет. Гордый и величавый, он сделал прощальный круг над скалой, где взрастил многочисленное потомство и прожил долгие годы.
Храня глубокое молчание, его сыновья наблюдали, как орел смело устремился навстречу солнцу…
Навстречу солнцу! – эхом прозвучало в сердце Франческо, когда вдруг издалека донеслось ржание лошадей и топот копыт – король Франциск и его рыцари из свиты стремглав гнали коней, надеясь успеть к замку и застать умирающего живым. Солнце уже стояло в зените, когда всадники ворвались во двор. Но тщетной оказалась их спешка: переступив порог, Франциск не смог сдержать слёз. Звонко и тяжело стуча каблуками по каменному полу, он бросился к постели Леонардо, опустился на колено и нежно приподнял голову своего великого друга, человека, что был ему ближе родных. Припав к холодной, безжизненной руке Мастера, его тело вздрагивало от рыдания.
В присутствии монарха монахи, наконец, прекратили бессмысленные споры, что казались неуместными в эти священные часы. Их взгляды были прикованы к королю – к мужчине, чья любовь и скорбь сильнее всяких слов. Лишь смерть могла положить конец их бесконечным дебатам о вечной истине.
Верная служанка Матурина, вместе с опытной помощницей из соседней деревушки, взялись за омовение тела. Вторая не скрывала удивления: несмотря на паралич и иссохшие конечности, кожа Леонардо была удивительно гладкой, а мускулатура – крепкой, словно до последнего он сохранял связь с жизнью. Какая жестокая и властная была смерть, демонстрируя сейчас своё полное верховенство над жизнью, ликуя над поверженным гигантом!
По последней воле маэстро, тело пролежало в той же комнате ещё три дня – месте его последней, величайшей битвы с природой. Франческо Мельци позаботился о том, чтобы похороны прошли с честью, и чтобы никто не сомневался: Леонардо умер как истинный сын католической церкви. Однако народная молва, как два спорящих монаха, не унималась, обсуждая жизнь и смерть великого человека.
Вечный покой Леонардо был обретён в монастыре Сен-Флорентен. По пути на кладбище шли шестидесятники, неся шестьдесят свечей, и шестидесят нищих, которым Леонардо завещал милостыню. В четырёх церквах Амбуаза отслужили три больших и тридцать малых обедов, а семьдесят туренских су были розданы бедным и больным в городской больнице Сен-Лазар. На могильном камне вырезали слова, которые навсегда будут звучать как молитва:
«В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо из Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».
Спустя месяц, немного оправившись от отчаяния, Франческо Мельци писал во Флоренцию, сообщая о смерти учителя его братьям по отцу:
«Сер Джулиано и братьям, с почтением. Я полагаю, вы получили известие о смерти мессера Леонардо да Винчи, вашего брата. Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не могу. Но, пока жив, буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великой и нежной любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об утрате такого человека, ибо другого подобного природа не может создать. Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечный покой».
Горе угнетало Мельци так сильно, что он едва не сломался под его тяжестью. Но ему выпала великая ответственность – стать хранителем огромного наследия Учителя. Он стал обладателем бесчисленных томов, насыщенных рисунками и записями Леонардо. Забрав их с собой в Милан, Франческо с трепетом хранил их словно священные реликвии, пытаясь из этого необъятного и беспорядочного собрания собрать хотя бы одну книгу – «Трактат о живописи», над которым Мастер трудился последние двадцать пять лет своей жизни, но так и не довел до конца.
К сожалению, для последующих поколений судьба распорядилась иначе: Мельци не оставил ни воспоминаний о Леонардо, ни комментариев к его трудам, хотя бережно хранил их в течение полувека. Умирая, он завещал рукописи своему приёмному сыну Орацио, будучи уверен, что тот продолжит заботиться о них с такой же любовью.
Увы, судьба распорядилась иначе. Спустя годы Орацио распорядился отправить древние манускрипты на чердак, называя их «какими-то бумагами некоего Леонардо, скончавшегося пятьдесят лет назад». Так началась безжалостная утрата наследия Гения. Часть манускриптов была растерзана и похищена, другая часть передана скульптору Помпео Леони, обещавшему передать их королю Испании. Множество же рукописей было безжалостно уничтожено по глупости и невежству – страшной язве, которая пролегает между человеком и знанием. Невежество – упрямый отказ от познания; оно ненавидит всё непонятное и отвергает то, что требует напряжения мысли и готовности менять угол зрения.
Тем не менее, несмотря на варварские утраты, до наших дней дошли тысячи страниц рукописей Леонардо. Четырнадцать из них нашли своё место в Амброзианской библиотеке в Милане, а по приказу Наполеона тринадцать были вывезены во Францию – среди них знаменитый «Атлантический кодекс», который позднее вернулся в Милан. Многие другие манускрипты, претерпевшие испытания временем и дорогами, обрели убежище в Виндзорской королевской библиотеке, Британском музее, библиотеке наук и искусств Восточного Кингстона, библиотеке Холкан Холл Лорда Лестера.
Самый объёмный из них – «Атлантический кодекс» – состоит из 1222 переплетённых страниц, разбросанных без всякой логической системы, в соответствии с минутными порывами и настроениями их автора. На одних и тех же листах встречаются математические вычисления, эскизы, геометрические задачи, хозяйственные расчёты, анатомические рисунки, наблюдения о приливах и отливах, представления о работе глаза и испарении воды Средиземного моря, формулы и чертежи – многие из которых до сих пор остаются загадкой для учёных.
Но что несомненно – так это безграничный горизонт мысли Леонардо, его жажда постичь и исследовать мир до мельчайших деталей, его бесконечное стремление проникнуть в тайны бытия…
* * *
И вновь вознёсся колокольный звон – тот самый, что по приказу короля Франциска сопровождал похоронную процессию великого Мастера. Его завораживающая сила, невероятная мощь и благодатная красота поднимали дух, объединяли и исцеляли души скорбящих, оставляя в сердцах тихий свет надежды и памяти о человеке, чей гений навсегда вошёл в вечность.
Глава 3
Колокольный звон, казавшийся неумолчно звучащим с ночи, разбудил Марко. Он с трудом открыл глаза и только спустя несколько секунд понял, что это был не перезвон погребальных колоколов, а настойчивый сигнал будильника. Электронный циферблат показывал 7:30. Он лежал, не в силах сразу встать: тело ломило, и по нему разливалась тяжёлая, гнетущая вялость. Видения прошедшей ночи были слишком явственными, словно он сам держал за руку умирающего Леонардо.
Наконец, поднявшись с постели, Марко побрёл на кухню. Выпил стакан холодной воды, тщательно почистил зубы, умылся – все эти ритуалы словно возвращали его к реальности, но не развеивали внутреннюю смуту. Он машинально заварил себе кофе. Горячая, терпкая жидкость с лёгкой горчинкой согревала, но не пробуждала.
За окном, как и обещали синоптики, хмурилось. Плотный слой облаков висел над Флоренцией, и Марко, собираясь, надел лёгкий серый шарф – подарок матери на День Ангела. Изделие тончайшей работы от Tranini, сочетающее шерсть ягнёнка и шёлк, он любил не только за мягкость, но и за тепло, с которым оно было вручено. Эстет до мозга костей, он даже в будний, неприметный день не мог одеться иначе, чем утончённо и с вкусом.
Надев кожаные перчатки и прихватив подмышку старого спутника – зонт-трость, верного друга ещё с учёбы в Лондоне, – он проверил карманы и взял портфель с конспектами. Зонт был строг и элегантен, с безупречным лаком и никелированным кольцом у основания. Вот уже почти девять лет он сопровождал профессора и не подводил ни разу, служа одинаково преданно и в дождь, и под палящим тосканским солнцем.
Марко бросил взгляд на часы: 8:30. В прихожей, в специальном шкафчике, не было свежих газет.
– Джеронимо ещё не приходил… – пробормотал он и тут же одёрнул себя. – Ну конечно, он никогда и не приносит их так рано…
Он раскрыл зонт, вышел из дома и направился по знакомому маршруту в сторону университета. Мокрая брусчатка блестела под редким дождём, и, казалось, даже старинные стены Флоренции дышали тяжёлой, затуманенной тоской, отголоском тех снов, что не отпускали его сознание.
На ещё вчера безмятежном небе теперь вились тяжёлые, свинцово-серые тучи. Они не просто плыли – они давили на горизонт, нависая над городом, словно навязчивые мысли над утомлённым разумом. Солнце, утратив уверенность, сникло, как актёр, забывший роль, и теперь едва просвечивало сквозь неповоротливые, нахмуренные громады.
Сверкнула молния – быстрая, как пощёчина, как удар исподтишка. За ней, через несколько тягостных секунд, последовал глухой рокот грома, будто старый каменный собор заговорил из-под земли. Всё это напоминало приближение не столько весны, сколько суда. Вот-вот небо прорвётся, и его неумолимое горе обрушится на землю…
Марко съёжился, инстинктивно поправив шарф. Он чувствовал, как вкрадчивый холод забирается под воротник, как его тело замирает в предчувствии – не столько непогоды, сколько некоего судьбоносного поворота. Ветер рванул зонт, и всё вокруг содрогнулось в первом вздохе бури.
А тем временем деревья, трава, лепестки цветов будто оживали. Они дрожали от восторга – от той самой влаги, которая вгрызалась в кожу Марко и заставляла его ежиться. Капли дождя сначала робко падали, растворяясь в жадной земле. Потом – крупнее, настойчивее, шумнее. Они сталкивались, сбивались в струи, в шуршащие, нетерпеливые потоки, и вот уже небеса раскрылись во всю ширь, и вода хлынула с силой, как если бы само небо оплакивало то, что должно было произойти.
Весна вступала в свои законные права, но её торжество почему-то не радовало. В воздухе ощущалась тревога, и на душе у Марко было как-то муторно и беспричинно тяжело. Только мысль о том, что после дождя небо, возможно, одарит землю первой радугой – лёгкой, зыбкой, как надежда – приносила краткое утешение.
Когда дождь окончательно превратился в сплошной поток, Марко понял: дальше идти пешком – бессмысленно. Он остановил проезжавшее мимо такси. За рулём – типичный мигрант с Востока, словоохотливый и предприимчивый. Он с ходу назвал завышенную цену – ловкий приём, чтобы получить как можно больше с первого утреннего пассажира.
Таксист говорил без умолку, яростно жестикулируя, как будто пытался не убедить, а буквально вколотить свои жалобы в сознание собеседника. Сквозь акцент и обрывки слов Марко уловил суть: правительство хочет ввести лицензирование, поднять тарифы, и – как всегда – никто не думает о маленьком человеке.
Чтобы отвлечься от назойливого потока жалоб, Марко прикрыл глаза. Машина мчалась вдоль набережной Арно, и его тело расслабилось, поддавшись лёгкой дремоте. В голове ещё кружились остатки сна о Леонардо, но всё больше уступали место странному, расплывчатому предчувствию. Он почти ощутил тепло, разлившееся по телу…
И вдруг – жуткий скрежет. Резкий толчок. Что-то ударило по голове. Мир вывернулся наизнанку. Всё исчезло: свет, звук, мысль. Только боль. Боль и ощущение, что он летит – вниз, в пустоту. Или вверх? Он не знал. Пространство исчезло. Осталась только тьма…
* * *
Спустя всего пять минут после трагедии на экранах итальянского телеканала TgCom 24 замелькали тревожные ленты:
«На набережной реки Арно, в самом сердце Флоренции, недалеко от знаменитых мостов Понте Веккьо и Понте алле Грацие – треснул асфальт!»
Камеры вертелись, ловя кадры, от которых перехватывало дыхание: расколовшаяся земля, зияющая провальная трещина длиной около двухсот метров, в которую с глухим грохотом провалились два десятка припаркованных автомобилей. Некоторые из них исчезли в бездне почти бесследно. Два других, ещё с находившимися внутри пассажирами, зависли над пустотой, словно в последнем, отчаянном попытке удержаться в этом мире.
Тревожные сообщения сменяли друг друга. Передавалось, что есть пострадавшие, а с экрана уже демонстрировались первые фотографии изувеченных машин и людей в шоковом состоянии. Другие телеканалы мгновенно подхватили тему. Новостная волна накрыла страну. Ведущие с озабоченными лицами цитировали представителей мэрии: «Существует реальная угроза повторного обрушения дорожного полотна. Территория оцеплена. Опасность сохраняется».
Правоохранительные органы в срочном порядке опубликовали первые предварительные версии: причиной катастрофы мог стать дефект в подземных инженерных сетях. Однако спустя считанные часы версия сменилась: якобы всему виной подземные воды, постепенно размывавшие почву под дорожным покрытием. Представители мэрии поторопились озвучить третью – самую «официальную» версию: «Произошёл прорыв трубы городской водопроводной системы. Ситуация – под контролем».
На месте трагедии работали пожарные бригады, сотрудники коммунальных служб, четыре кареты скорой помощи. Дорожная полиция спешно перекрыла движение вдоль набережной. В воздухе звенела сиренами паника, гулом стояло напряжение, и казалось, сама земля пыталась напомнить городу, построенному на арках и мостах, как зыбка и ненадёжна под ним плоть.
* * *
Через одно из самых живописных мест Флоренции – площадь Сан-Пьер-Маджоре, где в суматохе утреннего рынка зеленели пучки рукколы, поблёскивали боками груши и наливались соком апельсины, где звенели голоса продавцов и сновали нетерпеливые покупатели, – быстрым, решительным шагом шла высокая, стройная женщина. Казалось, её шаги знали точку назначения, будто она направлялась на давно ожидаемую встречу – важную, быть может, даже судьбоносную.
Она выделялась среди толпы не одеждой – хоть и была одета со вкусом, – а именно осанкой. Тончайшее искусство ходьбы – это было её. Носки её туфель чуть развернуты в стороны, а пятки касались одной линии – это не шаг, а танец. Подбородок поднят, плечи отведены назад, мягко и свободно опущены вниз. Она шла, словно шла к алтарю, с достоинством, которому можно было бы позавидовать герцогини эпохи Возрождения.
Миновав башню Донати и обдав лицо ароматами из ближайшей пиццерии, она грациозно скользнула в узкую арку, где её взгляд на краткий миг столкнулся с глазами двух нищих и их собакой. Они сидели у стены, безмолвные, как живописный натюрморт – часть неизменного, вечного пейзажа города. Здесь, в этой каменной глотке между старинными домами, днём будет людно, многолюдно: будут гудеть рестораны, дышать чесноком винные лавки и щёлкать зубами сэндвич-бары, чудом уместившиеся в этих покатых, вечных арках. Сейчас же – утро, тишина, и её шаги звучали особенно ясно.
Пройдя сквозь арку, она вышла на улицу Сант-Эджидио и, как призрак времени, приблизилась к древней больнице – Санта-Мария-Нуова, старейшей из ныне действующих во всей Флоренции. Фасад её был заставлен бюстами последних Медичи – каменные лики, словно наблюдатели из прошлого, встречали каждого, кто подходил к вратам этого храма милосердия.
Основанная в самом конце XIII века Фолько Портинари, отцом той самой Беатриче, которую возлюбил Данте, – больница с тех пор стала местом, где пересекались история, искусство и сострадание. Но душой и сердцем её была вовсе не знатная фигура покровителя, а женщина – Монна Тесса, бывшая гувернантка шестерых дочерей Фолько. Она, следуя заветам святого Франциска Ассизского, возложила на себя заботу о больных с той нежностью и смирением, которое не часто встретишь даже в церквях. Её благоговейная любовь к страдающим вписалась в стены госпиталя так же прочно, как и фрески, украшавшие его коридоры.
Эти стены дышали искусством. Благочестивые горожане, купцы, вельможи – все, кто мог, жертвовали на благоустройство этого священного места. Для его убранства приглашали лучших мастеров, и некоторые из них – величайшие имена эпохи. Время многое унесло: фрески были сняты со стен и перемещены в музеи, картины рассеялись по коллекциям, но дух места остался.
Перед фасадом госпиталя – портик, созданный Бернардо Буонталенти, тот же, кто спроектировал и причудливую лестницу, ведущую к алтарю. У её подножия покоится прах основателя. В устав, составленный его рукой, было внесено золотое правило, которое могло бы быть эпиграфом ко всей истории человечности:
«Каждому больному, пришедшему на излечение, должно быть оказано такое внимание, такой уход и такая любовь, как если бы сам Христос, в образе страдальца, явился в стены сии»
Женщина остановилась перед воротами госпиталя. В её глазах мелькнул отблеск прошлого – быть может, она вспомнила это из книги. А может быть, она сама несла в себе нечто от Монны Тессы. Или от Беатриче. Или от Леонардо. В этом городе – каждый шаг перекликается с вечностью.
Филомена Тоскано, несмотря на свои шестьдесят восемь, оставалась женщиной, к которой оборачивались прохожие – не столько из вежливости, сколько из невольного восхищения. У неё была та редкая, благородная красота, которая не увядает, а превращается с возрастом в ауру. Её безупречный внешний вид, умение держаться и неизменное стремление нравиться придавали ей особую, почти театральную моложавость – но не вымученную, а естественную, как у женщин, которые любят себя и умеют носить свои годы с достоинством.
Филомена твёрдо верила: настоящая итальянка, если она действительно уважающая себя синьора, обязана посещать салон красоты минимум раз в неделю, и с возрастом её стиль должен становиться только изысканнее. «Più vecchia – più elegante!» – повторяла она, словно молитву. Её волосы – густые, вьющиеся, ухоженные до совершенства – были главной гордостью, предметом зависти и восхищения. Одежду она подбирала с вкусом, духи выбирала только французские, украшения – с историей, палантины носила так, как умеют только женщины, пережившие одну великую любовь и множество хороших романов.
В этот день на ней были лаконичные чёрные туфли на устойчивом каблуке, классические брюки цвета горького шоколада, блуза в мягких пастельных тонах и лёгкое, соответствующее сезону меховое манто. На шее поблёскивала нить чёрного жемчуга, а безымянный палец левой руки украшало кольцо с бриллиантом, некогда подаренное покойным мужем – сеньором Тоскано – в день их серебряной свадьбы.
Теперь же, твёрдо ступая по мозаичному полу приёмного отделения нейрохирургии госпиталя Санта-Мария-Нуова, она не шла – она шествовала, как героиня оперы, которой неведом страх.
– Senta! – с придыханием, но уверенно, произнесла она, обращаясь к врачу у стойки. – Я прошу разрешить мне увидеть моего сына.
Врач – пожилой человек в белоснежном халате и круглых очках на тонкой переносице – поднял на неё уставший, сочувственный взгляд.
– Синьора Тоскано, как вам известно, ваш сын перенёс тяжёлую черепно-мозговую травму в результате происшествия на мосту. Он находится в реанимационном блоке, в состоянии глубокой комы. Простите, но вход в отделение строго запрещён для посетителей…
Филомена слегка побледнела. Её голос задрожал, но слова звучали чётко:
– Chiedo scusa! Я – не посетитель. Я – мать.
Она сделала шаг вперёд, и в голосе её прозвучал металл:
– Поставьте себя на моё место, Dottore. Вы когда-нибудь держали на руках младенца, которого вы сами родили? Слышали, как он зовёт вас во сне? А теперь скажите мне, что я не имею права увидеть его, когда он умирает!
Она судорожно вдохнула, едва сдерживая слёзы:
– Впрочем… разве в ваших зачерствевших сердцах остались хоть крохи сострадания к чувствам матери? Я не умоляю – я требую. Или… да, если вам угодно, умоляю вас: пустите меня к сыну!
Молчание повисло между ними. Несколько секунд – почти вечность.
Доктор вздохнул. Его глаза потускнели от того, что он видел слишком много страданий, чтобы остаться совершенно бесчувственным.
Он кивнул, будто взвалив на себя груз чьей-то чужой вины.
– Наденьте халат, синьора. Пойдёмте.
Филомена, дрожащими пальцами накинув на плечи стерильный медицинский халат, прошла за врачом. Двери в реанимацию открылись, выпуская мягкий свет и шёпот приборов. Она вошла, как входят в храм. Потому что сейчас её сердце, старое, измученное и любящее, стучало только ради одного – увидеть сына.
Марко, казалось, спал. Но сон этот был чужд спокойствию. Он лежал недвижимо, с лицом, частично закрытым зондом и трубками. Аппарат искусственной вентиляции легких издавал равномерные шипящие звуки. Его кожа была бледна, почти прозрачна, и отсутствие даже малейшего движения вызвало у Филомены внезапный приступ слабости. Её охватило головокружение, и она машинально оперлась на руку доктора Моретти.
– Что с ним, Dottore? – прошептала она, едва сдерживая дрожь в голосе.
– Он находится в состоянии угнетённого сознания, синьора Тоскано, – ответил врач, мягко, но по-деловому. – Это результат травматического повреждения головного мозга. Даже при отсутствии явных повреждений ткани, мозг реагирует на ударную волну, нарушается работа нейронов… происходят сбои в передаче сигналов, и временно отключаются некоторые функции коры.
Он продолжал объяснять, но слова «аспирация», «брадикардия», «гемодинамический удар» утопали в её растерянности. Она больше не слушала – она смотрела.
Её сын, её Марко, её мальчик, лежал перед ней, отрезанный от мира. Словно в стеклянной колбе. Она сделала шаг к нему, но реанимационная сестра аккуратно преградила путь.
– Прошу вас, синьора, не тревожьте его. Ему нужен покой.
Филомена обернулась к врачу, слёзы уже стояли в её глазах:
– Dottore… скажите мне правду… Он теперь будет… инвалидом?
Доктор выдержал паузу и заговорил мягко, словно говорил не с матерью пациента, а с собственной родней:
– Не спешите с такими мыслями. Мы уже провели все необходимые исследования – МРТ, КТ, энцефалограмму. К счастью, жизненно важные центры мозга не повреждены, гематом нет, и – что особенно важно – функции центральной нервной системы сохранены. То есть операции не потребуется. Понимаете, он словно… родился в рубашке. Это невероятная удача при такой аварии.
Филомена закрыла глаза. От облегчения дыхание её сбилось.
– Но почему же он не просыпается?..
– Это может занять время, – сказал Моретти. – Мозг восстанавливается медленно. Главное сейчас – не терять надежду. Поверьте, у него есть все шансы вернуться к нормальной жизни.
Он сделал приглашающий жест к выходу:
– Я вас очень прошу, синьора. Поезжайте домой. Сейчас вы ничем не можете ему помочь. А он – под постоянным наблюдением. Завтра я сам распишу пропуск, и вас спокойно пустят. Но сегодня… ему нужен покой. И вам – тоже.
Филомена, еле дождавшись утра, приехала в больницу. Ее пропуск был готов и ее сопроводили к сыну. Марко все еще был без сознания, напоминая глубоко спящего человека, и его кожные покровы были так же бледны как вчера. Дежурная сестра шепотом сообщила матери, что ночью у него была рвота. Позже подошел доктор Моретти. Осматривая пациента, он коснулся тыльной стороны его ступней и посветил ему фонариком в глаза, выразив затем сожаление, что ничего нового пока сказать не может.
– Мы стараемся улучшить кровоснабжение его мозга, вводим ему диуретики, ноотропы и сосудистые препараты. Мы также планируем начать антибактериальную терапию во избежание присоединения инфекции легких и мочевых путей. Поверьте, мы делаем все, что в наших возможностях. Если вы хотите остаться здесь, синьора Тоскано, то я бы настоятельно порекомендовал вам говорить с вашим сыном, можете также касаться его рук. Есть большая надежда, что у него появится реакция на внешние раздражители.
Доктор Моретти галантно изобразил поклон и поспешно покинул палату.
Филомена присела, взяла сына за руку – живую, тёплую. Погладила по волосам, едва касаясь – словно могла пробудить прикосновением.
– Марко… Это я, мама. Доброе утро, мой мальчик…
Голос дрожал. Она говорила медленно, будто каждое слово прокладывало путь сквозь тишину.
– Я знаю, ты меня слышишь. И мне нужно многое сказать. Прости. Я была рядом, но вечно в разъездах, съёмках, на показах. Ослеплённая успехом. А ты рос – тихо, терпеливо, в тени моей славы.
Она глубоко вдохнула.
– Меня снимали в рекламе духов, я открывала Недели моды. Я изнуряла себя диетами, тренировками – красота ведь требует жертв. Овсянка без сахара, вода на ужин, и никакой пощады телу.
Грустно усмехнулась:
– В спортзале как-то женщина спросила тренера: «Молодой человек, говорят, что для быстрого эффекта надо пить активированный уголь. Это правда? – на что тот, имея острый язык и не мешкая, ответил:
– Милочка, для того, чтобы быстро похудеть, уголь вам надо бы не пить, его надо разгружать где-нибудь там, на шахтах Сардинии! – Филомена сдержанно хмыкнула, ее веселые воспоминания показались ей сейчас уместными. После чего она неторопливо продолжила:
– Помню, как однажды сказала: «Я самый счастливый человек». А подруга: «Ты влюбилась?» – «Нет. Я просто выспалась». Понимаешь?
Она коснулась щеки сына.
– Я всегда шла вперёд. Мечтала стать великой моделью. И почти стала. Только теперь понимаю: всё это – пыль, если рядом нет любимого человека. Тебя.
– Я тогда жила мечтой: Париж, Милан, подиумы, блиц-интервью… И вдруг – Джорджо Армани. Он сам подошёл ко мне после показа, сказал: «У вас необычное лицо. Ни на кого не похоже». Ты представляешь, Марко, Армани! Он пригласил меня на фотосессию. Для обложки!
Сейчас это кажется сном. Он был внимателен, строг, без лишней суеты – сдержанный гений. Мог подойти, поправить воротник модели и уйти молча, но в этом движении было больше уважения, чем в тирадах других дизайнеров.
– Он однажды сказал мне: «Вы обладаете итальянским достоинством и французской печалью. Это редкость». Мне хотелось плакать. От счастья. От усталости. От того, что кто-то увидел меня – не фасад, не позу, а суть.
Она на мгновение замолчала, глядя в лицо сына.
– Но счастье оказалось хрупким. Я тогда познакомилась со Стефано. Он был неотразим. Высокий, сдержанный, с глазами цвета пепла. Говорил мало, но каждое его слово будто вытекало из старинной книги.
– Мы встретились в Венеции, на приёме у Гальяно. Он просто подошёл и сказал: «Вы похожи на тосканскую мадонну». Я рассмеялась: «А вы, выходит, специалист по живописи Возрождения?» – «Нет. Просто тоскую».
Филомена улыбнулась сквозь слёзы:
– Мы были вместе два года. Он дарил мне книги, водил в галереи, пёк хлеб своими руками. Он не был богат. Но в нём было всё: сдержанность Северной Италии и огонь юга. Только… не было будущего.
Она опустила глаза.
– Однажды он исчез. Без письма, без объяснений. Просто не пришёл. Ни в кафе, ни домой. А через месяц я узнала, что он погиб. Авария. И… я уже носила тебя под сердцем.
– Ты родился, Марко, словно маленькое солнце – светлое, живое, с кудрями, как у ангела. Помню тот день, когда твоя тётушка Ортензия повесила на дверь голубой бант – символ защиты и надежды. Мне хотелось быть рядом каждую секунду, но работа звала меня в путь – в мир подиумов и огней.
С первых дней тебе уделяли внимание не только я и Ортензия, которая стала для тебя второй мамой. Она взяла на себя многое: воспитывала, учила, берегла. А я старалась совмещать всё – работу, тебя, мечты. Но однажды поняла: этот мир не щадит тех, кто не может быть идеальным во всем. Карьера стала требовать больше, чем могла дать я. И тогда я открыла модельное агентство, чтобы помочь молодым, дать им то, что когда-то было мне так нужно.
Она улыбнулась сквозь усталость:
– Помнишь, как ты в детстве, с мальчишеской добротой, кормил бездомных котят? Ортензия рассказала мне эту историю, и я поняла – в тебе живёт что-то большее, что нельзя сломать.
Филомена вздохнула глубоко, глядя на молчаливого сына:
– Ты всегда был моим светом, моим будущим. И сейчас я прошу тебя – открой глаза. Живи. Мы вместе справимся.
«Ты должен жить! И ты будешь жить!..» – вдруг, словно захваченная отчаянием, повторяла Филомена всё громче и громче. Затем, немного унявшись, вынула из маленького ридикюля носовой батистовый платок и промокнула слёзы, но они всё так же текли нескончаемым потоком. Наконец, с трудом выдавила из себя:
– Когда в последний раз я говорила тебе, Марко, что горжусь тобой? Если честно, не могу вспомнить… Значит, пора заглянуть глубже в свою дырявую память. Правда, я помню, как часто поднимала голос – торопила тебя, боясь опоздания в школу, когда сама спешила на работу. К сожалению, я чаще кричала, чем хвалила. Но сейчас, чувствуя, что ты меня слышишь, хочу сказать: знай, сын, я горжусь тобой. Восхищаюсь твоим профессионализмом, ценю твою независимость и умение заботиться о себе. Ты никогда не жаловался – и уже за это ты для меня – замечательный человек. Каждая мать мечтает о таком сыне. И когда мы стареем, как же важно, чтобы рядом были дети – терпеливые, искренние и любящие.
– Я прошу тебя, – слёзы блестели на глазах, – открой глаза, Марко! Ты – мои крылья за спиной, мои звёзды над землёй. Я просто хочу, чтобы ты знал: я люблю тебя.
Она вдруг остановилась, устало вскинувшись со стула, когда ей показалось, что веки Марко чуть-чуть задергались.
– Мама! Это голос мамы! – вот она, долгожданная реакция сына на призывы и мольбы Филомены. Она электрическим импульсом пронеслась в травмированном мозге Марко, Но видения его были сейчас крайне далеки от этой, накрытой светло-зеленой простыней больничной койки, от этих прозрачных трубок, соединявших его с работающей аппаратурой, и даже от находившейся рядом матери, что вот уже второй день неутомимо, но пока тщетно, искала в себе последние силы в борьбе за возвращение сына к жизни.
Глава 4
– Мама! Это голос Мамы! Это она зовет меня – Нардо! – тихо воскликнул маленький Леонардо. Он огляделся вокруг, но никого рядом не увидел. Осторожно сел, задумчиво положил подбородок на сложенные руки. Семь лет – и он уже был выше и стройнее многих своих сверстников из деревни Винчи. Светлое, словно освещенное утренним солнцем, лицо мальчика румянилось нежным румянцем. Его умные, живые глаза цвета яркого небесного лазурита искрились любопытством. Маленький курносый нос был усеян веснушками, а непослушные локоны – золотистые, словно лучи солнечного света, – игриво колыхались на ветру. Во всем облике Леонардо была какая-то тонкая женственная прелесть и легкая, едва уловимая гармония, будто отражающая глубины его еще не полностью осознанной души.
Он сидел на залитом солнечным светом лугу – словно на палитре художника, где каждое пятно цвета было живым и насыщенным. Вокруг распускались тысячи цветов: белоснежные ромашки, нежные васильки с синими звездами, колокольчики, склонившиеся под легким ветерком, и фиалки, спрятавшиеся в тени травы. Все оттенки, которые только можно было представить – алый, золотистый, лазурный, лиловый и ярко-желтый – словно взрывались здесь буйством красок. И запахи! Они наполняли воздух вокруг, тонко смешиваясь – свежесть лесных ягод, сладковатая пряность цветочного нектара, теплый запах плодородной земли. Бабочки и стрекозы танцевали в воздухе, перелетая с цветка на цветок, пчелы и шмели неутомимо трудились, их тихое жужжание звучало как нежная музыка природы. Здесь, среди этого великолепия, воздух казался самым чистым и живительным на свете.
Леонардо глубоко вдохнул, наполняя легкие ароматами лета, трав и солнечного тепла, и почувствовал, как голова кружится от счастья и умиротворения. Он закрыл глаза и позволил себе раствориться в этом мгновении – в запахе самой жизни, самой природы, в горячем сердце летнего дня, в нежном дыхании земли, что питала все вокруг.
– Удивительно, – задумался мальчик, – откуда у этой земли такая сила? Как она может вырастить на одном лугу столько цветов и трав? Их, наверное, миллионы! Столько жизни, которая пульсирует соками земли и устремляется к солнцу! – он поднял голову к небу, пронзительно-синему и бездонному, где, словно белые облачные корабли, плыли редкие, легкие облака, медленно перелетая с востока на запад, словно бабочки на лугу. И вот среди этих чудес появились птицы – воздушные странники, свободные и величественные. Они парили в небесах, выписывая в воздухе причудливые узоры, всю свою жизнь посвятив чудесному искусству полёта.
Для маленького Леонардо птицы были особенно важны – среди всех обитателей земли именно они нашли ключ к свободе пространства, показали людям, что можно покорять небо и дарят крылья мечтам. В его еще неокрепшем сознании давно поселилось трепетное восхищение их легкостью и бескрайней волей.
– Я тоже когда-нибудь полечу, – прошептал он с детской мечтательностью и глубокой уверенностью. – Обязательно полечу.
– Леонардо! – прозвучал снова знакомый голос, и, обернувшись, мальчик наконец увидел хрупкую женщину, которая, подхватив полы легкого платья, бежала к нему. – Нардо!
– Мама! – воскликнул он громко, и его лицо озарилось искренней, светлой радостью.
Женщина бросилась на него, осыпая горячими поцелуями, нежно гладила его по голове. Затем они обнялись, и долго стояли так – молча, словно пытаясь словами удержать эту минуту.
– Нардо, сынок, – прошептала она, – ты так изменился… Ты стал так похож на меня! Такие же длинные руки, такие же мягкие, как шелк, волосы, и та же улыбка, что была у меня в молодости.
Мальчик посмотрел на мать, и в его больших глазах заиграла грусть. Брови невольно поднялись, и в его голосе зазвучал наивный вопрос:
– Мама, где же ты была так долго? Почему не приезжала? Я скучал по тебе… Я не видел тебя целых три года, с тех пор как дедушка Антонио с отцом приехали в Анчиано и увезли меня в Винчи.
Женщина тяжело вздохнула, ее усталый взгляд встретился с его ясным, открытым взглядом. На лице ее лежала тяжелая тень печали – глубокая, как бездонная река скорби.
– Нардо, мальчик мой, – сказала она тихо, – нас разлучил твой дедушка. Он считал, что тебе будет лучше с ним и твоим отцом, чем с родной матерью…
– Но почему все мои друзья живут с мамами, а я – нет? – наивно спросил Леонардо, глядя в глаза матери. – И почему мои дедушка с бабушкой, и отец с его женой Альбиерой никогда не вспоминают о тебе? Каждый раз, когда я спрашиваю, они говорят, что ты не Мама, а просто Катарина. И просят не задавать много вопросов – мол, не на все из них есть ответы. Расскажи мне, что случилось? Я хочу знать.
Его пытливый взгляд пронзил душу Катарины. Она почувствовала, как горячая кровь приливает к щекам, как колющая дрожь, исходящая из самого сердца, медленно спускается вниз – до кончиков пальцев ног. Тяжело вздохнув, она положила правую руку на округлившийся живот и начала свой рассказ – тихий, душевный, полный откровения:
– Нардо, ты уже подрос, и, быть может, настало время рассказать тебе правду о том, что произошло. Ведь одному Иисусу известно, когда мне еще удастся увидеть тебя вновь… Я родилась в бедной крестьянской семье, но, как говорили мои предки, наш род имеет благородное происхождение – восходит к тем англичанам, которые более века назад пришли служить Италии под началом военачальника Джованни Акуто. Хотя твой отец и дед считают, что это всего лишь легенда, Бог видит – это истинная правда! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti… – открытая правая ладонь Катарины прошла крестным знамением от левого плеча к правому, затем к лбу и к груди.
Она тихо продолжила:
– Мне пришлось работать с детства, чтобы помочь семье. Я служила на Постоялом дворе: помогала на кухне, убирала, стирала белье для проезжающих путников. Однажды в нашу таверну заехал молодой человек – красиво одетый, видно, богатый. Это был Пьеро, твой будущий отец. Его называли сыном богатого землевладельца и потомственных нотариусов из Винчи. Он работал во Флоренции. Ему было 25 лет, и он умел производить впечатление на простых девушек, обращая на себя внимание – теми жестами и словами, которые для нас, простолюдинок, были редкостью.
– Отец его, твой дед Антонио, был человеком строгих нравов, и Пьеро приходилось выдумывать предлоги, чтобы тайно навещать меня в Анчиано. Вскоре наши отношения стали серьезными, хотя я, невинная и невежественная в делах любви девушка, пыталась сопротивляться и молила Пречистую Деву Марии о помощи. Но настойчивые слова любви Пьеро покорили меня. Он обещал жениться. И я полюбила его всем сердцем и душой, уступив порыву чувств и зову самой природы.
– Тогда я не думала о том, примут ли меня, простую девушку, в почтенное семейство. Позже я узнала, что дед Антонио говорил твоему отцу: «Не быть тебе моим наследником, если женишься на этой служанке».
– А потом я стала ждать тебя, сынок, – тихо продолжала Катарина, – с трепетом и порой с некоей опаской наблюдая, как растёт день ото дня мой живот, и с замиранием ощущая, как твои ножки стучат в моё сердце.
Незадолго до твоего появления на свет приехали Пьеро с отцом. Я видела, как они разговаривали – даже, казалось, спорили с моей матерью. В разговоре этом сэр Антонио выкрикнул жестокую обиду: мол, «породистый жеребец может покрыть ослицу – и получится мул. Но мулу не место в семье нотариуса!»
Затем меня позвали, приказали сесть в повозку и увезли в Винчи, в огромный фамильный дом твоей семьи. Там мне суждено было родить тебя.
Повитухе долго не удавалось помочь мне разрешиться, но в пятницу – или уже в субботу – в три часа ночи, 15 апреля 1452 года, на свет появился ты, Нардо. Говорят, мои долгие предродовые стенания не давали уснуть соседям, а твой долгожданный, громкий крик разбудил всех петухов, а за ними – весь Винчи!
Городок знал, что в семье Синьора Нотариуса вот-вот появится первенец. Люди судачили обо мне, обсуждая мою греховность и сомневаясь в моей честности. Но что бы тебе ни говорили, Нардо, знай – ты плод большой и светлой любви, а не просто похоти. Ведь в этом случае ты был бы бездарным и глупым ребёнком. Но тот, кто рождается при великой любви и глубоком желании, обязан обладать великим умом и добротой.
Катарина, рассказывая, иногда отводила взгляд – будто прикованный к чему-то невидимому – в глубоких переживаниях и сомнениях. Но вот она заметила, как сын смотрит на неё с неподдельной нежностью, глаза его блестели словно две капельки росы на весенней траве. Леонардо настойчиво просил продолжить.
Она улыбнулась, сжав ладони и тихо сказала:
– Хорошо, сынок… Ты заслуживаешь знать всё. Это твоя история – история твоей жизни, и ты вправе слышать её от своей матери.
– Мы с твоим отцом не состояли в браке, Нардо, – вздохнула она, – и потому считается, что ты родился вне закона. Но, к чести Пьеро и сэра Антонио, ты сразу же был признан частью их знатного семейства. Они поспешили устроить торжественный обряд твоего крещения в церкви Санта-Кроче – той самой, что стоит в центре Винчи.
Твой дед запретил мне присутствовать на этом обряде. Я затаилась неподалёку, словно разбойник, что скрывается от поимки, с замиранием сердца наблюдая, как тебя, уже покрещённого по всем канонам католической церкви и укутанного в дорогое покрывало, бережно вынесла на руках твоя бабушка Лючия.
Пьеро позже рассказал мне, что при крещении тебе было дано имя – Леонардо де Сэр Пьеро де Антонио. Леонардо – красивое имя, только очень длинное! Тогда Пьеро пообещал, что отдаст мне тебя, ведь ты нуждался в грудном молоке, а у меня его оказалось столько, что я могла бы досыта прокормить ещё одно дитя. Так и случилось – вскоре после твоего рождения нас обоих отправили в дом моих родителей, в деревню Анчиано.
Пьеро приезжал к нам всего несколько раз по воскресеньям после службы, но с каждым разом стал появляться всё реже и реже.
Однажды хозяйка таверны, где я продолжала трудиться – то стряпухой, то прачкой – прошептала мне на ухо, что узнала о женитьбе твоего отца. Да, это оказалось правдой. Он взял в жёны шестнадцатилетнюю Альбиеру Амадори, знатную девушку из самой Фьоренцы. Я не знаю, была ли между ними любовь, или это было очередное любовное покушение Пьеро на девушку из богатого рода.
Но это уже не имело для меня значения. В глубине души я хранила свою первую любовь – к твоему отцу.
Главное, что ты был со мной, Нардо! Я всегда мечтала о сыне и была счастлива, что судьба подарила мне тебя! Ты уже четыре года жил со мной в Анчиано, и нам никто более не был нужен!
Я была безгранично рада наблюдать, как ты растёшь умным и любознательным мальчиком, задающим столько трудных, непонятных мне вопросов, на которые у меня не было ответов!
Но в семье твоего отца не было счастья, – тихо продолжала Катарина, бережно касаясь хрупкой души сына. – Там так и не раздался детский смех, несмотря на все старания Пьеро, а в этом деле он был, ах, как искушён.
А потом случилось страшное. Одним воскресным утром нежданная повозка остановилась у нашего покосившегося домика – и в ней прибыли Пьеро с сэром Антонио. Они вырвали тебя из моих объятий, объявив, что увозят тебя на воспитание в свой дом в Винчи.
Меня же, чтобы я не наложила на себя руки от отчаяния, спустя всего три недели, сначала уговорами, а потом и силой, сэр Антонио выдал замуж за известного в нашем округе задиру Аккатабрига. За меня он дал хорошее приданое, чтобы, как говорил твой дед, «покрыть мой грех». На эти деньги Аккатабриг купил небольшой надел оливковой рощи и взял в аренду кирпичный завод у нас в Анчиано – там мы с ним и живём сейчас, в гончарной мастерской при заводе.
Он человек с тяжелым характером и не любит меня. Если бы любил – давно бы оторвался от своей бутыли вина, которое пьёт в больших количествах. После очередной рюмки он, словно ветряная мельница, машет кулаками во все стороны, готовый сразиться хоть с самим Иисусом. В эти моменты, не приведи Господи, попасться ему под горячую руку – это страшно. Как шепчут старшие селяне, он до смерти забил свою первую жену, уставшую терпеть его пьянство и побои.
Катарина замолчала, опустив голову и уставившись в сочную траву луга. А потом снова посмотрела на Леонардо:
– А как ты, Нардо? Как тебе живётся в Винчи? – в её голосе звучала глубокая усталость от тяжести рассказанного.
Маленький Леонардо сидел перед ней на мягкой траве, поджав колени к животу и внимательно глядя на мать грустными, всепонимающими глазами. Рассказ Катарины потряс его детское сознание – казалось, теперь уже ничто не вернёт ему ту радость и безмятежность, в которой он пребывал совсем недавно, созерцая окружающую природу и её чудеса. Мать нетерпеливо смотрела на небо, будто само раскалённое солнце торопило её домой. Леонардо заметил это и, собрав остатки детского мужества и попытался изобразить хотя бы тень улыбки – чтобы подбодрить и мать, и самого себя. Он начал свой рассказ о жизни в Винчи:
– Мама, со мной всё хорошо, не волнуйся. Отец и приёмная мать заботятся обо мне. Да-да, дона Альбиера очень добра.
– Сынок, ты так учтив и умен, что понравился бы даже самой ревнивой мачехе, – улыбнулась Катарина. Леонардо ответил ей мягкой улыбкой и продолжил:
– Бабушка Лючия любит и балует меня, всегда поёт тихие колыбельные перед сном и печёт вкусные берлингоццо с поджаренной в сметане корочкой! Правда, дед очень строг со мной, но он таким бывает со всеми. Когда сердится, требует, чтобы я называл его не «дед», а «синьор». Потом, в который раз, строгим голосом напоминает, что его отец был хранителем какой-то там печати и послом республики, и мне надлежит более почтительно относиться к тем, кто носит такие титулы, имея в виду, конечно, себя, – Леонардо наивно улыбнулся, почти засмеялся.
– Но у меня есть друг – дядя Франческо. Он такой забавный! Мы гуляем вместе, пока отца и деда нет дома. Франческо говорит, что разница в семнадцать лет даёт ему право не только воспитывать меня, но и быть настоящим другом. Наверное, он и есть мой единственный настоящий друг в доме отца.
– Чем занимается твой молодой и весёлый дядя Франческо? – спросила мать. – Он тоже стал нотариусом?
– Нет. Он не хочет быть нотариусом, как мои прадед, дед и отец. Говорит, что он «философ по складу мышления», а дед называет его своим «неудавшимся произведением», – отвечал мальчик с умным выражением, словно понимал каждое слово.
– Мы с дядей Франческо проводим всё свободное время на природе. А времени у нас много. Мы обошли все окрестности Винчи: там, где долина реки Арно и где поднимаются таинственные скалы с пещерами и холодными ручьями. Там, на склоне горы Монте Альбано, крестьяне пашут поля и трудятся на виноградниках моего деда. Ты видела, Мама, сколько там старых олив и цветущих миндальных деревьев? А те высокие стройные деревья, напоминающие хвосты огромных лисиц, – дядя Франческо сказал, что это кипарисы. С Монте Альбано, если небо чистое, мы видим бескрайнее Средиземное море! А иногда, когда дядя занят, я брожу один по горам и оврагам.
– Но почему один? – спросила мать. – Разве у тебя нет друзей из соседних дворов?
– Нет, Мама. Все мои ровесники застряли в своём детстве, их пустые игры меня не интересуют, – ответил Леонардо. – Но не волнуйся, со мной всё в порядке. Я научился лазать по крутым склонам, чтобы потом сидеть там, наверху, смотреть вокруг и мечтать. Пока внизу мирно пасутся овцы, а над головой кружат крылатые хищники.
Катарина смотрела на сына с изумлением и нежностью. Она не могла понять, когда он так быстро повзрослел, научился так красиво и грамотно говорить. Леонардо же продолжал, с блеском в глазах:
– Мама, знаешь, как интересно наблюдать природу и животных, запоминать все детали этого удивительного мира, следить за повадками рыб и ростом деревьев! Ты знала, что ветви деревьев толще на южной стороне, чем на северной? Дядя Франческо объяснил, что солнце притягивает влагу на ту сторону растения, что ближе к нему. Листья всегда поворачиваются лицом к небу, чтобы ловить росу. А круги срезанных деревьев показывают их возраст и погоду: толще – значит был влажный год, тоньше – сухой. Они даже показывают стороны света, смотря, куда обращены!
Катарина слушала и смотрела на сына с гордостью и нежностью. Она знала: разум Леонардо – дар Божий, открытый всему миру, который в будущем ему предстоит покорять. Она любила его, и одновременно понимала, что не сможет дать ему и малой толики тех знаний, которые он получает в доме отца.
– Ты уже уходишь?.. – вдруг спросил он, чувствуя, как защипало глаза, и крупные слёзы навернулись, словно невидимая плотина дала трещину. Катарина молча кивнула.
Прощание затянулось. Они стояли на лугу, прижавшись друг к другу, словно мать пыталась напитать сына своей жизненной силой, любовью, теплом. А он, по-детски крепко сжав её в объятиях, приподнял голову и множество раз поцеловал её в щеки и руки. В какой-то момент он вздрогнул, почувствовав огрубевшую кожу её ладоней. Затем словно маленький беззащитный комочек свернулся, словно весь мир в этот миг ополчился против него. Сердце матери растаяло окончательно, и вся та крепость, что держалась годами в глубине её души, распалась – ливнем горячих слёз хлынула на голову сына.
На краю залитого солнцем луга стояли рядом две вечные спутницы – Любовь и Разлука. Они молча наблюдали издали, точно две немые свидетельницы, это душераздирающее зрелище: две связанные невидимой пуповиной родственные души – Сын и Мать, находящиеся на перекрёстке радости встречи и горечи расставания.
Леонардо обхватил мать своими детскими, но уже крепкими руками. В памяти всплывали самые первые подробные воспоминания, сохранённые глубоко в самом сокровенном уголке сердца – через всю жизнь.
– Ой, почему Мама так громко стонет? Ей больно? Мне страшно! Вокруг всё тесно и холодно. Я вижу свет, даже яркий свет. Чья-то жёсткая рука больно бьёт меня… я делаю первый вдох, я дышу, кричу! Кажется, я родился! Мне страшно и холодно! Всё такое непривычное! Как можно жить в этом мире?.. И вдруг – незнакомое, но такое родное, такое долгожданное лицо. Её улыбающееся лицо… И по нему текут горячие слёзы. Это же она, моя МАМА!!! Вот она какая! Теперь мне не страшно, я не кричу. Я пробую вкус её тёплого, сладковатого молока, наслаждаюсь её запахом и засыпаю счастливым младенческим сном. Я расту… Мама дала мне жизнь, она – самый дорогой человек на Земле.
Леонардо еще в раннем детстве наблюдал яркое проявление материнского чувства на примере одной кошки в Анчиано, которая, спасая своих малышей, каждый раз заходила в горящий дом, пока не вынесла всех своих котят в целости и сохранности, при этом бережно неся их в своих зубах, чтобы не поранить. Это ли не есть любовь и самопожертвование Матери?
В памяти жило множество тёплых воспоминаний о маминой заботе. Её нежный, ласковый голос, руки, что по утрам гладили его волосы и будили. Как он был счастлив в эти утренние минуты! Мама – как природа ранним летом: благоухающая, растущая, цветущая, весь мир дышит жизнью.
Он помнил прогулки с Мамой по лугам Анчиано. Время будто остановилось, когда они, держась за руки, плели венки из жёлтых одуванчиков, похожих на пушистых цыплят. Мама терпеливо отвечала на его бесконечные вопросы о мире, который их окружает. В тот день звуки природы наполняли всё вокруг: мелодичное пение птиц, жужжание шмелей, нежный шелест изумрудных листьев… Он был счастлив, что именно Мама открывала ему это удивительное богатство природы.
Мама была для него всем: и природой, и художником, и лекарством, и героем, и ангелом-хранителем. «Мама – это прекрасный и удивительный мир, который вокруг меня и внутри меня! Мама – это жизнь…»
Теперь же, опустив голову, он возвращался домой. Перед ним в дымке стоял образ матери – любящей, но такой печальной, смотрящей на него глазами, полными нежности и тоски. Разлука наполнила его душу невыносимой болью. Он больше не слышал стрекот кузнечиков, не чувствовал ароматов цветов. Весь мир, словно в едином дыхании, затаился в торжественной печали.
– Вернуть бы её хоть на миг… чтобы увидеть родное лицо… посмотреть в добрые глаза… прикоснуться к её огрубевшим от тяжёлой работы, но всё же мягким рукам – МАМИНЫМ рукам…
В эту минуту он понял – без неё свет померк, вся радость жизни ушла, и осталась лишь глухая, холодная тишина…
* * *
В доме его ждали дядя Франческо, бабушка Лючия и Альбиера. Отец уехал во Фьоренцу по делам, а дед Антонио, как сообщила бабушка, был приглашён в один из домов Винчи для составления какого-то нотариального завещания.
– Леонардо, где ты ходишь весь день напролёт? – ласково спросила бабушка, услышав шум у входа. – Ты весь пропах лесом! Смени-ка штаны и рубаху, вымой руки и садись за стол поскорее, – её голос был мягким и тёплым, словно уютное одеяло. – Вот-вот подойдёт дедушка, и мы будем обедать.
Она искренне любила своего единственного внука, прощая ему шалости и никогда не жаловалась мужу на его многочасовые прогулки по горам и лугам Тосканы. Для бабушки Лючии Леонардо был не просто ребёнком – он был маленьким светом в её жизни, источником радости и надежды.
В Винчи, как и в большинстве городских домов того времени, кухня обычно совмещалась со столовой. Приготовление пищи происходило на открытом очаге посреди комнаты – чтобы сохранить в доме тепло и жизнь. Но в этом доме, одном из самых больших и знатных в городе, кухня была устроена иначе. Мастера, приглашённые сэром Антонио, переместили камин к стенам главного зала, а затем выстроили отдельное крыло для кухни, отделённое крытой галереей. Это позволило сохранить уют и тишину в жилых покоях – дым, ароматы и суета кухни не тревожили гостей и домочадцев.
На стенах кухни висели ряды сковородок – больших и маленьких, кастрюль из медного блестящего металла, чайников с изящными носиками и узорчатая вафельница. Именно в ней, по воскресеньям, бабушка пекла хрустящие вафли с козьим сыром и шафраном – ароматами, которые манили всех домочадцев к столу.
В углу стояли вертела для жарки на открытом огне, треноги разных размеров для котлов и крючки для подвешивания перепелов и дичи. Бабушка Лючия считала себя хозяйкой всей этой ароматной империи. Она не допускала домашнюю прислугу к приготовлению пищи – их дело было в уборке и стирке, а вечером они покидали дом Синьора Нотариуса.
Каждый день бабушка тщательно обучала молодую невестку Альбиеру искусству хозяйства – как правильно пользоваться ковшами и терками, ситечками и ступками. Учила тщательно измельчать пищу, протирать или процеживать её до или после готовки – чтобы каждая трапеза была совершенной и приносила удовольствие.
Дом был полон ароматов: пряностей, свежего хлеба, зелени и свежеиспечённых пирогов. Эти запахи словно вплетались в ткань жизни семьи, связывая поколения, создавая атмосферу уюта и защищённости.
Леонардо слушал эти рассказы и наблюдал за суетой кухни с неподдельным интересом. Ему нравилось это царство вкусов и запахов – оно было живым, настоящим, и каждый день здесь происходило маленькое волшебство.
– Лекарь утверждает, что чем лучше измельчена пища, тем эффективнее тело поглотит её, – говорила бабушка, поглаживая седые волосы, – и чем искуснее приготовлено блюдо, тем больше пользы оно принесёт здоровью.
Альбиера слушала её с покорностью и вниманием, часто кивая головой, стараясь запомнить все тонкости хозяйского искусства. Она была миловидной, с тонкими чертами лица и грацией, которая выдавала изысканное воспитание, а в глазах жила тихая, но живая одухотворённость.
В этом доме уважали кулинарное искусство и позволяли себе настоящие застольные излишества, что на фоне скромного тосканского городка Винчи ярко выделяло семью нотариуса. Здесь ели не просто, как большинство местных – по нужде, а с изысканной тщательностью и трепетом. Трапезы были регулярны и обильны: помимо утреннего завтрака и вечернего обеда, здесь почётное место занимал полдник – merenda, когда собирались всей семьёй, чтобы подкрепиться лёгкими блюдами и вновь собраться с силами.
Когда требовалось, бабушка Лючия расправляла на столе дорогую, тончайшую скатерть из белоснежного полотна, аккуратно раскладывала салфетки, подбирала посуду и серебряные приборы. На столе появлялись кувшины с кристально чистой водой, дорогие графины, изящные вилки и ножи с тонкой ручкой – всё это создавало ощущение праздника и уважения к гостям и семье.
Главным отличием трапезы в этом доме от простых обедов крестьян была почти ежедневная порция мяса и отборного вина, большое количество дичи, которую крестьяне и арендаторы привозили из владений, и обилие пряностей и соли – этих дорогих и редких тогда специй. Всё это было уделом только богатых – простым людям подобное удовольствие было недоступно.
Леонардо, заняв своё место за столом, с любопытством наблюдал, как бабушка и слуги несут на стол яства, аккуратно устилая его белой скатертью. Сегодня на столе не было привычного хлеба – его заменили горячие пироги, с золотистыми, хрустящими корочками, начинённые лесными грибами, которые бабушка сама собирала с дядей Франческо в ближайших лесах. Воздух наполнялся приятным ароматом, вызывая в животе приятное урчание.
Посреди стола на овальном фарфоровом блюде красовался карп, бережно припущенный и фаршированный свежими овощами и зеленью – петрушкой, укропом, сельдереем. Рыба была политой кисло-сладким соусом, приготовленным из меда, винного уксуса и щепотки специй, даря блюду лёгкую пикантность и изысканный аромат.
Вскоре в дверях появился синьор Антонио – величественный и строгий, в бархатном сюртуке с аккуратной белой кружевной манишкой. В руках он держал трость с серебряной рукояткой. На его лице читалась усталость, но взгляд оставался гордым и уверенным. Бабушка быстро принесла к столу глиняный горшок с тушеной говядиной, покрытый толстым слоем ароматной корочки – это было фирменное блюдо семьи.
Леонардо терпеливо ждал, когда глава семьи займёт своё место. Он хорошо знал неписаное правило: в доме нотариуса нельзя приступать к еде, пока не сядет синьор Антонио. И лишь тогда вокруг стола воцарялось торжественное молчание, разрываемое лишь тихими разговорами и благоговейным звоном серебра о фарфор.
Дед был явно не в настроении и, придравшись к жене, бурчал на слишком обильное количество пряных специй – корицы и гвоздики – в тушёном мясе.
– Лючия, я уже тысячу и один раз говорил тебе: пряности нужны, чтобы скрыть вкус несвежих или испорченных продуктов, – сердито произнёс он, облизывая пальцы, – а мы покупаем в лавке только что зарезанного телёнка!
– Антонио, – тихо, покраснев, ответила Лючия, – я старалась угодить тебе и точно следовала рецепту, оставленному твоей покойной матерью.
– К чёрту эту рецептуру, – проворчал Антонио, – даже доктор говорит, что моя подагра – прямое следствие твоих «кулинарных шедевров». Да и эти твои заморские пряности мне в копеечку обходятся! – он сделал паузу, чтобы запить сказанное глотком красного вина, которое переливалось рубиновым цветом в хрупком венецианском графине.
В этот момент в разговор вмешался дядя Франческо, тихо и с иронией:
– Отец, может, тебе ещё прикажем соблюдать церковный календарь, по которому мясо нельзя есть по средам, пятницам и субботам, а в пост – и вовсе забыть о нём? Или мы, что, монахи какие, для которых по уставу Ордена мясо вообще под запретом? Хотя, я уверен, что если бы не твоя подагра, ты бы и тут нашёл лазейку.
– Не смей мне перечить! – резко заорал Антонио и так сильно стукнул кулаком по столу, что карп на овальном блюде пошевелил плавниками, будто живой.
Достаточно наевшись мясом и нежнейшим карпом, и запив всё это двумя аппетитными пирогами, дед, казалось, слегка поправил своё настроение. Он рассказал домочадцам, что по дороге домой, возвращаясь от умирающего аптекаря – который, несмотря на слабость, успел продиктовать ему своё завещание – его укусила какая-то собака. И завтра же он намерен обратиться к главе городка с настоятельной просьбой – переловить и утопить в Арно всех этих бесцельно лающих бродячих собак!
Услышав о укусе, Лючия поспешила осмотреть рану на пятке мужа, но там оказалась всего лишь небольшая царапина. Дядя Франческо, наклонившись к уху Леонардо, прошептал:
– Ну ответь мне, дружище, разве можно доверять людям, которые не любят собак, а? Зато я доверяю собаке, когда ей не нравится человек, – они посмотрели друг на друга, в глазах дяди блестели озорные искорки. И, отвернувшись от Антонио, дабы не вызвать очередной вспышки его гнева, они оба таинственно заулыбались, уже давно научившись прекрасно понимать друг друга.
Дядя Франческо каждый день открывал перед любимым племянником удивительную мудрость природы. Часто они вместе спускались к реке, и, наблюдая за быстрыми струями воды, дядя говорил Леонардо:
– Вот смотри, жизнь – как эта река: течёт, утекает и возвращается снова.
Во время прогулок по лесу он показывал мальчику, как происходят чудеса превращения у насекомых, как меняется мир вокруг. Он заставлял Леонардо прикоснуться к комочкам земли, где всходят хлебные ростки, сам удивляясь той невидимой силе, что помогает тоненькому стебельку пробиться сквозь твердую, порой даже ледяную почву.
А летом, в жару, они наблюдали за муравьями – этими маленькими трудягами, которые несли на себе зерна, гораздо крупнее их самих. Однажды дядя Франческо рассказал Леонардо сказку о тайном договоре между муравьём и зернышком:
– Оставь меня здесь, – попросило зерно муравья, – я вернусь в родную землю и через год принесу тебе не одно, а сто зерен.
– А муравей что ответил? – спросил Леонардо с интересом.
– Устал он, Леонардо, таскать зерно, и согласился, хоть и не очень поверил в обещание.
– И что же случилось через год?
– Колос вырос! Зерно превратилось в колос! Верно, дядюшка?
На следующее утро Леонардо с дядей Франческо, как обычно, отправились гулять по окрестностям Винчи. Они забрели далеко в просторные луга, где трава колыхалась под легким ветерком, а над ними свободно парили птицы. Внимательно осматривая землю, они начали собирать птичьи яйца – ловко отыскивая спрятанные в густой траве гнезда. Франческо, увлечённый поисками, редко разгибался, сосредоточенно заглядывая в каждый куст, а Леонардо, напротив, с поднятой головой внимательно наблюдал за птицами, которые с пронзительными криками носились над ними, словно охраняя свои дома.
– Леонардо, – вдруг спросил дядя, – не слышишь ли ты в их криках что-то понятное нашему разуму?
– Да, – ответил мальчик, – я отчетливо слышу, как они просят нас не трогать их еще не вылупившихся птенцов. А вот эта пара, – он указал на две птицы, – явно прогоняет нас, крича: «Вон отсюда, негодяи!»
Они оба улыбнулись и, как всегда, устроили дружеское соревнование, придумывая свои значения для птичьих выкриков, словно переводя их на язык людей.
Птицы… Таинство их полёта не переставало приковывать внимание Леонардо к небу. Он мог часами наблюдать, как они – малые и большие – совершают своё загадочное действо: купаются в порывах ветра, парят над облаками, распластав крылья, будто касаются самого неба. Волшебство полёта продолжало завораживать его, вызывая в душе трепет и восхищение.
– Дядя Франческо, – вдруг спросил мальчик, – разве не жестоки те, кто ловит птиц и сажает их в клетки? Ты говорил, что птицы – одни из самых древних существ на Земле, чьих современников уже давно нет. А вот птицы дожили до наших дней! Так неужели они могут оказаться на грани гибели из-за людского невежества? Как можно помещать этих свободных созданий за прутья?
– Да, ты прав, – ответил дядя, – лишать кого-то свободы – жестоко. На нашем базаре таких торговцев много, они продают птиц, чтобы прокормить семьи. Такова жизнь, Леонардо. Мы едим мясо телёнка, рыбу, птицу – добытые для пищи. Скажи, что, по-твоему, жестче: посадить птицу в клетку, лишив её свободы, или убить её ради еды?
Леонардо замолчал, глубоко задумавшись. Он искал ответ в своём сердце, но не находил его. Наконец, тихо и серьёзно произнёс:
– Я больше никогда не буду есть мясо – из уважения ко всем живым существам. Я люблю всё живое слишком сильно, чтобы причинять им боль.
– Леонардо, ну скажи честно, – улыбнулся дядя Франческо, поднимая брови, – разве можно жить, не вкушая жаркого с ароматными травами и сочным мясом? Это же часть жизни, кусочек радости! Ты же знаешь, я сам не прочь отведать хороший кусок телятины, когда нагрянет голод.
– Да, – задумчиво ответил Леонардо, – но разве мы имеем право лишать жизни других созданий только ради нашего удовольствия? – глаза мальчика загорелись искренностью и чуть детской наивностью. – Я люблю животных. Каждый кузнечик, каждая птичка – как маленькое чудо. Представляешь, я недавно спас одного кузнечика с дороги, и он так благодарно повернулся ко мне… – он улыбнулся, вспоминая.
Дядя Франческо усмехнулся и покачал головой, но в глазах у него мелькнула нежность.
– Ах, ты и правда большой романтик, Леонардо! – тихо рассмеялся он. – Но жизнь – штука сложная, и иногда приходится делать выбор. Помнишь, как мы с тобой изучали лягушку? Да, это был эксперимент, но без него нельзя понять мир вокруг. Вся наука – это маленькие тайны, которые мы открываем. И без понимания этих тайн не будет ни искусства, ни жизни.
– Я понимаю, – мягко сказал мальчик, – но мне больно от мысли, что кому-то приходится страдать из-за меня… – он чуть прикрыл глаза, будто слышал чей-то тихий стон. – Мама учила меня состраданию. Она говорила, что любить – значит беречь и защищать.
– Вот видишь, – одобрительно кивнул Франческо, – сострадание – это великое качество. И именно оно ведёт тебя к великому пути. Ты учишься чувствовать и видеть больше, чем большинство людей. И это замечательно!
Внезапно дядя указал в небо.
– Смотри, Леонардо! Видишь того коршуна? Его парящий полёт – символ свободы и силы. Он не тратит силы зря, он летит туда, где свежий ветер. Вот чему нам стоит учиться: уметь выбирать путь, который принесёт нам силу, и нести свободу в сердце.
Леонардо, вдохнув полной грудью, посмотрел на дядю и улыбнулся.
– Спасибо, дядя Франческо. Мне так повезло, что ты рядом.
Франческо крепко обнял племянника, и их глаза встретились – в них горел огонь любви, доверия и надежды.
Вечерело. Солнце окрасило багряным заревом пыльную листву деревьев – темно-малахитовую, словно густую ткань, натянутую над лугом. Небольшая роща на краю живописного поля всё еще согревалась остатками мягкого тепла заходящего светила, а шелест её густых крон разносился на лёгком ветру, будто тихая музыка природы. Вся растительность луга благоухала букетом острых пряных ароматов – мощный аккорд лета, взятый на пике цветения.
Дома их ждал накрытый к обеду стол. Все были в сборе, но никто не спешил садиться за еду. Дед Антонио нервно расхаживал из угла в угол, словно искал слова, чтобы выплеснуть накопившееся раздражение. Увидев сына и внука, он строго произнёс:
– Франческо, куда вас ноги носят? Когда же закончится это бесцельное времяпрепровождение? Пора бы уже взяться за ум! Не позволю, чтобы из моего единственного внука вырос такой же праздный бездельник, как ты! Запомни: свобода, предоставленная ребёнку, не должна быть превращена в распущенность!
– Отец, – спокойно возразил Франческо, – у ребёнка должно быть детство. Через игры и увлечения дети познают себя, формируют личность.
– Вот я и вижу, как развилась твоя «личность», шалопай и беззаботный тунеядец! – вскричал Антонио с отчаянием в голосе, – скажи мне, в чём ты нашёл себя? В праздности и пустых забавках? – он тяжело вздохнул, осознавая, что изменить в жизни сына уже ничего не сможет – это «неудавшееся произведение», как он любил о нём говорить, навсегда потеряно для него.
На следующий день, в субботу, в городке Винчи по традиции кололи свиней – ритуал, в который мальчишки с округи сбегались, словно на праздник зрелищ, охотно интересуясь страшными и отвратительными деталями. Они толпились у загороженного места, выстраиваясь в первые ряды, чтобы не упустить ни одного момента. Их лица искривлялись гримасами, а голоса звучали издевательскими возгласами, сопровождавшими пронзительный визг животного, принесённого на заклание.
Свиней убивали безжалостно. Животное опрокидывали на спину на широкую доску и крепко привязывали – одного его крика было достаточно, чтобы заставить многих разбежаться в ужасе. Затем в сердце свиньи вгоняли бурав – тот самый, что используют виноделы для пробивки винных бочек. Рукоятка бурава сначала покачивалась, а затем движения становились всё короче, пока не останавливались, возвещая о наступлении смерти.
Тут толпа, точно в древнем ритуале, набрасывалась на животное, чтобы разделать его. Толстый мясник отгонял людей, чтобы спокойно разрезать брюхо от груди до паха, извлечь лёгкие, печень, сердце и кишки, окутанные слоями белого жира. Зрители, подобно своим далеким предкам, которые когда-то плясали возле поверженного мамонта, смеялись, шутили и напивались молодым вином, жадно поедая сырую печень и прочие части, считающиеся одновременно лакомством и целебным продуктом от многих болезней.
В это субботнее утро Леонардо стоял в стороне, наблюдая за этой кровавой церемонией с отрешённым взглядом. Весь оставшийся день он провёл в тишине и одиночестве, поднявшись на склоны Монте Альбано, где среди дикой природы пытался найти утешение для своей потрясённой души.
На следующий день, после воскресной службы, местный приходской священник, разговорившись с бабушкой Лючией, заметил:
– Любезная синьора Лючия, позвольте обратиться к Вам с одной мыслью. Я заметил в вашем внуке Леонардо необычайное сострадание, редкое среди детей. Тогда как другие веселятся, наблюдая это варварство, лицо его искажается болью, словно тот самый инструмент, которым колют свинью, проникает прямо в его сердце. Позвольте предположить, что если бы он был направлен к духовному званию, он мог бы стать выдающимся проповедником, мудрым пастырем для прихожан. Да и язык у него, судя по всему, прекрасно подвешен.
Лючия хорошо запомнила слова священника. И вечером, когда вся семья, включая отца, собралась за традиционным воскресным ужином, она, заботливо накрыв стол, рассказала мужу и сыну Пьеро о разговоре со священником. Эти слова, полные надежды и предчувствий, стали пищей для их размышлений о будущем мальчика, о том, какой путь ему предстоит пройти.
Тем временем воспоминания о встрече с мамой не покидали юного Леонардо. Поздним вечером, когда в доме уже царила тишина, он тихо зажег свечу и сел за старое бюро деда Антонио. Левой рукой взял толстое гусиное перо, недавно аккуратно заточенное дедом перочинным ножом, и окунул его в бронзовую чернильницу. Пористый стержень впитал чернила, и упругое перо, скрипя по шероховатой бумаге, двинулось справа налево.
Это было письмо – наивное, искреннее и полное душевного отчаяния. Письмо, адресованное… Богу:
Господи, Я еще маленький, и грехов у меня пока нет, но кажется, они медленно собираются внутри меня. Дедушка Антонио говорит, что меня тянет делать что-то нехорошее. Это Ты испытываешь меня? Или, может быть, мы с тобой – просто игрушки в Твоих руках?
Бабушка Лючия рассказывала, что Ты – самый главный на Земле, хоть и живешь высоко на небе. Тебя надо любить и почитать. Я Тебя, конечно, люблю, но… Маму я люблю больше. Ты сможешь простить меня за это?
Ты знаешь всё. Скажи, пожалуйста, помирятся ли мои родители?
Господи, я благодарен Тебе за всё, что Ты для меня сделал раньше. Но сейчас я очень нуждаюсь в Твоей помощи. Моя Мама так страдает на Земле… Неужели в Твоём аду может быть еще хуже? Я всё время жду её. Почему Ты наказываешь добрых людей? Это действительно Твоя воля? Разве не всем людям положено быть счастливыми? Сделай так, чтобы никто на Земле никогда не плакал.
Я очень прошу Тебя, помоги мне. Это моя самая большая просьба. Обещаю больше никогда не тревожить Тебя – даже если настанет время умирать.
Он подул на лист, чтобы высушить чернила, осторожно сложил письмо и уже на следующее утро отправился на луг. Там, найдя в траве гнездо, он положил в него письмо, надеясь, что добрые и милые птицы – летающие высоко и свободно – доставят его могущественному адресату.
Глава 5
Знатное семейство, не имея иных наследников, всерьёз задумалось о будущем семилетнего Леонардо. Несмотря на его незаконное рождение, он был принят в дом как полноправный член семьи – с благословения бабушки Лючии и неохотного, но всё же одобрения деда Антонио. Поскольку отцу мальчика часто приходилось бывать во Фьоренце по делам службы, обязанность заниматься воспитанием внука сэр Антонио принял на себя с немалой долей рвения.
Однако затея эта быстро обернулась разочарованием – Леонардо с трудом выносил сухие дедовские нравоучения и уроки. Тогда, в надежде найти более действенный путь, старик устроил его в школу при церкви Святой Петрониллы неподалёку от Винчи. Там мальчику предстояло постигать основы письма, счёта и латинской грамматики. Но в счёте и письме он уже преуспел благодаря дяде Франческо, а вот к латинскому языку и церковному писанию не испытывал ни малейшего интереса.
Сэр Антонио был в ярости:
– Латынь – это не прихоть, которую можно игнорировать, – гремел он. – Это основа всякой учёности, неотъемлемый атрибут образованного человека! Ты ведь хочешь быть достойным продолжателем нашей фамилии?
Леонардо молчал. Он не хотел продолжать ничего, кроме своих собственных наблюдений. Школа с её тисками дисциплины казалась ему холодной и чуждой. Вместо занятий он всё чаще с утра уходил в лес, в любимые рощи и луга, где мог часами наблюдать за насекомыми, растениями, птицами, впитывая красоту мира, как губка.
Возвращаясь домой, он тут же принимался рисовать: листья, с точностью передавая их тончайшие прожилки, речных раковин с их замысловатыми панцирями, крылья бабочек, муравьёв, гусениц. Его зарисовки порой казались живыми, как будто схваченные волшебной рукой. Он сам ещё не знал, как это называется, но чувствовал, что внутри него просыпается нечто большее – почти священное: неодолимая тяга к искусству, к наблюдению, к воссозданию самой природы.
Он не копировал чужие картины. Учителем для него была природа. А его фантазия и поразительная, не по возрасту зрелая наблюдательность делали всё остальное.
Недалеко от Винчи велось строительство большого дома для одного знатного синьора. Работами руководил известный зодчий по имени Биаджио. Леонардо, пренебрегая школьными уроками, всё чаще наведывался на стройку, где с замиранием сердца наблюдал, как каменщики возводят стены, выверяя угол угломером, как с помощью хитроумных устройств поднимаются тяжёлые балки, и как зодчий сверяется с чертежами, увлечённо отдавая распоряжения.
Биаджио вскоре заметил мальчика. Между ними завязалась беседа, и мастер был поражён – не только его живостью ума, но и необычайной точностью вопросов. Леонардо интересовался не внешним, а сутью: как работает подъёмный механизм? Почему стены не рушатся под собственной тяжестью? Почему прочность арки так зависит от формы и пропорции?
Сэр Биаджио понял: чтобы ответить мальчику, нужно говорить о вещах, которые лишь немногие взрослые могли бы постичь. Так начались их первые импровизированные уроки – по арифметике, геометрии, основам алгебры и механики. И чем больше он объяснял, тем больше изумлялся: Леонардо схватывал всё на лету, словно эти знания уже дремали в нём, как семена, ждавшие пробуждения.
Прошло немного времени, и тот самый приходской священник, что когда-то советовал бабушке Лючии определить мальчика на путь духовного служения, пересмотрел своё мнение. Он видел: душа этого ребёнка ищет не проповеди, а познания, не слова – а формы, линии, движения. И потому однажды, не сказав ни слова деду Антонио, он лично отвёл смышлёного отрока в мастерскую одного живописца из Эмполи.
Стоило им переступить порог, как Леонардо едва не задохнулся – воздух был густ от гнилостного запаха яиц и творога, смешанных для приготовления темперы. В самой мастерской, стоя на шатком деревянном помосте, художник работал над своим полотном, делая тонкие правки мазком. Леонардо застыл: он заворожённо следил за движением кисти, за тем, как под пальцами мастера оживают фигуры, как в мраке пыльного помещения вдруг появляется свет, будто из самого неба.
Но, не в силах больше выносить тяжёлый запах, он сжал руками рот и, побледнев, выбежал на улицу, жадно хватая ртом воздух.
Однажды к сэру Пьеро, отцу Леонардо, пришёл крестьянин – тот самый, что на протяжении многих лет поставлял в дом нотариуса рыбу и дичь. Он был простым, но сметливым человеком, ловцом птиц и рыболовом, и частенько захаживал в их усадьбу с корзиной добычи.
– Сэр Пьеро, – начал он, слегка помявшись, – разрешите показать вам одну вещицу. – В руках у него был круглый деревянный щит, гладко вырезанный из инжирового дерева.
– Что это у тебя? – удивлённо спросил Пьеро.
– Плотник дал мне этот щит в обмен на рыбу, – пояснил крестьянин. – Работа добротная, и вот я подумал: раз вы часто бываете во Фьоренце и знакомы со многими художниками, может, передадите кому-нибудь из них? Пусть распишет его на свой вкус. А уж мы потом с вами за труд расплатимся, как положено.
Сэр Пьеро, человек сердечный и благородный, не отказал – но, повертев в руках простенький, но изящно сделанный щит, вдруг задумался. Что-то подсказало ему иной путь. Он не пошёл к знакомым художникам во Флоренции, а вернулся в дом и заглянул в комнату сына.
Леонардо сидел спиной к двери, сосредоточенно работая над картоном, на котором он с поразительной точностью выводил крошечных насекомых – таких живых и детально проработанных, что казалось, вот-вот они зашевелятся и поползут по поверхности бумаги. Маленькие тени от лапок, изгибы усиков, прозрачные крылышки – всё дышало жизнью и вниманием.
Пьеро на мгновение замер у порога, словно не желая прерывать это волшебство. Потом негромко произнёс:
– Леонардо.
Мальчик медленно обернулся.
– Посмотри на этот щит, – сказал отец, подходя ближе. – Думаешь, ты мог бы его расписать?
Леонардо встал, взял деревянный круг в руки и, долго, молча его разглядывая, провёл по его поверхности пальцами, будто пытаясь на ощупь понять, о чём хочет рассказать ему эта древесина. Потом спокойно кивнул и без слов вернулся к своему столу, как будто ответ уже был принят – и не им, а самой природой, жившей в нём.
Получив задание от отца, Леонардо долго ломал голову, что же изобразить на круглом щите. Мальчику хотелось, чтобы изображение не просто украшало предмет, но вызывало сильную, почти физическую реакцию – будь то страх, трепет или изумление. Он остановился на одной идее: изобразить нечто по-настоящему страшное – голову Медузы, чтобы всякий, взглянув на неё, содрогнулся.
Он основательно подготовил поверхность: зачистил дерево, покрыл его слоем гипса, выровнял и загрунтовал. Затем наступила пауза – он искал образ, который был бы не просто жутким, но по-настоящему живым.
В тот же вечер, вернувшись из леса, Леонардо принёс с собой целый террариум природы: ящериц с бронзовыми чешуйками, шершней, сверчков, змей, кузнечиков, летучих мышей, странных жуков и ночных бабочек. Он наблюдал за ними, изучал их движения, формы, линии крыльев и изгибы хвостов. Комбинируя части этих существ – живых и мёртвых – он начал создавать из них единую фантастическую тварь, некое порождение кошмара, питающееся страхом и тьмой.
Из этих деталей возникло страшилище: древний дракон с головой Медузы, зловеще выползающий из мрачной пещеры. Из пасти его вырывался ядовитый дым, из глаз – огонь, а чешуйчатое тело источало смрадное дыхание, отравляющее воздух вокруг. Работая над созданием, Леонардо будто впал в транс – он забыл про еду, про сон, про окружающий мир. Он не замечал даже невыносимого зловония, исходившего от принесённых им в жертву искусству созданий.
Когда через несколько дней дверь его комнаты распахнулась, на пороге с каменным лицом застыл дядя Франческо. Он резко отшатнулся, схватившись за нос и воскликнул:
– Леонардо! Что ты здесь творишь? Это невозможно! – Он поморщился, кашляя, – здесь смрад, как в гнилом болоте! Открой окно, сейчас же! У бабушки Лючии с утра сильнейшая головная боль. Она велела слугам проверить все крысоловки в подвале, думая, что в доме сдохла крыса. А виновник, выходит, ты! Боже правый, ты сумасшедший!
Он уже собирался подойти ближе, но его взгляд упал на сам щит – на чудовище, ожившее на его выпуклой поверхности, сотканное из всех возможных мерзостей природы, и на застывших в неестественных позах несчастных тварей, лежащих в лотках, в банках и на полу. Лицо Франческо на мгновение застыло, потом брови его сдвинулись, образовав одну непреклонную линию осуждения.
Леонардо же не испугался, не оправдывался. Он даже не оторвался от работы. Только тихо, почти шепотом, будто себе под нос, произнёс:
– Это из великой моей любви к искусству…
И вернулся к созданию своего ужасающего шедевра.
Прошло ещё несколько дней, и работа была завершена. Чудовище, рождённое фантазией мальчика, обрело своё пристанище на поверхности щита, словно жило там всегда, дыша зловонием и излучая гипнотический ужас.
Леонардо, вытерев кисть, встал, осмотрел своё творение и, как взрослый мастер, остался молча перед ним – не с восторгом, а с каким-то внутренним трепетом, будто боялся, что созданное им само вот-вот оживёт.
Когда в комнату вошёл сэр Пьеро, он сразу почувствовал тяжелый воздух, пропитанный запахами краски и чего-то иного – неуловимо тревожного. Он подошёл ближе… и остановился. На миг лицо его побледнело, он даже отступил на шаг назад, не сводя взгляда с изображения.
– Santo cielo… – прошептал он. – Это тот самый щит, что я тебе дал? Это… правда живопись?
– Да, отец, – спокойно ответил Леонардо. – Это живопись. И она служит своей цели – производить впечатление. Ты можешь забрать его.
Сэр Пьеро долго не мог вымолвить ни слова. Он словно оказался перед неведомой силой, заключённой в простом предмете. Это была не детская забава – это было искусство, которое смущало и завораживало, страшило и вызывало уважение.
Вскоре он принял решение. Щит с Медузой он крестьянину не отдал. Вместо этого он нашёл у одного старьёвщика во Фьоренце другой, ничем не примечательный щит – с изображением пронзённого стрелой сердца – и передал его вместо работы сына. Крестьянин был более чем доволен: он рассыпался в благодарностях и целый месяц приносил в дом нотариуса дичь, рыбу и свежие яйца, не беря за них ни монеты.
А щит, созданный Леонардо, сэр Пьеро повёз в город. Там, почти тайком, он продал его некоему купцу, сказав, что работа принадлежит неизвестному мастеру. Купец не стал торговаться – он выложил сто дукатов, не сомневаясь в подлинности таланта.
Так впервые в жизни творение юного да Винчи было оценено по достоинству. И пусть имя автора тогда осталось в тени – слава, как утренняя заря, уже поднималась над горизонтом его судьбы.
Когда Леонардо исполнилось десять, отец с молодой супругой Альбиерой перебрался во Фьоренцу, где сэр Пьеро начал службу нотариусом при Флорентийской Республике. Маленький Винчи, со всеми своими улицами, домами, садами и голосами, остался для него в прошлом. Завершалась одна эпоха, начиналась другая. За ними, следом за новой жизнью, последовали и дед Антонио с бабушкой Лючией, оставив Леонардо на попечении дяди Франческо – человека, который был для мальчика куда ближе по духу, чем родной отец.
День отъезда стал радостным для всей семьи – за исключением Леонардо. Его не брали с собой. Он молча наблюдал, как гружёная телега катится по ухабам, унося за собой знакомые силуэты и запахи дома. Чтобы заглушить душевную боль, он вновь – как всегда – ушёл туда, где его никто не предаст, где его всегда ждут: на свидание с Природой. Только она одна принимала его таким, каков он есть. Только она знала, как исцелить раны, не задавая ни единого вопроса. Она либо оберегала его от одиночества, либо – когда это было нужно – дарила ему его.
Прошло три года.
Однажды в Винчи пришла весть: дона Альбиера скончалась при родах, так и не произведя на свет дитя. Леонардо, получив эту новость, погрузился в молчание. Его мачеха была ласкова с ним, заботлива, и её доброта скрашивала серые стороны жизни. Теперь её больше нет. Печаль легла камнем в сердце мальчика.
С её уходом он вновь стал единственным наследником отца, пусть и внебрачным. Но сэр Пьеро, которому тогда исполнилось тридцать восемь, был человеком практичным и не склонным долго носить траур. Вскоре он женился вновь – на юной и прелестной Франческе Ланфредини, которая была всего на два года старше самого Леонардо…
Спустя год сэр Пьеро, однажды приехав в фамильное поместье в Винчи, неожиданно обратился к сыну:
– Собирайся, Леонардо. Мы едем во Фьоренцу. Хватит тебе болтаться по всему Винчи без толку! Здесь ты растёшь, как дикий зверёк, а там начнёшь учиться.
От этих слов у Леонардо тревожно заклокотало в груди. Он ещё не до конца осознавал, что именно его ждёт, но смутное предчувствие грядущих перемен вызывало в нём настороженность, почти страх. И всё же где-то в глубине души рождалось другое, несмелое чувство – как будто свежий, тёплый ветер перемен подкрадывался с горизонта, готовый распахнуть перед ним мир, полный новых возможностей, открытий, вдохновения.
Безмятежная пора детства – золотые дни, проведённые среди лугов и виноградников между Винчи и Анчиано, вечерние посиделки в доме деда, ожившие в ожидании субботнего приезда сэра Пьеро, – всё пролетело стремительно, но навсегда оставило в памяти Леонардо нежный, тёплый след.
В то утро он ходил в задумчивости, словно прощаясь с каждым кустом, каждым камнем, и, не в силах усидеть дома, отправился за город, туда, где бурлила жизнь – на стройплощадку, где зодчий Биаджио уже руководил возведением новой виллы.
Увидев Леонардо, мастер обрадовался, но тут же заметил на лице мальчика печаль.
– Что с тобой, Леонардо? Я тебя не узнаю. Чем омрачены твои глаза?
И Леонардо поведал ему о скором переезде.
Зодчий жестом пригласил мальчика присесть рядом, положив мозолистую ладонь ему на плечо, и, улыбнувшись, сказал:
– Не бойся перемен, Леонардо. Жизнь – это река. Она не стоит на месте. Всё, что меняет наш путь – не случайность, а зов времени. Позволь рассказать тебе историю, которая произошла со мной.
Пять лет назад я переживал, пожалуй, самый трудный период в жизни. Денег не было, семья – на грани. Шёл я однажды, сам не зная куда, и встретил на обочине дороги старика. Ветхий, почти как пергамент, он сидел под солнцем, согнувшись, в старых лохмотьях, перебирая восточные чётки.
Я сел рядом. Мы заговорили – о жизни, о бедах, о судьбе.
– Старик, – сказал я, – вот ты мудрый, подскажи: что мне делать? Ни работы, ни покоя. Сын ленив, дочь бесшабашна, жена – не хозяйка. Всё летит в тартарары.
А он посмотрел на меня своими подслеповатыми глазами, и, тихо, почти шёпотом, произнёс:
– Повесь у себя на двери табличку: «Так будет не всегда».
Я так и сделал.
И вот, спустя какое-то время, по дороге на работу, я вновь повстречал того старика. Он, словно дервиш пустыни, облаченный в свои лохмотья, сидел на той самой пыльной дороге, скрючившись от бремени лет, и медленно перебирал восточные четки. На указательном пальце его руки сияло, отражая солнечные блики, старое, покарябанное медное кольцо. Он смотрел вдаль своими морщинистыми, сильно слезящимися и подслеповатыми глазами и одному лишь Господу было известно, о чем он думал в тот момент.
– Приветствую тебя, мудрый старец, – поздоровался я, не в силах скрыть некоторого волнения.
Он не мог не узнать меня, я это понял, когда он жестом пригласил сесть рядом. Я охотно поделился с ним едой, что заботливо укладывала жена, провожая меня по утрам на работу. Старик долго, одними деснами, жевал кусок отварного мяса, при этом крепко сжав губы, чтобы не проронить ни капельки драгоценного и питательного сока. Было очевидно, что еда ему нравится, хотя он, наверняка, почти уже и не помнил вкуса мяса, питаясь, когда придется, одной лишь скудной пищей вдали от давно потухшего очага своего дома. Пристанищем ему чаще всего служили перевернутые лодки у реки, а передвигался он на своих скрюченных ногах. А порой, если ему улыбалась скупая удача, случайно посылая ему в попутчики добрых людей, то и на их телегах. Мы с ним вновь завели беседу, правда, не столь длинную, как в первый раз, поскольку свободного времени у меня уже было не так много. Но я успел поведать ему о своих переменах:
– У меня всё наладилось с Божьей помощью. Что ты мне сейчас посоветуешь? – спросил я его, улыбаясь. Старик же, посмотрев мне в глаза, тихо сказал:
– Табличку ту не снимай с двери. И помни, ничто не вечно под луной! – взгляд его вновь устремился куда-то вдаль, словно он ожидал появления из глубины веков самого царя Соломона, чтобы передать ему свое сияющее на солнце потертое кольцо, которое делает грустных людей весёлыми, а весёлых – грустными своей мудрой надписью «Всё проходит. И это тоже пройдет»…
Зодчий смотрел в спину уходившему Леонардо, а сам, вздохнув, подумал: «Вот так всегда – я утешаю людей словами, которые порой самому хотелось бы услышать от кого-нибудь».
* * *
В праздник Благовещения, 25 марта, во Фьоренцу верхом на двух лошадях въехали двое всадников – зрелый мужчина и юноша. Первым был нотариус Флорентийской Республики, сэр Пьеро, вторым – его четырнадцатилетний сын, юный Леонардо, чей облик с каждым днём всё явственнее вырисовывался как воплощение необыкновенной красоты и одухотворённости.
На протяжении всего пути из Винчи перед глазами Леонардо мерцал прощальный взгляд дяди Франческо – тот стоял у двери отчего дома, молчаливо махал рукой, и в его глазах застыла печаль и беспомощная любовь, которую Леонардо уносил с собой, как нечто бесценное.
С первых же шагов на земле Флоренции Леонардо ощутил, будто оказался в другом измерении – в городе, созданном для богов. Он жадно вдыхал воздух нового мира, насыщенный ароматами истории, камня, свежей штукатурки, воска, ладана и весенней надежды. Каждый камень, каждый резной карниз, каждая арка говорила с ним языком искусства.
Нет, это был не тихий, провинциальный Винчи с его двумя горделивыми достопримечательностями – замком герцогов Гуиди, некогда державших в руках власть над Тосканой, и церковью Санта-Кроче, в высоте и стройности соревнующейся с самим замком. Здесь, во Фьоренце, всё захватывало дух.
Перед взором Леонардо то и дело вставали очертания грандиозного Домского собора, словно сотканного из воздуха и света, колокольни Джотто, восходящей ввысь, как молитва, капеллы Пацци, где простота превращалась в совершенную гармонию, массивных и строгих фасадов дворцов Медичи, Ручеллаи, Питти – каждая из этих строений словно шептала на ухо что-то своё, о вечной красоте, о тайне пропорций, о человеческой гениальности, способной бросить вызов времени.
У Леонардо кружилась голова – не от усталости, но от восторга. Он чувствовал, как внутри него что-то пробуждается. Душа его, точно спящая птица, ощутила трепет близкого полёта.
Он прибыл в город, который должен был изменить его судьбу. И сам того не зная, сделал первый шаг к бессмертию.
Здесь, в самом сердце Фьоренцы, жили и творили свои бессмертные шедевры Донателло, Брунеллески, Учелло и Альберти – гении, чьё имя и дело навсегда вошли в анналы Возрождения. В городских мастерских не стихал гул наковален, беспрерывно вращались гончарные круги, а звонкий смех ремесленников, строгие возгласы строителей и оживленные переговоры купцов сливались в живую симфонию городской жизни. Аптекари смешивали снадобья, адвокаты и торговцы решали важные дела, парфюмеры творили ароматы, вдыхая в них дух эпохи.
Фьоренца не знала тирании, подобно многим соседним итальянским городам-государствам, где власть держалась на мечах и интригах. Здесь, благодаря щедрой благотворительности банкиров и купцов, преображался облик города – в мерцающем свете тосканского солнца возникали дворцы, храмы и улицы, полные жизни.
Городом правил могущественный и влиятельный клан Медичи – банкиры с древним родовым гербом: шесть красных шаров на золотом щите. По легенде, эти шары символизировали капли крови великана, когда-то терроризировавшего земли Фьоренцы, поверженного храбрым прародителем Медичи.
В те дни, когда Леонардо ступил на улицы Фьоренцы, во главе города стоял Козимо Старший – один из самых ярких и дальновидных представителей семейства Медичи. В возрасте тридцати лет он возглавил семейный банковский дом, а к сорока стал обладателем колоссального состояния – более 180 тысяч флоринов, владений шерстопрядильными фабриками и монополией на добычу дубильных квасцов, незаменимых в текстильном ремесле.
Образованный, он прошёл обучение под руководством гуманиста Роберто Росси, изучал латинские классические тексты и проникся к ним глубоким уважением. Козимо был практиком, твердо верившим, что человек, вооружённый знаниями, стоит десяти обычных людей. Вся его жизнь строилась на заветах отца Джованни Медичи: не давать прямых советов, быть осторожным в словах, избегать гордыни, судебных разбирательств и политических конфликтов, всегда оставаться в тени.
Несмотря на колоссальную власть, Козимо не принял титулов и не нарушил республиканских устоев. Он освободил город от тирании, вымогательств и насилия, укрепляя внутренний порядок и умело лавируя в дипломатии с Миланом, Венецией и Неаполем.
Горожане знали своего правителя как скромного человека средних лет, с болезненной внешностью, но большим сердцем. Он щедро помогал нуждающимся, не выносил злословия, всегда находил точное слово, сохранял хладнокровие в любых обстоятельствах и с не меньшим усердием ухаживал за своим фруктовым садом на вилле Кареджи, чем за делами своего банка, раскинувшегося по всей Европе.
Под его руководством Фьоренца стала расцветать – расширялись торговые пути, крепла промышленность, нарастали банковские обороты. Козимо Старший Медичи – самый богатый человек Европы, имевший в должниках королей Англии и Франции, самого Папу Римского и государство Венецию, – щедро использовал свои средства на благо простого народа. В голодные годы за раздачу хлеба его прозвали «Отцом Отечества».
Стремясь превратить Фьоренцу в центр интеллектуальной жизни и западной культуры, Козимо первым среди Медичи начал активно покровительствовать художникам, учёным и поэтам. Его дворец стал одним из первых крупных гуманистических центров Италии. Именно благодаря поддержке этой влиятельной семьи здесь творили и прославляли эпоху Возрождения такие мастера, как Бенвенуто Челлини, Сандро Боттичелли, Филиппо Брунеллески, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и многие другие. Более того, во многом благодаря помощи семейства Медичи, здесь мог работать Галилео Галилей.
Козимо Старший Медичи стал одним из первых меценатов, кто признал неизбежность появления художника нового, ренессансного, типа. «Этих гениев, – говорил он, – нужно воспринимать так, словно они не из плоти сделаны, а сотканы из звёздной пыли».
Отца Леонардо, сэра Пьеро да Винчи, в среде флорентийской аристократии уважали и ценили. По приезде во Фьоренцу он получил назначение поверенным при монастыре Сантиссима-Аннунциата и других влиятельных учреждениях города. Его деловая хватка позволяла постепенно расширять собственность – он покупал дома, а также плодородные земли и виноградники в окрестностях Винчи. Несмотря на растущее благосостояние, сэр Пьеро оставался человеком скромным, его доброта проявлялась в постоянных пожертвованиях церкви и помощи бедным.
Вскоре ему доверили завидную должность нотариуса Магистрата – значимую и почётную роль, дававшую право на просторное и изящно обставленное жилище недалеко от величественной Площади Синьории, где кипела жизнь республики. Эта работа требовала всей силы и времени, и чтобы обеспечить сыну надёжное будущее, было принято решение отправить Леонардо учиться в школу, где ему преподавали математику, музыку, пение, грамматику и письмо на вольгаре – живом, разговорном языке, пронизывающем улицы и рынки города.
Сам же классический латинский язык в те времена был не только ключом к церковному знанию, но и основой для всех официальных документов, договоров и наук – без него не обойтись было ни в политике, ни в науке. Латынь считалась хлебом насущным для всех, кто стремился к возвышенному образованию и власти.
Однако из-за того, что Леонардо родился вне брака, для него закрыли двери изучения латыни и древнегреческого – языков великих мыслителей и философов. Даже сам сэр Пьеро, надо сказать, тоже был не тверд в латыни, языке своих предков, продолжая оставаться человеком, которому привычнее было общаться и вести дела на вольгаре. Так и Леонардо, на всю жизнь остался uomo sanza lettere, или человеком без книжного образования, не владевшим правильной латынью.
Отец любил своего единственного сына, стремясь дать ему хорошее образование, и активно старался привить ему интерес к своему делу согласно незыблемым традициям семьи, чему Леонардо всячески противился – его не интересовали законы общества и он совсем не хотел становиться нотариусом.
– Ты скоро увидишь всю Фьоренцу, мальчик мой, – восклицал сэр Пьеро с волнением в голосе в первые дни после приезда сына из Винчи. – А значит, ты узнаешь большой мир! Но меня мучает одно: почему ты пишешь левой рукой? – его брови нахмурились, голос стал строже. – Возьми перо в правую, как все нормальные люди! Кисть для рисования держи как хочешь, но для работы нотариусом надо писать правильно, иначе начнут поговаривать, что твоей рукой водит нечистая сила! – Отец говорил это с жаром и даже испугом.
Но, увидев, как сын с любовью украшает буквы изящными завитушками, и насколько красивым и стройным было его письмо – не хуже, чем у опытных писарей – сэр Пьеро смягчился и перестал обвинять сына в дьявольском влиянии.
История повторялась. Как и в Винчи, Леонардо не горел особым рвением к учебе. Однако в математике, за считанные месяцы, он добился таких высот, что своими постоянными сомнениями и сложными вопросами ставил учителя в тупик.
– Отец, – жаловался мальчик, – в школе нас заставляют все заучивать наизусть. Сегодня наказали розгами одного мальчика за то, что тот забыл какую-то малость.
– Но учитель объяснил мне, – отвечал сэр Пьеро с оттенком строгой убежденности, – что заучивание необходимо из-за дороговизны книг. У самого учителя их всего несколько, а у других и того меньше.
И правда – книги тогда были предметами роскоши, редкими сокровищами, хранившимися скорее для красоты и статуса, чем для чтения. Рукописные манускрипты создавались с огромным трудом и требовали невероятного времени и средств, поэтому ученикам приходилось зубрить их наизусть.
– И прошу тебя, Леонардо, – голос отца стал тверже, – не спорь с учителем! Его слово – закон, непререкаемая истина!
Но, несмотря на все эти кажущиеся сложности, Леонардо, как и прежде, не переставал тянуться ко всему новому и интересному. Музыкальный слух, несомненно унаследованный от его любимого дяди Франческо, позволял ему легко овладевать игрой на флейте и лире. Он не просто учился – он виртуозно импровизировал, заставляя завидовать даже опытных музыкантов.
Однажды вечером, когда звуки его флейты нежно наполняли соседнюю комнату, он случайно услышал разговор деда с отцом. За дверью доносились напряжённые голоса.
– Говоришь, он умнее учителей? – дед Антонио прищурился, не скрывая недоверия.
– Да, отец, – спокойно отвечал сэр Пьеро, – вчера беседовал с главным учителем. Он сказал, что Леонардо поражает всех своей необычайной легкостью и ранней строгостью мышления. Что он талантлив почти во всем – математика, геометрия, физика, музыка, живопись, скульптура… Но есть и недостаток: «множественность его дарований и непостоянство вкусов». Мол, сын ваш жадно скачет от одной науки к другой, будто хочет охватить всё человеческое знание сразу.
– Но ведь этим нельзя прокормиться! – ворчливо ответил дед. – Пьеро, скажи, какой толк во всей этой премудрости? Кем он станет? Нотариусом, как ты и я? Нет, увы, не станет! Он – незаконный, ему не позволят! Бастард не получит титул нотариуса!
– Да, но есть другие пути… – начал возражать сэр Пьеро.
– Какие «другие»? – перебил дед с резким тоном. – Королевские бастарды – да, они есть везде, мы знаем. Хорошо быть незаконным сыном короля! Но ты – не король! – голос его стал суровым и бескомпромиссным. – Вот Франческо, мой законный сын, сидит дома и не работает! Не желает! Не имеет интереса, видите-ли! – он развел руками. – И Леонардо, внук, сейчас тоже дома сидит и не работает. Он – незаконный!
– Отец, не сравнивай моего сына с бездельником Франческо! Леонардо умен! – горячо возразил сэр Пьеро.
– Вот в этом и беда, что он умен. Но незаконный. А нам всех кормить надо, да ещё при этих грабительских налогах! – дед ударил ладонью по массивной амбарной книге, в которой вёл тщательный учёт доходов и расходов семьи. – Мой совет тебе, Пьеро: вся эта латынь, музыка и прочая ерунда никому не нужна. Пусть лучше идёт учиться ремеслу – чему-то практичному, чтобы мог зарабатывать на жизнь.
Громкий захлоп амбарной книги словно отрезвил обоих. Тяжесть сказанных слов повисла в воздухе, заставляя задуматься над будущим молодого Леонардо, чья судьба уже казалась предрешённой суровой необходимостью.
А через некоторое время в жизнь Леонардо вошёл один необычный человек – аптекарь, практиковавший неподалёку от церкви Санта-Мария Новелла. Увлечённый травами и их чудесными свойствами, тот не только готовил ароматные настои и мази, но и охотно делился своими знаниями с любознательным юношей. Леонардо с воодушевлением стал собирать травы в полях, сушить их, учиться распознавать их аромат, вкус и силу. На балконе дома сэра Пьеро, под солнцем, на верёвках висели пучки шалфея, мяты, розмарина, зверобоя, лаванды и базилика, источая тонкое, волнующее благоухание.
Когда однажды отец, возвращаясь домой, увидел эту ароматную гирлянду, он остановился в изумлении, подняв брови:
– Леонардо, что за цветы ты развесил по всему балкону? – строго спросил он, – Уж не собираешься ли ты, не приведи Господь, стать аптекарем?
Он не дал сыну и рта раскрыть, чтобы объясниться, и, подняв палец, добавил со всей решимостью, на которую был способен:
– Я запрещаю тебе ходить в аптеку при Санта-Мария Новелла и общаться с теми монахами-доминиканцами, что готовят свои эликсиры и снадобья! Они не так безобидны, как кажутся!
Леонардо нахмурился и, не скрывая удивления, спросил:
– А что тебя так отворачивает от трав, от масел, от знания? Они ведь лечат… помогают.
Сэр Пьеро вздохнул и посмотрел на сына с усталой, тревожной нежностью. В его голосе вдруг прозвучала не злоба, а забота:
– Под видом масел, настоек и вытяжек, сын мой, – сказал он, – они хранят в своих склянках и нечто куда более тёмное. Яды. Жуткие яды. Некоторые из них действуют быстро, другие – медленно и коварно. Яды, что уносят жизнь прежде, чем успеешь произнести имя Господа. Кантарелла… – он произнёс это слово шёпотом, будто само его звучание могло навлечь беду. – Мучительная смерть, от которой не спасёт ни лекарь, ни исповедь.
Он подошёл к сыну ближе, понизил голос, будто даже стены могли подслушать:
– Поверь мне, я знаю. Мне, как нотариусу Магистрата, часто приходится сталкиваться с этим ужасом. Мужья избавляются от стареющих жён, жёны – от неверных мужей, любовницы – от женатых кавалеров, а дети… – он тяжело выдохнул, – дети отравляют родителей, чтобы заполучить наследство. Всё это – тайные войны, скрытые под масками приличий. Фьоренца не только город искусства, сын мой. Это и город ядов, интриг, мести и зависти.
Он положил руку на плечо Леонардо и, глядя в его глаза, сказал уже почти с мольбой:
– Я прошу тебя, сторонись этого греха. Не всё знание приносит свет. Есть и такое, что ведёт во тьму. Учись, но не позволяй своей душе стать добычей тех, кто плетёт ядовитые сети под видом науки.
Леонардо молча кивнул, но в душе у него продолжала звучать тревожная мелодия. Он чувствовал: за внешним блеском города скрываются тени, и эти тени уже начали касаться его судьбы.
Но сэр Пьеро ошибался в своих предположениях о выборе сына. Когда он в очередной раз увидел, как тот рисует цветок на их балконе со всеми его тычинками, затейливое насекомое в мельчайших его деталях, вечно спешащих куда-то людей с рыночной площади, еще что-нибудь другое, созданное природой и достойное изображения, он иначе взглянул на будущее сына.
Он собрал лучшие рисунки Леонардо и направился с ними к великому мастеру Андреа дель Чони, известному в художественных кругах под прозвищем Верроккьо. Мастерская художника уютно располагалась в одном из узких переулков Виа Гибеллина, где всегда витал запах свежих красок, льняных масел и древесной стружки. Раньше сэр Пьеро не раз помогал художнику оформлять кое-какие юридические бумаги, и сейчас убедительно просил его сказать, достигнет ли его сын Леонардо, отдавшись рисованию, каких-либо успехов.
Сэр Пьеро, нервно перебирая пальцами, протянул художнику рисунки и с надеждой заговорил:
– Маэстро, помогите мне, пожалуйста, разрешить тяжкие сомнения.
– Охотно, сэр Пьеро, – ласково сказал он, – всегда к вашим услугам. Что за сомнения вас терзают?
– Это рисунки моего сына, – начал Пьеро, – хочу узнать ваше мнение, есть ли у него талант. Если да – я отдам его к вам в ученики, если нет – придётся ему стать нотариусом, как и я. Никогда не думал, что у мальчишки такая страсть к искусству! Он любопытен до невозможности: насекомых изучает, растения, собрал целый дом букашек… Латынь забросил совсем и со всеми спорит. А вчера, зайдя в его комнату, я увидел целую гору новых рисунков!
Верроккьо, надев свои очки, внимательно изучал каждый штрих.
– Ваш сын – левша?
– Да, как вы узнали? – удивился Пьеро.
– По характеру линий и движений руки – легко распознать, – уверенно ответил художник.
Он погладил подбородок и произнёс, словно взвешивая слова:
– Приводите мальчика к нам, когда удобно, синьор Пьеро. Он будет жить вместе с другими учениками. Думаю, из него выйдет толк.
Сердце отца наполнилось облегчением и гордостью. Услышав такие слова, он решительно настроился передать сына в руки мастера.
Перед тем как впервые отвести Леонардо в мастерскую, он спросил строго:
– Ты уверен, что станешь первым, а не последним?
Юный Леонардо взглянул прямо в глаза отцу, и его ответ прозвучал твёрдо и решительно:
– Да.
С тех пор судьба мальчика была предначертана – все помыслы его будут отныне посвящены беззаветному служению Искусству, пробуждая в нем будущего гения.
Глава 6
В ту эпоху, когда юный Леонардо впервые ступил на каменные мостовые Фьоренцы, город сиял, как один из величайших культурных центров Европы – достойный носить титул «вторых Афин». Да, чума, чёрная смерть, лишь недавно оставила за собой глубокие раны, унеся половину горожан, но дух флорентийцев был несгибаем. Они не только не сдались – напротив, с упрямой страстью продолжали созидать. Это был расцвет искусства, эпоха, когда сама красота становилась гражданским долгом.
Знатные семьи, оставив за спиной суровость средневековья, переселялись в изящные, залитые светом палаццо, возводили новые церкви, монастыри, больницы для бедных и украшали город фонтанами, скульптурами, площадями. Бросая взгляд на сияющие фасады и лепнину, на гранитные лестницы и сандаловые двери, юный Леонардо чувствовал, что его душа откликается – здесь, в этих камнях, в этих тенях и лучах, в этих людях, он узнавал своё будущее.
Он часами мог стоять, запрокинув голову, перед величественным куполом собора Санта-Мария-дель-Фьоре – созданным гением Брунеллески. Он вбирал в себя цвета и ритмы фресок Джотто в Санта Кроче, уже сто лет украшавших стены, – и не мог оторвать взгляда от проникновенных сцен Мазаччо в капелле Бранкаччи в церкви дель Кармине. В Санта-Мария Новелла, что стояла неподалёку от монастырской аптеки доминиканцев, он подолгу задерживался у алтарей, несмотря на категорический запрет отца появляться в тех местах. Там он видел не просто картины – он ощущал зов высшего мира.
Именно здесь, во Фьоренце, он впервые оказался среди людей подлинной культуры – мыслителей, художников, архитекторов, гуманистов. В этом городе сама улица дышала вдохновением, и каждый балкон словно шептал: «твоя дорога – Искусство».
Эта дорога, в тот ясный весенний день, привела четырнадцатилетнего Леонардо, в сопровождении его отца, сэра Пьеро, к каменному порогу знаменитой художественной мастерской – боттеги Андреа дель Чони, более известного под прозвищем Верроккьо. Мастерская находилась в самом сердце Флоренции, в лабиринте шумных улиц недалеко от Виа Гибеллина, среди лавок кожевников, книжников и ювелиров. Над дверью висела скромная, но уверенная табличка: «Andrea di Michele di Francesco di Cione Verrocchio, Pittore e Scultore».
Скрип деревянной двери отозвался в груди мальчика лёгкой дрожью. Внутри витал стойкий запах красок, лака, сырой извести и нагретого солнцем дерева. В полумраке тишину нарушал только лёгкий цокот кистей по полотну да редкие звуки голосов учеников, снующих между мольбертами.
Встречать их вышел, как показалось Леонардо, человек хмурого нрава – с прищуром, резким голосом и испытующим взглядом:
– А, вот и вы, синьор Пьеро! Решили, значит, прийти? А это, должно быть, ваш сын? – произнёс он, окинув Леонардо цепким взглядом, словно пытаясь заглянуть в самую глубину его души.
– Да, синьор Верроккьо, как и договаривались, – ответил сэр Пьеро, и, сделав лёгкий, но настойчивый жест рукой, подтолкнул сына вперёд. – Принимайте ученика!
Леонардо замер на пороге, ошеломлённый новым миром – мольберты, гипсовые головы, палитры с выцветшей охрой и киноварью, этюды тел и драпировок, резные рамы и полуслепой свет из верхнего окна. Всё в этом месте было иным, полным загадки и предвкушения.
Отец шагнул к выходу. Он уже всё решил.
– До встречи, Леонардо, – сказал он тихо, склоняясь к уху сына. – Помни, что дал мне обещание.
Он кивнул Верроккьо, коротко и твёрдо:
– Благодарствую! – и, не оборачиваясь, быстро вышел за дверь, оставив сына на пороге великой судьбы.
Так началась новая глава жизни Леонардо да Винчи – в городе гениев, в сердце Ренессанса, под сводами мастерской, где мальчик должен был стать Мастером.
Маэстро Андреа дель Верроккьо на первый взгляд вовсе не походил на великого художника или строгого наставника. Скорее, он напоминал обыкновенного лавочника или, быть может, пекаря, выбежавшего прямо из пекарни: одежда его была перепачкана белёсым алебастром, а волосы у висков покрыты пылью, как мукой. У него было круглое, полноватое лицо с двойным подбородком, но при этом в его глазах – живых, цепких, чуть прищуренных – мерцала острая наблюдательность и природный ум. Этот человек видел всё и всех – насквозь.
Он встретил взгляд Леонардо в упор – долго и пристально – и, не улыбнувшись, произнёс хрипловато, коротко:
– Будешь называть меня Учителем.
Затем, не теряя времени, громко крикнул куда-то в глубину мастерской:
– Сандро! Покажи новому ученику наше хозяйство и место, где он может оставить свои вещички!
Из-за перегородки вышел молодой человек лет двадцати. Он на ходу вытирал промасленные руки тряпицей и по-мальчишески поправил чёлку. Его густые чёрные волосы были аккуратно разделены ровным пробором, словно проведённым линейкой. У него был крупный, но гармоничный нос, выразительные тёмные глаза и немного выступающий вперёд, тяжёлый подбородок, придававший лицу решимость. Лишь лёгкая сутулость, видимо, от привычки склоняться над мольбертом, немного нарушала благородную стать фигуры.
Он подошёл к Леонардо, улыбнулся добродушно и протянул руку:
– Алессандро ди Мариано Филипепи. Но зови просто Сандро. Или, как здесь принято, Сандро Боттичелли.
– Боттичелли? – удивился Леонардо, чуть смущённо. – Это ведь… «бочонок»?
Сандро весело рассмеялся, запрокинув голову:
– Да, точно так. Так прозвали моего старшего братца – за его внушительные формы. А потом это прозвище прилипло ко всей нашей братии. Нас пятеро в семье, и всех зовут Боттичелли. Но звучит же весело, правда?
– Я Леонардо из Винчи, – скромно отозвался мальчик.
– Приятно познакомиться, Леонардо, – кивнул Сандро. – А ты не робей. Здесь у нас, как ты заметишь, всё по-настоящему. И весело, и трудно. Сам недавно здесь. До этого учился у монахов в Санта-Мария Новелла, а потом попробовал ювелирное дело. Работа с золотом и камнем – вещь тонкая, но душа у меня всё же больше лежит к живописи. Я учился у маэстро Филиппо Липпи, в Прато. Может, слыхал о нём?
Леонардо молча покачал головой – имя художника ему ещё не встречалось.
Сандро, не задерживаясь, повёл его дальше, сквозь гомон, свет и запахи мастерской:
– Видишь, сколько здесь учеников? Много кто младше тебя. А наш Учитель, маэстро Верроккьо, словно отец для всех. Он учит не только рисовать, но и лепить, работать с деревом, резьбой, делает нас грамотными. Даже арифметику заставляет зубрить, представляешь?
Они прошли мимо нескольких мольбертов, за которыми мальчики с сосредоточенными лицами срисовывали драпировки или головы святых, и остановились перед столом, уставленным гипсовыми моделями человеческой руки и черепа.
– Маэстро говорит: «Математика – мать всех наук, а геометрия – мать рисунка и отец всех искусств». Он повторяет это снова и снова. Не удивляйся, если услышишь это сегодня не один раз.
Сандро снова кивнул в сторону Учителя:
– Вон он – видишь, как бродит туда-сюда? Он всё время в мыслях. Что-то вымеряет, обводит, комбинирует… Иногда может вдруг схватить деревянный обрубок и начать превращать его в крыло ангела или локон Мадонны. Или целый день придумывать, как свет падает на ткань. Он ищет совершенство. Всегда.
Действительно, Верроккьо никогда не сидел без работы. Он всегда трудился над какой-нибудь статуей или над живописным полотном, быстро переходя от одной работы к другой, лишь бы только не терять формы.
Леонардо, заворожённо глядя на маэстро, почувствовал, как в груди его зреет странное, новое чувство – будто он оказался в мире, где всё имеет смысл, где каждая линия – шаг к истине, где его бесконечный интерес ко всему живому, к свету, форме и движению – не порок, а благо. Здесь, среди запаха льняного масла, пыли от мрамора и голосов юных подмастерьев, он впервые по-настоящему почувствовал: он – дома.
В это время они входили в большое, светлое помещение, напоённое запахами краски, древесной стружки и влажной извести. Оно совмещало в себе всё сразу – торговую лавку, мастерскую и одновременно дом хозяина. Двери здесь никогда не запирались – с утра и до позднего вечера они были распахнуты настежь, впуская солнечный свет, свежий ветер с улицы и бесконечный поток людей. Здесь царила особая, почти алхимическая атмосфера: мир, в котором рождались краски, формы и смыслы.
Пол был усыпан древесной пылью и каплями алебастра, на верстаках лежали резцы, линейки, кисти, плоские камни с разведёнными пигментами, гипсовые слепки лиц, рук и целых тел. Из-под потолка свисали сушащиеся холсты и тряпичные мешочки с минералами. Жужжали мухи, стрекотали сверчки, потрескивали угли в горне, и где-то в глубине помещения раздавался звон молоточка, ударявшего по бронзовой пластине.
– Мы здесь живём, как одна большая семья, – увлечённо продолжал Сандро, обводя рукой пространство. – Видишь тот длинный стол? Там мы все вместе едим. А спим – вон там, – он указал направо, на небольшую каморку с низким потолком и грубо сколоченными кроватями, покрытыми соломой.
– Мы и правда как братство, – добавил он с лёгкой улыбкой, – Учитель так и говорит: братство ремесла и духа. У каждого есть своё дело: кто-то готовит штукатурку, кто-то растирает краски до нужной мягкости, кто-то подметает пол, ходит за покупками, а кто уже поопытнее – получает честь раскрасить фигуру или фрагмент фрески. Но только строго по эскизу самого маэстро. Учитель не терпит вольностей! Никакой самодеятельности. Все должно быть точным и выверенным – как в архитектуре.
Леонардо слушал затаив дыхание. У него всё внутри трепетало – не от страха, нет, а от предчувствия того, что он наконец оказался в мире, где всё имело смысл, где можно было учиться всему сразу и ничего не казалось лишним: и живопись, и наука, и природа, и металл, и цвет.
Сандро, между тем, указал вверх, на деревянную балку, к которой верёвкой был привязан небольшой мешочек.
– Видишь тот серый мешок? Там хранятся деньги. Учитель говорит, что доверие – это основа всего. Любой из нас может взять оттуда столько, сколько нужно, чтобы купить еды на рынке. Представляешь? И никто никогда не берёт лишнего. Потому что мы – братство. Мы здесь не только работаем – мы живём. Живём искусством. Живём ради него.
Леонардо молча кивнул. Он чувствовал – он попал туда, куда давно стремилась его душа.
Они вместе вошли в первое помещение мастерской – огромное, с высоким, почти соборным потолком, из которого свисали балки, перекинутые канаты и пучки трав для красителей. Здесь всё дышало трудом, ремеслом, превращённым в искусство. Слева стоял чёрный кузнечный горн, рядом – мехи и массивная наковальня, на которой гулко звенел металл под ударами молота. Искры рассыпались, как золотой дождь, каждый раз, когда юный помощник отбивал очередной узор на пластине. Чуть дальше поднимались деревянные подмостки – их облюбовали скульпторы. Там, в окружении гипсовой пыли и разбросанных инструментов, вырастали фигуры – то ангел, то античный герой, то сама Богоматерь, строгая и прекрасная.
В других, ещё более просторных помещениях, прятались печи для плавки бронзы, столярные верстаки, ящики с пигментами, груды досок, гипсовые слепки, рулоны холста и сложенные в углу мешки с воском, алебастром, мёдом, мёдом и мелом. В воздухе пахло древесиной, сырой глиной, известью, чуть прогорклым оливковым маслом – запахом настоящей боттеги.
– Позволь представить тебе Пьетро Перуджино, – сказал Сандро, остановившись перед учеником, сосредоточенно склонившимся над картоном. Тот был старше Леонардо лет на шесть и, похоже, даже не заметил их появления.
– Это Леонардо из Винчи, наш новый подмастерье, – добавил Сандро, но его голос утонул в тишине сосредоточенной работы.
– Зови меня просто Перуджино, – бросил тот негромко, не отрывая взгляда от кисти. Его рука двигалась уверенно, вычерчивая тонкие линии – он был весь в рисунке, в своём внутреннем мире.
Сандро, мягко взяв Леонардо под локоть, отвёл его в сторону и прошептал:
– Не будем ему мешать. Он лучший в мастерской по стенной росписи. Учитель доверяет ему заказы на алтарные образы и фрески. Перуджино вырос в бедности, это сделало его осторожным… если не сказать – жадным. Он с трудом доверяет людям. Все свои вещи, даже мелочи, носит при себе. Но у него настоящий дар. И потому Учитель прощает ему многое.
Мимо них быстро прошмыгнул мальчик, совсем юный, с чуть взъерошенными волосами и сосредоточенным выражением лица. Он с трудом нёс в обеих руках тяжёлую металлическую форму.
– А вот и Лоренцо! Лоренцо ди Креди, – улыбнулся Сандро. – Только что пришёл в мастерскую, после учёбы у своего отца – мастера по золоту. Работящий, способный. Будет толк.
Леонардо удивлённо оглядывался по сторонам. Всё здесь было новым, живым, настоящим. Он заметил, что у многих учеников из карманов торчат сшитые листки бумаги.
– А что это у вас за книжки? – спросил он.
– Это не книжки, – усмехнулся Сандро. – Это альбомы. Записные тетради для набросков. Учитель велел носить их с собой всегда, куда бы мы ни шли. Мы делаем быстрые зарисовки – лица на улицах, интересные позы, узоры на ткани, сцены с рынка. Это не только практика, – он понизил голос, – это путь к пониманию жизни. Маэстро говорит, что глаз художника должен быть зорче ястребиного, а рука – послушнее лютни.
Он с уважением оглянулся на фигуру Верроккьо, видневшуюся в дальнем конце мастерской:
– Ты сам всё поймёшь, Леонардо. Наш Учитель – человек необыкновенного таланта. В свои тридцать один он уже стал славой Фьоренцы. Скульптор, живописец, ювелир, архитектор, музыкант… Он ненавидит, когда нас называют просто ремесленниками – малярами или штукатурами. Он считает, что художник должен быть ученым, что искусство требует знания, точности, математики.
Сандро замолчал. В глубине мастерской, в окружении света, пыли и вдохновения, продолжалась работа…
* * *
Первым поручением, которое дал Леонардо маэстро Верроккьо, стало вовсе не рисование и не создание изящных фигур, а обыденная, кропотливая, почти ремесленная работа: растирание пигментов, приготовление связующих, просеивание мела, изготовление штукатурной основы. Эти простые действия были неотъемлемой частью искусства, и сам Учитель строго верил: путь к вершинам живописи начинается с пыли, пигментов и терпения. Только так можно понять тайные законы цвета, плотности, текстуры и света.
Леонардо не роптал. Он молча перемалывал минералы в порошок, осторожно смешивал лазурь с желтком, подолгу размешивал краску в ступке, пока она не становилась живой и шелковистой. В его руках даже самые простые задачи обретали сосредоточенность ученого и тщательность ювелира.
Однако его странность не могла остаться незамеченной. Нового ученика в мастерской сперва встретили сдержанно, с недоверием. Кто-то из старших учеников даже шептал: – Как можно всё делать левой рукой? Слева направо – это же против природы! – Иные кривили губы, глядя, как он штрихует рисунки в зеркальном отражении.
– Не проще ли работать, как все, правой рукой? – с усмешкой заметил кто-то однажды.
Но Леонардо, не отвечая, продолжал рисовать с упорством и свободой, будто сам мир был подвластен только ему, и только так – через левую руку – он мог быть верным своей натуре.
В мастерской Верроккьо трудились восемнадцать юношей – весёлых, дерзких, амбициозных. Все они были одержимы искусством и одушевлены желанием достичь совершенства. Их объединяла не только работа, но и подлинное братство. Каждый имел своё задание, свои обязанности, и никто не мешал другому. Вместе они были как слаженный хор, в котором каждый голос знал своё место. Некоторые заказы исполнялись сообща – и тогда завершённое полотно несло не имя Учителя, а скромную подпись: opus bottega di Andrea del Verrocchio – «работа мастерской Андреа Верроккьо».
Постепенно, среди всех учеников, особенно близким Леонардо стал Лоренцо ди Креди – добродушный, чуткий и не чуждый мечтательности мальчик, в котором таилась та же любовь к прекрасному, что горела и в сердце Леонардо. Они рисовали рядом, делились мыслями и впечатлениями, вместе ходили в церковь Санта Кроче – смотреть на скорбных святых Джотто, с их печальными глазами и угловатыми руками, и в дель Кармине – изучать ясность света и простоту композиций Мазаччо, предвестника новой живописи.
Они часто помогали маэстро Андреа, особенно когда тот начал увлекаться гипсовыми масками. Верроккьо как раз открыл удивительные свойства мела: смешанный с тёплой водой, он становился податливым, почти живым, как пчелиный воск, а после высыхания – превращался в прочную белую каменную оболочку. Мастер начал снимать посмертные маски с лиц ушедших – и Леонардо с Лоренцо, не испытывая страха, но с каким-то благоговейным вниманием, участвовали в этом странном обряде бессмертия.
Они готовили раствор, подавали повязки, помогали фиксировать лицо покойного… и смотрели, как черты, ещё недавно живые, застывали в вечности. Маэстро не учил их словам – он учил их видеть, чувствовать, касаться формы с уважением, будто касаешься души.
Мастерская Верроккьо в эти годы жила в постоянном ритме: молоты, кисти, разговоры, шутки, запахи краски и пыль – всё смешивалось в одну симфонию труда. Сюда стекались заказчики: монахи, купцы, дворяне, даже представители семейства Медичи.
А в этом многоголосом хоре юных талантов, среди пыльных полов и охры, среди глазниц гипсовых бюстов, и прошёл путь Леонардо – от простого подмастерья до ученика.
Время текло быстро. Эти годы стали для него не просто школой – это была алхимия взросления. Он жадно впитывал всё: свет и перспективу, анатомию и механизмы, краски и тайны геометрии. Он наблюдал. Он вникал. Он уже не повторял, а осмыслял. И порой маэстро Верроккьо задерживал на нём пристальный взгляд – в котором была и гордость, и предчувствие чего-то большого.
Леонардо да Винчи радовал Учителя. И сам, может быть, впервые чувствовал, что стоит на верном пути.
В мастерской маэстро Верроккьо картины создавались на гладко отшлифованных деревянных досках, тщательно покрытых белоснежным гипсовым грунтом. Перед тем как краски касались поверхности, на свет рождался картон – большой лист плотной бумаги, на котором художник прорисовывал контуры композиции. Затем иглой тщательно накалывались основные линии рисунка, создавая тонкие ряды микроскопических проколов. Картон плотно прижимался к доске, и через отверстия в него втиралась пыль растолчённого древесного угля. Когда шаблон осторожно снимали, на доске оставался лёгкий, будто созданный дыханием, силуэт будущего изображения – основа великого полотна.
В ту весну, когда Леонардо исполнилось двадцать, Учитель позвал его к себе. Был ранний полдень, солнечный свет мягко падал сквозь высокие окна мастерской, выхватывая то руки, смешивающие краски, то блеск золочёных окладов, то тени гипсовых бюстов. Запах пигментов, древесной стружки и горячей олифы наполнял воздух – пахло творчеством.
– Леонардо, – сказал маэстро, легко кивнув, подзывая его рукой. В голосе прозвучало нечто особенное – одновременно строгость наставника и скрытая, почти отеческая доброта.
Юноша подошёл ближе. Его лицо, обычно задумчивое, сейчас было оживлённым. Он чувствовал: произойдёт нечто важное.
– Послушай-ка, – продолжал Верроккьо, кладя руку на край большого полотна, накрытого полупрозрачной тканью, – монахи из Валломброзы заказали мне сцену Крещения Христа. Картина почти завершена. Вот, взгляни: на берегу Иордана стоит Иоанн Креститель – в строгой задумчивости он совершает таинство. Христос – с наклонённой головой, исполненной кроткой силы. А вот два ангела, преклонив колени, поддерживают Его одежды…
Он на мгновение замолчал, вглядываясь в своё творение – и в юношу рядом.
– Леонардо, – сказал он, чуть понизив голос, – я хочу оказать честь одному из лучших моих учеников. И в то же время – испытать его силу. Ты догадываешься, о ком я говорю?
Леонардо слегка смутился. Его сердце забилось чаще, но голос остался спокойным:
– Нет, Учитель, – ответил он тихо, почти шёпотом.
Верроккьо прищурился, уголки губ его чуть дрогнули в сдержанной улыбке:
– Заканчивать картину будешь ты. Ты напишешь вот этого ангела, слева, – сказал он, указывая на полуготовую фигуру, – и вот здесь, на заднем плане, допишешь пейзаж. Небо, горы, вода. Всё, как ты это видишь.
Леонардо не ответил. Он смотрел на полотно, в котором ему теперь предстояло оставить след собственного духа. Сердце стучало громче – это был миг, когда гений подступал к краю собственной судьбы.
– Можешь приступать к работе, – просто сказал маэстро и отошёл.
Леонардо остался один перед нетронутым участком картины. Он провёл пальцами по доске, ощущая холодную гладкость, слушая тишину вокруг. В воздухе дрожало предвкушение. Он знал: всё, что он скажет здесь – кистью, цветом, светом – станет его первым настоящим заявлением миру. И он не позволил себе ни страха, ни колебаний.
Он опустил кисть в тончайшую смесь краски – и сделал первый мазок.
Прошло около получаса, как Леонардо приступил к работе. Воздух в мастерской был насыщен терпким запахом красок, сандала, мокрого мела и жареных орехов, которые кто-то принес к обеденному часу. Из-за ширмы доносились голоса и отголоски молотка – подмастерья сбивали рамы для новых досок. Внезапно за его спиной раздался сдавленный, почти панический шепот:
– Что ты делаешь, Леонардо? – это был Лоренцо ди Креди. Он стоял, растерянно моргая, прижимая к груди поднос, на котором должно было быть несколько яиц и миска для темперы. – Зачем тебе льняное масло? И… куда ты дел те яичные желтки, которые тебе с утра принесли подмастерья? Ты их что, выпил?
Леонардо не сразу ответил. Он стоял, склонившись над палитрой, в которую вместо традиционной яичной смеси осторожно капал прозрачное, золотистое льняное масло. Его движения были точными, почти медитативными.
– Лоренцо, – сказал он, не отрывая взгляда от краски, – я не могу больше работать по старинке. Темпера слишком тороплива. Краска сохнет, не давая ни глубины, ни возможности вернуться и исправить. А я хочу видеть, как дышит свет.
В его голосе звучала уверенность, но где-то в подспудной глубине слышалось напряжение – будто он и сам шёл по тонкому льду, рискуя, но не способный поступить иначе.
– Леонардо… – Лоренцо приблизился, понизив голос, – ты что, хочешь вписать масляного ангела в темперную картину? Ты понимаешь, чем это грозит? Учитель взорвётся!
– Льняное масло даёт мне то, чего не даст желток: свободу. Прозрачность. Многослойность. Я смогу тонко передать складки ткани, мерцание света на крыльях, переливы кожи. Я не испорчу картину – я добавлю ей жизни.
Он посмотрел на друга и чуть улыбнулся, но в этой улыбке таилось странное одиночество человека, который стоит на краю новой эры.
– Ты опять за своё… – простонал Лоренцо, – опять твои эксперименты! А если что-то пойдёт не так? Если масло поползёт, если краска свернётся, если… если маэстро узнает?
– Если маэстро узнает, – перебил его Леонардо, – то, надеюсь, увидит, что искусство не должно быть навечно сковано рецептом. Что оно способно расти, меняться, дышать. И, если не поймёт – значит, я еще не готов. Но я всё равно должен попробовать.
Он снова погрузился в работу, не глядя, как Лоренцо отступает к выходу, всё ещё сжимая поднос с опоздавшими желтками. Свет падал на ангела, и Леонардо наносил мазки новым способом – мягко, прозрачно, будто не краской, а светом.
И вот, наконец, задание было завершено. В левом углу полотна «Крещение Христа» стояли, преклонив колени, два ангела. Одного писал Учитель – маэстро Андреа дель Верроккьо, другого – его юный ученик Леонардо.
Между двумя фигурами зиял безмолвный, но разительный контраст.
Ангел Верроккьо был крепок, полнолиц, исполнен земного благоговения. Он напоминал добропорядочного горожанина, смиренного перед лицом таинства, словно ожидал своей очереди к исповедальне. Всё в нем говорило о долге, привычке, искренней, но уже приевшейся вере.
А рядом, в голубом плаще, сиял другой ангел – созданный рукой Леонардо. Его лицо было тонким, почти прозрачным, с мягкими чертами, в которых читалась не детская кротость, но философская печаль. Он был словно на полпути между небом и землей. Его взгляд, полный света и неведомой тоски, будто вопрошал: «Чего ищу я на этой земле? а если я уже здесь, почему не могу остаться, будучи бессмертным, навечно?» На этом лице жила тайна, не поддающаяся словам. Там сплелись боль и смирение, свет и прощание, нежность и трагическое принятие. Там – сама человечность, возведённая до божественного…
– Леонардо… – прошептал поражённый Лоренцо ди Креди, – это чудо! А твой пейзаж… эти камни в тумане, и вода, свет сквозь неё… в них я слышу, клянусь, звон колоколов, которых ещё нет… – он осёкся, в изумлении глядя на работу, – Ты… ты УБИЛ творение Учителя!
Один за другим к картине начали подходить остальные ученики. В мастерской постепенно стихала работа. Всё внимание – к полотну.
И вот, наконец, появился он – маэстро Верроккьо. В своём обычном фартуке, тяжёлый, как скульптура, он подошёл, прищурившись, встал перед картиной. Молча.
Затем надел очки. Сделал шаг назад. Поднял голову. В мастерской стояла такая тишина, что было слышно, как под потолком две залетевшие бабочки шепчутся друг с другом, словно боясь вспугнуть этот миг.
Маэстро долго молчал, его взгляд был сосредоточен, лицо неподвижно. И когда тишина стала почти невыносимой, он сказал негромко, но отчётливо:
– Хорош. – затем, выдержав паузу, добавил: – Даже больше чем хорош.
Он отвернулся, достал из кармана кисть. Крепко сжал её в руке. И вдруг… с хрустом сломал надвое, бросив за пустующий стол с красками.
– Слушайте все! – его голос зазвучал торжественно, почти трагически. – Я даю слово – слово Андреа дель Верроккьо, – он повернулся лицом к ученикам и они увидели взволнованное, покрасневшее и даже какое-то, сразу постаревшее, его лицо, – я больше никогда не вернусь к живописи. Ибо мне не за чем более к ней возвращаться!
В мастерской пронёсся ропот, кто-то охнул. Только Перуджино, гордо выпрямившись, сказал вслух:
– Но, маэстро… в Евангелии от Матфея сказано: «Нет ученика выше учителя своего».
Верроккьо обернулся, его лицо было бледным, но в глазах горел огонь.
– Ты не прав, Перуджино! – его голос сотряс воздух. – В любой науке, в любом ремесле ученик может и должен превзойти своего учителя! Иначе зачем мы трудимся, зачем учим, если не желаем быть превзойдёнными?
Он замолчал, затем, глядя в лица своих учеников, продолжил:
– Да, в Евангелии речь идёт о духовном наставнике, через которого с нами говорит Господь. Но я – не пророк. Я – художник. И я мечтал об этом мгновении. Всю жизнь. Чтобы увидеть, как рождается тот, кто превзойдёт меня. И вот он стоит перед вами. Леонардо!
– Помните это, друзья мои, – его голос дрожал, но был силён, – ученик не должен только подражать. Он должен мыслить сам. Искать своё. И да – однажды он должен превзойти. Это и есть путь человеческого духа. Это – эволюция.
И в эту минуту в мастерской словно впервые разлился настоящий свет.
Через некоторое время, беседуя с Леонардо, Сандро поделился с ним своими соображениями:
– Леонардо, ты первый, кого так возвеличил Учитель. А то, что он забросил свои кисти, так ты это… не переживай сильно по этому поводу. Это был не гнев и не раздражение Учителя. Он никогда не считал живопись смыслом своей жизни, хотя и считается по праву одним из самых известных живописцев Фьоренцы. Он же давно мечтает сосредоточиться на работах по металлу и скульптуре. Да и потом, он очень горд и счастлив тем, что именно ЕГО ученик стал молодым гением. С твоей помощью слава его боттеги принесет ему много новых, дорогих заказов!
– Жалок тот ученик, который не превзойдет учителя, – сказал Леонардо тихим голосом. Его услышал только Сандро.
Вскоре после этого Леонардо стали доверять самостоятельные работы. Правда, его отвлекали от искусства увлечения военной техникой и анатомией, занятия последней он держал в секрете.
Живя одной семьей с друзьями по боттеге, Леонардо понял, что Лоренцо ди Креди являлся истовым католиком; глубоким, искренним религиозным чувством были проникнуты все его мысли и действия. Сандро Боттичелли, наоборот, выступал против официальной церкви во имя забытых идеалов раннего христианства. А когда друзья-гуманисты познакомили его с воззрениями Джустино и Оригена Александрийского, он стал утверждать, что человек состоит из трех частей: тела, души и духа, и открыто проповедовал, что ад – это явление временное, а искупление грехов будет всеобщим. Перуджино объявлял себя атеистом, хотя порой, когда того требовали обстоятельства, и ссылался на Священное Писание. На деле он насмехался над верой своих двух друзей и отрицал бессмертие души, утверждая, что большинство священнослужителей тайно разделяет его взгляды.
Для Леонардо и оба верующих живописца, и неверующий Перуджино одинаково были невеждами, ведь они исходили из туманных ощущений, а не из ясных, чётких представлений. Сначала надо было всё познать самому – и не только на земле, но и во Вселенной, ибо знание есть дочь опыта: изучить проблему, а потом уже уверовать.
– Прежде чем поверить, нужно узнать. Надо изучить строение человеческого тела и уже потом обратиться к сфере духа. И если строение тела кажется тебе чудесным, оно ничто в сравнении с душой, обитающей в столь совершенном теле. Поистине душа должна быть божественной, – сказал Леонардо однажды Лоренцо.
Он ненадолго замолчал, задумчиво глядя в огонь, мерцавший в очаге:
Лоренцо не нашёлся, что ответить. Он лишь вздохнул, опустив глаза, как будто что-то важное и ускользающее только что пронеслось перед ним, и он не сумел это удержать.
* * *
Однажды, когда солнце уже клонилось к западу и золотые лучи окрашивали стены мастерской в теплые медовые тона, маэстро Верроккьо окликнул Леонардо:
– Леонардо! Подойди ко мне.
Юноша тотчас отложил свою работу и поспешил к Учителю.
– Я получил заказ на картину «Благовещение» от монастыря Сан Бартоломео в Монтеоливето. Я поручаю эту работу тебе, моему самому талантливому ученику, – глаза Верроккьо были наполнены надеждой, а голос звучал сдержанно, но с явной гордостью. – Ты помнишь Евангелие от Луки, я надеюсь? В нем сказано, как ангел Гавриил был послан в Назарет, чтобы приветствовать нареченную невесту Иосифа – Деву по имени Мария. Он, войдя к ней, сказал, если мне не изменяет память: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Сделай наброски. Избери фигуры, придумай пейзаж, ибо апостол Лука не особенно утруждал себя в его описании. Дай мне знать, когда композиция будет готова.
Эти слова ошеломили Леонардо. Он ощущал в них не только доверие, но и рубеж. Это полотно становилось его первым самостоятельным испытанием.
После долгих и мучительных размышлений он отправился в церковь Сан Лоренцо, к мраморной гробнице Медичи, некогда созданной в этой же мастерской. Камень и свет, тень и архитектура – всё это навеяло ему образы и линии. Именно гробница послужила моделью для архитектурного фона будущей картины.
Он работал тщательно, сдержанно, будто выдыхал душу на доску, не отказавшись от символизма, столь любимого его Учителем. Лилия в руке ангела стала символом чистоты, белые цветы в траве – вестниками весны и обновления, а раскрытая книга на пюпитре напоминала о пророчестве Исайи: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына».
Когда полотно было завершено, он долго не мог заставить себя показать его. Что-то тревожило: правая рука Мадонны казалась удлинённой, будто нарушающей законы анатомии; цветы и трава – больше похожими на избыточно пёстрый узор; а крылья ангела – острыми и широкими, почти хищными, как у сокола, пролетавшего когда-то над холмами Винчи.
Но когда маэстро Верроккьо наконец увидел работу, он долго стоял молча, глядя на ангела, склонённого перед Девой, и, наконец, сказал:
– Но тебе удалось вдохнуть в него жизнь, Леонардо. Никто, у кого есть глаза, не станет сомневаться – твой ангел дышит.
Леонардо опустил глаза. В его душе всё ещё бушевало сомнение – он был слишком требователен к себе, слишком остро ощущал несовершенство.
Отец, сэр Пьеро, узнав о заказе и успехе, сам пришёл в мастерскую. Он стоял в дверях, в строгом одеянии нотариуса, но с непривычной мягкостью на лице.
– Я горжусь тобой, Леонардо, – сказал он, положив руку на плечо сына. – Ты оправдал мои ожидания.
С этого дня имя Леонардо всё чаще звучало в среде меценатов, гуманистов, философов, архитекторов и поэтов Фьоренцы. Его взгляд на искусство – острый, внутренне обострённый, не похожий на других – начинали замечать. Юный мастер вышел из тени великого Верроккьо. И сделал первый шаг на своем пути – пути, что вел сквозь тернии сомнений к собственному Солнцу.
Тем временем над Фьоренцей разразилось волнение. Весть о смерти Козимо Медичи, человека, чьё имя стало синонимом политического гения и меценатства, пронеслась по городу, словно весенний ураган. За этой смертью последовали потрясения: в ожесточённой борьбе за власть был убит его законный наследник – сын. Город дрожал от слухов и интриг. Однако судьба распорядилась иначе: в 1469 году место правителя занял семнадцатилетний внук Козимо – Лоренцо Медичи.
Никто тогда ещё не догадывался, что начинается блестящая эпоха – эпоха Лоренцо Великолепного. Молодой властитель пошёл по стопам своего великого деда, но привнёс в политику не только гибкий ум и твёрдую волю, но и душевную тонкость, утончённый вкус и искреннюю любовь к искусству. Лоренцо лично знал поэтов, покровительствовал художникам, вел беседы с философами и ученёными. Вокруг него собралась яркая плеяда талантов: Полициано, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Сандро Боттичелли и многие другие, кому было суждено изменить лицо эпохи. Фьоренца его времени стала центром культурной Вселенной. Она диктовала стиль, манеру, мышление – остальные города Италии могли лишь стараться угнаться за её сияющей поступью.
Лоренцо, который, как отмечали современники, не отличался выдающейся наружностью, с лихвой возместил это врождённым благородством, обаянием, эрудицией и искренним обхождением. Он лично посещал боттеги художников, беседовал с мастерами и подолгу вглядывался в работы юных учеников, словно желая разглядеть в них будущих титанов.
Именно в мастерской Верроккьо Леонардо впервые и увидел Великолепного. Он вошёл без свиты, в плаще, простым жестом поприветствовал маэстро и некоторое время беседовал с ним об античных сюжетах. Его живой, цепкий взгляд скользнул и по фигурам, и по ученикам. На мгновение он задержался на Леонардо – будто увидел в нём нечто. После их короткой беседы, полной изысканной любезности, Леонардо был уверен – он не забыт.
Вскоре пошли заказы: Лоренцо поручал Верроккьо работы для своих флорентийских дворцов, скульптурные украшения, элементы архитектуры, росписи. Сам Леонардо тоже бывал в доме Медичи на виа Ларга – это была встреча с другим миром, в котором книги соседствовали с античными статуями, философские диспуты велись у каминов, а стихи рождались прямо во время ужина.
Особенное впечатление на юношу произвёл сад Медичи возле площади Сан-Марко. Там, среди мирта и кипарисов, он реставрировал древние скульптуры. Внимательно изучал каждый излом, каждую выщербленную черту, будто вступал в молчаливый диалог с античностью. Казалось, камень говорил с ним. И именно здесь, среди зелени и мрамора, он впервые задумался не только о внешнем облике вещей, но и о тайнах их внутренней сущности, о природе красоты и симметрии, о том, что лежит за гранью видимого.
Да, он взрослел. Его имя начинало обрастать значением. И Фьоренца, пылающая огнём искусства и разума, становилась его естественной колыбелью.
В те годы маэстро Верроккьо получил один из самых почётных заказов своего времени – от главы главного собора Флоренции, Санта-Мария дель Фьоре. Ему предстояло завершить грандиозный замысел великого архитектора Филиппо Брунеллески, который полвека назад возвёл над городом гигантский восьмигранный купол – дерзновение, казавшееся невозможным в глазах современников. Теперь этот купол предстояло увенчать символом победы веры – позолоченной медной сферой с крестом.
Сфера должна была быть величественной: восемь футов в диаметре, с идеальными очертаниями небесного тела. Но за внешней простотой крылась сложнейшая инженерная задача – сварить две полусферы, добиться идеального сопряжения, поднять двухтонную конструкцию на высоту почти в девяносто метров и укрепить её над фонарём купола, туда, где начиналось небо.
Верроккьо, страстно любивший вызовы, немедленно приступил к проекту. Леонардо, как и другие старшие ученики, был рядом с Учителем на каждом этапе: участвовал в проектировке, следил за литьём, проверял расчёты, лепил модели и делал чертежи подмастерий. Он с жадностью впитывал всё – законы баланса, напряжение металла при сварке, нюансы креплений, способ удержания центра тяжести.
27 мая 1471 года, после долгих дней работы, медная сфера – гладкая, величественная, с внутренним укрепляющим каркасом – была готова. При помощи системы подъёмных кранов, заимствованной у самого Брунеллески, конструкцию стали медленно поднимать. Леонардо, словно молодой инженер, не отходил от механизма ни на шаг. Три дня и три ночи они с другими учениками Верроккьо работали на головокружительной высоте, под открытым небом, закрепляя сферу с крестом. Особую гордость вызывал метод припаивания: пламя для пайки разжигали, используя вогнутые зеркала, которые фокусировали солнечные лучи, нагревая металл до нужной температуры. Это было новаторством, на которое в тайне особенно надеялся Леонардо – он верил в силу света и в силу ума.
Позднее, следуя этому успеху, Верроккьо поручил своим подмастерьям и создание медного распятия, водружённого над тем самым куполом – распятие, которое венчало не только храм, но и устремлённость человеческого духа вверх, к небу, к истине.
В свободное от работы время Леонардо продолжал лепить. Он отливал в гипсе небольшие скульптуры – богов и героев, портреты античных философов, гротескные головы с причудливыми чертами. Эти произведения он продавал в лавках флорентийцев, принося тем самым в свой кошель небольшой, но стабильный доход. Он любил этот труд, соединяющий искусство и ремесло, а ещё больше – ту свободу, которую давала собственная идея, собственная рука, и возможность творить, когда никто не диктует замысел.
Так формировался он – будущий гений, в равной мере художник, инженер, изобретатель, анатом, скульптор, мыслитель. И весь город, казалось, ждал, когда он наконец раскроется в полную силу.
Печальной вестью для Леонардо стало известие о смерти деда Антонио, который пережил добрую бабушку Лючию всего на полгода. Было в том нечто странное, почти мистическое – словно их души не желали разлуки даже за пределами жизни. Ещё в детстве Леонардо считал деда чрезмерно строгим, чуть ли не суровым – особенно в сравнении с ласковой, кроткой бабушкой. Но с годами пришло понимание: за этой строгостью стояла не жесткость, а твёрдая житейская мудрость, почти философия, выточенная временем и плугом.
– Не стремитесь к чрезмерной славе, – говорил он своим детям и внукам. – И к почестям не стремитесь, ни к должностям высоким, ни к богатству без меры. Учености же – ровно столько, сколько нужно, чтобы не казаться глупцом. Держитесь середины во всем – это и есть путь верный, испытанный.
Любимыми его притчами были притчи из жизни. Он сравнивал доброго хозяина с пауком, сидящим в центре своей паутины и чутко следящим за каждым колебанием нитей:
– Вот так и мужчина – должен знать всё, что происходит в доме. И поступать разумно, не суетясь.
Он почитал порядок. Каждый вечер, к удару колокола Ave Maria, все члены семьи, независимо от возраста, пола и занятий, должны были быть в сборе. Сам дед обходил двор, проверяя ворота, запирал их и уносил ключи в свою спальню, пряча под огромную пуховую подушку, словно стражник рода. Ничто не ускользало от его взгляда: не слишком ли высоко поднят фитиль в лампе, не переварили ли пасту, не мало ли сена положено волам, – всё замечал и всё исправлял.
Но то была не скупость, а кропотливая, основательная бережливость. Он поощрял разумные траты:
– Купите лучшее сукно, не скупитесь. Оно и выглядит достойно, и прослужит долго. В итоге – и дешевле выйдет, и честь не пострадает.
Взгляды его, впрочем, оставались строго патриархальными. Женщина, по его мнению, была создана для кухни, детей и молитвы.
– Глупец, кто верит в женский ум, – говорил он с усмешкой, присущей тому времени.
Мудрость его, как казалось тогда Леонардо, граничила с лукавством.
– Будьте милосердны, как велит Святая Мать-Церковь, – учил он, – но предпочитайте друзей счастливых несчастным, богатых – бедным. Искусство жизни – в том, чтобы, оставаясь добродетельным, перехитрить хитреца. Не давайте взаймы, но отказывайте с улыбкой и благородством – это и деньги сохранит, и достоинство приумножит.
Он учил сажать деревья на межевой линии, чтобы тень от них падала на чужое поле, а урожай – доставался хозяину. Учил держаться родни и заботиться о ней с предельной преданностью:
– Чужому помог – слава на один день. Своему – почёт на всю жизнь. Дом – вот главное. Кровь – вот что связывает нас по-настоящему. Ради семьи не жалей ни денег, ни чести, ни самой жизни.
Перед смертью дед, человек расчетливый и предусмотрительный, завещал дом напротив Палаццо своему старшему сыну Пьеро, считая, что только он достоин вести дела во Фьоренце, где день, в котором не заработано ничего, почитается напрасно прожитым. Фамильное же имение в Винчи досталось дяде Франческо – по мнению деда, его лень и вальяжность лучше соответствовали сельской жизни.
И действительно, во Фьоренце дух расчета, трудолюбия и личной предприимчивости пронизывал всё – от ремесла до политики. Стучит ли торговец счётами, окрашивает ли шерсть ткач, смешивает ли свои снадобья аптекарь или наносит штрихи мастер кисти – все они жили мыслью о выгоде, успехе и добром имени.
Леонардо часто вспоминал деда, его густой голос, шаги в вечернем доме, его строгие глаза, внимательные и, кажется, в глубине души – добрые. С годами он понимал: дед его любил. По-своему. Сдержанно, но по-настоящему. И теперь, когда та любовь осталась лишь в воспоминаниях, она стала чище и ярче.
Весна, едва вступившая в свои права, напоила Фьоренцу запахами миндального цвета и свежевымытым светом рассветов. Город шумел, пел, спорил, торговался и молился – как всегда. Но в сердце одного юноши этот год стал переломным. В двадцать лет Леонардо да Винчи был официально признан мастером. Он вошёл в Гильдию Святого Луки – цех художников, скульпторов и миниатюристов, носившую имя евангелиста, который, по преданию, первым осмелился изобразить лик Пресвятой Девы.
Вступление в гильдию открывало путь к самостоятельности: теперь он мог открыть собственную мастерскую, нанимать учеников, принимать заказы от города, от церкви, от знати. Но за этими внешними атрибутами свободы скрывались и цепи: гильдия защищала, но и подчиняла, она помогала, но требовала, она соединяла, но не отпускала. Она хоронила своих членов с пышной обрядностью – и сковывала их при жизни законами и ритуалами.
За день до торжественного вступления Верроккьо вызвал Леонардо в свою мастерскую. Учитель сидел у окна, за которым вяло курился тёплый туман над крышами.
– Леонардо, – начал он не сразу, – ты знаешь, что правила гильдии требуют от художника быть гражданином города. Это не проблема. Но чтобы получить статус мастера, одного таланта недостаточно. Нужно жильё, нужно имя. А главное – по закону Республики – ты должен быть женат. Ты понимаешь, насколько это абсурдно? – голос его дрогнул. – Что они хотят – чтобы художник писал свои картины с младенцем на коленях и женой, жалующейся на дороговизну платьев? Глупцы. Глупые, бесчеловечные законы.
– Маэстро, – спокойно ответил Леонардо, – разве можно ожидать от художника, что он будет жить как обыватель? Жениться, завести лавку, жить по расписанию и творить по праздникам? Я считаю, художник должен быть одинок, свободен, как ветер над холмами. Его ничто не должно стеснять – ни брачные узы, ни расчёты, ни общественное мнение. Он должен быть, как зеркало: он не выбирает, что отражать – он просто отражает. Он – проводник природы, и в этом его миссия.
Верроккьо долго молчал, глядя в лицо юноше. Потом встал. Его движения были медленны, будто наполнены важностью момента.
– Тогда слушай меня, – сказал он, не отводя взгляда. – Я хочу, чтобы ты знал: сегодня ты покидаешь меня не как ученик. Ты уходишь как равный. Как тот, кто сумел открыть дверь туда, куда не ступала даже моя мысль. Я думал, что знаю тебя. Шесть лет мы были вместе: я учил тебя видеть, чувствовать, лепить и рисовать. Я видел твои первые наброски, видел, как ты впервые дрожал над кистью, – и как однажды ты взял её в руки так, будто держал душу мира. Но сегодня я понимаю – ты для меня навсегда останешься загадкой. И всё же… я люблю тебя. Как никто и никогда. Не как учитель любит ученика. Не как отец – сына. Больше…
Он на мгновение закрыл глаза, будто собирался с духом, и продолжил:
– Мне не важно, где ты будешь – в Неаполе, в Милане, за далеко морями. Я всегда буду с тобой. Мне нужна твоя близость – не телесная, а духовная. Мне нужно знать, что ты жив, что ты творишь, что ты думаешь. Ты – моё продолжение, ты – моя радость, ты – моя боль. И если бы это было возможно, я бы хотел, чтобы весь мир знал, как ты дорог мне. Но пусть это останется между нами.
Он снял с пальца серебряное кольцо, с которым он не расставался ни на миг.
– Возьми. Это моё благословение. Это моя клятва. Я люблю тебя, Леонардо. Будь свободен. Будь счастлив. И помни – ты не один.
Он вложил кольцо в ладонь Леонардо и обнял его – крепко, на миг, как обнимают один раз в жизни.
С этого дня имя Леонардо да Винчи стало звучать во Фьоренце не как имя ученика. А как имя Мастера.
* * *
Вскоре после вступления в Гильдию Святого Луки, Леонардо, за весьма скромную плату, снял помещение под собственную мастерскую. Его новый дом оказался в самом сердце Фьоренцы – в старом здании монастыря Сантиссима Аннунциата. Это было почти чудо: стены древнего мужского монастыря, пронизанные тишиной молитв, теперь вмещали творческую обитель молодого гения.
Мастерская состояла из пяти комнат, соединённых узкими переходами и скрытых взгляду мирской суеты. Самую просторную из них – зал с высокими потолками и двумя светлыми окнами, выходившими на внутренний клуатр, – Леонардо отдал под спальню. Здесь он спал и думал, здесь по утрам звучала его лютня. За спальней скрывалась малая, почти потайная комната – его личное святилище, где он творил, где хранил записи, инструменты и первые эскизы своих будущих гениальных замыслов. Остальные комнаты служили мастерской, где трудились его ученики – шестеро молодых людей, каждый со своей историей, но все – с жаждой познания. Один из них, по прозвищу Пакко, готовил еду и управлялся с хозяйством, позволяя остальным не отвлекаться от работы.
Леонардо был безмерно счастлив своей новой обителью, уединённой, полутайной, будто созданной для размышлений и созерцания. Само расположение мастерской казалось божественным даром – в стенах монастыря хранилась одна из самых богатых библиотек города: более пяти тысяч манускриптов – по философии, медицине, анатомии, механике, астрономии и древним языкам. Здесь он часами сидел над страницами, как над картами Вселенной, погружённый в миры, сокрытые в чернильных строчках.
Теперь, уже не связанный обязанностями ученика в боттеге Верроккьо, Леонардо с удовольствием гулял по городу. Его можно было увидеть повсюду – на набережной Арно, под сенью кафедрального собора, в садах Медичи, в зале дель Камбио, на рыночной площади, где он мог беседовать с плотниками, мясниками, аптекарями или нищими. Он двигался по городу, как струя света – неуловимый, манящий, чуждый суете.
Высокий, с прямой осанкой, грациозной походкой, надушенный благовониями, сделанными им собственноручно из трав и смол, он производил впечатление благородного юноши, сошедшего со страниц рыцарского романа. Его одежда – чёрный камзол, тёмно-красный длиннополый плащ с прямыми складками и чёрный бархатный берет – выделяла его в толпе, придавая особую утончённость. В руках он часто держал свою любимую лютню, сделанную из серебром окованного конского черепа – странный, мрачноватый, но волшебно звучащий инструмент. На ней он играл, сочиняя песни, которые слагались будто сами собой, – как будто звучали откуда-то изнутри мироздания.
Он был красив. Но его красота не была простой. Высокий лоб, задумчивый и проникающий взгляд, длинные, как у античного героя, волосы, сильные руки, манеры, в которых было и благородство, и насмешка. Его присутствие озаряло собеседников, его слова – то блестящие, то язвительные, – подкупали ум, а смех был заразительным и редким. Он был рыцарем без меча, поэтом без книги, философом без кафедры. Но он владел шпагой с тем же мастерством, что и кистью. Его ловкость в бою равнялась его точности в рисовании мускула. Он мог останавливать на скаку испуганную лошадь, а его рука, сильная, способная согнуть язык колокола, была в то же время достаточно чутка, чтобы перебирать струны лютни с невыразимой нежностью или уложить на холст прозрачный мазок света.
Он часто заходил в церкви – скромные и величественные, тихие, погружённые в полумрак или наполненные пением монахов. Там, на стенах, он подолгу вглядывался во фрески: в движения рук и склонённых голов, в изгибы драпировок, в выражения лиц, застывших между землёй и небом. Он, казалось, разговаривал с ними глазами, слышал их безмолвные исповеди и запоминал каждую складку, каждый поворот тела, каждый ускользающий жест. Иногда он садился прямо на каменный пол, достав из кармана своего плаща тетрадь – маленький альбом, с которым не расставался никогда.
Тот альбом был его спутником, исповедником и лабораторией. На его слегка подцвеченных, шероховатых страницах жили лица и тела, животные, архитектура, уличные сцены, фантастические механизмы, причудливые облака и непостижимые улыбки. Он рисовал в нём быстро – лёгкими, уверенными, почти не касающимися бумаги штрихами, как будто хотел поймать саму сущность, ускользающую в тени.
Иногда он рисовал античные статуи – в садах Медичи или в клуатрах монастырей. Ему было важно уловить не только форму, но и ту загадочную внутреннюю жизнь, что, казалось, ещё теплилась под холодным мрамором.
Однажды на утренней прогулке по набережной Арно, когда небо было влажным и мутно-золотым, к нему подошёл Лоренцо ди Креди:
– Ты всё ещё носишь свой альбом в кармане, как тогда, в мастерской маэстро Верроккьо? – спросил он с лёгкой усмешкой, заглянув через плечо на открытую страницу с наброском нищенки в латаном плаще и босыми ногами.
– Лоренцо, друг мой, – улыбнулся Леонардо, не отрывая взгляда от рисунка, – альбом я ношу не ради Учителя… я ношу его ради себя. И тебе советую так же. И пусть в нем будет слегка подцвеченная бумага, чтобы ты не смог стереть нарисованного, а всякий раз должен был перевернуть страничку. Такие зарисовки нельзя ни в коем случае стирать, их надобно сохранять с крайним прилежанием, потому что существует столько форм и действий, что память неспособна их удержать. Поэтому тебе следует хранить эти наброски: они примеры для тебя и твои учителя.
Он любил бродить по городу – по тесным улицам, где черепичные крыши почти смыкались над головой, отсекая дневной свет; где зловоние сточных канав смешивалось с ароматом жареных каштанов и дымом благовоний; где за каждым углом можно было встретить что-то достойное зарисовки – жест, лицо, силуэт. Он наблюдал. Он искал. Он ловил суть.
В лавках красильщиков, где сквозь приоткрытые двери просачивались струйки алой, охристой или изумрудной жидкости, он замечал, как играет свет на влажной ткани. В проходах рынка – как звучит смех торговки, как меняется лицо спорящих мужчин, как мальчишка дразнит слепого музыканта. Он подолгу следовал за людьми, которых видел впервые: за старухой с кривой походкой, за горбуном, за странным бородатым типом, чья мимика казалась ему диковинной, почти театральной.
Однажды, весь день, до самого заката, он не сводил глаз с одного незнакомца – то приближаясь, то скрываясь в тени, быстро зарисовывая на ходу, в движении. Затем этот набросок он многократно переделывал, меняя ракурс, варьируя свет и линии, стирая всё, кроме главного – характера. Души. Лица, сквозь которое можно было прочесть судьбу.
– Рисунок – это не только линия, – объяснял он своим ученикам, сидя среди них вечером при свете масляной лампы. – Линия даёт форму, но это ещё не жизнь. Жизнь – в свете и тени. Вот, посмотрите: если вы нарисуете круг, он останется плоским. Но добавьте на одну сторону немного тени – и перед вами уже шар. Объём рождается из света, переходящего в тьму. Фигура оживает, когда она окружена воздухом и освещена, как в природе. Только так мы можем лепить формы – на бумаге, как в глине…
Когда Леонардо впервые прибыл во Фьоренцу, город был на вершине своего величия. Это была эпоха блеска, изобилия и дерзновенных устремлений. Бурным потоком развивались торговля, ремесла, банковское дело. От переизбытка богатства флорентийские патриции с лёгкой рукой тратили средства на украшение не только своих палаццо, но и храмов, площадей, городских празднеств. Всё, что могло восхищать глаз, услаждать слух, прославлять имя и укреплять власть, находило воплощение в мраморе, музыке и фресках.
Пиры длились неделями, шествия – часами, костюмы стоили как дома, а сцены на временных помостах превращались в театры небывалого великолепия. Никогда прежде поэзия, живопись и философия не цвели так пышно, как в эти десятилетия. И на этой золотой почве ренессансного расцвета родилось новое ощущение мира – острое, дерзкое, неуёмное, как юность сама.
Но вместе с искусством и праздниками расцветали и новые науки. География – некогда удел мореплавателей и монахов – стала здесь наукой из наук. Ведь Фьоренца нуждалась в сырье и новых рынках, а пути к Востоку после падения Константинополя в 1453 году оказались закупорены османскими пушками. Крупнейшие торговые дома, чуткие к грядущим бурям, устремили взор за пределы Европы. География, как и механика, как и экономика, становилась инструментом выживания.
В этом научном брожении особенно выделялся один человек – Паоло Тосканелли. Географ, астроном, врач, математик – он принадлежал к тому редкому роду титанов, которые не ограничивают себя рамками одного знания. Именно он, много лет спустя, даст юному генуэзцу по имени Христофор Колумб карту с предложением двигаться на Запад в поисках Востока. Но и до этого Тосканелли был фигурой почти легендарной – его уважали купцы и слушали мыслители, и в его доме на склонах Сан-Джованни собирались лучшие умы города.
Ближайшими его единомышленниками были Карло Мармокки, страстный любитель астрономии, и поэт-учёный Леон Баттиста Альберти – типичный homo universale, человек эпохи, совмещавший в себе черты математика, архитектора, экономиста, художника и философа. А ещё – Бенедетто дель Аббако, автор математических трактатов, по которым учились торговые клерки и юные банковские служащие. Его имя воспевал в латинских стихах гуманист Уголино Верино – настолько велик был вклад этого незаметного мастера чисел в процветание Республики.
Именно в это окружение жаждущий знаний Леонардо стал тянуться с особой силой. Ему было тесно в рамках боттеги. Хоть Верроккьо и давал ему многое, но искры науки, выхваченные на лету между эскизами и заказами, не могли утолить его бездонную жажду понимания. Леонардо чувствовал – там, за стенами мастерской, в тихих кабинетах, среди бумаг, астролябий и звездных карт, бьётся подлинное сердце знания. Там, где говорят не только о форме и цвете, но и о природе движения, строении Вселенной, загадках воды, ветра, света и времени. Там начинается подлинная наука – и к ней он, как мотылёк к свету, стремился всем своим существом.
Но и в это сияющее время над горизонтом начали клубиться первые тучи. С востока пришла весть: Константинополь пал. Турецкие корабли заперли морские пути к левантским рынкам, и флорентийцам пришлось искать иные дороги – через океан, через новые континенты, через изобретения и открытия. А значит, искусство должно было идти рука об руку с техникой, философия – с экономикой, поэзия – с чертёжной доской. Мир требовал не только красоты, но и пользы. Поэтому теперь писали трактаты не о добродетели, а о том, как усовершенствовать ткацкий станок, как увеличить урожай, как рациональнее вести хозяйство. И в этих новых задачах Леонардо чувствовал: время пришло. Он нужен – не как украшение, а как сила. Не как подмастерье, а как гений.
Главным направлением флорентийского искусства второй половины XV века был реализм – не отвлечённый, возвышенный, как в Средние века, а живой, зримый, рождённый наблюдением за природой и человеком. Искусство стало внимательным зеркалом повседневности. Оно угождало вкусам заказчиков – купцов, банкиров, патрициев, – украшая их дома и часовни, повествуя в красках о том, что было им близко: торжестве семьи, силе добродетели, о ликах святых, похожих на соседей по кварталу. Но за этой видимой простотой зреют перемены. Искусство начинает говорить о времени. В нем всё отчётливее проступают черты общественного движения, растущей ценности знания, личности, наблюдения.
Скульптура и живопись Верроккьо – самого уважаемого художника эпохи – уже не мыслились без точного расчёта, без знания перспективы и анатомии, без понимания света, веса и объёма. Искусство требовало научных оснований. От интуитивного вдохновения – к осознанному методу. И тем самым художник всё чаще переступал порог боттеги – и входил в кабинет учёного. Искусство становилось наукой.
Это соответствовало духу Флоренции. Город, насыщенный мастерскими, фабриками, красильнями и банковскими конторами, лучше других понимал цену точности. Здесь знали: без хорошей техники не будет хорошего товара. Почему бы не применить ту же логику к изящным искусствам?
В мастерских – боттегах – флорентийских художников всегда витал дух наблюдения и изобретения. Именно отсюда, из будничного интереса к совершенству, рождался подлинный исследовательский порыв. Живописцы и скульпторы, оттачивая технику, естественным образом приходили к вопросам геометрии, оптики, пропорции, структуры. Изучая натуру, они вступали в сферу математики, обращались к физике, пробовали себя в механике. Но для Леонардо всё это было лишь началом пути.
Он остро чувствовал: знаний, полученных у Верроккьо, ему недостаточно. Он стремился к большему – к основанию мира, к пониманию скрытых связей между вещами. Его тянуло к тем, кто владел ключами к закону движения, к свету и форме. Он обращался к флорентийским математикам, к астрономам, врачам, к людям науки, но при этом не спешил называть себя гуманистом.
– Да, я не гуманист, – говорил он однажды с ноткой иронии в голосе, – но, тем не менее, я принадлежу к интеллигенции, хотя многие во Фьоренце до сих пор считают художника всего лишь ремесленником. Однако хорошая ученость рождается из хорошего дарования. И если выбирать, кому отдать предпочтение – учёному без таланта или талантливому без учёности, – я скажу: хвала причине, а не следствию. Хвала дарованию.
День за днём, месяц за месяцем, имя Леонардо всё чаще звучало в разговорах флорентийцев. Город говорил о нём, как о чём-то чарующем и неизведанном. Кто-то восхищался его статью, другие – живым взглядом и речью, третьи – редким даром соединять в одном человеке красоту, разум и талант. Но всё это, казалось, мало волновало самого Леонардо. Он оставался глух к лестным толкам. Мирской шум – лишь шелест листвы за окнами его мастерской, где он продолжал в молчании оттачивать искусство. Его кисть становилась всё увереннее, его линии – точнее, его тени – живее. И всё же он чувствовал: чего-то не хватает. Без опыта – подлинного, осязаемого, пережитого – истина не обретается.
– Познание, не прошедшее через опыт, через ощущения, с которых всё начинается, – говорил он своим ученикам, – не порождает истины о подлинной природе вещей. Я не доверяю тем, кто, лишь воображая, пытается судить о мире. Воображение – прекрасно, но без опоры на реальность оно слепо, как птица без крыльев.
Под словом «опыт» Леонардо разумел многое: наблюдение за облаками и всполохами грозы, вскрытие тела и чертёж летательного аппарата, игру света на воде и скрипение древесных колец под нажимом руки. Он был одержим не только искусством – в нём горела вера в силу разума, в могущество знаний, добытых упорным трудом и сопряжённых с творчеством.
– Природа создаёт формы, – размышлял он, – но человек, вооружённый разумом, способен превзойти её. Там, где она останавливается, мы начинаем. Из дерева и камня, из света и воздуха, из звука и движения мы можем творить бесконечное множество вещей – быть творцами нового бытия.
Любопытство его не знало предела. Он жадно вбирал всё: знал названия минералов, следил за течением рек, наблюдал за рождением растений, слушал биение звёзд, ловил очертания пернатых в полёте, изучал повадки животных и движения марионеток. Он читал Оригена и Платона, беседовал с учёными-евреями и изучал Каббалу, вникал в алхимию и астрологию, не отвергая ничего, что могло хотя бы тенью приблизить его к истине. Он был верен механике и гидравлике, любил анатомию и музыку, геометрию и числа. Математика, по его словам, была единственной наукой, которая несла доказательства в самой своей сути.
А живопись? Нет, это не ремесло. Это наука – и даже более: царица всех наук.
– Живопись, – говорил он, – охватывает поверхности, цвета и формы всего, что рождено природой. Если философия проникает внутрь вещей, то живопись – их лицо, их видение. И если истина – дочь времени, то живопись – дочь природы. Она порождена ею и несёт в себе её дыхание. Через живопись говорит мир. И она, как ни одна другая наука, может быть понятна всем, в любые времена и на всех языках.
Он преклонялся перед природой – за её разнообразие, её геометрию и строгость. Но в этом же разнообразии пытался разглядеть Лик Творца. Не в прошлом он искал Бога, а в будущем – в движении звёзд, в спирали раковины, в полёте стрекозы. Он искал его в безмолвии механизмов и законах движения.
И в этом жаждущем, стремящемся разуме созревала клятва: быть первым. Первым среди художников, первым среди мыслителей. Он дал такое обещание отцу, и неуклонно держал слово.
Чтобы постичь тайны бытия, он тренировал не только руку, но и память, развивал воображение, исследовал психику человека. Он наблюдал не только лица – он ловил жест, интонацию, выражение глаз. Он хотел понять, что скрывается за мимолётной улыбкой, за сжатыми губами, за хмурым лбом – в этом он видел ключ к тайне души.
В пылу своих стремлений он почти отказался от сна. Для того чтобы обрести больше времени, он перешёл на полифазный режим: спал всего пятнадцать минут каждые четыре часа. В сумме – полтора часа в сутки. Он выкраивал минуты, словно драгоценные камни, и клал их в сокровищницу знаний. День сливался с ночью. Лампа освещала его альбом, в котором рождались наброски крыльев, людей, водоворотов и башенных часов. Он шептал себе:
– Если уж жизнь коротка, я сделаю её длиннее разумом.
В мастерской Леонардо царил строгий, почти монашеский порядок – даже за обеденным столом. Есть полагалось трижды в день, и в установленное время повар Бруно громко звонил в бронзовый колокольчик, извещая о начале трапезы. Рацион был сытным, пусть и не изысканным: густой овощной суп, иногда с нежными клецками; дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – к супу добавлялось мясо: варёная говядина, телятина или запечённая баранина с ароматными травами. По пятницам, как велел пост, ели рыбу – чаще всего золотистую спинку копчёного тунца с тушёным нутом или цветной капустой. Хлеб подавался в изобилии, с хрустящей коркой и пышным мякишем. Запивали пищу простой водой или пикетом – легким деревенским вином, полученным из выжимок, оставшихся после основного сбраживания.
По праздникам Бруно разгуливался: на столе появлялись дичь, домашняя птица с хрустящей кожицей, свинина, фаршированная пряной морковью и каштанами. А чтобы вся эта пирамида съестного улеглась в животах, гости мастерской – ученики, ремесленники, друзья – щедро посыпали еду молотым перцем. Его сыпали столько, будто желали сжечь огнём желудка всё, что только что проглотили.
Но вот что Бруно никак не мог взять в толк – как можно жить без мяса?
– Мессере, да вы же себе вредите! – уговаривал он Леонардо в который раз, выкладывая перед ним блюдо с ломтями розовой телятины.
– Бруно! – Леонардо вскинулся, лицо его порозовело, глаза сверкнули, как при ударе огнива о кремень. – Сколько можно повторять! Я не ем мяса – с детства не ем! Запомни это раз и навсегда. Моим ученикам можешь подавать что угодно. Но для меня – ни кусочка, ни капли!
Он резко отодвинул тарелку и прошёлся по комнате, не в силах утихомирить бушующее в груди негодование. Но когда говорил – голос его становился уже не гневным, а горестным, почти пророческим:
– Как можно вкушать то, что дышит, чувствует, смотрит на тебя живыми глазами?.. Как может человек, мечтающий о свободе, держать в клетке птицу, небо для которой – единственный родной дом? Как может он убивать тех, кто делит с ним это одиночество мира?
Он замолчал, сжал губы. Потом, опустившись на скамью и выждав, пока подадут простую миску бобов, проговорил уже тише, обращаясь не к повару, а ко всем:
– Мы – ходячие кладбища… мы живём, умерщвляя других. А ведь именно в бережности к жизни – нашей и чужой – начинается настоящее великодушие.
Он ел молча, с достоинством, присуще лишь тем, кто в ладу с собственной совестью. Потом, глядя на учеников, которые втайне преклонялись перед этой внутренней чистотой, мягко заговорил – теперь уже с той доброй ироничной улыбкой, что умела разрядить любую напряжённость:
– Мечтайте о невозможном, друзья мои. Вы рождены не просто для того, чтобы копировать то, что видите, но чтобы создавать нечто такое, чего ещё не существовало. Позвольте себе свободу мечтать широко – как небо над Арно. Живите так, будто каждый день – это полотно, на котором вы – творцы.
Он поднял взгляд к окну, за которым шумели листья старой оливы. День клонился к закату. Леонардо вздохнул. Его сердце было полно – и света, и тишины, и мысли, что и в этой земной трапезе есть место для небесного смысла.
Глава 7
Сегодня Флоренция блистала. Город с восхода погрузился в сияющий, многоголосый водоворот: праздновали День святого Иоанна Крестителя – самого почитаемого покровителя Республики, и никакое другое торжество не могло сравниться с этим по пышности, размаху и внутреннему жару. От утреннего неба над Арно до пыльных булыжников Виа дель Кальцо – всё дышало нетерпеливым ожиданием и праздничной гордостью.
Главным зрелищем была великая процессия – гордость гражданской и религиозной Флоренции. Впереди – трубачи и флейтисты в ярких ливреях, а за ними – карнавальные шуты, вышагивающие в диковинных колпаках и с бубенцами, искрящимися на солнце. Они создавали пролог шествия, за которым, в строгом и величавом ритме, следовали приоры, капитан народа, консулы цехов – каждый с высокой свечой, воск которой мерцал на жаре, будто бы сам огонь благоговел перед этим парадом человеческого достоинства.
Знамена развевались, как паруса свободы: над толпой реяли гербы ремесел, братств и приходов. Лошади – украшенные бархатными попонами, в золоченых уздечках, – гарцевали под звон всех колоколов города, и каждый шаг процессии сопровождался рукоплесканиями, восклицаниями, шепотом восхищения. Из окон, затканных пурпурными и лазурными коврами, свешивались лица горожан – женщины с венками в волосах, дети, свесив ноги и хлопая в ладоши, старики с благоговением крестились. Купцы и мастера стояли перед лавками, выложив на прилавки лучшее, словно это был судный день их ремесленного искусства.
На главной площади, где замирал ветер и замедлялось само время, возвышался балдахин – тканое небо, натянутое на высоте двенадцати метров, сверкающее золотом и синим шелком, как царское одеяние святого. Под ним, в Баптистерии Иоанна, начиналась торжественная месса – хор из лучших певчих Флоренции сливался в небесный гимн, словно ангелы спустились петь вместе с людьми.
А после – разгорячённые толпы бросались в другую стихию: скачки. «Бородатые» лошади – благородные, мощные животные с развевающейся гривой – мчались сквозь узкие улочки, соревнуясь за драгоценный приз: темно-красный штандарт с лилией в серебре и крестом на белом поле. В повозке, что завершала бег, восседали трубачи коммуны и изысканные дамы, чья улыбка была для победителя не меньшей наградой, чем сам штандарт.
Однако Леонардо не участвовал в этом всеобщем ликовании. За плотно прикрытыми ставнями его мастерской царила сосредоточенная тишина. Он работал. Перьевой карандаш шуршал по бумаге, кисть смешивала цвета на палитре, механический чертёж медленно рождался на пюпитре.
– Маэстро, – с удивлением спросил один из учеников, заглянув в тень мастерской, – отчего вы не празднуете? Вся Фьоренца поёт и пляшет, славя святого Иоанна!
Леонардо оторвал взгляд от листа, на миг задержался в тишине, а затем сдержанно произнёс, в голосе его прозвучала ирония и печаль:
– Иоанн Креститель, пророк пустыни, человек в меховой одежде и саранчой в пище, вряд ли мог бы обрадоваться такому расточительству, этим золочёным плащам, трубам, крикам и победным лошадям. Он был не триумфатор, а смиренный предтеча Мессии. Мне ближе то празднование, что некогда совершалось в честь солнцестояния, языческое и земное, связанное с Матушкой Природой, – он слегка улыбнулся. – Но я не вправе запрещать вам веселиться, если душа того требует. Мир вам. И радость – если она вам по сердцу.
Он вернулся к своему чертежу. А за окном всё ещё пел город – Флоренция, возлюбленная светом, шумом и ликующей многоголосицей. Но в мастерской рождалась другая музыка – тишина, прорезанная вдохновением.
Когда на город опускалась тишина, тяжёлая и густая, как чернильный мрак, и праздничный гомон окончательно угасал в переулках, а переполненные вином тела флорентийцев начинали дружно похрапывать в постелях, Леонардо облачался в чёрный плащ с глубоким капюшоном, затеняющим лицо, и, укрывшись тенью, покидал стены своей мастерской. Он двигался быстро, почти бесшумно, будто призрак, растворяющийся в изгибах ночных улиц.
В одном из карманов его плаща лежал свёрток – плотный, тяжёлый, как обострённая мысль, не отпускающая разум. В этом свёртке были аккуратно завернуты инструменты, пахнущие железом, воском и ладаном.
Его путь вёл к госпиталю Санта Мария Нуова – серому, молчаливому исполину, что высился на перекрёстке улиц, неподалёку от мастерской. Скрипнула задняя калитка госпиталя, и в проёме показалась сутулая фигура привратника – дрожащая свеча в руке выхватывала из тьмы его измятое лицо с багровым носом и мутными глазами, едва державшимися открытыми после всей этой святой пьянки.
– Доброй ночи вам, мессер Леонардо, – пробормотал он с хрипотцой, моргая и косясь по сторонам, словно ожидал, что сама Смерть притаилась за ближайшей колонной.
– Это тебе, как договаривались, – тихо произнёс Леонардо, протягивая несколько флоринов. – За молчание…
Сторож привычно взвесил одну монету на пальцах, цокнул ею о зуб, обнажив при этом редкие гнилые клыки, похожие на обломки древних руин, и тут же спрятал золото за пазуху с такой сноровкой, будто прятал вовсе не деньги, а отпущение грехов.
– Опять до самого рассвета, синьор? – сипло спросил он, бросая быстрый взгляд по сторонам и прикрывая задыхающийся голос воротником.
– Как всегда, – коротко ответил Леонардо, не замедлив шага.
Он вошёл внутрь, и за ним снова захлопнулась дверь. Тишина обволокла его, как саван. Полы госпиталя скрипели под ногами, пахло уксусом, травами, кровью и древним воском. В этом месте витал запах смерти – не пугающий, а необходимый, как запах земли для дерева.
Он знал дорогу. Всё здесь было ему знакомо: длинные коридоры, свет лампад в нишах, тихий стон за дверьми. Он проходил мимо, не отвлекаясь, не оборачиваясь. Вскоре он достиг нужной комнаты – без окон, с каменным столом посередине. В углу – таз с водой, пучок льняных полотенец и резные ящики с инструментами. В тени лежало тело – покрытое простынёй, без имени и истории, словно сама Природа отдала ему этот сосуд на изучение.
Леонардо подошёл и, не торопясь, развернул свёрток, выложил инструменты в строгом порядке, как оружие перед битвой. Взял свечу, наклонился над телом.
– Прости, – шепнул он, – я пришёл за истиной.
И ночь смежила с ним уста…
Накануне праздника, в самый разгар летнего дня, когда город готовился к пышному торжеству в честь Иоанна Крестителя, Флоренция застыла в мрачном зрелище – казни. Несмотря на грядущее ликование, утро было хмурым, и небо, затянутое пепельными облаками, словно само отвернулось от того, что должно было произойти.
Воров в ту пору водилось множество, и с каждым годом они становились всё дерзостнее. Теснота улиц, мешки на поясах, набитые мелочью, и отвлечённость горожан на базарах – всё играло им на руку. Законы же были безжалостны: от выкалывания глаза каленым железом – до верёвки и виселицы. Путь из тюрьмы Стинке, с её гнилыми стенами и крысами, к эшафоту был короток, но неизменно ужасен.
Казнимого вывели с первыми лучами солнца. Он шёл закованный в цепи, спотыкаясь, худой, как сама смерть, с испуганным лицом и полураскрытым ртом, в котором давно не было зубов. Путь от улицы Гибеллина до окраины был долгим, и вдоль него собирались толпы – мужчины, женщины, дети. Особенно дети. Они забирались на повозки, залезали на плечи отцов, чтобы получше разглядеть, как палач будет делать своё дело.
Толпа гудела, как улей, и в этом гуле слышались хохот, улюлюканье, даже ставки: «Задёргается ли? Сколько шагов пройдёт в воздухе?» Иногда казнь превращалась в ярмарку.
– Да он, глянь, даже не понял, что всё, – пробормотал кто-то рядом.
Наспех сколоченная виселица казалась неумолимее любого собора. Вор теребил петлю и моргал, как слепой, ловящий последние отблески солнца. Лицо его было по-детски испуганным. Он порылся под рубахой, вытащил медный крестик на потемневшей верёвке, торопливо поцеловал его, перекрестился. Палач подмигнул народу и, ухмыльнувшись, крикнул:
– А ну-ка, станцуй нам гальярду, сорви-голова! Повесели честной народ!
Смех пронёсся по рядам. И вор… действительно «заплясал». Судорожно, страшно. Его тело затрепетало, как кукла в руках злого ребёнка. Ноги вытягивались, затем скручивались, и лицо стало багровым, затем – тёмно-синим.
Леонардо стоял неподалёку. С поднятой бровью и напряжённым взглядом он быстро, но точно выводил линии в своём альбоме – профиль, изгиб шеи, положение кистей, складки на одежде, взгляд, обращённый в пустоту.
– Леонардо… что ты делаешь? – в голосе Лоренцо ди Креди звучали потрясение и недоверие.
Маэстро не сразу ответил. Закончив штрих, он повернулся и улыбнулся, но взгляд его был отстранённым.
– Я рисую. Я изучаю. Я наблюдаю, – тихо произнёс он. – Ты видишь перед собой смерть, а я – выражение всей человеческой драмы. Это тело – уже не человек. Это форма, обнажённая от души, – и всё же наполненная её последним эхом.
Лоренцо стоял, будто прибитый к мостовой. Его друг, тот самый, что с такой любовью рисовал лик ангела, сейчас, казалось, был холоднее самого палача.
– Но… ты ведь тоже христианин, Леонардо, – прошептал он, перекрестившись.
Леонардо положил руку на его плечо:
– А разве эта казнь не сотворена людьми? Художник – зеркало природы. И природа человеческая не только свет, но и тьма. Да, этот вор был, возможно, грешником, но в его лице, застывшем в ужасе, я увидел не только его самого. Я увидел тебя. Себя. Палача. Толпу. Страх. Гнев. Месть. Бессилие. Всё сразу.
Он замолчал, глядя на виселицу. Толпа уже начала расходиться, кто-то купил пряник, кто-то обсасывал косточку, кто-то рассказывал детям, как в другой раз палач промахнулся. Жизнь возвращалась в привычное русло.
– Мы с тобой, Лоренцо, можем писать ангелов, но до тех пор, пока не поймём, как выглядит умирающий человек, наш ангел будет бездушной куклой. Я не рисую смерть. Я рисую – правду.
…И вот сейчас, войдя в анатомический театр – или, как его называли простолюдины, покойницкую – госпиталя Санта Мария Нуова, Леонардо быстрым шагом подошёл к лежащему на каменном столе телу повешенного накануне вора. В помещении царила неподвижная тьма, разбавленная лишь масляным светом одинокой лампы, и удушливый, тягучий запах гнили ударил в лицо. Он повязал платок вокруг рта и носа, привычным жестом развернул принесённый свёрток: остро отточенные ножи, пилы, стальные иглы, нитки – инструменты, которые он сам разрабатывал, изобретал, совершенствовал. Тихо, как заклинатель, он заговорил с мертвецом, будто прося у него прощения за то, что сейчас произойдёт.
Он всё чаще приходил сюда – в это царство мертвых, где среди тишины и теней рождалась великая наука о живом. Здесь, в ночной тишине, он начал писать свою книгу – Trattato di Anatomia, анатомический атлас. Он знал: каждая минута его работы здесь – вызов догмам. Католическая церковь веками запрещала любое проникновение в тайны строения тела. Булла папы Бонифация VIII категорически осуждала даже касание костей, не говоря уж о полном вскрытии. Но Леонардо был не богослов, а художник, инженер, наблюдатель природы, и верил: «не может быть грехом то, что способствует знанию».
Разрез за разрезом, слой за слоем – он открывал тайны сухожилий, связок, суставов. Он хотел видеть, как изгибается локоть, как напрягается бедро, как закручивается мускул. Как рождается движение. Как устроен человек – не внешний облик, а подлинная его архитектура. Он заново конструировал тело, как строил бы замок: с точными пропорциями, системами уравновешивания, инженерной логикой.
Он понимал: анатомия, которую преподают в университетах, – ложь, построенная на вторичных источниках, на переписанных текстах Галена и Авиценны. В Падуе, Болонье, Ферраре профессор читал с кафедры – читал с пафосом, с ударениями на латинских словах, – но ни разу не прикасался к ножу. Вскрытие производил цирюльник, молча, как слуга. И каждый трактат, каждая лекция напоминала игру в глухой телефон – искажение истины, мнимое знание. Леонардо же стремился к первоисточнику – к телу.
Он вспоминал, как в Болонье, в 1319 году, четверых учёных приговорили к смерти за то, что они осмелились разрезать труп на дому. Как в Венеции разрешалось вскрывать один-единственный труп в год – как будто природа даст себя узнать в таком скупом жертвоприношении. А он уже вскрыл тридцать тел. Не ради любопытства. Ради познания.
Его пальцы, чуть дрожащие от возбуждения, касались сосудов, рассекали кожу, отслаивали хрящи, распиливали кости. Он, как алхимик, добывал знание из плоти. Он писал, зарисовывал, комментировал: каждый нерв, каждую мышцу, каждый изгиб. Он отмечал то, что раньше не видели. Он не верил чужим словам. Он верил глазу и руке.
«Лишь тот, кто видел сам, имеет право говорить», – твердил он себе.
Леонардо не чувствовал ужаса. Лишь благоговейную сосредоточенность. В этом помещении с тяжёлым воздухом, среди мёртвых, он чувствовал себя ближе к жизни, чем где бы то ни было. Здесь природа раскрывалась ему, будто доверяя сокровенное. И он знал – однажды эти знания спасут тысячи жизней. А пока… пока он должен писать. Зарисовывать. Исследовать. Смотреть. Пока сердце человечества ещё стучит – пусть и в теле, давно лишённом своего биения.
Усердно работая, Леонардо делал короткие остановки. Он вытирал руки от крови и обильный пот со лба, и то делал детальные зарисовки мышц, костей, сосудов, то быстро записывал своей демонической левой рукой, что неустанно вела перо справа налево:
«И если скажешь, что лучше заниматься анатомией, чем рассматривать подобные рисунки, ты был бы прав, если бы все эти вещи, показываемые в подобных рисунках, можно было наблюдать на одном теле, в котором ты, со своим умом, не увидишь ничего и ни о чем не составишь представления, кроме разве как о нескольких жилах, ради которых я, для правильного и полного понятия о них, произвел рассечение многих трупов, разрушая все прочие члены, вплоть до мельчайших частиц уничтожал все мясо, находившееся вокруг этих жил, не заливая их кровью, если не считать незаметного излияния из разрыва волосных сосудов; и одного трупа было недостаточно на такое продолжительное время, так что приходилось работать последовательно над целым рядом их для того, чтобы получить законченное знание; что повторил я дважды, дабы наблюсти различия».
В своих многочисленных записях он писал:
– Помню, при вскрытии тела недавно казненной беременной женщины, меня поразило положение зародыша в материнской утробе, и я тут же составил рисунок этого состояния. Меня не отвращали ни застоявшаяся кровь, ни тошнотворный запах гнили, я был сосредоточен на изучении человеческого тела, наблюдая и анализируя как анатом.
— В то время как большинство художников моего времени расценивали анатомию в качестве инструмента для своих рисунков, я больше интересовался пониманием работы, совершаемой человеческим телом. Вскоре, незаметно для себя, я начал любоваться каждым объектом своих опытов, плодом природы, и прославлять его за удивительное совершенство пропорций. Как же величественна природа – во всем ее разнообразии и чувстве меры! Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод…
Бесчисленные эскизы и наброски Леонардо фиксировали мимику, жесты, позы, движения людей в самых разных эмоциональных состояниях. Иногда он приводил в мастерскую карликов, горбунов, людей с необычными физическими особенностями и с увлечением рисовал их с натуры, словно пытаясь разгадать тайну формы, сокрытую в аномалии.
Однажды, войдя к нему в мастерскую, Лоренцо ди Креди, истинный католик и его верный друг, с тревогой в голосе заговорил:
– Леонардо, мне страшно за тебя. То, чем ты занимаешься по ночам, небезопасно. Вскрытие тел – это не просто дерзость, это святотатство, богохульство, смертный грех. Скажи… это проявление твоей холодной бесчувственности или всего лишь очередное научное исследование?
Леонардо тяжело вздохнул и, на мгновение прикрыв глаза, ответил:
– Лоренцо… друг мой… я и сам не знаю ответа. Во мне живут два человека. Один – тот, которого вы все знаете: приветливый, остроумный, подверженный обычным слабостям. А другой… другой – странный, скрытный, незримый, который говорит со мной во сне и наяву, отдает приказы, требует: «Нарисуй это. Покажи в своём сочинении. Докажи». И я, словно раб, повинуюсь.
Лоренцо посмотрел на него пристально:
– По городу ходят слухи, Леонардо. Говорят, ты человек без сердца. Видят – красивый, изысканный, элегантный, в необычных одеждах, с манерами придворного. Но в тебе есть что-то пугающее. Люди замечали тебя на безлюдных улочках в ночной час, когда даже кошки боятся вылезать из подвалов. Добропорядочный флорентиец в это время сидит дома, как велят законы Магистрата. А ты – гуляешь, будто ты сам себе закон. Они боятся тебя. Они шепчут, что ты колдун. Что ты заключил сделку с дьяволом.
Он замолчал на миг, а потом добавил, понижая голос:
– Скажи, что думать человеку, когда он видит, как ты на рыночной площади, на спор, сминаешь подкову кобылы голыми руками? Да еще – правой, хотя все знают: ты пишешь и рисуешь левой, и можешь одинаково ловко писать обеими руками. Ты способен одновременно писать двумя руками два разных текста. Левой – справа налево, словно зеркало. Но кто диктует тебе эти слова, Леонардо? Кто водит твоей рукой?
Леонардо молчал.
– А что ты вчера говорил толпе? – продолжал Лоренцо. – Что хочешь создать крылья, чтобы летать, как птица? Что хочешь идти по воде, как Христос? Или передвигаться по дну моря, как рыба? Это уже не наука – это безумие. Люди этого боятся.
Он вдруг вспомнил еще один образ и выдал его с упрёком:
– А еще ты покупаешь голубей на Понте-делла-Карайя, платишь за них серебро и… выпускаешь. Люди не понимают, зачем. Стоишь, смотришь, как они улетают в небо, будто прощаешься с душой, улетающей в вечность.
Леонардо повернулся к нему и спокойно, почти грустно произнёс:
– Ни ты, Лоренцо, ни кто-либо из них – ни один человек – не понял, что я просто… свободный. Свободный, но бесконечно одинокий художник. Я спешу увидеть, услышать, познать, созерцать и созидать то, что мне даровано. Но моё творчество – не для толпы.
– Вот я и говорю, что ты отворачиваешься от людей, Леонардо!
– Нет, Лоренцо… Это они отворачиваются от меня. Они смотрят – и не видят. Слушают – и не слышат. Они живут, но не присутствуют. Я зову их – молчат. Пою им – не слышат. Одариваю цветами – топчут. Учу их наблюдать, анализировать, думать – они бегут в страхе. Они плывут в мутных, темных водах своего времени. А я… я просто пытаюсь зажечь для них хоть один луч.
Глава 8
Среди учеников Леонардо, живущих с ним в одной мастерской, были подающие надежды молодые люди, обладающие сильной индивидуальностью. Хотя и им было свойственно лениться. Леонардо, замечая эти проявления, любил рассказывать им прелестные, поучительные басни собственного сочинения. Вот одна из них:
– Бритва, выскользнув однажды из рукоятки, которую она превратила себе в ножны, и, раскинувшись на солнце, увидела, что солнце отражается в
