Лекции об искусстве бесплатное чтение
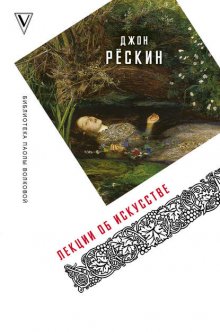
В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а так же изображения по лицензии Shutterstock.
© «Издательство АСТ», 2019
К первому изданию
1. Толчком к возникновению труда, который я предлагаю в настоящее время на суд публики, послужила поверхностная и ложная критика, которую мы ежедневно встречаем в периодических изданиях по отношению к произведениям великих современных художников; этих художников, главным образом, и касается моя работа. Сначала я имел в виду написать небольшую брошюру, чтобы высказать осуждение этим критикам за их поведение и манеру, а также указать на опасность, которая грозит нам благодаря тенденции этих руководителей общественного вкуса. Но по мере того, как пункт за пунктом выяснялись доводы, я почувствовал, что принужден изменить свое первоначальное намерение. Из того что сначала было только письмом к издателю «Обозрения», получилось нечто в роде трактата; я был обязан придать ему больше связности и полноты, отстаивая в нем такие мнения, которые ординарному знатоку покажутся еретическими. Не знаю, не следует ли мне назвать свой труд «Опытом пейзажной живописи» и извиниться за обилие ссылок на творение специально одного художника или, называя свой труд критикой отдельных произведений, извиниться за пространное рассмотрение общих принципов. Но как бы ни смотрели на мою работу, мотивы, которые побудили меня взяться за нее, не должны быть истолкованы ложно. Ни забота о славе какого-нибудь художника, ни личные какие-нибудь чувства не имели ни малейшего значения для меня, не оказали на меня никакого влияния. Репутация великих художников, на произведения которых я, главным образом, ссылался, зиждется на слишком законных основаниях в глазах тех, чье поклонение достойно уважения, поэтому ее не могут поколебать саркастические насмешки невежд, претенциозные и аффектированные. Но когда вкус публики с каждым днем падает все ниже и ниже, когда печать употребляет все могущество, которым она располагает, на то, чтобы направить национальное сознание на все театральное, аффектированное и фальшивое в искусстве, когда она расточает свое сквернословие на самые возвышенные истины, на идеальнейший пейзаж, какой только видели наш и другие века, – в это время для каждого, кто чувствует и понимает истинно великое в искусстве, кто желает прогресса его в Англии, священнейший долг заключается в том, чтобы смело идти вперед; мы должны пренебречь теми частными интересами, которым может повредить познание хорошего и верного, должны всюду, где только возможно, открывать и выяснять сущность и важное значение Прекрасного и Истинного.
2. То, что может показаться возмутительным или пристрастным при выполнении моей задачи, зависит не от характера моей работы, но от ее неполноты. Я не брался за систематическую критику всех современных художников. Я иллюстрировал каждое специальное качество, каждую истину искусства теми творениями, в которых они проявились в наиболее высокой степени. Я довольствовался сознанием того, что если люди в одном случае правильно поймут эти качества и истины и научатся находить в них прелесть, они сумеют также открыть и оценить их всюду, где бы эти свойства ни встретились. Я всегда был уверен в существовании превосходства одного художника над другим; такой взгляд, по моему мнению, основан на истине и необходим для понимания истины. Однако я всегда остерегался унижать установившийся ранг известного художника и подвергал рассмотрению только его относительный ранг. Мое единственное желание и цель заключались не в том, чтобы уменьшить поклонение пред нынешними любимцами, а в том, чтобы возвысить поклонение пред теми, кто находится в настоящее время в пренебрежении. Я знаю, что возрастающее понимание и сознание истины и красоты, хотя оно может столкнуться с нашею оценкой сравнительного достоинства художников, неизменно увеличивает наше поклонение пред всеми истинно великими художниками. И тот, кто ставит Стенфилда и Колькотта выше Тернера, будет поклоняться Стэнфильду и Колькотту еще более, чем теперь, если он научится ставить Тернера выше их.
3. Только в трех случаях я отрицательно отнесся к произведениям современных художников. Но в этих трех случаях репутация художников утвердилась слишком прочно и в слишком широких сферах, чтобы пострадать благодаря суждению отдельного человека, и при том они дают право на это заслуженное им порицание тем, что осквернили высшие свои способности.
О старых мастерах я говорил гораздо свободнее. Но не следует забывать, что настоящая книга – только часть моего труда. В этой специальной части, говоря о специальных качествах, я мог делать несколько низкую оценку. Но из этого не следует заключать, будто я не сознаю других достоинств, понимание которых может обнаружиться только в следующих частях моего труда. Пусть не приписывают мне других намерений и мыслей, кроме тех, которые заключаются в моих словах, пусть не делают меня ответственным за выводы в тех случаях, когда я устанавливал только факт. Я сказал, например, что старые мастера не передавали правды природы. Если читатель пожелает сделать из этого вывод, что они вообще не были мастерами, это будет вывод его, а не мой.
4. Все положения, заключающиеся в этом труде, я старался построить исключительно на таких аргументах, которые должны держаться твердо или рушиться вследствие своей собственной силы; они должны заключать в себе указания на авторитеты и личности не больше, чем доказательства Эвклида. Впрочем, публике следует знать, что автор не только теоретик; он с ранней юности усердно занимался искусством и на практике.
Все общие утверждения о старых школах пейзажной живописи основаны на тщательном ознакомлении со всеми значительными произведениями искусства от Антверпена до Неаполя. Но когда желательно тщательное и непосредственное сравнение с произведениями, имеющимися в нашей академии, было бы бесполезно ссылаться на детали римских и мюнхенских картин, и было бы невозможно, говоря о картинах частных галерей, одновременно остаться справедливым по отношению к их владельцам и сохранить свободу по отношению к публике. Поэтому для иллюстрации тех выводов, которые я делал, насколько это было в моих силах, я ссылался на произведения Национальной и Дёлльвичской галерей.
5. В заключение я должен извиниться за несовершенство произведения, которое я хотел бы довести до конца только после многолетних размышлений неоднократного пересмотра. Благодаря тому, что я сознаю необходимость такого пересмотра, я решился предложить только часть своего труда. Но эта часть сама по себе есть законченное произведение и направлена специально против вопиющего зла, которое требует немедленного лекарства. Удастся ли мне вполне осуществить свое намерение, будет отчасти зависеть от того, как встретят настоящую книгу. Если ее припишут отвратительным побуждениям, желанию содействовать успеху частных интересов, то мало хорошего можно ждать от дальнейших усилий. Если же, напротив, будут поняты истинный смысл и цель этой книги, тогда я не побоюсь никаких трудов для выполнения той задачи, которая может, хотя бы и в слабой степени, помочь делу истинного искусства в Англии; осуществление этого намерения поселит уважение к тем великим современным мастерам, которых мы презираем и поносим для того, чтобы нашептывать наши льстивые речи в уши Смерти и славить нашими кликами тех, кто не требует нашей хвалы и пренебрегает нашею благодарностью.
АВТОР
Предисловие ко второму изданию
1. Все самые выдающиеся писатели признали следующую истину в военной и морской тактике. Атака, которая производится постепенно отдельными дивизиями, требует существенного превосходства сил со стороны атакующего и такого сознания своего превосходства, которое дало бы мужество первым колоннам или передовому кораблю устоять в течение известного периода времени против подавляющего численностью неприятеля. Но, зато эта атака, если только стойко поддержать ее, гарантирует полное уничтожение противника. Я убежден в истинности, a вследствие этого в конечном торжестве и победе тех принципов, которые взял под защиту; равным образом я верю, что важность дела должна придать силу ударам каждого, даже самого слабого из его защитников. Поэтому я поддался несколько поспешному, пылкому желанию ринуться с каким бы то ни было риском в самую свалку и начал битву только с частью и при том с самой слабой, наименее значительной частью тех сил, которые находятся в моем распоряжении. И смело предложив публике настоящий том, я вижу теперь, что его положение сходно с положением короля при Трафальгаре, когда он один, без поддержки, встретил огонь половины неприятельского флота. Непредвиденные обстоятельства мешали до сих пор, и еще некоторое время не дозволят, принять участие в деле моим более тяжелым линейным кораблям. В первые моменты борьбы я с некоторым беспокойством следил за одиноким судном. Теперь я больше не ощущаю этой тревоги: знамя истины ярко развевается над дымящимся полем сражения, и мои противники, устремившие все внимание на разрушение моего передового корабля, потеряли свою позицию и, беззащитные, смятенные, открыли свой фронт атаке следующих колонн.
2. Впрочем, хотя у меня нет оснований раскаиваться в своем поспешном наступлении, поскольку дело касается окончательного исхода битвы, тем не менее я должен признать, что эта поспешность вызвала много недоразумений и несколько уменьшила влияние настоящего труда. Правда, он встретил такой прием, о котором я мечтал только в моменты самого разгара пылкой веры; правда, я с удовольствием узнал, что в некоторых случаях истинность провозглашенных мною принципов, благодаря силе убеждения, стала очевидной; даже в тех случаях, где моя книга не оказала другого влияния, она возбудила интерес, навела на вопросы, дала толчок к правильному и свободному сопоставлению искусства и природы. Несмотря на все это, влияние настоящего труда было бы еще сильнее, если бы, как это, по-видимому, случилось со многими читателями, не возникло предположение, что эта книга – законченный трактат, заключающий в себе систематическое изложение всех моих взглядов на современное искусство. Меня поражает, что при такой точке зрения книга могла возбудить хоть малейшее внимание. В самом деле, разве можно отнестись с уважением к писателю, который имеет претензию критиковать и классифицировать произведения великих пейзажистов и при этом не развивает ни одного из принципов прекрасного или возвышенного, даже не делает намека на них? Это – не целый трактат, это – не более как введение к массе доказательств и иллюстраций, которые я представлю впоследствии. Здесь говорится только о первой ступени искусства, устанавливаются только элементарные правила критики, рассматриваются только те достоинства, которые достигаются точностью глаза и верностью руки; рассмотрение всякого отдельного качества той или другой картины, всего хорошего, что внушается чувством, всего великого, что руководится мышлением, я отложил до будущего времени. Цель и назначение этой книги менее всего должны были подвергнуться ложному толкованию: я не только в самом начале тщательно определил свой предмет, но на протяжении всей книги не раз ссылаюсь на те сочинения, которые должны последовать за нею; в них я постараюсь указать значение и ценность тех явлений внешней природы, которые до сих пор я принужден был описывать, не останавливаясь на их красоте и выводах, вытекающих из них.
3. Быть может, читатели простят мне, если я, желая устранить на будущее всякие недоразумения, займу их время подробным изложением тех чувств, с которыми я предпринял эту работу, остановлюсь на ее общем плане, а также на тех заключениях и положениях, которые я надеюсь в результате вывести и доказать.
Едва ли в чем-нибудь проявляется столько глупости, невежества и наглости, как в стремлении уменьшить славу тех, кого возвело на трон единодушное признание целого ряда поколений. Истинно великие люди последующих эпох, почти без исключения, воспитали в других то благоговение к гениям прошлого, которое они ощущали в себе самих. В своем полном смирении они довольствовались тем, что занимали место у ног людей, чья слава была озарена седыми веками, и думали о том времени, когда над их собственными главами скопится свет дней, удалившихся в вечность, и явится сияние, которое становится все более лучезарным, по мере того как оно отдаляется. Застрельщиками нападения обыкновенно бывают завистливые и бездарные; они рады, если, подобно земной грязи, им удается обратить на себя внимание хотя бы своею зловредностью или, подобно насекомым, стать заметными благодаря своей ядовитости. При бесплодных усилиях унизить покойных зависть скверных людей и наглость невежд иногда раскрываются во всей своей наготе. Но хорошо было бы обсудить, не удается ли этим людям более успешно унижать живых и избегать при этом обличения, не остается ли без отплаты такое же зло, без обнаружения такое же ничтожество при несправедливом унижении живых и несправедливом возвышении умерших сил, как это бывает тогда, когда хулители вступают на менее безопасный путь, когда этих критиков можно поставить рядом с Нероном и Калигулой, с Зоилом и Перро[1]. Следует помнить, что истинный характер злословия обнаруживается только тогда, когда оно не имеет успеха и остается безнаказанным именно тогда, когда наносит величайший вред. Нельзя не признать одинаково возможной опасность того, что появление новых звезд может быть скрыто невидимыми туманами, как и того, что горящие в небесах звезды могут быть затемнены видимыми облаками.
4. Боюсь, что в сердцах большинства людей столько злости, что они обнаруживают главным образом скаредность в тех похвалах, которые могут принести величайшее удовольствие, и весьма щедры на похвалы, когда они не могут более доставить радости. Люди не жалеют белил для гробниц; какой бы славой ни окружали их, бесчувственный труп не может стать предметом зависти. Но они жадно прячут ту славу, которая может содействовать счастью или помочь благосостоянию. Они рады прослыть благородными и смиренными, вознося с этой целью тех, кого не достигнет хвала, и избавляясь от более тягостной необходимости – принести дань поклонения живому сопернику. Они охотно отстаивают превосходство, живущее только в воображении. Это дает им возможность утверждать, что современные творения ниже прошедших, и отвлечь внимание от той нежелательной для них истины, что эти выше других современных произведений. Это же чувство зависти скрывается в нашем отношении к отрицательной критике. Люди обыкновенно находят больше удовольствия в критике, которая наносит вред, чем к той, которая безвредна, и проявляют больше терпимости к строгости, разбивающей сердца и счастье, чем к той, которая бессильно падает на могилы.
5. Хорошо выразился в этом смысле добрый и глубоко мыслящий Ричард Гукер: «Лучшим и умнейшим людям при жизни мир всегда оказывал суровое противодействие. Тщательно выискивая их недостатки и пороки при жизни, он впоследствии столь же горячо преклонялся пред их достоинствами. И часто поэтому качества, заслуживающая поклонения, не встретили бы даже благосклонного к себе отношения, если бы обладатели этих качеств не заявляли себя скромно учениками и последователями великих предшественников. В самом деле, люди не захотят и слушать, будто мы умнее наших предков» (кн. V, гл. VII. 3). Поэтому тот, кто пожелал бы защищать достоинство современников пред достоинством предков, возбудил бы против себя все классы: людей благородных – потому что они не нашли бы в установившихся репутациях того, что заслуживает порицания, завистливых – потому что им противен звук похвал по адресу живых людей; мудрых – потому что они предпочитают мнение столетий тому, которое создано днями; безрассудных – потому что они не способны составить собственное мнение. Столь единодушный отпор отобьет у всякого охоту рисковать; те немногие, которые стараются идти против течения, имея в виду свои собственные произведения, заслуживают презрения, которое бывает их единственной наградой. И не следует жалеть о таком взгляде общества. Он оказывает благотворное влияние на успех и сохранение всего, касающегося техники, всего, что можно сообщать другим. Уважение к предкам есть спасение искусства, хотя оно иногда ослепляет нас относительно своих целей. Оно увеличивает силы художника, хотя уменьшает его свободу. И если оно по временам мешает нашей изобретательности, то гораздо чаще оно является предохранителем против излишней смелости. Вся система и дисциплина искусства, коллективные результаты векового опыта, если бы не установленный авторитет предков, могли бы быть сметены вихрем моды или погибнуть в ослепительном блеске новинок. Знания, которые с трудом накоплялись веками, принципы, до которых мощные мыслители доходили только к концу жизни, могут быть ниспровергнуты мятежным безумием и забыты в момент наглой дерзости.
6. Убеждение в превосходстве предшествующих творений по своей распространенности не только полезно, но и справедливо. Большинство этих творений бывает и должно быть неизмеримо выше, чем произведения данного времени. В самом деле, все, что есть лучшего в творчестве четырех тысячелетий, в своем целом, конечно, стоит вне всякой конкуренции по сравнению с созданиями каждого данного поколения. Но тем не менее необходимо помнить следующее. Невероятно, чтобы некоторые, и невозможно, чтобы все предшествующие произведения, хотя бы даже величайшие из них, достигли безусловного совершенства. Нам всегда останется кое-что для продолжения и усовершенствования. Каждое поколение имеет столько же шансов произвести сильный первоклассный ум, как и предшествующие. И если подобный ум явится, то существует вероятность, что с помощью опыта и образца он на специально избранном пути создаст творения выше прежних.
7. Вследствие этого мы должны быть осторожны и не терять из виду действительной пользы того, что оставлено нам прошедшими временами, и не считать за образец совершенства то, что в некоторых случаях только направляет к нему. Картина, цель которой – истолкование природы, не имеет цены, но картину, которой имеется в виду заменить природу, лучше сжечь. Молодой художник должен с ужасом отвернуться от иконоборца, который пожелал бы отнять у него всякую путеводную нить и свет, завещанные предками, и оставил бы его умышленно в ребяческом состоянии. Но равным образом молодой человек должен знать, что предательски поступит с ним и тот, кто передаст ему свое знание, все силы прошедших времен, a затем свяжет его собственную силу, остановит ее развитие и обратит его взоры назад, на избитые пути, кто протянет покрывало между ним и небесами, кто поставит традицию между ним и Богом.
8. Этого одностороннего учения следует опасаться тем более, что все высшее в искусстве, все, относящееся к творчеству и фантазии, каждый художник образует и создает самостоятельно; в этом отношении не может быть повторения или подражания. О достоинствах начинающего писателя мы судим не столько по сходству его произведений с прежними, сколько по их отличию от тех. Мы, правда, советуем ему при первых опытах иметь в виду известные образцы, но это относится к второстепенным пунктам – либо к версификации, либо к расположению частей, либо к способу передачи; его же самого мы не признаем великим, пока он, разорвав с своими образцами, не двинет вперед сам и версификацию, и расположение, и способ передачи.
9. Я считаю необходимыми чтобы современные критики имели особенно в виду три пункта. Во-первых, немного, очень немного есть произведений прежнего времени, даже среди самых лучших, которые бы не имели легко заметных недостатков в том или другом отношении или не допускали усовершенствования при дальнейших стараниях; всякий народ, может быть, всякое поколение, обладает, по всей вероятности, некоторыми специальными дарами, особым складом ума; это дает возможность ему создать нечто лучшее, чем прежние творения. И если только искусство – не выдумка, не фабричное изделие, секрет которого утерян, то величайшие умы существующих народов, если они проявят то же усердие, ту же страсть, те же честные стремления, что и умы прошлого, имеют все шансы на то, чтобы создать столь же великие произведения, и даже еще более великие и лучшие, так как они могут с выгодой воспользоваться прежними образцами. Трудно постигнуть, при помощи каких логических законов некоторые критики предлагаемого трактата истолковали его первое суждение в смысле отрицания этого принципа, того отрицания, которое неизменно сквозит в их собственной односторонней и поверхностной критике современных произведений. Я сказал: «Все, что освящено вековым поклонением народов, обладает всегда в высокой степени каким-нибудь истинным достоинством». Следует ли отсюда, что оно обладает всеми достоинствами в наивысшей степени? «Таким образом, – восклицает мудрый критик, – он допускает тот факт, против которого сам главным образом восстает, именно допускает превосходство этих чтимых веками произведений», как будто обладание достоинствами известного рода и в известной степени неизбежно включает в себя обладание несравненными достоинствами всех родов. Немного есть столь совершенных человеческих произведений, который бы не допускали даже мысли о возможности быть превзойденными. Существуют тысячи произведений, которые народное поклонение освящало в продолжение столетий и будет освящать также в следующие века, но эти произведения все-таки несовершенны в некоторых отношениях, и, конечно, можно превзойти их творцов. Или мои оппоненты хотят сказать, что хорошее не может быть никогда улучшено, и то, что является наилучшим в прошедшем, вместе с тем есть наилучшее во все времена? Перуджино, по моему мнению, обладает многими истинными достоинствами, но Рафаэль превзошел Перуджино. Клод имеет много преимуществ, но из этого не следует, что его не мог превзойти Тернер.
10. Второй пункт, на котором я настаиваю, заключается в следующем. Если бы появился такой могучий дух, который мог бы произвести равные или высшие творения, чем величайшие создания прошлых веков, то произведения этого ума совершенно бы отличались от всех прежних как по форме, так и по содержанию. Чем более велик интеллект, тем менее его произведения похожи на творения других людей, все равно – являются ли они его предшественниками или современниками. Благодаря этому обыкновенно думают, что произведение, не подходящее под священные законы, установленные до него, должно быть ниже других и ошибочно в принципе. Но такое соображение неверно. Скорее следовало бы признать, что именно, благодаря своему особенному характеру это произведение заключает в себе новый, быть может, высший закон. Если какое-нибудь произведение нашего времени имеет за собою авторитет природы и основано на вечных истинах, тогда его полное различие со всем предшествующим скорее говорит в его пользу и служит доказательством его силы[2].
11. Третий пункт, на котором я настаиваю, состоит вот в чем. Если бы явился такой дух, он сразу разделил бы весь критический мир на две партии: одна неизбежно, более многочисленная и крикливая, образовалась бы из людей, составляющих свое суждение только на основании прецедентов, не способных понять истину в ее целом и постигающих только такие специальные истины, которые можно иллюстрировать или доказать только при помощи прежних произведений; эти люди, конечно, станут неистовствовать в своих нападках; их злоба будет расти по мере того, как художник будет все более удаляться от их специальных, давно установленных и священных для них законов, по мере того как он будет наносить все большие раны их тщеславно, опровергая их суждение. Другая группа людей, меньшая числом, людей с широкими знаниями, свободных от предрассудков и предвзятых суждений, увидит в творении отважного новатора изображение и иллюстрацию фактов, до него еще не отмеченных. Эти люди справедливо и искренне определят ценность переданных таким образом истин; энтузиазм их будет расти по мере того, как учитель их будет все дальше, все глубже и отважнее погружаться в области, дотоле неисследованные и неведомые; и число этих людей будет уменьшаться с увеличением их восторгов. Действительно, чем порывистее становится шествие их вождя, чем стремительнее он в своем успехе, чем выше в своих поисках, тем меньше число лиц, способных следовать за ним. Допустив, наконец, что в его поступательном движении не будет остановки, мы должны предположить, что в кульминационный момент, в апогее своей работы он будет покинут почти всеми; только немногие останутся верны ему; бывшие ученики отпадут от него; число и ядовитая злоба врагов удвоятся; свидетельством его верховенства останется серьезное изучение открытых и переданных им истин, которому будут посвящены много человеческих жизней.
12. Такой дух явился в наши дни. Он приобретает все новые и новые силы, открывая области, которые он сам специально завоевывает. Он вызвал раскол в критических школах как и следовало предвидеть; теперь он в зените своего могущества и, как следствие этого, в последнем фазисе своей гибнущей популярности.
Я знаю это и могу доказать. Всякий человек, говорит Соути, постигнув какую-нибудь великую истину, не может не почувствовать в себе способности и желания сообщить ее другим. Провозглашая и доказывая первенство этого великого художника, я одновременно сослужу службу делу истинного искусства и получу возможность иллюстрировать некоторые правила пейзажной живописи, которые всюду применяются, но до сих пор не признаны.
Я не рассчитываю произвести что-нибудь вроде непосредственного действия на общественное сознание. «Мы заблуждаемся, говорит Ричард Бакстер, – насчет человеческих болезней, когда думаем, что для излечения их от заблуждений нужно только сделать очевидной истину. Увы! Нужно устранить некоторые изъяны ума, прежде чем представлять им эту очевидность». Тем не менее, представив им ее, я исполню свой долг. Убеждение явится в свое время.
13. Я не считаю нужным обращаться или иметь дело с ординарными критиками прессы. Их статьи не руководители, а только выразители общественного мнения. Человек, пишущий для газеты, естественно, по необходимости старается, насколько он может, идти навстречу чувствам большинства своих читателей. От этого зависит его кусок хлеба. Лишенный по самой природе своих занятий возможности приобретать какие бы то ни было сведения в искусстве, он уверен, что может прослыть сведующим, выражая мнение своих читателей. Он предает посмеянию картину, мимо которой равнодушно проходит публика, и осыпает похвалами те полотна, которые теснящаяся возле них толпа скрывает от него.
Писатели, подобные нынешнему критику «Magazine» Блэквуда[3], заслуживают большего уважения, того уважения, которое принадлежит честному, безнадежному и беспомощному слабоумию. Есть что-то возвышенное в безвредности их слабоумия; нельзя заподозрить их в партийности, потому что последняя предполагает чувство, или в предубеждении, потому что оно требует некоторого предварительного знакомства с предметом. Я не знаю, можно ли указать, даже в наш век шарлатанства случай более наглого надувательства публики, чем появление этих критических произведений в почтенном периодическим издании. Я не столько был бы возмущен, если бы человек, не знающий нот, стал судить о музыке, или не знающий азбуки, стал писать трактат по филологии. Но тут одна страница за другой исписаны критикой; вы можете прочесть их все от начала до конца, желая доискаться каких-нибудь знаний автора, и не найдете ничего. Он не знает собственного языка, потому что принужден искать, по собственному признанию, в словаре то слово, которое встречается в одной из важнейших глав Библии; не имеет обыденнейших сведений относительно школ: ему неизвестно, почему Пуссен был назван «ученым»[4]; не знает символов веры искусства, так как предпочитает Ли Гейнсборо[5], не знает обыкновеннейших явлений природы, потому что он становится в тупик от слова «серебро», когда оно применяется к цвету апельсина; очевидно, серебро рядом с апельсином он может представить только в виде ложки. Мы не можем также сделать заключений насчет его достоинства из каких-нибудь свидетельств внутреннего свойства. Он откровенно заявляет, что изучал деревья только в течение последней недели и основывает свое замечания главным образом на практическом испытании свойств березы. Более бескорыстный, чем наш друг Санчо, он готов разубедить публику в обаятельности Тернера, ссылаясь на достоинство сечения, которому его самого подвергали. Подобно Ксантиасу, он хотел бы отнять бессмертие у господина силой собственной выносливости. Что же делает Христофор Норт? Берет ли он свою критику из Итона и Гарро, основываясь на разорении гнезд и его последствиях? При всей моей снисходительности к Мага я предостерегаю ее: хотя характер этой книги не позволяет мне тратить время на обличение, но наступит момент, когда публика сама сумеет отличить болтовню от рассуждения и потребует в критике искусства несколько лучших и высших качеств, чем знания школьника и способности шута.
14. Я употребил годы труда на развитие принципов, на которых основаны великие произведения нового искусства. Я сделал это не только для того, чтобы защищать репутацию тех, кого поносят критики вроде упомянутого выше. Это бы значило только предупредить естественную и неизбежную в недалеком будущем реакцию общественного сознания. Я имел в виду высшую цель, которая одна может оправдать меня и в том, что я принес в жертву свое время, и в том, что я призываю читателей следовать за мною в этом исследовании; оно слишком трудно, чтобы наградой могло послужить только понимание достоинств отдельного художника или духа одной эпохи.
Существует один вопрос, который, несмотря на претензию Живописи называться сестрой Поэзии, кажется мне очень спорным, именно вопрос о том, обладало ли искусство когда-нибудь, кроме самого раннего и грубого периода, каким-нибудь фактическим нравственным влиянием на человеческий род. Лучше та эпоха Рима, когда «magnorum artificum frangebat pocula miles, ut phaleris gauderet equus», чем та, когда стены блистали мрамором и золотом «nec cessabat luxuria id agere, ut quam plurimum incendiis perdat». Лучше эпоха религиозности в Италии, пред тем как Джотто нападал на варваризм византийских школ, чем та эпоха, когда живописец Страшного суда или ваятель Персея сидели рядом на пиру. Мне кажется, что грубый символ чаще и действительней, чем утонченный, трогал сердца; и когда картины возвысились до степени художественных произведений, на них стали смотреть с меньшим благоговением и с бóльшим любопытством.
15. Но как бы то ни было, какое бы влияние ни признавали мы за великими произведениями святого искусства, в одном не может быть никакого сомнения: именно в полной бесполезности всего того, что было до настоящего времени создано пейзажистами. Их творения не отвечали никаким нравственным целям, не несли никакого прочного добра. Они могут развлечь ум, дать пищу человеческой изобретательности, но они никогда ничего не говорили сердцу. Из пейзажной живописи мы не извлекли ни одного глубокого и священного урока. Она никогда не сохраняла для нас проходящего, не проникала в сокровенное, не истолковывала темного; она не заставляла нас чувствовать дивной красоты, величия и славы Вселенной; она не возбуждала в нас религиозного восторга, не наполняла нас благоговейным чувством; ее способность волновать и возвышать душу роковым образом употреблялась во зло и в этом злоупотреблении погибла. То, что должно было стать свидетельством всемогущества Бога, обратилось в выставку человеческой ловкости. То, что должно было направлять наши мысли к престолу Всевышнего, загромоздило их измышлениями Его творений. Если мы, на минуту остановившись пред каким-нибудь из наиболее прославленных произведений пейзажной живописи, прислушаемся к рассуждениям прохожих, мы услышим массу разговоров относительно таланта автора, но мало – относительно совершенства природы. Сотни будут болтать о своих восторгах, и один будет наслаждаться молча. Масса будет хвалить произведение и отходить с похвалами Клоду на устах, но один, быть может, будет думать не о композиции и отойдет с хвалой Творцу в сердце.
16. Таковы признаки низко опустившейся, ошибочной и ложной школы живописи. Талант художника и совершенство его искусства не доказаны, если о них не забыто. Художник не создал ничего, если он не скрыл самого себя. Искусство, которое доступно зрению, несовершенно. Чувства слабо затронуты, если они позволяют рассуждать о средствах их возбуждения. Когда мы читаем великую поэму, когда слушаем благородную речь – предмет, затронутый автором, а не его умение, его страсть, способность, должен приковать к себе наши мысли. Мы видим, как он видит, но мы не видим его. Мы становимся его частью, чувствуем вместе с ним, судим, смотрим вместе с ним. Но мы думаем о нем столь же мало, как о себе самих. Думаем ли мы об Эсхиле, в то время как следим за молчанием Кассандры, или о Шекспире, когда внимаем стенаниям Лира? Нет. Сила художников сказалась в их самоуничтожении. Она измеряется тем, насколько художник сам умеет не обнаружиться в своем произведении. Арфа менестреля звучит плохо, если он поет только о собственной славе. Всякого великого писателя можно сразу узнать из того, что он направляет наш ум далеко от себя самого – к той красоте, которая не есть его создание, к тому знанию, которое выше его разумения.
Но разве может быть иначе с живописью? А между тем с ней было иначе. На ее сюжеты смотрели как на такие темы, на которых художник должен был выказывать свои способности. И эти последние, были ли то способности подражания, композиции идеализации или другие, являлись главным объектом наблюдений зрителя. Знатоки всегда искали и поклонялись человеку и его фантазии, человеку и его хитроумию, человеку и его изобретательности, человеку и бедному, жалкому, слабому, близорукому человеку. Среди обломков и грязи, среди пьяных мужиков, среди изнуренных ведьм, среди всевозможных сцен разврата и распутства мы следим за блуждающим художником не для того, чтобы получать спасительные уроки, не для того, чтобы проникнуться чувством сострадания или негодованием, а для того, чтобы рассмотреть ловкое обращение с кистью и жадно искать блестящих красок.
17. Я говорю не об одних произведениях фламандской школы, я не затеваю войны с ее поклонниками; они могут спокойно считать верхушки стогов и волоски осла. Я говорю также о произведениях истинной мысли, о творениях, в которых видно присутствие гения и активной силы, о творениях, содержащих в себе все прекрасное, чего может достигнуть искусство и что может охватить человек. Я с сожалением утверждаю, что все, доселе созданное пейзажистами, никогда не пробуждало святой мысли в умах народов. Оно от начала до конца есть выставление напоказ ловкости отдельных личностей и условностей той или другой системы. Наполнив мир славой Клода или Сальватора, оно никогда не направляло нас к прославлению Бога.
Читатель, быть может, будет поражен этими словами, словно это – выражение дикого энтузиазма, словно я унизил достоинство религии, предположив, что делу религии содействуют подобные средства. Его изумление только доказательство моего положения. Требовать от пейзажиста определенного нравственного влияния – эта мысль только кажется проявлением дикого, нелепого энтузиазма. Но так ли это в действительности? Неужели великолепие доступных взору красок, красота реализированной формы являются в руках художника орудиями до такой степени недействительными, что они не могут отвечать целям более благородным, чем забава любопытства и занятие праздности. Не оттого ли, что имеющиеся в его распоряжении средства находятся в грубом пренебрежении и неправильно применяются, происходит следующее прискорбное явление: в то время, как слова и звуки (несомненно, менее могущественные средства воспроизведения природы, чем линии и краски) могут воспламенять и очищать самые глубокие тайники человеческой души, художник своими усилиями может только развлекать и навсегда должен остаться со своими мыслями, не сообщив их другим.
18. Причина зла, по моему мнению, глубоко сидит в системе древней ландшафтной живописи. Она состоит в том, что художник берется изменять творения Бога но своему произволу, накладывая свою собственную тень на все, что он видит; он делает себя властителем там, где почетно быть учеником, и выставляет напоказ свою изобретательность, достигая различных сочетаний, которых высшее достоинство заключается в их невозможности. Нельзя пройти ни одной галереи древнего искусства, не услышав похвал этого рода, высказываемых с удивительной самоуверенностью. Искусственность, отсутствие всякого подобия реальности, неуклюжие сочетания, выдающие вмешательство человека, и слабость его руки, отпечатлевающаяся на беспорядочности его чудовищного творения, все это выставляется как доказательство его изобретательной способности, как проявление чистого мышления. Насилие над характернейшими формами, совершенное игнорирование всякой органической и индивидуальной черты предмета (бесчисленные примеры этого в произведениях старых мастеров будут приведены впоследствии) постоянно выставлялись поверхностною критикой, как основание высокого или исторического стиля и первый шаг к достижению чистого идеала. Есть только один высокий стиль в трактовании всех решительно сюжетов. Этот стиль основан на совершенном знании и заключается в простой, незапутанной передаче специфических черт данного предмета, будет ли это человек, зверь или цветок. Каждое изменение, карикатура или отступление от таких характерных черт есть ниспровержение величия и истины, красоты и пристойности. Каждое изменение черт природы имеет свое начало в бессильном бесстрастии или в ослепленной смелости, в безрассудстве, которое забывает, или в наглости, которая оскверняет дела природы, те дела, которые знать составляет гордость, а любить – привилегию ангелов.
19. Это нарушение всемирных законов часто оправдывают тем, что введение мифологических абстракций в древний пейзаж требует воображаемого характера формы для материальных предметов, с которыми соединяются эти абстрактные представления. На что-то в этом роде намекает Рейнольдс в своем четырнадцатом рассуждении, но не может быть ничего ошибочнее такой мысли. Если есть какая-нибудь правда или красота в первоначальной идее о духовных существах, введенных таким образом, то должна быть истинная и реальная связь между этой абстрактною идеей[6] и свойствами природы, какой она была и есть. Леса и воды, которые грек населял символической жизнью, не отличались от тех, которые ропщут и журчат ныне у развалин его алтарей. Его воображение было наполнено этими видимыми, действительно существующими, формами, и красота одухотворенных этим воображением творений может быть постигнута только среди той самой действительности, под влиянием которой первоначально формировалось его представление. Если божественность запечатлелась в лице или явно видна в образе духовного существа, то изображение его мчащимся над вихрем или попирающим бурю не может возмутить нашего чувства, но если в нем видно человеческое, то никакое насилие над чертами, взятыми у земли, не выкует ни одного звена для соединения ее с небом.
20. И неужели нет такого творения, которое подняло бы идеальный характер пейзажа? Несомненно, есть. И Рейнольдс с великим мастером в этом отношении, Никола Пуссеном, с которым не расстается его мысль, должен был прийти к более верным выводам относительно сущности пейзажа, чем те, которые, как мы увидим, можно сделать из его сочинений. Истинный идеал пейзажа буквально тот же, что и идеал человеческой формы. Это – выражение специфических для целого вида – не индивидуальных, а именно видовых – черт каждого предмета, в их совершенном состоянии. Существует идеальная форма каждой травы, цветка и дерева, это та форма, которой достигнуть имеет стремление каждая особь видов, будучи свободной от случайностей и потрясений. Каждый пейзажист должен знать видовые черты каждого предмета, который он изображает, будет ли то скала, цветок или облако. И в этих высших, идеальных творениях все их отличительные признаки должны быть в совершенстве выражены, все равно, широкими ли штрихами или тонкими, в виде ли набросков или целиком, согласно с природой предмета и количеством внимания, на которое он имеет право по своему месту в целом произведении. Там, где стремятся к величественному, такие отличительные черты указывают с строгой простотой, как например, следы мускулов в колоссальной статуе; там же, где целью является красота, эти черты должны быть выражены с величайшей тонкостью, на какую только способна рука человека.
21. Вышесказанное должно показаться противоречием принципам, которые выдвинуты величайшими авторитетами. Но в действительности оно противоречит только специальному и ошибочному применению их. Много зла принесли искусству мнения относительно пейзажа, которые высказывались представителями исторической живописи. Они привыкли в своей сфере трактовать задний фон смело и небрежно и чувствовали, хотя, как я покажу, только вследствие недостатка собственных способностей, что тщательность в отделке деталей портит их картину тем, что вторгается в ее главный сюжет; поэтому они, естественно, упускали из виду особенности и существенные красоты предмета, которые для их целей были вредны, если не играли служебной роли. Вот почему Рейнольдс и другие так часто советуют пренебрегать специфическими формами в пейзаже и трактовать их в виде больших масс, стремясь только к общей правде; гибкость листьев, а не строение их, незыблемую твердость скалы, но не ее минеральные особенности. В сочинении, где особенно разработан этот вопрос (в 11-й лекции Рейнольдса), нам говорят: «пейзажист пишет не для знатока или натуралиста, а для обыкновенного наблюдателя жизни и природы»; это – правда. Это справедливо только в том смысле, в каком верна мысль, что скульптор создает свое творение не для анатома, а для обыкновенная наблюдателя жизни и природы. И однако скульптору на основании такого соображения не простят недостатка знания или выражения анатомических деталей. Чем тоньше выражены они, тем совершеннее его произведение. То, что для анатома является целью, служит для скульптора средством. Первый добивается деталей ради них самих, второй – для того, чтобы при помощи их вдохнуть жизнь в свое творение и наложить на него печать красоты. То же самое в пейзаже: ботанические или геологические детали должны представляться не материалом для любопытства, не предметом исследования, но первоначальными элементами всякого выражения и красоты.
22. В своем замечании относительно переднего плана картины «Святой Петр мученик» Рейнольдс хвалит ее за то, что деревья на нем обрисованы «ровно настолько, сколько это нужно для того, чтобы отличить их друг от друга, не более». Если бы этот передний план картины был занят группой животных, мы прямо были бы поражены подобным рассуждением; кто бы решился сказать, что лев, змея, голубь и всякое другое творение должны отличаться одно от другого ровно настолько, чтобы мы могли различить каждое, не более. Разве свойства растительного царства менее прекрасны, менее важны или менее божественны в своем начале, чем свойства царства животного? Если мы считаем нужным благоговейно наблюдать отличительный формы животной жизни, то целесообразно ли, чтобы формы растительной жизни были просто сметены с лица земли? Последние менее навязчивы, менее бросаются в глаза. Поэтому тем менее можно оправдать пренебрежение к ним: они не опасны в том отношении, что могут поглотить наше внимание или овладеть нашим воображением.
23. Но Рейнольдс столь же неточен в фактической стороне дела, сколько ошибается в принципе. Он сам представляет характернейший пример той ошибки, в которой он обвиняет Вазари, – именно он видит то, чего ждет, или в данном случае он скорее не видит того, чего не ждет. Великие художники Италии, почти все без исключения, и чуть ли не более всех Тициан (потому что он лучше всех знал пейзаж), обыкновенно передавали каждую подробность на переднем плане своих картин, тщательно соблюдая верность в ботаническом отношении. Доказательство – картина Вакх и Ариадна, передний план которой заняты обыкновенным ирисом, аквилегией и дикими розами. Каждая тычинка этих последних передана; цветы и листья аквилегии (цветка, очень трудного для воспроизведения) изучены с самой тщательной точностью. Передний план в двух картинах Рафаэля Чудесный лов рыбы и Повеление Петру покрыт обыкновенной морской капустой (Crambe maritima), ее выемчатые листья и кисти цветов истощили бы терпение всякого другого художника. Но великому уму Рафаэля они показались достойными продолжительной и внимательной работы.
Оказывается таким образом, что на основании не только естественных соображений, но и творчества самых высших авторитетов необходимо совершенное знание мельчайших деталей, а полное выражение их имеет место даже в величайших произведениях исторической живописи. И это не только не уничтожает и не ослабляет интереса к фигурам, но напротив, при правильном обращении с таким знанием должно усилить этот интерес и дать надлежащее освещение картине. Если предыдущего доказательства недостаточно, я попросил бы читателя сравнить задний план картины Рейнольдса Святое семейство, находящейся в Национальной галерее, с картиной Никола Пуссена Кормление Юпитера в Дёльвичской галерее. Первая благодаря крайнему пренебрежению ботаническими подробностями совершенно лишена идеального характера и напоминает английский фешенебельный цветник. Картина Пуссена, в которой каждый виноградный лист сделан с замечательным искусством и неутомимым прилежанием, представляет группу деревьев, необыкновенно изящную и красивую; по своей замечательной простоте и правдивости эта группа принадлежит всем возрастам природы и приспособлена к истории всех времен. Если такая полная передача родовых черт необходима для исторического живописца в тех случаях, где мелкие детали играют служебную роль в сюжете, то насколько более нужна она в пейзаже, где эти детали сами составляют сюжет и где внимание нераздельно устремлено на них!
24. В одном отношении ребенок может быть назван отцом взрослого человека. Во многих искусствах и науках первая и последняя степень развития, детство и высшее совершенство имеют некоторые сходные черты, промежуточные же ступени не похожи ни на то, ни на другое и далеко отстоят от истины. Такую историю развития пережило искусство художника управлять своей рукой. Мы видим совершенного ребенка, настоящего новичка, по необходимости проводящего ломаную, несовершенную, недостаточную линию; по мере того, как он развивается, он становится постепенно твердым, строгим и решительным. Но перед тем как он становится совершенным художником, эти строгость и решительность изменяются снова в легкие и небрежные штрихи; эти последние во многих отношениях похожи на линии детского периода больше, чем на линии промежуточного, среднего возраста, они отличаются от тех первых штрихов только совершенством эффекта, полученного при помощи недостаточных на взгляд средств. То же бывает и с нашими мнениями по некоторым вопросам. Наше первое и последнее мнения сходятся, хотя и по разным основаниям; более же всех удаленным от истины является мнение промежуточных ступеней. Детство часто держит в своих слабых пальчиках истину, которую не удается схватить зрелому возрасту и которую вновь обрести составляет гордость последнего периода.
Быть может справедливость этой мысли не обнаружилась ни в одном примере так ярко, как в наших мнениях относительно деталей в произведениях искусства. В детском периоде нашего суждения мы требуем родовых черт и полной законченности; мы находим прелесть в верно переданных перьях хорошо известной птицы, в тонко исполненном листике цветка, который мы распознавали. По мере того, как наше суждение развивается, мы начинаем презирать такие детали; мы требуем стремительной быстроты в исполнении и широты эффекта. Но достигнув совершенства в суждении, мы в значительной мере возвращаемся к нашим первоначальным чувствам и выражаем свою признательность Рафаэлю за изображение раковин на священном берегу и за тонко сделанную зелень позади его вдохновенной св. Екатерины[7].
25. Среди тех, кто интересуется искусством, даже среди самих художников, на сто человек, стоящих на средней ступени суждения, придется может быть один, достигший последней. И это происходит не потому, что они не обладают способностью открыть истину или наслаждаться ею, а потому что истина слишком похожа на заблуждение, последняя ступень на первую; вследствие этого каждое чувство, ведущее к ней, задерживается в своем начале. Стремительный и выдающийся художник поневоле смотрит с презрением на тех, кто уделяет больше внимания мельчайшим деталям, чем величию впечатления; его презрение до того велико, что ему почти невозможно понять последнюю великую ступень в искусстве, на которой сходятся и то, и другое. Ему так часто приходилось уничтожать изысканность в работе ученика и вымарывать детали с его загроможденного полотна, так много сетовать на недостаток широты и единства, и так редко обвинять его в несовершенстве мелочей, что он смотрит на совершенство частей как на верный знак неправильности, слабости и незнания. Таким образом, к концу жизни он нередко, подобно Рейнольдсу, смотрит на детали и целое, как на двух непримиримых врагов, а между тем нельзя быть великим художником, не примирив их. И на основании того, что одни детали, без отношения к конечной цели, указывают на ученический характер работы, он упускает из виду более отдаленную истину, что детали, представляющие совершенство в целом и содействующие конечной цели, доказывают принадлежность работы превосходному мастеру.
26. Таким образом, ни детали, к которым стремятся ради них самих, ни кирпичи, которые можно перечислить на картинах голландских мастеров, ни сосчитанные волосы, ни с педантической точностью сделанные изгибы Деннера не составляют истинного искусства; напротив, это самый низкий, презреннейший вид искусства; высшее искусство представляют те детали, при которых имеется в виду великая цель, к изображению которых стремятся ради высшей красоты, существующей в самых незначительных, в самых мельчайших творениях Бога, трактуемой мужественно, свободно, оставляющей неизгладимое впечатление. Трактуя ничтожнейшие черточки, художник может проявить столько же величия духа, столько же благородства в манере, как и тогда, когда он схватывает самые крупные. Это величие заключается, главным образом, в умении уловить родовой характер предмета со всеми теми великими элементами красоты, которые являются общими для него и для высших форм существования[8]; при этом совершенно устраняются низшие элементы красоты, которые случайно принадлежат предмету, но не характерны для него в родовом отношении. Я не могу указать лучшего примера, чем изображение цветов в упомянутой выше картине Тициана. В то время, как схвачена каждая тычинка розы, – так как это необходимо, чтобы ярко отметить цветок; в то время, как изгибы и крупные черты листьев переданы с изысканной верностью, на картине нет следов второстепенной ткани, моху, налета, влаги, нет и других случайных признаков, капель росы, насекомых, каких бы то ни было украшений, ничего, помимо простых форм и оттенков цветов, и самые эти оттенки упрощены и переданы свободно. Например, аквилегия имеет в действительности сероватый, какой-то неопределенный тон цвета и никогда, вероятно, не достигает той яркой чистоты голубого цвета, которой наделил свой цветок Тициан. Но художник не стремился передать специальный цвет отдельного цветка. Он схватывает тип и передает его с величайшей чистотой и простотой, которая только доступна краске.
27. При соблюдении этих законов для художников становится не только возможным, но и обязательным, так сказать, священным долгом – изучение мельчайших деталей с неослабным вниманием. Каждая полевая трава и цветок заключают в себе родовую, отличающую их от других, совершенную красоту, имеют свое обиталище, свое специальное выражение, свои функции. Высшее искусство – то, которое улавливает этот родовой характер, развивает и освещает его; оно назначает ему его место в пейзаже; оно, наконец, при его помощи возвышает и усиливает великое впечатление, которое картина, по замыслу, должна произвести. И такое родовое воспроизведение необходимо не только по отношению к травам и цветам. Каждый вид скалы, каждый род земли, каждую форму облака следует изучать столь же прилежно и передавать с такой же точностью. И мы, таким образом, неизбежно придем к заключению, которое прямо противоположно постоянно повторяемому догмату критиков, болтающих, наподобие попугаев, будто черты природы следует «обобщать». Несомненный и грубо абсурдный характер этого догмата был бы обнаружен уже давно, если бы ее лживость не представлялась удобным прикрытием для лености, удобной маской для бездарности. Обобщать! Как будто возможно обобщить вещи, по существу различные. Я приведу характерный образчик этого критического жаргона, принадлежащий перу одного из критиков моей книги и помещенный в номере Athenaeum’a от 10 февраля настоящего года (т. е. 1898). «Он (т. е. автор) желал бы, чтобы пейзажисты – геологи, дендрологи, метеорологи и конечно энтомологи, ихтиологи, наконец всех видов художники-физиологи, – чтобы все это соединилось в одном лице. Горе истинно поэтическому искусству среди всех этих ученных фиванцев! Нет, пейзажист не должен доводить себя до снимания портретов с бездушных существ, подобно деннеровским портретным снимкам с земной поверхности… Древние пейзажисты усвоили более свободную, более глубокую и высшую точку зрения на свое искусство: они пренебрегали отдельными, частными черточками и передавали только общие, главные черты. Таким образом, им удавалось передать целое, достигнуть силы впечатления, гармоничного единства и простого эффекта, элементов величия и красоты».
28. На всякую подобную критику (я отметил ее только потому, что она выражает мысли, которые могут заразить некоторых людей чувствующих и мыслящих) ответ очень прост и ясен. Совершенно справедливо, что нельзя обобщить гранит и сланец, как нельзя обобщить человека и корову. Животное должно быть или тем, или другим; оно не может быть животным вообще, иначе оно вовсе перестает быть животным. Так же и скала должна быть той или иной; она не может быть скалой вообще, или она – не скала. Предположим, что на переднем плане картины нарисовано животное, относительно которого нельзя решить, пони ли оно или поросенок. Тогда критик Athenaeum’a, может быть, объявил бы, что это творение является «обобщением» пони и поросенка, a следовательно, высоким образцом «гармоничного единства и простого эффекта». Но я бы сказал, что это просто плохой рисунок. И когда я не могу узнать, представляют ли предметы на переднем плане картин Сальватора гранит, или сланец, или туф, – я утверждаю, что в них нет гармонического единства, ни простого эффекта, а есть простая уродливость. Здесь нет никакого величия, нет никакой красоты; ничего, кроме расстройства, беспорядка, разрушения нельзя достигнуть, совершая насилие над естественными отличительными признаками. Смешивая элементы животного царства, можно только испортить их; смешивая же элементы неорганического мира, можно лишь погубить их, погубить их совершенно. Мы можем, если хотим, создать центавров, но они все-таки должны быть наполовину людьми, наполовину лошадьми. Таким же образом, если пейзажист пожелает, он может изобразить нам скалу наполовину гранитную, наполовину сланцевую, но не такую, которая является одновременно и гранитной и сланцовой или которую можно принять или за ту или за другую. Каждая попытка воспроизвести какую бы то ни было скалу сведется к тому, что не получится никакой скалы.
29. Правда, отличительные свойства скал, деревьев и облаков менее бросаются в глаза и наблюдаются с меньшим постоянством, чем свойства животного мира. Но трудность наблюдения не оправдывает его небрежности. Она свидетельствует только об одном, именно о том, что мир до сих пор не знал ни одной совершенной школы пейзажной живописи. В самом деле, подобно тому, как высшая историческая живопись основана на совершенном знакомстве с жизнью человеческой формы и человеческого духа, так и высшая пейзажная живопись должна быть основана на совершенном знании формы, функций и системы каждой органической или обладающей определенной структурой жизни, которую эта живопись воспроизводит. Эта аналогия должна быть очевидна для всякого человека, способного мыслить. Всякий принцип, стоящий в противоречии с ней, или ошибочен, или ошибочно понят. Например, критик Athenaeum’a называет правильную передачу родовых отличий «портретированием наподобие Деннера». Если бы он нашел какие-нибудь признаки Деннера в том, что я выставил в качестве высшего образца пейзажной живописи, в недавних произведениях Тернера, тогда от души приветствую его открытие и его теорию. Но нет, портретная живопись в роде деннеровской была бы попыткой нарисовать отдельно кристаллы кварца и полевого шпата в граните, передать отдельные слои слюды в слюдистом сланце. Эта попытка столь же далека от того, что я считаю великим искусством (от свободной передачи родовых черт формы и в том и в другом камне), как новейшая скульптура кружев и петель далека от эльджинского мрамора. Мартин сделал попытку такого в деннеровском вкусе портретного изображения морской пены чуть ли не на целой десятине полотна. Успешно ли – это, я думаю, раз и навсегда решили критики его прошлогодней картины «Канут».
30. Из того, что упомянутое выше знание необходимо для художника, отнюдь не следует, что оно составляет художника, или что такое знание имеет цену само по себе без отношения к высшим целям. Всякого знания можно искать по низким побуждениям и ради низких целей; и лицо, приобревшее его таким образом, обладает низким знанием, между тем, буквально, то же самое знание в уме другого человека является средством достигнуть высшего величия и доставить величайшее блаженство. В этом и заключается различие между знанием растений, присущим ботанику, и великим знанием их, которым обладает поэт или художник. Один замечает их отличительные признаки с целью заполнить свой гербариум, другой – чтобы сделать их проводниками выражения и чувства. Один считает тычинки, ко всему прикрепляет имя и доволен. Другой наблюдает каждую черту цвета и формы растения; рассматривая каждое его свойство как элемент выражения, он извлекает из его линий грацию или энергию, незыблемость или спокойствие, отмечает слабость или силу, ясность или трепетание его оттенков; он наблюдает его местные свойства, его любовь к известным местам или боязнь таковых, питательную или разрушающую силу специальных влияний; он ассоциирует в своем уме все элементы тех условий, в которых живет растение, все вспомогательные условия, необходимые, чтобы поддержать его. Цветок для художника – живое существо; на листьях цветка написана его история, в движениях – чувствуется дыхание страсти. В картине этот цветок уже не место для наложения красок, не полоска света, лишенная мысли. Это – голос, идущий из земли, новый аккорд в музыке духа, необходимая нота в гармонии произведения, способствующая его нежности и величию, его красоте столько же, сколько его правдивости.
31. Изображение цветов у Шекспира и Шелли представляет многочисленные примеры замечательного искусства в обращении с деталями. Правда, у художника нет тех же средств для выражения мыслей, с которыми соединяются символы. Он в значительной степени зависит от знаний и чувств зрителя. Но, уничтожив детали, художник не сделает свое изображение более понятным невежде, а между тем оно потеряет интерес и для понимающего. Для неясно пишущего не может служить оправданием то соображение, что некоторые люди не могли бы прочесть написанного ясно.
32. Повторяю, обобщение, как обыкновенно понимают это слово, есть акт ума грубого, не способного и неразмышляющего. Видеть во всех горах только однородные груды земли, в скалах – однородные соединения твердых масс, в деревьях – однородные собрания листьев – не значит обладать высокими чувствами и широким умственным кругозором. Чем больше мы знаем и чувствуем, тем больше различаем, и различаем для того, чтобы овладеть более совершенным единством. В уме крестьянина камни укладываются так же, как они лежат на его полях: один похож на другой, и нет никакой связи между всеми ими. Геолог различает их и, различая, соединяет. Каждый камень отличается от своего соседа, но самым различием своим становится к нему в известное отношение; они не служат один повторением другого; они – части системы; каждый из них предполагает существование остальных и связан с ними. То обобщение правильно, истинно и благородно, которое основано на знании отличительных признаков и на изучении взаимного отношения отдельных видов. То обобщение неправильно, ложно и низко, которое основано на незнании тех и смешении других. В этом случае получается не обобщение, а путаница и хаос. Так можно обобщить только разбитую армию в виде бессилия, в котором ничего нельзя распознать, обобщить элементы трупа в виде праха.
Не останавливаясь подробнее на догматах художественных школ, перейдем к тем заключениям, к которым приводит нас наблюдение над законами природы.
33. Я только что заметил, что каждый род скал, земли, облаков художник должен знать столь же точно, как геолог и метеоролог[9]. И это не с целью уловить характер самих этих мелких подробностей, а с целью постигнуть тот простой, серьезный и постоянный характер, который проявляется в общем эффекте каждого вида природы. Всякая геологическая формация имеет особенности, принадлежащие специально ей: известные линии излома, в результате чего являются определенные формы скал и земли; известные растительные продукты, среди которых вырабатываются новые видоизменения в зависимости от климата и высоты. В зависимости от этих различных условий происходит бесконечное разнообразие разрядов пейзажа, из которых каждый при различии отдельных черт обнаруживает совершенную гармонию и обладает идеальной красотой, присущей специально ему; эта красота не отличается только теми особенностями, которые приобретает внешняя форма человека благодаря климатическим изменениям; эта красота создается родовыми отличительными признаками, наиболее заметными и существенными; отдельные классы этих признаков нельзя обобщать и смешивать по своему желанию. Плоская поверхность болот и пышные луга третьей формации, округленные холмы и скудные пастбища меловой почвы, четырехугольные лощины и трещины небольших гор известковой породы, остроконечные вершины и зубчатые кручи первобытных гор не имеют ничего общего между собой. В них все различно, все не соединимо. Самая атмосфера, окружающая их, резко отличается; различны облака; различны самые особенности бури и солнечного сияния; различны цветы, животные, леса. Назначение каждого пейзажа, – а их разряды, повторяю, бесконечны по числу, в зависимости не только от скал различной породы, но и от частных условий, созданных наслоениями и позднейшими образованиями, в зависимости от бесчисленных видоизменений климата, положения, человеческого вмешательства, – назначение каждого пейзажа, говорю я, преподать особый урок, доставить специальное наслаждение. И говорить о соединении всех производимых ими впечатлений в какой-то идеальный ландшафт – такая же бессмыслица, как говорить о соединении всех родов питания в идеальную пищу, о смешении всех музыкальных мотивов в один идеальный, или о слиянии всех мыслей в одну идеальную идею.
34. Впрочем, сочетание различного рода пейзажей возможно, хотя невозможно их обобщение. Сама природа постоянно устраивает неожиданные соединения элементов, выражающих совершенно различное. Бесплодные скалы через лесистые выступы ниспускаются к равнине. Сквозь зеленые тени гирлянд винограда проглядывает бледный свет вечных снегов.
Художнику, таким образом, представляется на выбор: или выделить особенный характер пейзажа какого-нибудь отдельного разряда, или соединить вместе множество различных элементов, из которых каждый, в силу контраста, может усилить красоту другого.
Я думаю, что простой пейзаж, лишенный сложных соединений, если только при его обработке обращено надлежащее внимание на идеальную красоту заключающихся в нем черт, всегда более мощно трогает сердце. Контраст усиливает блеск красоты, но разрушает ее действие. Он увеличивает ее привлекательность, но уменьшает ее силу. Впоследствии мне еще много придется говорить по этому вопросу. В настоящее время я хочу только отметить то обстоятельство, что искренний художник, создающий на основании широких и простых принципов изображение цельного гармоничного пейзажа, стремится в искусстве к такой же высокой цели, как и самодовольный студент, который со «своим пятиминутным появлением повсюду» извлекает из разных концов земли материал для своей иллюстрированной газеты[10]; если произведение последнего не регулируется строгой мыслью и отдельные части этого произведения не связаны натуральными звеньями, то в своей пестроте оно имеет меньше ценности, чем этюд, изображающий сорную траву при дороге.
35. Рискуя наскучить вам повторением общеизвестного, я решаюсь обратиться к общим принципам исторической живописи для того, чтобы указать вам применение их к пейзажу. Самый неопытный новичок знает, что каждая фигура, которая необходима в его картине, является для нее лишним бременем, и каждая фигура, которая не согласуется с целым, нарушает его. «Кто не собирает вместе со мною, тот расточает» – таков есть или должен быть принцип, руководящий замыслом художника; сила и величие его произведения будут в точности соответствовать единству чувства, которое обнаруживается в отдельных частях, а также естественному характеру и простоте их взаимных отношений.
Все сказанное вполне применимо к предметам неодушевленной природы. Цельность впечатления разрушается обилием противоречивых явлений и соединение, в котором нет гармонии, губит стройность. Тот, кто старается соединить простоту с пышностью, перейти от уединения к празднеству и сопоставить меланхолию с веселием, тот неизбежно в результате произведет неопределенную пустоту. Каждый вид имеет свой специальный смысл. Хотя контраст может иногда усилить ощущение, сделать его более интенсивным, но он все-таки должен играть второстепенную роль; противопоставляемое не должно быть равносильно с главным. Внесение всяких новых и разнообразных ощущений ослабляет силу того впечатления, которое уже произведено, a смешение всех эмоций должно повести в результате к равнодушию, как смешение всех цветов дает белый.
36. Позвольте мне приложить эти простые правила к оценке одного из «идеальных» пейзажей Клода, известного у итальянцев под именем Il Mulino (мельница).
Передний план представляет красивый и превосходно исполненный вид леса; на берегу ручья танцуют крестьяне; в руках настоящего мастера этого сюжета было бы совершенно достаточно для того, чтобы нарисовать законченную картину, оставляющую впечатление. Между тем на другом берегу ручья перед нами картина пастушеской жизни. Изображены человек и несколько быков и коз, головой вперед устремляющиеся в воду, словно ноги их внезапно поражены параличом. Уже эта группа является излишней. Пастуху вовсе не было нужды подводить свое стадо так близко к танцующим, a танцующие, наверное, испугали бы скот. Но когда мы долее всматриваемся в картину, наше чувство получает внезапный и сильный толчок благодаря неожиданному появлению солдат среди пастушеской, музыкальной идиллии. Римские солдаты верхом на лошадях; впереди пеший проводник явно побуждает их произвести немедленную и решительную атаку на музыкантов. За солдатами – круглый храм, очень плохой. Возле него, у самых стен, красивая водяная мельница на полном ходу. Около мельницы широкая река с плотиной. Плотина устроена не для мельницы (эта последняя получает воду с холмов посредством желоба, идущего над храмом), но она особенно некрасива и однообразна в линии падения, и вода внизу образует застывший пруд, в котором ловят рыбу с лодок. Берега этой реки по своим очертаниям похожи на геологические формации в окрестностях Лондона, составившиеся из черепков и устричных раковин. В невозможном расстоянии от мельницы находится город, состоящий из двадцати пяти круглых башен и одной пирамиды. За городом – красивый мост, за мостом – часть Кампаньи с обломками водопровода; за Кампаньей – цепь Альп; налево – тиволийские водопады.
Это, по-моему, прекрасный образчик того что обыкновенно называлось «идеальным» пейзажем, т. е. группа этюдов с натуры, которые схвачены наудачу и обладают такими противоположными характерами, что один уничтожает эффект другого; кроме того, они настолько неестественны и несогласованы, что производят вполне впечатление чего-то невозможного. Произведем анализ отдельных предметов в этом идеальном произведении Клода.
37. Может быть, на всей земле нет вида, производящего более сильное впечатление, чем уединенная местность римской Кампаньи при вечернем освещении. Пусть читатель на минуту мысленно удалится от шума и волнения живого мира и перенесется в эту дикую и пустынную равнину. Земля поддается и крошится под его ногами; никогда не ступал он так легко; почва под ним белая, рыхлая, прогнившая, подобно пыльным остаткам человеческих костей[11]. Длинная переплетающаяся трава колеблется и волнуется слабо под дуновением вечернего ветерка, и тени, падающие при ее движении, дрожат и трепещут, словно лихорадочным трепетом, вдоль старых развалин, озаренных солнечным светом. Холмы рыхлой земли, словно волны, возвышаются вокруг него, словно мертвецы в своем сне затеяли беспокойную возню и приподнимают землю. А разбросанные в беспорядке глыбы черного камня, отесанные в правильную четырехугольную форму, жалкие руины некогда пышных, а теперь исчезнувших зданий, точно налегли на мертвых и крепко сдавили их там внизу. Ползучий, пурпуровый ядовитый туман низко стелется над степью, окутывая призрачные остатки массивных развалин, на их расщелинах играет красноватый свет, словно умирающее пламя оскверненных алтарей. Голубой хребет Албанской горы резко выделяется на пышном зеленом, ясном и спокойном фоне. Темные облака, словно сторожевые башни, неизменно сторожат Апеннинские вершины. От равнины к горам глыбы разбитого водопровода, одна за другою тают во мраке, словно бесчисленные тени похоронных плакальщиков, выходящих из могилы нации.
38. Произведем теперь вместе с Клодом некоторые «идеальные» изменения в этом пейзаже. Во-первых, превратим многочисленный Апеннинские стремнины в четыре сахарные головы. Во-вторых, уничтожим Албанскую гору и вместо нее поместим огромную мусорную кучу. Далее сотрем с лица земли большую часть водопроводов и оставим только одну или две арки с целью уничтожить неприятный вид однообразия, который получается благодаря их бесконечной длине. Вместо пурпурного тумана и заходящего солнца создадим светло-голубое небо с круглыми белыми облаками. Наконец, избавимся от неприятных развалин на переднем плане, посадим здесь несколько красивых деревьев; пошлем за скрипачами, устроим танцы и пикник.
Нетрудно видеть, что такого именно рода улучшение произвел Клод в том материале, который находился в его распоряжении. Откосы города Рима, спускающиеся к пирамиде Кая Цестия, дают разнообразнейшие и красивейшие линии; кроме того, каждая частица его построек представляет богатый материал для созерцания и размышления. Это место было идеализировано Клодом в виде одинаковых круглых башен; они не могут дать никакой идеи, разве только идею о своей непригодности для жилья; они не могут возбудить никакого интереса, разве только трудно разрешимый вопрос, зачем вообще они были построены. Развалины храма не производят впечатления благодаря близости водяной мельницы и необъяснимы благодаря введению римских солдат. Движение мутных струй меланхолического Тибра и Анио производит само по себе впечатление, но это впечатление тотчас же исчезнет, если мы нарушим тишину течения, устроив плотины, если мы украсим их заброшенные воды красивым мостом, поместим на их пустынной поверхности лодки, сети и рыболовов.
Подобные пейзажи, я думаю, могут производить лишь одно действие на человеческое сердце: оно становится черствым и низким; такие пейзажи уничтожают в нем любовь ко всему простому, серьезному и чистому и приучают его к поддельному, к тому, что извращено в своем целом, неправильно и несовершенно в своих деталях. Пока подобные произведения будут выставляться как образцы для подражания, пейзажная живопись будет фабрикацией, ее творения – пустяками, а ее покровители – детьми.
39. Цель предлагаемого труда – показать крайнюю ложность тех фактов и принципов, несовершенство того материала, ошибочность той системы, которые лежат в основании подобных произведений; далее, доказать необходимость и благородное значение серьезного, правильного, любовного изучения природы, такой, как она есть, внушить отвращение ко всем изменениям и поправкам, которые внесли в нее люди. И похвала, которую я воздаю в первой части труда некоторым английским художникам, находит свое оправдание только в этих основаниях. Они, часто правда с недостаточными способностями, с нескладными усилиями, но всегда честно и хорошо воспринимали слово Божие и в облаках, и в листьях, и в волнах, удержали его[12] и смиренно старались передать миру ту чистоту впечатления, которая одна способна сделать искусство орудием добра, а художественные творения предметом благодарности.
40. Необходимо беззаветно любить то, чему учит природа, необходимо безусловно покоряться ее урокам. Но если мне часто придется настаивать на этом положении, то не менее насущная обязанность моя заключается в том, чтобы высказывать осуждение небрежной передаче случайных впечатлений, механическому копированию незначительных предметов, которые так часто можно заметить в нашей новой школе[13]. Легкий и случайный характер их замысла, бесцельное умножение неотделанных произведений, недостаточная определенность и возвышенность цели накладывают пятно на всю систему и поддерживают в критике печальное предубеждение, будто поля и холмы менее пригодны для изучения, чем галереи и частные студии. Не всякая случайная мысль, которая приходит в голову при виде дождя или при свете солнца, не всякий луч палящего солнца, не всякая мечта, которую навеет прохлада молодого леса, должны быть переданы миру в том виде, как они явились: непродуманные, незаконченные и забытые художником тотчас же после того, как он покинул свой мольберт. Только то может считаться картиной, в чем душа, – не сырой материал, а одушевляющее чувство, навеянное многими такими впечатлениями, сконцентрировано и передано с помощью хорошо постигнутых, тщательно выбранных форм. Этот материал следует идеализировать в истинном смысле этого слова; при этом не следует предоставлять беспредельного простора той способности унижать дела Бога, которую человек называет «воображением»; необходимо обнаружить тщательное знакомство с каждой частью, с каждой чертой и функцией предмета. Детали должны быть отделаны до последней линии сообразно с величием и простотой целого; разработаны с тем благородным усердием, которое концентрирует чрезмерное, дает стройность беспорядочной груде. Это усердие не следует тратить на всякий сюжет, который только на вид возбуждает доброе чувство, но лишь на избранные сюжеты, в которых природа дает рукам художника самые чистые источники. Они могут занимать скромное место, но должны быть совершенными в своем роде. Есть совершенство кустарника и хижины, как есть совершенство леса и дворца. Выбрав и передав нам придорожную траву или береговые камешки, великий художник будет ближе к идеалу, чем незначительный талант, загромождающий передний план картины грандиозными колоннами и воздвигающий невозможные горы до небес. Наконец, эти избранные сюжеты не должны служить один повторением другого; каждый должен основываться на новой идее и развивать совершенно особый ход мыслей. Таким образом творения, созданные художником в течение всей его жизни, должны составить как бы целую последовательную серию опытов, восходящих постепенно по лестнице творения от самых скромных видов до самых возвышенных; каждая картина является необходимым звеном в общей цепи, звеном, которое держится на предшествующем и ведет к следующему, a целое в своей привлекательной стройности делает более тесными узы, связующие природу с человеческим сердцем.
41. Отсутствие старания у новых художников должно встретить с моей стороны такое же осуждение, как и ложное направление старых. Ввиду этого моя задача распадается, естественно, на три части. Во-первых, я постараюсь с научной точностью исследовать и привести в систему факты природы, указывая, как в некоторых идеальных своих произведениях старые мастера пренебрегали самыми первыми основами своего искусства. Установив раз и навсегда эти основы, я во второй части своего труда объясню и проанализирую природу двух чувств: прекрасного и возвышенного, исследую особенности каждого рода пейзажа и, насколько сумею, раскрою ту истину, вечную, неизъяснимую и неистощимую, прелестью которой Всевышний отметил все предметы, если только воспринимать их такими, какими Он дает их нам. Наконец, я постараюсь проследить действие всего этого на сердце и ум человека, указать на нравственные функции и цели искусства, определить ту роль, которую оно играет в наших мыслях, то влияние, которое оно оказывает на нашу жизнь, постараюсь навязать художнику ответственность проповедника и привить общественному сознанию то уважение к этому званию, которое ему по справедливости принадлежит.
Несомненно, что первая часть этой задачи, которая в сущности и есть все, что я способен предложить читателю, представляется наименее интересной и наиболее трудной, особенно вследствие того, что ее необходимо выполнить, не ссылаясь на какие бы то ни было принципы красоты или влияния чувства. Она есть сухая, правильная классификация материальных вещей, а не изучение мыслей и страстей. Не обвиняйте меня поэтому в недостатке чувств, которые я умышленно подавил в себе. Рассмотрение высших свойств не должно прерывать работой молотка и эндиометра.
42. Далее я попросил бы не считать мои частые ссылки на мастеров итальянской школы просто традиционной манерой. В дальнейших страницах, я думаю, найдется немало доказательств того, что блеск имени не легко может увлечь меня; ввиду этого беззаветная любовь, которую я питаю к творениям великих представителей исторической и религиозной живописи, искрение и зиждется на хороших основаниях. И действительно каждый защищаемый мною принцип искусства я могу иллюстрировать произведениями людей, которые считаются мастерами из мастеров. И пока мое учение развивает в публике высшее понимание и любовь к творениям Буонарроти, Леонардо, Рафаэля, Тирана и Кальяри, публика может без всякого страха предоставить мне право наносить удары (которые покажутся мне необходимыми для доказательства моих принципов) таким художникам, как Гаспар Пуссен и Вендевельде.
43. Действительно, я думаю, что одинаковое число поводов заставляют защищать и Микеланджело против мелочности современников, и Тернера против традиционных условностей прежнего времени. В самом деле, хотя имена отцов религиозной живописи у всех на устах, наша вера в них напоминает веру масс в свою религию, именно эта вера номинальна и мертва. Тщетно молодых студентов заставляют написать известное количество копий с произведений Микеланджело, когда их хлеб зависит от количества тех блестящих безделушек, которые они могут нагромоздить на полотно. И я готов порицать современную систему исторической живописи с таким же рвением, с каким я хвалю нашу школу пейзажа, но тяжелая и неблагодарная задача – нападать на произведения живых художников, борющихся с неблагоприятными условиями всякого рода и особенно с ложными вкусами нации, которая смотрит на произведения искусства или с чувствительностью ребенка, или с тупостью мегатерия[14].
44. Меня обвиняли в резких и грубых выражениях по отношению к тем произведениям, к которым я отнесся отрицательно. Возможно, что я несколько заразился, читая критические статьи наших журналов, в которых только и есть что грубость. Но в моих словах, я думаю, достаточно много правды, чтобы извинить их резкость. При том никакой меч не пробьет тех слишком сильно укрепившихся мнений, которыми как броней защищены известные художники против атаки разума. Мой ответ на подобные упреки давно уже предвосхищен знаменитым софистом, который сказал при таких же условиях: Τὶς δ’ἔστιν ὁἄνθϱωπος ὡς ἀπαίδευτός τιϛ οὓτω φαῦλα ὀνμάζειν τολμᾷ ἐν σεμνῳ πϱάγματι; Τοιοῦόϛ τιϛ, ὦ῾Ιππία οὐδὲν ἃλλο φϱοντίζων ἢ τὸ ἀληϑέϛ. (Что за человек тот, кто настолько не воспитан, что в серьезном сочинении употребляет дурные слова? Такой человек, Гиппий, думает только об истине.)
45. Более поразило меня другое обвинение, именно обвинение в необдуманной строгости по отношению к произведениям современных художников. В самом деле, во всех тех случаях, когда мне приходилось нападать на них, я убежден, что причинял себе гораздо сильнейшую боль, чем я вообще способен причинить. В некоторых случаях я удерживался от слова осуждения, которое считал необходимым для полного понимания своего труда, удерживался из опасения огорчить или обидеть людей, чувства и обстоятельства которых мне были неведомы. В действительности фальшивый на первый взгляд и преувеличенный тон всей книги в благоприятном для современного искусства смысле в значительной степени зависит именно от того, что я избегал порицаний, которые придали бы ей равновесие, и хранил молчание там, где не мог хвалить. Я предпочел бы лучше подождать еще год-два с достижением своих целей, чем достигнуть их, разбивая человеческие сердца и очаги. Поэтому я позволял себе высказывать неблагоприятные мнения только там, где популярность художника и симпатии к нему были так велики, что мнение одного человека не имело для него значения.
46. В заключение еще два слова. Вот уже несколько лет, как мы слышим по адресу произведений Тернера обвинение в недостатке их правдивости. На все указания относительно их силы, возвышенности, красоты раздается один ответ: «Они не похожи на природу». Я вступил на ту почву, на которой стоят мои оппоненты, и старался тщательным исследованием действительных фактов доказать, что Тернер следует природе и рисует с натуры больше, чем всякий другой. Я ждал, что это положение (основу всех моих будущих усилий) будут отчаянно оспаривать и что мне придется завоевывать каждую пядь своего пути. Ничуть не бывало. Мои противники сразу покинули поле битвы. Один (сотрудник Атенеума) не нашел лучшей опоры, чем заявление, что он «не одобряет натурального стиля в живописи. Если кому-нибудь хочется видеть природу, то пусть идет и смотрит на нее самое. Зачем брать ее из вторых рук, с полотна?» Другой (Блэквуд), еще более пораженный, прибег к еще более характерному способу защиты. «Нам интересно видеть вещи не такими, каковы они в действительности во всех отношениях, нам интересно, как ум художника может превратить их в то, чем они не бывают». Пусть читатель выбирает сам, преуспевать ли ему вместе с Блэквудом и его товарищами в рассмотрении того, как ум художника превращает вещи в то, чем они не бывают, или же вместе со мною читатель предпримет более сухой, но в целом, быть может, более производительный труд и определит вещи так, как они бывают в действительности.
Часть I. Общие принципы
Отдел I. Природа идей, передаваемых искусством
Глава I. Введение
Едва ли можно оспаривать, что все, бывшее в течение веков предметом человеческого поклонения, обладало в каком-нибудь в отношении истинным достоинством и притом в высокой степени.
§ 1. Мнение публики может служить критерием не раньше, как по истечении большого периода времени
Если это так, то причина этого явления лежит вовсе не в том, что ум и чувство большинства наиболее способны отличить действительно превосходное, а в том, все ошибочные мнения не прочны, и все неосновательные скоропереходящи. Мысли и чувства, заставляющие отрицать заслуженную славу и приписывать незаслуженную, не имеют достаточных оснований и силы для того, чтобы прочно удержаться в течение большого периода времени. Между тем мнения, составленные на правильных основаниях немногими, действительно компетентными судьями, прочны и мало-помалу переходят от одного человека к другому. Спускаясь ниже и захватывая все более широкие сферы, они уравнивают все и с безусловной авторитетностью царят даже там, где не могут понять. От этой победы вечного над непрочным зависит репутация всего высшего в искусстве и литературе. Для всего великого в том и другом было бы оскорбительно предположение, что оно непосредственно обращается к незначительным и некультивированным силам. Мысль, что всякого человека может правильно оценить только равный или высший, слишком проста и ясна. Низший может переоценить его в своем энтузиазме или, что случается чаще, унизить его в своем невежестве, но он не может составить хорошо обоснованной и верной оценки. Я не стану приводить доказательств этой мысли, так как они потребовали бы слишком много места. Замечу, что нет такого процесса, посредством которого мысли, ошибочные каждая в отдельности, стали бы верны соединившись в массу[15]. Положим я, рассматривая какую-нибудь картину в академии, слышу как двадцать человек один за другим выражают свой восторг пред какой-нибудь плохой вещью, продуктом ремесла или подражания, за подкладку плаща или атласные туфли. Было бы нелепо воображать, что вместе они выразят осуждение тому, чему покланялись каждый в отдельности. Положим далее, что они равнодушно прошли мимо создания благороднейшего творчества, совершеннейшей истины только потому, что в нем нет фокусов кисти и кривлянья. Было бы нелепо думать, что они коллективно оценят то, что презирают каждый в отдельности; никакое время, никакое сравнение идей не заставить чувства и знание таких судей прийти к правильному заключению, не побудить их проникнуться уважением к действительно высокому в искусстве. Вопрос решается не ими, а для них; решается сначала немногими: чем выше достоинства произведения, тем меньше число оценивших его. Решение этих немногих передается людям, стоящим ступенью ниже в духовном отношении, а эти передают в еще более широкие и низшие сферы. Каждый класс сознает превосходство того, который стоить над ним и поэтому с уважением относится к его решению. Таким образом с течением времени правильное и вечное мнение сообщается всем, становится для всех делом веры, при чем оно тем прочнее укрепляется, чем более забываются его основания[16].
Но когда процесс совершился и произведение освящено временем в умах человеческих, тогда уже не могут какое-нибудь новое произведение равного достоинства сравнивать беспристрастно с этим произведением.
§ 2. И потому оно упорно, раз образовалось
Исключение составляют только умы воспитанные и способные оценить достоинства, и при том достаточно сильные для того, чтобы сбросить с себя тяжесть предубеждения и традиции, которая неизменно тянет к старым фаворитам. Гораздо легче, говорить Берри, повторить известные достоинства Фидия, чем исследовать достоинства Агазия. В живописи необходимо много технических и практических знаний для правильного суждения о ней; поэтому здесь единственно компетентными судьями являются те, которые сами подлежать суду и которые не могут вследствие этого высказывать своего мнения: в виду всего этого должны пройти столетия, прежде чем станет возможным произвести справедливое сравнение между двумя художниками различных эпох: превосходство старинных художников сквозь долгий промежуток времени оказывает тиранническое, даже гибельное влияние на умы публики, и тех, для кого, при верном понимании, оно должно было бы служить руководителем и образцом. Ни в одном европейском городе, где интересуются искусством, горизонты его не являются столь безнадежными, a стремления – столь безрезультатными, как в Риме.
§ 3. Причины, побудившие автора в отдельных случаях восставать против него
Причина этого явления заключается в том, что среди студентов авторитет их предшественников в искусстве является безапелляционным, и тупой копировальщик изучает Рафаэля, а не то, что изучал сам Рафаэль. Поэтому на каждом, кто в состоянии указать определенно какие бы то ни было элементы превосходства в современном искусстве и чье положение при этом освобождает его от неприятности, на каждом таком человеке лежит священный долг. Именно он обязан вступить в борьбу без колебания, какие бы порицания ни падали на него, благодаря предубеждению даже со стороны самых искренних умов, благодаря еще более злобному противодействию со стороны тех, кто надеется поддержать свою собственную репутацию критика только поддержкой освященных заслуг: их можно восхвалять, без неудобной необходимости указывать причины. Я убежден, что есть известные элементы превосходства у современных художников, особенно у некоторых, которые еще не вполне поняты; люди же, оценившие их, едва ли находятся в таком положении, чтобы заявить о своем мнении. Ввиду этого моя цель – произвести тщательное сравнение между великими произведениями древних и новых пейзажистов, насколько возможно – рассеять тот обманчивый, воображаемый свет, сквозь который мы привыкли смотреть на прежние творения; и показать истинное соотношение между ними и нашими собственными, независимо от того, благоприятно ли оно для них или нет. Я знаю, что этого нельзя делать легко и опрометчиво, что каждому, кто берется за эту задачу, необходимо, с продолжительными сомнениями и строгими испытаниями, исследовать всякое мнение, противоречащее священному вердикту времени, и выставлять только то, что, по его по крайней мере убеждению, зиждется на более прочной основе, чем чувство или вкус.
§ 4. Но только в тех пунктах, которые можно доказать
На следующих страницах я выставлял только то, что мог сопроводить доказательствами. Эти последние могут быть правильны или ложны, совершенны или условны, но с ними можно бороться только на их собственной почве; их никоим образом нельзя ниспровергнуть или поразить одной авторитетностью великих имен. Впрочем, даже при этих условиях я едва ли решился бы говорить так смело, как я это сделал. Но я твердо убежден, что мы не должны соединять вместе исторических живописцев XV и пейзажистов XVII веков под общим именем «старые мастера», словно существует что-нибудь сходное в тех путях, которыми шла каждая из этих двух групп. Я убежден, что принципы их работы были совершенно противоположны; пейзажистов прославили только за то, что они в отношении механики и техники обнаружили некоторое сходство с манерой знаменитейших исторических живописцев, но принципы, которыми руководились эти последние в замысле и в композиции, пейзажисты перевернули вверх дном. Ход занятий, который привел меня к почтительному преклонению пред Микеланджело и Да Винчи, отвратил меня мало-помалу от Клода и Гаспара. Я не могу одновременно питать уважение к сильному и мелкому, к истинам высшего знания и к манерности недисциплинированного воображения. Там, где я впоследствии буду говорить о старых мастерах, как о чем-то целом, мои слова не будут относиться ни к одному из исторических живописцев, к которым я питаю полное уважение; оно справедливо в своей основе, хотя, быть может преувеличено в степени. Далее, если я отдельно не упоминаю о Никола Пуссене, то и он не входит в число осуждаемых «старых мастеров». Его пейзажи имеют особый возвышенный характер, вследствие чего их необходимо рассматривать отдельно от всех других. Говоря вообще о старейших мастерах, я имею в виду только Клода, Гаспара, Пуссена, Сальватора Роза, Кюипа. Бергема, Бота, Рюисдаля, Гоббима, Теньера (в его пейзажах), Поттера, Каналетто и разных Ванов, разных Беков, а в особенности злят меня те, кто писал пасквили на море.
Я обязан, конечно, в начале своей работы изложить вкратце те принципы, которые, по моему мнению, должны лежать в основе всякой правильной художественной критики. Эти вступительные главы следует прочесть особенно внимательно, потому что всякая критика бесплодна, когда пределы и основания ее имеют двусмысленный характер. Обычный язык знатоков и критиков, даже допустив, что они сами понимают себя, для других представляется невнятным жаргоном благодаря их привычке употреблять технические термины, при помощи которых они хотят сказать все, а не говорят ничего.
В применении этих принципов я старался сохранить беспристрастие. Но если чувства и симпатии, которые я питаю к некоторым произведениям нового искусства, прорывались иногда там, где не следовало, то мне можно простить их.
§ 5. Пристрастие автора к новым творениям извинительно
Они служат противовесом тому благоговению, с которым читатель относится к творениям старых мастеров; в его уме эти последние всегда синонимы всего великого и совершенного. Я не говорю, что это уважение несправедливо, что мы не должны прислушиваться к голосу веков. Но не следует забывать, что если слава – удел мертвых, то благодарность возможна только по отношению к живым. Кто хоть однажды стоял над могилами и думал о невозвратном прошлом, сокрытом в них навеки, кто хоть раз почувствовал, что безумная любовь и острая скорбь сожаления бессильны доставить один миг наслаждения умолкшему сердцу, бессильны вознаградить успокоившийся дух за один час былой жестокости, тот едва ли примет на себя в будущем долг, который можно уплатить только бездыханному праху. Но урок, который люди могут воспринять, как отдельные индивидумы, они не в состоянии усвоить как нация. Они постоянно видели, как сходят в могилу славнейшие из них; они воображали, что достаточно увить гирляндой венков их могильные камни, и не возлагали венков на их чело; они воздавали пеплу те почести, в которых отказывали живому духу. Пусть же не сердятся, если посреди шума и сутолки повседневной жизни их пригласят прислушаться к немногим голосам, взглянуть на немногие светочи. Бог вложил в них звуки и свет, чтобы они восхищали людей и руководили ими; пусть люди не ждут того момента, когда звуки замолкнут и светочи угаснут для того, чтобы знакомиться с ними.
Глава II. Определение величия в искусстве
В пятнадцатой лекции Рейнольдса мимоходом упоминается о различии между двумя видами достоинств в художнике: одни принадлежат художнику как таковому, другие он разделяет со всеми людьми ума, это именно те главные и высокие силы, которые обнаруживаются и выражаются в искусстве, а не подчиняют его себе.
§ 1. Различия между интеллектуальными силами художника и техническими знаниями
Но различия этого не принимают в соображение так, как следовало бы. Только тем, что ему не уделяют должного внимания, можно объяснить, что критика открыта напыщенной болтовне и подвержена всевозможным заблуждениям. От такого различения зависит всякое здравое суждение о ранге художника и всякая правильная оценка достоинств художественного произведения.
Живопись, или искусство вообще, со всеми его техническими приемами, трудностями и специальными целями, есть в сущности не что иное, как благородный и выразительный язык, неоценимый в качестве проводника мысли, но ничего не значащий сам по себе.
§ 2. Живопись как таковая есть не что иное, как язык
Человек, изучивший то, что обыкновенно называют искусством рисования, т. е. искусство воспроизводить правильно предметы природы, такой человек, в сущности, изучил только язык, которым можно выражать свои мысли. К тому, в ком мы должны чтить великого художника, он стоит в таком же отношении, в каком человек, научившийся выражаться грамматично и благозвучно, находится к великому поэту. Правда, в первом случае язык труднее для усвоения, чем во втором; в первом случае он обладает большей способностью, говоря уму, доставлять в то же время наслаждение чувству. Но тем не менее он все-таки язык, и все качества, присущие специально художнику, составляют то же, что ритм, гармония, точность и сила в словах оратора и поэта; они необходимы для их величия, но они не служат доказательством их величия. Не способ изображения в живописи или речи, а то, что изображается в живописи или в речи, определяет в конце концов величие художника или поэта.
§ 3. «Живописец», термин, соответствующий слову «стихотворец»
Употребляя точные и правильные выражения, мы должны были бы называть человека великим живописцем, когда он обнаруживает верность и силу в языке линий, и назвать его великим стихотворцем, когда он проявляет верность и силу в языке слов. Выражение «великий поэт» было бы тогда определенным термином и буквально в одном и том же смысле было бы приложимо и к стихотворцу, и к живописцу, если бы это выражение оправдывалось характером образов или мыслей, которые каждый из них передал на своем специальном языке.
Возьмите для примера одно из совершеннейших поэтических произведений или картин (я употребляю эти слова в качестве синонимов), которые только известны новым временам, например, картину «Скорбящий о старом пастухе».
§ 4. Пример – картинка Ландсира
Здесь тщательно воспроизведена глянцевитая вьющаяся шерсть собаки, ясно и искусно очерчена зеленая ветка перед ней, необыкновенно чисто нарисовано дерево гроба и складки покрывала. Это – язык, язык в высшей степени чистый и выразительный. Но грудь собаки, всей тяжестью придавившая дерево; лапы, конвульсивно вцепившиеся в покрывало и стянувшие его с подножия; голова, в бессилии тяжело и неподвижно лежащая на его складках; заплаканные глаза, с безнадежным отчаянием устремившиеся в одну точку; мертвенный покой, свидетельствующий о том, что в агонии отчаянья она застыла в неподвижной, в неизменной позе после того, как прозвучал последний удар по крышке гроба, мрак и спокойствие, царящие в комнате; очки, указывающие страницу, на которой в последний раз была закрыта Библия, рисующая нам, как одинока была жизнь, как незамечена миром кончина человека, который теперь, покинутый всеми, спит беспробудным сном, – все это мысли, те мысли, который сразу выделяют картину из массы других, равных ей по чисто художественным достоинствам; это мысли, которые сразу возводят картину в разряд произведений высокого искусства, а в ее авторе обличают не аккуратного копировальщика кожи или складок драпировки, a человека ума.
Впрочем, не всегда легко и в живописи и в литературе определить, где кончается влияние языка и начинается влияние мысли.
§ 5.Трудность провести точную границу между языком и мыслью
Многие мысли до такой степени зависят от формы, в которую они облечены, что они потеряли бы половину своей красоты, если бы были выражены иначе. Но высшие мысли – те, которые в наименьшей степени зависят от языка; достоинство произведения и похвала, которой оно заслуживает, пропорциональны степени его независимости от языка или выражения. Произведение обыкновенно бывает вполне совершенным, если к истинным его достоинствам прибавить ту красоту и привлекательность, которые может дать выражение, но в каждом образце высшего достоинства все это не имеет значения. Нас более удовлетворяют простейшие линии или слова, представляющие идею во всей ее обнаженной красоте, чем наряды и драгоценные украшения, которые, украшая, скрывают. Лучше при отсутствии их сознавать, что они мало помогли бы, чем в присутствии их чувствовать, как много они испортили бы своим отсутствием.
Необходимо делать различие между тем, что служит в языке для украшения, и тем, что служит для выражения.
§ 6. Различие между декоративным и выразительным языком
Те элементы языка, которые необходимы для воплощения и передачи мысли, достойны уважения и внимания как необходимые условия превосходства, хотя они и не служат доказательством его. Но те элементы языка, которые служат для украшения, имеют к действительному превосходству картины не более отношения, чем ее лак или рама. И осторожность в различении того, что украшает, и того, что выразительно, особенно необходима в живописи. В самом деле, в языке слов тому, что невыразительно, почти невозможно быть красивым, разве только при помощи ритма и мелодичности, да и то каждую жертву, принесенную им, немедленно клеймят как промах. Но красота одного языка в живописи не только в высшей степени заманчива и привлекательна для зрителя, но и требует немалого напряжения ума и затраты времени от художника. Поэтому люди часто воображают, что стали ораторами и поэтами, когда в действительности они только научились говорить мелодично, а критики беспрестанно награждают почетным званием писателя тех, кто в сущности являлся только мастером красивого письма.
Большинство, например, картин голландской школы, за исключением Рубенса, Ван Дейка и Рембрандта, есть показная выставка способности художника говорить, ясно и сильно произносить бесполезные и бессмысленные слова.
§ 7. Примеры голландской и ранней итальянской школы
Между тем ранние попытки Чимабуэ и Джотто были пламенными пророческими посланиями, которые были возвещены невнятно лепечущими устами младенцев. Ставя первых выше, чем простых механиков, а вторых ниже, чем настоящих художников, нельзя образовать и возвысить вкус публики, всегда готовой к восприятию низших удовольствий и всегда недоступный для высших. Долг разумной критики тщательно различать, где язык и где мысль, определять место картин и воздавать им похвалу, главным образом, за последнюю, считая первый второстепенным достоинством, таким, которое никак нельзя сравнивать или класть на одни весы с мыслью. Картина, в которой больше идей, и при том более благородных, как бы нескладно они ни были выражены, выше и лучше картины, в которой меньше идей и в которой идеи менее благородны, как бы прекрасно ни выразили их. Никакие достоинства, солидность и красота выполнения не могут уравновесить одной крупицы мысли. Три штриха Рафаэля представляют собою высшую и лучшую картину, чем самые законченные произведения Карло Дольчи с их пустым внешним лоском. Законченные произведения великого художника только тогда выше его эскиза, если источники наслаждения, вытекающие из красок и выполнения – денные сами но себе, употреблены с целью усилить впечатление, произведенное мыслью. Но если ради них исчезнет хоть один атом мысли, то все краски, отделка, исполнение, всякая орнаментация – все это будет куплено слишком дорогой ценой. За мысль можно платить только мыслью. Когда усиление отделки и законченности картины начинают покупать ценой утраты хотя бы только оттенка, идеи, тогда всякая отделка и законченность превращаются в уродливые и безобразные наросты.
Из всех этих взглядов на искусство вытекает, что язык следует отличать от того, что он выражает, и подчинять мысли.
§ 8. Но существуют некоторые идеи, принадлежащие самому языку
Тем не менее следует помнить, что существуют идеи, неотделимые от самого языка, или, выражаясь точнее, каждое удовольствие, связанное с искусством, говорит кое-что уму. Чисто чувственное удовольствие глаза, получаемое от самого блестящего произведения в красках, есть ничто в сравнении с тем удовольствием, которое получает глаз от хрустальной призмы, если только в первом случае удовольствие не усиливается распознаванием смысла и намерения в группировке красок, группировке, явившейся результатом умственной работы. Мало того, понятие «идея», по определению Локка, следует распространить на самые чувственные впечатления, поскольку они «занимают ум при мышлении», т. е. как будто они получаются не глазом, а умом через глаз. Называя, таким образом, величайшей картиной ту, которая дает уму зрителя наибольшее количество и при том величайших идей, я сделал бы такое определение, которое включает в себе в качестве элементов, подлежащих сравнению, все наслаждения, какие только может доставить искусство.
§ 9. Определение
Если бы, с другой стороны, я признал за лучшую картину наиболее близкое подражание природе, я тем самым высказал бы мысль, что искусство может доставлять удовольствие только подражанием природе; я изъял бы из ведения критики те элементы художественного произведения, которые не относятся к подражанию, именно истинные красоты красок и форм, наконец, устранил бы целиком те произведения искусства, которые, подобно арабескам Рафаэля, не имеют совсем ничего общего с подражанием. Итак, необходимо такое широкое определение искусства, которое охватило бы все его разнообразные цели. Я не могу поэтому сказать, что величайшее художественное произведение есть то, которое доставляет наибольшие наслаждения, потому что существуют произведения искусства, цель которых учить, а не доставлять удовольствие. Я не назову далее величайшим то художественное произведение, которое наиболее поучительно, потому что существуют произведения, имеющие целью доставлять удовольствие, а не учить. Не говорю я также, что величайшее произведение – то, которое лучше всего подражает, потому что некоторые произведения имеют целью творить, а не подражать. Но я говорю, что величайшее художественное произведение – то, которое доставляет уму зрителя, какими то ни было средствами, наибольшее число наиболее великих идей. А я называю идею тем более великой, чем более высокой способностью ума она воспринята, чем полнее она занимает и, занимая, упражняет и возвышает ту способность, которой воспринята.
Если таково определение великого художественного произведения, то из него вытекает определение великого художника. Величайший художник тот, кто воплотил в сумме своих творений наибольшее число наиболее великих идей.
Глава III. Идеи силы
Определение искусства, только что сделанное мною, заставляет меня указать, какого рода идеи можно получить от произведений искусства и какие из них являются величайшими, прежде чем я перейду к их критическому разбору на практике.
§ 1. Какие классы идей могут передаваться искусством
Я думаю, что все источники удовольствия или другого добра, проистекающего из произведений искусства, можно разбить на пять различных групп.
I. Идеи Силы. – Распознание и постижение духовных и физических сил, которыми создано данное произведение.
II. Идеи Подражания. – Распознание того, что данное произведение напоминает что-то другое.
III. Идеи Правды. – Распознание правильности в передаче фактов данным произведением.
IV. Идеи Красоты. – Распознание красоты или в данном произведении, или в том, что оно передает или напоминает.
V. Идеи Отношения. – Распознание умственных отношений в данном произведении или в том, что оно передает или напоминает.
Я вкратце разъясню природу и действие идей каждого из этих классов.
I. Идеи силы. – Они – простое распознание духовных и физических сил, деятельностью которых производится какое-нибудь художественное произведете.
§ 2. Идеи силы весьма различны по своему достоинству
Достоинство идеи соответствует достоинству и степени усмотренных сил. Но ум воспринимает целый ряд идей, и они возбуждают лучшие нравственные чувства, благоговения и жажду деятельности. Таким образом как известный класс он принадлежит к числу благороднейших элементов искусства. Но по степени и достоинству они разнообразятся до бесконечности, сообразно с разрядом силы, начиная от силы пальцев и кончая силой самого высокого ума. Таким образом, когда мы видим весло индийца с резьбою от ручки до лопасти, мы угадываем в нем продолжительный ручной труд, и наше удовольствие пропорционально предполагаемой затрате времени и труда. Эти силы принадлежат к низшему разряду, впрочем, удовольствие, которое получается от распознания их, весьма широко входит в наше восхищение всяким выработанным орнаментом, архитектурным украшением и т. д. Наслаждение, с которым мы смотрим на украшенный фресками фасад Руанского собора, в значительной степени зависит от сознания того, что на сооружение его затрачено много времени и труда. Но это законное, облагораживающее удовольствие даже в этот низшем фазисе, и даже удовольствие людей, расхваливающих произведение за «законченность», за «работу», – в сущности, удовольствие того же характера, – было бы законно, если бы оно не сопровождалось недостаточным пониманием высших сил, благодаря чему работа перестает быть необходимой. Если к наличности труда присоединить мощь и ловкость, то впечатление силы увеличится. Если к мощи и ловкости прибавить изобретательность и мысль, это впечатление усилится неизмеримо. Итак, во всех созданиях тела и духа чем выше силы, тем возвышеннее получаемое нами удовольствие.
До сих пор природа и действие идей силы могут быть признаны всеми.
§ 3. Но получаются от всего, что является объектом силы. Значение слова «превосходство»
Но именно тот факт в отношении их, на котором я намерен особенно настаивать, может быть, не так легко согласятся признать, именно тот факт, что они не зависят от природы, – или достоинства предмета, от которого они получены. И что бы ни послужило объектом для великой силы, есть ли истинное и бесспорное достоинство в нем или нет, но раз оно стало объектом великой силы, оно способно дать идеи силу, a следовательно, и все наслаждения в полной мере. В самом деле, нельзя сказать о чем-нибудь, что оно явилось результатом великой силы, если истрачена только часть силы. Орех можно расколоть при помощи паровой машины, но он не является объектом силы этой машины. Поэтому несправедливо говорят о великих людях, что они тратят свои высокие силы на недостойные предметы. Предмет может быть вредным или бесполезным, но поскольку упомянутая фраза касается трудности исполнения, он не может быть недостоин силы, деятельность которой вызвал, не может стать объектом действия высшей силы, то, что можно выполнить меньшей силой, как нельзя употребить физической силы там, где не оказано ей сопротивления.
Итак, люди могут дозволить дремать своим великим силам, пока они употребляют свои мелкие и незначительные силы на мелкие и незначительные цели. Но физически невозможно употребить великую силу на что-нибудь другое, кроме великой цели. Следовательно, где бы ни действовала сила всякого рода и размера, следы и признаки ее отпечатлеются на ее результатах. Невозможно затерять, упустить ее или оставить без отчета в оценке даже волоска. Итак, что бы ни послужило объектом великой силы, оно несет на себе образ этой силы, создавшей его, и является тем, что обыкновенно называют словом «превосходный». В этом настоящее значение слова «превосходный» в отличие от слов «прекрасный», «полезный», «добрый» и т. п. И мы всегда будем употреблять это слово в том смысле, что предмет, к которому оно применено, потребовал большей силы для своего создания[17].
Умение понять, какие требовались силы для создания чего-нибудь, есть умение понять превосходство.
§ 4. Что требуется для того, чтобы отличить превосходство
Это та способность, которой не имеют даже люди, обладающие самым развитым вкусом, если их размышление не соединено с практическим знанием, потому что никто не может оценить силы, проявившейся в той или другой победе, если он лично не измерил той силы, которую предстояло победить. Развив в себе чувство и способность суждения, можно научиться различать прекрасное. Но невозможно никоим образом без практических знаний различать или чувствовать превосходное. Красоту или правдивость телесного цвета у Тициана могут оценить все – но только для художника, который, затратив долгие часы, не добился даже малейшего сходства с Тицианом, будет ясно его превосходство.
Всякий раз, когда побеждена трудность, имеется налицо превосходство.
§ 5. Удовольствие, соединенное с преодолением трудностей, законно
Поэтому вместо того, чтобы доказывать превосходство произведения, можно доказать только трудность его создания. Полезно ли оно и прекрасно, это – другой вопрос. Превосходство же его зависит исключительно от его трудности. И не следует считать ложным или нездоровым вкус, который ищет преодоления трудностей, и находить наслаждение в нем одном, независимо от того добра, которое получится в результате. То обстоятельство, что мы должны ощущать удовольствие в столкновении с противодействующей силой и в преодолении ее и при том ради самой борьбы и победы, а не ради каких-нибудь других последствий, – это обстоятельство составляет один из элементов нашей нравственной природы. И не только наша собственная победа, но и достижение победы другого всегда служат источником чистого и облагораживающего удовольствия. Мы часто слышим справедливое замечание, что художник сделал ошибку, стараясь более обнаружить умение в преодолении технических трудностей, чем в достижении великой цели; рассуждая таким образом, художника, в сущности, упрекают в том, что он стремился скорее преодолеть низшую трудность, чем великую. В самом деле, гораздо легче преодолеть технические трудности, чем достигнуть великой цели. Когда ту победу над трудностями, которую можно видеть, находят неудовлетворительной и неверной, это следует, приписать тому, что низшая трудность была предпочтена высшей, или просто неумению распознать, что трудно и что нет. Гораздо труднее быть простым, чем сложным. Гораздо труднее пожертвовать своим умением и остановить свою деятельность вовремя, чем тратить и то и другое без разбору. В дальнейшем нашем исследовании мы убедимся, что красота и трудность идут вместе и что те трудности, бороться с которыми не стоит, – трудности низшие и ничтожные. Затем следует помнить, что сила никогда не тратится попусту. Какую бы силу ни употребили, результатом ее всегда будет превосходство, пропорциональное ее собственному достоинству и деятельности. И умение постигнуть эту деятельность и оценить это достоинство есть способность постигнуть превосходство.
Глава IV. Идеи подражания
Фузели в своих лекциях и многих другие лица, равные ему в правильности и точности мышления (между прочим, С. Т. Кольридж), различают подражание и копирование, считая первое законной функцией искусства, а второе – искажением его.
§ 1. Неправильное употребление термина «подражание» некоторыми писателями
Но так как это различие совершенно недоказано ими или объяснено только посредством обычного значения обоих слов, то нелегко понять в точности, в каком смысле их употребляют эти писатели. Впрочем, из контекста я могу заключить, с какими идеями соединяются в их уме эти слова. Но я не могу признать правильным их понимания: для них эти слова являются символами идей (особенно слово «подражание»), в высшей степени сложных и совершенно отличных от того, что понимают обыкновенно под ними большинство. А люди, привыкшие к менее точному мышлению, употребляют эти слова в еще более запутанном и неправильном смысле. Например, Берк (Treatise on the Sublime, part 1, sect. 16) говорит: «Когда предмет в живописи или в поэзии передан так, что желание видеть его в действительности становится излишним, тогда можно быть уверенным, что данная сила в поэзии и живописи есть сила подражания». В этом случае удовольствие проистекает от того, о чем мы говорили выше, т. е. от ловкости руки художника, или от красивой или оригинальной группировки красок, или от обдуманного распределения света и тени, или от чистой красоты известных форм, на которые искусство обращает наше внимание, хотя мы могли бы не заметить их в действительности. И я убежден, что ни один из этих источников удовольствия нельзя передать даже приблизительно словом «подражание».
Но есть один источник удовольствия в художественных произведениях, совершенно отличный от всех этих, и его-то, по моему мнению, можно вполне верно и точно передать словом «подражание». Этот источник в рассуждении всегда неясен, потому что в действительности он всегда соединяется с другими средствами удовольствия, но по природе своей он совершенно отделен от них. Он есть настоящий базис всех тех сложных и разнообразных значений, которые могут быть впоследствии связаны с этим словом в человеческих умах.
Я желаю раз и навсегда точно определить этот особый источник удовольствия и употреблять слово «подражание» только в применении к нему.
Когда предмет похож на то, что он не есть в действительности и когда сходство настолько велико, что почти обманывает нас, мы всегда испытываем чувство некоторого приятного по неожиданности изумления,
§ 2. Истинное значение этого слова
некоторое умственное возбуждение, совершенно такое же по своей природе, как то, которое мы получаем от ловкого фокуса, Когда мы замечаем это в каком-нибудь произведении искусства, т. е. когда произведение нашему глазу кажется похожим на то, что оно не есть в действительности, как нам известно, мы получаем то, что я называю идеей подражания. Почему нравятся подобные идеи, решение этого вопроса не входит в задачу моего исследования. Мы знаем одно: что нет человека, который бы не чувствовал в своей животной природе удовольствия от приятной неожиданности, а неожиданности этой нельзя вызвать лучшим способом, как обнаружив, что предмет не есть то, чем кажется. Два элемента требуются для полного и наиболее приятного восприятия этой неожиданности: во-первых, сходство должно быть настолько совершенно, чтобы достигать полной иллюзии, во-вторых, одновременно каким-нибудь путем должно быть обнаружено, что мы имеем дело с обманом.
§ 3. Что требуется для чувства подражания
Поэтому самые совершенные идеи и удовольствие подражания получаются иногда, когда одно чувство идет вразрез с другим, но каждое дает относительно предмета такое положительное свидетельство, какое оно способно дать; когда глаз, например, говорит, что предмет кругл, а палец утверждает, что он имеет плоскую поверхность. И нигде эти идеи и это удовольствие не ощущаются в такой степени, как в живописи, где иллюзия выпуклости, закругленности, шерсти, бархата и т. д. даются ровной поверхностью или в восковой работе, где первое свидетельство чувств постоянно идет вразрез с опытом. Но когда мы переходим к мрамору, наше определение заставляет нас остановиться, потому что мраморные фигуры не выглядят тем, что они не есть в действительности; они выглядят мрамором и подобны человеческой форме, но они и в действительности мрамор и человеческой формы. Они не кажутся человеком, что они не есть в действительности, а кажутся формой человека, что они в действительности и представляют собой. Форма есть форма и bona fide и в действительности, все равно в мраморе или в коже – но подражание или подобие формы, а реальная форма. Контур древесной ветки, сделанный карандашом на бумаге, не есть подражание, он имеет вид карандаша и бумаги, а не дерева. То, что он сообщает уму, не есть подобие формы ветки, это сама форма ветки. Итак, мы видим, каковы границы идеи подражания; она распространяется только на ощущение ловкости и обмана; это ощущение получается тогда, когда предмету умышленно придали вид того, что он не есть в действительности. И степень удовольствия зависит от степени различия и от совершенства сходства, а не от природы предмета, с которым сходно данное произведение. Удовольствие, проистекающее только от подражания, будет совершенно одинаково (если точность подражания одинакова), независимо от того, является ли предметом подражания герой или его лошадь. Существуют другие побочные источники удовольствия, которые неизбежно соединяются с этим, но та часть удовольствия, которая зависит от подражания, одинакова в обоих случаях.
Идеи подражания, таким образом, являются благодаря удовольствие нечаянности, и притом нечаянности не в ее высшем смысле и высшей функции, а мелкой и низшей нечаянности, которая поражает нас в фокусах.
§ 4. Удовольствие, получаемое от подражания, принадлежит к числу самых низких, какие только может доставить искусство
Эти идеи принадлежать к числу самых низких, какие только проистекают из искусства. Во-первых, потому, что для наслаждения ими необходимо, чтобы ум отбросил впечатление, обратился к предмету, который воспроизведен, и сосредоточился целиком на мысли, что предмет не есть то, чем кажется. Всякая высшая и благородная эмоция становится таким образом физически невозможной, так как ум удовлетворяется чисто чувственным наслаждением. Мы можем, например, смотреть на слезы двояко: они или вызваны страданием, или искусственны, но они не могут быть и тем, и другим одновременно. Если нас поразили они в первом смысле, они не могут тронуть нас в то же время как проявления искусства.
Во-вторых, идеи подражания низки по следующей причине: они не могут помешать зрителю наслаждаться красотой предмета, но их можно получить только от предметов мелких и незначительных потому, что невозможно подражать чему бы то ни было действительно великому.
§ 5. Подражание возможно только по отношению к ничтожным предметам
Мы можем нарисовать кошку или скрипку в таком виде, что покажется, будто их можно схватить, но мы не можем подражать океану или Альпам. Мы можем подражать плодам, но не дереву, цветам, но не пастбищу. Мы можем подражать стеклышку, но не радуге. Все картины, в которых обнаружены обманчивые силы подражания, или затрагивают ничтожные сюжеты, или являются применением силы подражания только в ничтожнейших своих частях, например, в платье, в бриллиантах, в мебели и т. д.
В-третьих, эти идеи ничтожны, потому что никакие идеи сил не связаны с ними.
§ 6. Подражание – ничтожное искусство, потому что оно легко
Для несведущих людей подражание действительно кажется трудным, а успех его – достойным всяческой похвалы. Но даже эти люди не могут видеть в художнике больше, чем в фокуснике, который достигает удивительных результатов неведомыми для них средствами. Для человека осведомленного фокусник в этом отношении гораздо выше художника; такой человек знает, что ловкость руки фокусника достижима гораздо труднее и требует гораздо большей изобретательности, чем искусство обманывать подражанием в живописи; для последнего нужно выработать в себе только верность глаза, твердость руки и обыкновенную усидчивость. Эти качества ничуть не отличают художника – подражателя от часовщика, фабриканта булавок и другого аккуратного добросовестного ремесленника. Эти замечания не относятся к диораме и к театральной сцене, где удовольствие не зависит от подражания; оно должно быть здесь таким, какое мы получаем от самой природы, только меньше по своему размеру. Это – благородное удовольствие, но в своем дальнейшим исследовании мы, во-первых, увидим, что оно ниже того удовольствия, которое мы получим, когда совсем нет обмана, и во-вторых, узнаем, почему это так бывает.
Итак, когда я буду говорить об идеях подражания, я желал бы, чтобы правильно понимали меня.
§ 7. Повторение
Я разумею под этим непосредственное и немедленное постижение того факта, что предмет, созданный искусством, «не есть то, чем он кажется». Я предпочитаю говорить: «не есть то, чем кажется» вместо того, чтобы говорить: «кажется тем, что не есть в действительности». В первом случае мы сразу узнаем, чем он кажется, и идея подражания и вытекающее из него удовольствие являются результатом последующего соображения, что предмет есть нечто другое, например, плоский, когда его считали круглым.
Глава V. Идеи правды
Слово «правда» в применении к искусству обозначает верную передачу какого бы то ни было факта природы уму или чувству.
§ 1. Значение слова «правда» в применении к искусству
Мы получаем идею правды тогда, когда постигаем верность такой передачи.
Различие между идеями правды и подражания заключается главным образом в следующих пунктах.
Во-первых – и подражание может относиться только к предметам материальным, но правда относится к передаче как свойств материальных предметов, так и чувств, впечатлений и мыслей.
§ 2. Первое различие между правдой и подражанием
Существует правда нравственная так же, как и материальная, правда впечатления так же, как и форм, мысли как и материи, причем правда впечатления и мысли несравненно важнее из двух категорий. Отсюда правда – термин, имеющий универсальное применение, подражание же ограничивается узкой сферой искусства, компетенция которой простирается только на материальные предметы.
Во-вторых, правда может быть передана известными знаками и символами, имеющими определенное значение в умах тех людей, к которым они обращены, хотя сами по себе такие знаки не имеют ни подобия, ни сходства с чем бы то ни было. Что возбуждает в уме представление об известных фактах, то может дать идею правды, хотя бы оно отнюдь не было подражанием или подобием этих фактов. В живописи нет таких элементов. которые, подобно словам, оперируют не с помощью сходства, а воспринимаются в качестве символов, заменяющих сходство и производящих одинаковый с ним эффект. Но если бы в живописи существовали подобные элементы, то этот проводник мог бы в неиспорченном виде передать правду, хотя он совершенно быль бы лишен сходства с передаваемыми фактами. Но идеи подражания требуют, конечно, сходства с предметом; они говорят только о способности различающей, а не воспринимающей.
Третье и последнее различие заключается в том, что передача одного свойства предмета может дать идею правды; между тем идея подражания требует сходства со столькими свойствами предмета, сколько, по нашему представлению, их существует в действительности. Контур древесной ветки, сделанной карандашом на белой бумаге, есть передача известного числа фактов формы.
§ 4. Третье различие
И тем не менее здесь нет подражания чему бы то ни было. Идея этой формы отнюдь не дается в природе линиями, a тем менее черными линиями с белым пространством между ними. Но эти линии дают уму впечатление известного числа фактов, и он признает в нем сходство с прежним впечатлением от древесной ветки; благодаря этому он получает идею правды. Если вместо двух линий мы даем сплошную темную форму, сделанную кистью, мы передаем известное соотношение теней между веткой и небом; в этом соотношении можно признать другую идею правды. Но мы все-таки не имеем подражания, потому что белая бумага отнюдь не похожа на воздух, а черная тень – на дерево. Только соединив известное число идей правды, мы доходим до идеи подражания.
Вследствие этого на первый взгляд может показаться, что идея подражания, поскольку в ней соединяются несколько идей правды, благороднее простой идеи правды.
§ 5. Точная верность не представляет необходимости для подражания
Это было бы так, если бы дело шло об идеях совершенных, если бы они были предметом созерцания. Но для того, чтобы произвести эффект подражания, нужны только те идеи правды и в таком числе, чтобы их могли познать обыкновенные чувства. Чувства, пока они одни служат для этой цели, могут постигнуть точно правду или верность только пространства и поверхности. Требуется продолжительный труд и прилежание, прежде чем они приобретут способность улавливать далее простейшую правду форм. Например, в картине Клода Приморский порт (№ 14 в Национальный галерее) набережная, на которой помещается фигура человека, приподнявшего руку к глазам, слишком груба в отношении перспективы; глаз художника при всем его старании не приобрел способности улавливать видимую форму даже простого параллелепипеда; насколько ж менее способен он улавливать сложные формы ветвей, листьев или членов? Хотя, таким образом, некоторое сходство с реальными формами необходимо для того, чтобы создать обман, это сходство нельзя назвать правдой формы, потому что, выражаясь точно, нет степеней истины, а существуют только степени приближения к ней, а такого приближения к ней, которого слабость и несовершенство оскорбят и поразят ум, способный к различению правды, такого приближения вполне достаточно для целей обманывающего подражения. То же относится и к краскам. Если бы мы вздумали нарисовать голубое небо или розовую собаку, у публики оказалось бы достаточно вкуса, чтобы понять фальшь такого рисунка. Но достаточно приблизиться к верности красок, насколько этого требуют обычные представления публики, т. е. достаточно сделать деревья ярко-зелеными, кожу сплошь светло-желтой, а землю сплошь темной, и цели подражания достигнуты, хотя бы при этом реальная и утонченная правда была бы совершенно потеряна, или вернее, хотя бы ею пренебрегли и даже впали бы в противоречие с нею. Единственные факты, которые мы обыкновенно постоянно и с уверенностью постигаем – это факты пространства и поверхности. И если они переданы сносно и притом с некоторым подобием правды в формах и красках, идея подражания достигнута. Я берусь нарисовать руку, где каждый мускул будет не на месте, каждая кость неправильной формы, а положение суставов изменено, но при этом вы заметите известное общее грубое сходство с верным контуром, которое при старательном наложении теней может ввести в обман и даже удостоиться похвал со стороны публики и доставить ей удовольствие. Недавно в Брюгге в тот момент, когда я пытался в своей записной книжке набросать неизъяснимое изображение Мадонны в тамошнем соборе, какой-то француз-любитель подошел ко мне и спросил, видал ли я новые французские картины в соседней церкви. Я не видал, но не чувствовал охоты покидать мой мрамор для всех полотен, которые когда бы то ни было пострадали от французской кисти. Моя апатия встретила атаку восторгов, которая с каждый минутой возрастала. «Рубенс никогда так не творил, у Тициана не было подобных красок!» Я заметил, что все это очень возможно, и не двинулся с места. Голос над моим ухом продолжал: «Сударь! Сам Микеланджело не создал ничего более прекрасного!» «Более прекрасного?» – переспросил я, желая узнать, какие, собственно, достоинства Микеланджело должно было обозначать это слово «Не может быть более прекрасного, сударь, не может! Это удивительная картина, непостижимая! – сказал француз, подымая руки к небу, словно он хотел в последней, победоносной фразе сконцентрировать все достоинства, которыми были одарены Рубенс и несравненный Буонаротти: – Это, сударь, нечто из ряду вон выходящее!»
Этот господин, очевидно, мог понимать только две истины – цвет кожи и поверхность. Они составляли его понимание совершенства в живописи потому, что они соединяют в себе все, что необходимо для обмана. Он поэтому не знал ничего об идеях правды, хотя превосходно понимал идеи подражания.
Когда мы будем впоследствии изучать идеи правды, мы увидим, что идеи подражания не только не предполагают их присутствия, но даже несовместны с ними, и картины, которые подражают с целью обманывать, никогда не бывают правдивы.
§ 6. Идеи правды несовместимы с идеями подражания
Но здесь не место доказывать это; в настоящее время мы остановимся только на последнем и величайшем различии между идеями правды и подражания. Получая первые, ум сосредоточивается на познании переданного ему факта, формы или чувства; он занят только качествами и характером этого факта и формы, рассматривая их как реальные и существующие все время: при этом он игнорирует знаки и символы, посредством которых ему дано представление о них. Эти знаки не носят в себе ни претенциозности, ни лицемерия, ни жонглерства. В них нечего разгадывать, исследовать, нечему удивляться: они приносят свою весть просто и ясно, и эту весть ум воспринимает от них и удерживает, не обращая внимания на язык, которым она передается. Но получая идею подражания, ум всецело занят установлением того факта, что переданное ему не есть то, чем оно кажется. Он останавливается не на впечатлении, а на распознании его ложности. Его удовольствие проистекает не от созерцания правды, а от обнаружения лжи. Итак, если идеи правды группируются вместе, чтобы дать идею подражания, они изменяют своей природе, теряют свою сущность в качестве идей правды, портятся и унижаются, участвуя в вероломном предательстве того, что они сами создали. Отсюда следует, что идеи правды являются основанием, а идеи подражания – ниспровержением всякого искусства. Мы лучше оценим их сравнительное достоинство впоследствии, когда изучим то, что, по нашему мнению, составляет функции идей правды. Но мы можем уже теперь высказать то заключение, к которому мы тогда придем. Не может быть хороша ни одна картина, вводящая в обман посредством подражания, по той простой причине, что все, что не правдиво, не может быт прекрасным.
Глава VI. Идеи красоты
Всякий материальный предмет, который может доставить наслаждение, благодаря простому созерцанию его внешних качеств, без прямого и определенного усилия ума, я называю в некотором отношении и в известной степени прекрасным. Почему мы получаем удовольствие от одних форм и краски, а не от других, подобный вопрос равносилен вопросу, почему мы любим сахар и не любим полыни. Самое тщательное и тонкое исследование приведет нас только к первоначальным инстинктам и принципам человеческой природы, для которых нельзя подобрать никакой дальнейшей причины, кроме воли Божества, пожелавшей, чтобы мы именно таким образом были созданы. В самом деле, насколько мы знакомы с Его природой, мы можем понять следующее: мы устроены так, что, находясь в здравом и развитом состоянии ума, мы чувствуем удовольствие от всего того, что освещает эту природу. Но мы получаем от них это удовольствие не потому, что они освещают ее, не от того, что мы постигаем это; мы чувствуем удовольствие инстинктивно и неизбежно, как получаем чувственное удовольствие от аромата розы. С этими первоначальными элементами нашей природы воспитание и случай оперируют до бесконечности разнообразно. Эти элементы можно развивать и задерживать, можно направлять в известном смысле или разрушать, посредством надлежащего ухода их можно одарить в высшей степени тонким и непогрешимым чувством, a пренебрежением довести их до всякого рода заблуждений и болезней. Человеком вкуса называется тот, кто всегда следовал за этими естественными законами отвращения и желания, делая их все более властными посредством постоянного повиновения, кто таким образом постоянно наслаждался тем, что по первоначальному замыслу Всевышнего должно было доставить ему наслаждение и кто извлек высшую сумму наслаждения из всех данных предметов.
Таков истинный смысл этого спорного слова. Совершенный вкус есть способность получать возможно величайшее наслаждение от тех материальных источников удовольствия, которые привлекательны для нашей нравственной природы в ее совершенстве и чистоте. Кто
§ 2. Определение термина «вкус»
получает мало удовольствия из этих источников, у того недостаточно вкуса. Кто получает удовольствие от других источников, помимо этих, у того ложный или дурной вкус.
И таким образом термин «вкус» следует отличать от слова «суждение». Суждение – общий термин, выражающей определенную деятельность ума и применимый ко всякого рода предметам, которые могут подвергнуться ему.
§ 3. Различие между вкусом и суждением
Может быть суждение относительно соответствия чего-нибудь, суждение о правде, справедливости, суждение о трудности и превосходстве. Но все эти виды деятельности ума совершенно отличны от вкуса, в его специальном смысле. Вкус есть инстинктивное и мгновенное предпочтение одного материального предмета другому без всякой видимой причины, за исключением той, что человеческой природе свойственно так поступать по ее совершенству.
Заметьте, что, отстраняя из идеи красоты непосредственную деятельность интеллекта, я вовсе не имею в виду утверждать, что красота не оказывает действие на ум и не имеет связи с ним.
§ 4. В каких пределах красота может быть интеллектуальной
Все наши нравственные чувства так сплетены с нашими умственными способностями, что мы не можем действовать не одни, не обращаясь до некоторой степени к другим. И во всех высших идеях красоты значительная доля удовольствия, очень вероятно, зависит от тонких, неуловимых представлений соответствия, целесообразности, связности представлений чисто интеллектуальных, через которые мы доходим до благороднейших идей о том, что справедливо принято называть «умственной красотой». Но здесь все-таки нет непосредственной деятельности ума, т. е. если лицо, получающее даже благороднейшую идею простой красоты, спросит, почему он любит предмет, возбудивший его, он не сумеет ни указать определенной причины, ни отыскать в уме своем какой-нибудь стройной мысли, к которой он мог бы обратиться как к источнику удовольствия. Он скажет, что предмет услаждает, заполняет, освящает, возвышает его ум, но он не сумеет указать, почему или как. Если он может заявить, что он находит в предмете выражение определенной мысли, то он получил уже более, нежели идею красоты, это – идея соотношения.
Идеи красоты принадлежат к числу благороднейших, какие только можно представить уму человека; они неизменно возвышают и очищают его, смотря по степени их. Можно подумать, что Бог с умыслом заставил нас быть постоянно под их влиянием, потому что в природе нет ни одного предмета, который не способен дать их и который правильно познающему уму не представил бы неизмеримо большее число прекрасных, чем бесформенных частей.
§ 5. Высокий ранг и назначение идей красоты
Да и едва ли в чистой неиспорченной природе существует настоящее уродство; существуют только степени красоты или такие незначительные и редкие пункты контраста, которые могут сделать все окружающее еще более ценным своей противоположностью; черные пятна в природе заставляют сильнее чувствовать ее краски.
Но хотя все в природе более или менее прекрасно, каждый вид предметов имеет свою степень красоты; одни по своей природе прекраснее других, а немногие, если есть такие, индивидуумы, обладают высшей степенью красоты, на какую только способен их род.
§ 6. Значение термина «идеальная красота»
Крайняя степень родовой красоты, неизбежно соединяющаяся с высшим совершенством предмета в других отношениях, есть идеал предмета.
Следует далее запомнить, что идеи красоты являются предметами нравственного, а не умственного познания. Исследуя их, мы придем к пониманию идеальнейших предметов искусства.
Глава VII. Идеи отношения
Я употребляю этот термин скорее потому, что он удобен, а не потому, что он действительно вполне выражает тот обширный класс идей, которые мне бы хотелось объединить под этим термином в понимании людей.
§ 1. Общий смысл термина
Мне хотелось бы объединить под ним все те сообщаемые искусством идеи, которые являются предметами особого восприятия и деятельности для ума, и которые поэтому заслуживаюсь названия умственных. Но как всякая мысль или определенная деятельность ума заключает в себе два элемента и некоторую связь или отношение между ними, то термин «идеи отношения» не есть что-то неправильное, хотя он мало выражает.
Под этим названием следует объединить все, что создает выражение, чувство и характер, в фигурах ли или в пейзаже (потому что можно столь же определенно выразить и передать специальные мысли, оперируя с бездушной природой, как и оперируя с одушевленной).
§ 2. Какие идеи следует понимать под ним
все, что касается мысли сюжета, соответствия и соотношения его частей; не тогда, когда каждая из них усиливает красоту другой при помощи известных и постоянных законов композиции, но когда каждая дает другой выражение и смысл благодаря тому, что из нее сделано специальное употребление; оно при этом требует определенной мысли для своего обнаружения и для того, чтобы доставить наслаждение. Под наш термин подходит, например, выбор особого мрачного, страшного света для того, чтобы осветить инциндент, страшный сам по себе, или выбор чистого цвета особого тона для того, чтобы подготовить ум к выражению тонкого и нежного чувства; еще высший смысл этот термин получает тогда, когда под ним разумеют умение изобрести такие инцинденты и мысли, который можно выразить в словах так же, как и на полотне, и которые совсем не зависят от каких бы то ни было средств искусства, кроме средств, могущих содействовать их пониманию. Главный предмет на переднем плане картины Тернера Построение Карфагена – группа детей, пускающих игрушечные лодки. Тонкое чутье сказалось в выборе такого эпизода, выражающего преобладающую страсть, основу будущего величия, в предпочтении, которое оказано этому эпизоду пред суетней занятых каменщиков и вооруженных солдат. И этот инцидент был бы не менее ценным в рассказе, чем в наглядной передаче; здесь нет места техническим трудностям живописи. Перо передало бы эту же идею и сказало бы уму не меньше, чем тщательная реализация в красках. Такие мысли, как эта, представляют собой нечто высшее, чем всякое искусство. Это эпическая поэзия высшего порядка. Клод в сюжеты подобного рода обыкновенно вводит людей, которые тащат красные сундуки с железными замками. При этом художник с ребяческой радостью останавливается на глянце кожи и орнаментовке железа, уму здесь нечего делать. Мы должны любоваться или подражанием, или ничем. Следовательно, Тернер превосходит Клода с первого же момента в концепции картины и достигает интеллектуального превосходства, которого не отнимут у него никакие способности рисовальщика или художника (предполагая, что таковые имеются у его соперника).
Таковы функции и сила идей отношения. Они, как я заявил во второй главе настоящего отдела, принадлежат к благороднейшим элементам искусства.
§ 3. Высшее благородство этих идей
От остальных сложных источников удовольствия они зависят лишь постольку, поскольку дело идет о выражении, и потому они по сравнению с собою низводят эти источники на степень только языка или декорации; мало того, даже благороднейшие идеи красоты стоят ниже их и играют подчиненную или служебную роль. Упомянутой выше картине Ландсира (гл. II, § 4) мало принесло бы пользы, если бы форма собаки была схвачена с наивысшим совершенством изгибов и колорита, на которые только способна природа, и если бы идеальные линии были выполнены с искусством Праксителя; мало того, в тот момент, когда совершенство красоты ворвалось бы в то впечатление, которое дает изображение муки и отчаяния, когда красота отвлекла бы ум от чувств животного к его внешним формам, в этот момент картина стала бы уродливой и потеряла бы свой возвышенный характер. Гениальнейшее изображение человеческого тела есть ничтожный предмет для содержания по сравнению с теми чувствами, деятельностью и характером, которые одушевляют его. Блестящая отделка членов Афродиты тускнеет перед видом Мадонны; дивные формы греческих божеств (за исключением тех, которые воплотили и выразили божественную мысль) несравненно ниже страстных и пророческих изображений Сикстинской капеллы.
Идеи отношения в искусстве вообще являются самыми широкими и важными источниками удовольствия.
§ 4. Почему нет надобности в более подробном подразделении столь обширного класса
Если бы мы предполагали заняться критикой исторических произведений, было бы нелепо сделать подобную попытку без более подробного распределения и подразделения идей отношения. Но старые пейзажисты создали столько полотен, не прилагая ума и обращаясь к нему, что нам не встретятся затруднения при рассмотрении сюжетов, затронутых ими. А всякое подразделение, которое мы могли бы предложить, поскольку оно имеет отношение к произведениям современных художников, будет понято лучше тогда, когда мы приобретем некоторое знакомство с этими произведениями в других менее важных отношениях.
Итак, термином «идеи отношения» я буду выражать все те источники удовольствия, которые заключают в себе и требуют от других, в момент их постижения, активной деятельности интеллектуальных сил.
Отдел II. Силы
Глава I. Общие принципы, относящиеся к идеям сил
В последнем отделе мы видели, какие классы идей могут быть передаваемы искусством.
§ 1. Нет необходимости в детальном изучении идей подражания
Мы сумели настолько оценить их относительное достоинство, чтобы убедиться в следующем: можно совершенно исключить из списка идеи подражания, поскольку они применяются к целям законной критики: во-первых, эти идеи, как мы доказали, не заслуживают того, чтобы художник стремился их дать; во-вторых, они – не что иное, как результат особой ассоциации идей правды. При анализе правды искусства нам придется отметить те специальные виды правды, сочетание которых дают идеи подражания. Тогда мы с большей ясностью убедимся в незначительности этих видов правды: мы увидим, что присутствие их дает нам возможности обнаружить несовершенство картины, и мы будем говорить о ней: «Она обманывает, следовательно она должна быть плоха».
Идеи силы нельзя рассматривать как совершенно особый класс не потому, чтобы они были мелки и неважны, но потому, что они почти всегда соединяются вместе с некоторыми другими идеями или зависят от них.
§ 2. А также в особом изучении идей силы
Таковы именно высшие идеи правды, красоты или отношения, передаваемые с решительностью или быстротой. Та сила, которая доставляет нам удовольствие в эскизе великого художника, не похожа на способность учителя чистописания, на простую ловкость руки. Истинными источниками удовольствия служат точность и верность знания, проявившиеся благодаря быстроте и отважности выражения. Итак, в каждой трудности искусства, будет ли это знание, или повествование, или изобретательность, впечатление силы получается тогда, когда мы видим, что трудность побеждена вполне и быстро. Вследствие этого, устанавливая то, что желательно в отношении других идей, мы постепенно будем раскрывать источники идей силы. И если бы было что-нибудь трудное, что желательно помимо других идей, то оно должно быть рассмотрено впоследствии отдельно.
Но в настоящее время необходимо отметить особую форму идей силы, которая отчасти не зависит от знания правды или трудности и которая способна испортить суждение критики и унизить произведение художника.
§ 3. Исключение составляет одна особая форма
Несомненно, что представление о силе, которое мы получаем при вычислении невидимых трудностей и при оценке невидимой силы, никогда не может быть столь внушительным, как впечатление или созерцание одной противодействующей, а другой побеждающей силы в самый момент борьбы. В одном случае сила воображается, в другом она чувствуется.
Существуют, таким образом, два способа, которыми мы получаем представление о силе; один, более верный,
§ 4. Существуют два способа получения идей силы, обыкновенно несовместимые
заключается в том, что, узнав в точности ту трудность, которая преодолена, и те средства, которые были применены, мы составляем правильную оценку действовавших в данном случае способностей; другой способ состоит в том, что, не обладая таким тщательным и точным знанием, мы получаем сильное впечатление от силы в ее действии, которое мы можем видеть. Если бы оба способа получения впечатлений сходились в результатах и если бы непосредственное впечатление совпало с оценкой, основанной на исчислении, мы получили бы высшую возможную идею силы. Но такой случай возможен в произведениях одного разве человека из всей плеяды отцов искусства, именно того, о ком мы недавно упоминали, – Микеланджело. В других оценка и непосредственное впечатление обыкновенно не совпадают, часто даже идут вразрез друг с другом.
Первая причина этой несовместимости состоит в следующем: для того, чтобы получить непосредственное впечатление от силы, мы должны видеть ее в действии.
§ 5. Первая причина этой несовместимости
Ее победа не должна быть осуществлена, а должна находиться в процессе своего осуществления и таким образом быть несовершенною. От полуотделанных членов в изображениях, находящихся в капелле Медичи, мы получаем впечатление большей силы, чем от дивного изображения опьяненного Вакха в галерее; получаем бóльшее впечатление от жизни, начертанной на фризах Парфенона, чем от изящно отделанных членов Аполлона, больше – от головы святой Екатерины на рафаэлевском эскизе, чем могло бы дать самое совершенное художественное выполнение ее.
Другая причина несовместимости заключается в том, что впечатление силы пропорционально видимому несоответствию между средствами и целью.
§ 6. Вторая причина несовместимости
Мы получаем гораздо большее впечатление от частичного успеха, достигнутого легкими усилиями, чем от совершенного успеха, достигнутого пропорционально более великими усилиями. Во всяком искусстве каждый штрих, каждое усилие, взятое в отдельности, делается пропорционально все меньше и меньше по мере того, как произведение приближается к совершенству. Первые пять штрихов карандаша уже создают из ничего голову. В продолжение всей остальной работы никогда уже пять других штрихов не сделают так много, как эти, и изменение, вносимое каждым новым штрихом, становится все менее и менее заметным, по мере того как произведение приближается к окончанию. Таким образом, знаменатель отношения между затраченными средствами и достигнутым эффектом постоянно возрастает, и вследствие этого наименьшее впечатление силы получается от наиболее совершенных работ.
Отсюда следует, что несовершенные виды искусства могут производить впечатление силы.
§ 7. Непосредственного впечатления силы не следует искать в несовершенном художественном произведении
Эти виды искусства законны, поскольку несовершенство их касается того, что постоянно должно оставаться незаконченным. Таким образом, источники удовольствия существуют в поспешно сделанном эскизе, в котором недостает местами теней и красок, существуют в грубо обработанной глыбе, которой далеко до отшлифованного мрамора. Но тем не менее было бы ошибкой предпочитать непосредственное впечатление силы распознание ее при помощи ума. В действительности больше силы требуется в конце, чем в начале, и это обстоятельство, хотя не вполне ясно постигается чувством, но зато производит более сильное влияние на ум. Вследствие этого, хваля произведение за идеи силы, которые они дают, мы не должны руководиться непосредственным сильным впечатлением, а должны применять высшую оценку, впечатление же должно участвовать в ней, поскольку оно совместимо с ней. Мы должны считать, что высшие идеи силы даются теми картинами, которые достигают совершеннейшей цели самыми легкими, какие возможно, средствами, а не теми картинами, в которых хотя и сделано многое малыми средствами, но все-таки не все сделано; высшие идеи силы даются теми картинами, в которых все сделано и ни один штрих не сделан даром. Сравнительное отношение между количеством работы и достигнутым эффектом, конечно, меньше в эскизе, чем в картине. Но все-таки картина заключает в себе большую силу, если из всего добавочного труда ни одно прикосновение не пропало напрасно.
Например, в наши дни существует очень мало произведений, которые давали бы большее впечатление силы, чем произведения Фредерика Тейлера.
§ 8. Примеры из произведений современных художников
Сказывается каждый взмах, и размер достигнутого эффекта грандиозен по сравнению с средствами, которые мы видим здесь. Но достигнутый эффект не полон. Блестящие, прекрасные и правильные в качестве эскизов, эти произведения далеки от совершенства как рисунки. С другой стороны, мало есть произведений, которые свидетельствовали бы о большем количестве затраченного труда, о более сложных средствах, чем картины Джона Льюиса. Произведения его дают сразу впечатление не столько силы, сколько продолжительного труда. Но результат получается полный. Акварельной живописи некуда идти дальше; здесь нет ничего неоконченного, ничего недосказанного. При анализе средств, которыми воспользовался художник, ясно чувствуешь, что ни один из огромного количества взмахов не сделан понапрасну; каждая точка, каждый штрих усиливают эффект; работа была столь же стремительна, сколько продолжительна, столь же смела, сколько настойчива. Сила, заключающаяся в такой картине, принадлежит к высшему разряду, и удовольствие, получаемое при оценке ее, чисто и прочно.
Существует еще одно основание, побуждающее быть осторожным в стремлении произвести впечатление силы.
§ 9. Связь между идеями силы и способами выполнения
Но эта сторона связана с специальными особенностями и способами выполнения. Мы лучше поймем ее, сделав краткий обзор тех разнообразных достоинств, которыми может отличаться выполнение и которыми оно может доставить нам удовольствие. Впрочем, полное выяснение того, что желательно в самом выполнении, и критический анализ его у различных художников необходимо, как мы сейчас увидим, отложить до тех пор, пока мы не ознакомимся полнее с принципами правды.
Глава II. Идеи силы в зависимости от выполнения
Под термином «выполнение» я понимаю правильное в механическом отношении употребление средств для достижения данной цели.
§ 1. Значение термина «выполнение»
Все качества выполнения в тесном смысле слова находятся под влиянием и в большой степени зависят от высшей силы, чем выполнение само по себе, – именно от знания правды.
§ 2. Первое качество выполнения – правдивость
Художник будет быстр и прост в средствах пропорционально тому, насколько твердо он знает окончательную цель. Отделка и отчетливость его штриха будут пропорциональны точности и глубине его знания. Первое достоинство работы – тонкая и непрестанная передача совершенной правды, которая выводится до последнего штриха, до каждой тени штриха; она делает важным каждое незначительное пространство величиной в волосок, придает значение каждому переходу. Это, собственно говоря, не есть выполнение, но это единственный источник различия между выполнением заурядного и совершенного художника. Последний рисовальщик, поупражнявшись в обращении с кистью равное количество времени, может сравняться с величайшим художником в разных качествах выполнения (в быстроте, простоте и решительности), но не в правдивости. В совершенстве и точности мгновенно сделанной линии кроется право на бессмертие. Если есть налицо высшая правда, то со всеми остальными качествами выполнения можно распорядиться хорошо. И тем художникам, которые в оправдание своего незнания и неаккуратности постоянно заявляют «qu’ils n’ont demeuré qu’un quart d’heure à faire», мы могли бы справедливо сказать вместе с Альцестом: «Monsienr, le temps ne lait rien à l’alfaire».
Второе качество выполнения – простота. Чем менее претенциозности, крикливости, чем больше скромности в средствах, тем сильнее эффект.
§ 3. Второе – простота
Всякая притязательность, блеск, претенциозность взмаха, выставка силы и ловкости исключительно ради них самих, особенно стремление сделать линии привлекательными в ущерб их смыслу, – все это недостатки.
Третье – таинственность.
§ 4. Третье – таинственность
Природа всегда таинственна и скрытна в употреблении своих средств, и искусство приятно более всего тогда, когда оно неизъяснимо. То выполнение, которое наименее доступно пониманию, которое отвергает подражание (предположив, что остальные качества одинаковы), является наилучшим.
Четвертое – несоответствие. Чем незначительнее кажутся средства по сравнению с результатом, тем более велика (как уже было замечено) сила впечатления.
§ 5. Четвертое – несоответствие, и пятое – решительность
Пятое – решительность. Нам должно казаться, что все, что сделано, сделано смело и сразу: благодаря этому мы получаем впечатление, что и явление, которое пришлось воспроизводить, и средства, необходимые для его воспроизведения, были в совершенстве известны художнику.
Шестое – быстрота. Быстрота или видимость ее, как и решительность, приятны не только потому, что они дают идеи силы или знания.
§ 6. Шестое – быстрота
Из двух штрихов одинаковых, насколько возможно в других отношениях, быстрейший будет лучшим. Предположив, что правда равно будет присутствовать и в форме и в направлении обоих, в быстром будет все-таки больше ровности, изящества и разнообразия, чем в медленном. Как штрих или линия, первый будет приятнее для глаза; кроме того, в нем в большей степени будут находиться свойства линий природы: постепенность, неопределенность и единство.
Только эти шесть качеств составляют вполне законные источники удовольствия в выполнении. Но я могу присоединить к ним седьмой – странность, которая в некоторых случаях доставляет удовольствие также не ничтожного или низшего свойства, хотя едва ли законное.
§ 7. Странность – незаконный источник удовольствия в выполнении
Предположив, что другие высшие качества уже имеются, к силе нашего впечатления от знаний художника немало прибавится, если применены средства такого рода, которые никому не могли прийти в голову или казались средствами, пригодными для достижения эффекта совершенно противоположного. Сравните, например, выполнение головы налево, в нижнем углу картины «Поклонение волхов» (в Антверпенском музее) с выполнением в пейзаже Бергема (№ 132, в Дёльвичской галерее). Рубенс сначала в горизонтальном направлении набрасывает, точно царапая, тонкий серовато-коричневый слой, прозрачный и ровный, точь-в-точь цвет светлой панели; горизонтальные штрихи сделаны так отчетливо, что полотно в целом можно было бы принять за имитацию дерева, если бы не прозрачность его. На этом фоне глаз, ноздря и контур щеки начерчены двумя-тремя грубыми коричневыми штрихами (на что потребовалось три-четыре минуты работы), хотя голова имеет колоссальные размеры. Затем сделан фон толстым, плотным, теплым белым цветом; этот фон в действительности выступает кругом головы, оставляя ее в темном углублении; наконец, пять тонких, как царапины, штрихов голубовато-белого холодного цвета проложены для яркого освещения лба и носа, – и голова окончена. Если смотреть на картину на расстоянии ярда от полотна, голова кажется действительно прозрачной, представляется отдаленной тенью, неплотной и лишенной смысла. Но в надлежащем расстоянии (десять или двенадцать ярдов, откуда только и можно видеть картину в ее целом) эта голова кажется законченной, прекрасной, как бы действительно существующей, это – живое изображение головы животного, выступающей из фона, который отступил на задний план. Само собою, зритель ощущает немало удовольствия, уловив результат, достигнутый такими странными средствами. У Бергема, наоборот, сначала положен темный фон изумительно тонко и прозрачно, и на нем действительно устроена голова коровы блестящим белым цветом: всякая прядь волос выступает из полотна. Это выполнение не связано ни с чем неожиданным, ни с каким особенно сильным удовольствием, хотя результат достигнут успешно. И то небольшое удовольствие, которое мы получаем, исчезает, когда, отойдя от картины, мы видим, что голова светится подобно отдаленному фонарю, вместо того, чтобы казаться естественной или похожей. И все-таки странность нельзя считать законным источником удовольствия. Средства, в наибольшей степени ведущие к цели, доставляют наибольшее удовольствие. И то, что служит наилучшим проводником к цели, может быть странным только для несведущего зрителя. Итак, удовольствие этого рода незаконно потому, что оно предполагает и требует незнания искусства со стороны тех, кто ощущает это удовольствие.
Таким образом, законные источники удовольствия в выполнении следующие: правда, простота, таинственность, несоответствие, решительность и быстрота. Но некоторые из них до такой степени несовместимы друг с другом, что на высших ступенях их нельзя соединять, например, таинственность и несоответствие. Раз мы видим несоответствие средств и цели, мы видим, каковы они. Далее, первые три являются великими достоинствами выполнения; три последних – только притягательными, потому что с ними главным образом соединяются идеи силы.
§ 8. Но и законные источники удовольствия часто несовместимы один с другим
Три первые отвлекают внимание от средств и прикрепляют его к результату; три последние отвлекают от результата и прикрепляют к средствам. Для того чтобы видеть быстроту и решительность выполнения, мы должны отвлечься от творения и перенести свое наблюдение в самый процесс работы; мы должны думать больше о палитре, чем о картине. Между тем простота и таинственность заставляют ум покинуть средства и сосредоточиться на мысли целого. Отсюда вытекает опасность излишнего пристрастия к тем впечатлениям силы, которые связаны с тремя последними достоинствами выполнения.
§ 9. Пристрастие к идеям силы приводит к усвоению низших качеств
В самом деле, хотя и желательно, чтобы они (насколько они совместимы с другими) присутствовали в произведении, и хотя заметное отсутствие их всегда неприятно и вредно, но стоит ради них пожертвовать высшими качествами, хотя бы в незначительной степени, и мы получаем несовершенство, хотя и блистательное. Бергем и Сальватор Роза – прекрасные примеры такого несовершенного выполнения, зависящего от излишнего пристрастия к впечатлениям силы. Оно несовершенно потому, что навязчиво и привлекательно само по себе, вместо того чтобы быть забытым и играть служебную роль по отношению к результату. Быть может, нет большего камня преткновения на пути художника, чем склонность жертвовать правдой и простотой для решительности и быстроты[18]. Эти последние качества пленяют, их легко достигнуть, они обеспечивают внимание и похвалы. Между тем та небольшая степень правды, которая приносится им в жертву, совершенно недоступна оценке со стороны большинства зрителей, требует такого труда от художника, что нет ничего удивительного, если эффекты, столь трудные и неблагодарные не привлекают к себе. Но стоит раз уступить искушению, и последствия окажутся роковыми; нет остановки в падении.
§ 10. И потому оно гибельно
Я мог бы назвать прославленного современного художника – человека, обладавшего высшими силами и внушавшего большие надежды. Он – блестящий пример того, насколько опасен подобный ход развития. Сбитый с дороги незаслуженной популярностью, которая была результатом быстроты его работы, он принес ей в жертву сперва точность, a затем правду и ее неразлучную спутницу – красоту. Что сначала было только пренебрежением к природе, стало постепенно противоречием ей; то, что некогда было только несовершенством, стало теперь ложью; и все, что было самого достойного в его манере, превратилось в худшее, потому что самый привлекательный порок – это решительность без основы, быстрота без цели.
Таковы главные пути, посредством которых идеи силы становятся опасным соблазном для художника, ложным мерилом для критика.
§ 11. Повторение
Но во всех случаях, где они сбивают нас с дороги, причиной ошибки бывает то обстоятельство, что мы предпочитаем победу над незначительной, но видимой трудностью победе над великой, но скрытой. Таким образом, постоянно имея в виду различие (независимо от того, относится ли это к выполнению или к какому-нибудь другому качеству в искусстве) между впечатлением и умственной оценкой силы, мы увидим, что идеи силы являются законным и высоким источником удовольствия в художественных произведениях всех родов и степеней.
Глава III. Возвышенное
Можно удивиться тому, что, подразделяя нашу задачу, мы не сделали упоминания о возвышенном в искусстве, и разъясняя наше разделение, мы ни разу не употребили этого слова.
§ 1. Возвышенное есть действие, которое производит на ум все, стоящее выше его
Дело в том, что возвышенное не есть специфический термин, термин, описывающий действие особого разряда идей. Все, что возвышает ум, возвышенно, a возвышение ума получается при созерцании всякого рода величия, главным образом, конечно, величия в самых благородных предметах. Таким образом, возвышенное есть только новое слово, которое определяет действие величия на чувство, – все равно, какого величия, материи ли, пространства, силы, добродетели или красоты. И может быть, в художественном произведении не бывает ни одного качества, которое было бы желательно и которое не было бы на ступени своего совершенства в каком-нибудь роде или в какой-нибудь степени возвышенным.
Я готов признать много остроумия в Берковой теории о возвышенном, как о чем-то, соединяющемся с чувством самосохранения.
§ 2. Теория Берка о природе возвышенного неверна и почему
Мало есть явлений, столь величественных, как смерть, и, может быть, ничто не прогоняет все мелкие мысли и чувства в такой степени, как созерцание ее. Поэтому все, что каким бы то ни было путем ведет к ней, большинство опасностей и сил, которыми мы не в состоянии управлять, до некоторой степени являются возвышенными. Но, заметьте, это не страх, a созерцание смерти, не инстиктивная дрожь и напряжение, вызванное чувством самосохранения, а обдуманное измерение рокового приговора, который действительно является великим и возвышенным для наших чувств. Не тогда, когда мы боимся, а тогда, когда презираем страх, мы получаем и даем высшее представление о судьбе. Нет ничего возвышенного в агонии страха. Найдем ли мы возвышенное в крике, обращенном к горам: «Падите на нас», и к холмам: «Скройте нас», или в величественном спокойствии пророческого изречения: «И хотя после кожи черви пожрут мое тело, я все-таки в мясе своем узрю Господа»? Стоит немного подумать, и мы убедимся, что чувство самосохранения не только не представляется необходимым элементом возвышенного, но на высшей ступени своей даже уничтожает его, и едва ли возвышенное доступно чьим-нибудь чувствам в меньшей степени, чем чувствам труса.
§ 3.Возвышенна опасность, но не боязнь ее
Но сами по себе представление или идея о величии страдания или о грандиозности разрушения могут быть возвышенными, независимо от того, существует ли связь между этой идеей и нами или нет. Если бы никакая опасность или страдание не могли постигнуть нас, то представление об этих факторах в их влиянии на других было бы не менее возвышенным не потому, что страдание и опасность возвышенны по своей природе, но потому, что созерцание их, возбуждая сострадание или мужество, возвышает ум и делает невозможной пошлость мысли. Часто не чувствуют, что красота возвышенна.
§ 4. Высшая красота возвышенна
Это происходит от того, что по отношению к некоторым видам чисто материальной красоты отчасти справедливо утверждение Берка, что одним из элементов красоты является «низменное». Но кто не чувствует, что может существовать красивое без низменного и что такая красота есть источник возвышенного, тот не понимает значения идеального в искусстве. Исследуя источник возвышенного вплоть до величественного, я не имею в виду связать себя стройно сотканной теорией. Я принимаю самый обширный принцип для исследования, а именно: возвышенное присутствует всюду, где что-нибудь возвышает ум, а это бывает тогда, когда он созерцает что-нибудь, стоящее выше его, и постигает, что оно – таково.
§ 5. И вообще, все, что возвышает ум
Это чисто филологическое объяснение слова, происходящего от sublimis. Оно окажет нам большую услугу и явится более ясным и наглядным основанием для аргумента, чем какое-нибудь чисто метафизическое или более тесное определение. Доказательство его верности раскроется из применения его к различным отраслям искусства.
Таким образом, возвышенное не отличается ни от прекрасного, ни от других источников удовольствия в искусстве, а представляет собой только особую форму их проявления.
§ 6. Прежнего подразделения моей темы этого достаточно
Вследствие этого моя задача распадается на три части: исследование идей правды, красоты и отношения. Каждому из этих трех классов идей я посвящу отдельную часть труда.
Исследование идей правды позволит нам определить сравнительный ранг художников как подражателей и историков природы.
Исследование идей красоты позволить нам сделать сравнительную оценку того, насколько они достигли привлекательного во-первых, в отношении техники, во-вторых, в краске и композиции, и наконец, самое главное – в своем представлении об идеальном.
Исследование идей отношения даст нам возможность сравнить их как создателей верных мыслей.
Часть II. Правда
Отдел I. Общие приинципы идей правды
Глава I. Идеи правды в связи с идеями красоты и отношения
Из сделанного выше подразделения идей, которые может сообщить искусство, несомненно вытекает, что пейзажисты должны всегда преследовать две великие и совершенно различные цели: во-первых, вводить в
§ 1. Две великие цели пейзажной живописи заключаются в воспроизведении фактов и мыслей
ум зрителя верное представление о всевозможных предметах природы, во-вторых, направлять ум зрителя на те предметы, которые наиболее достойны созерцания, и сообщать ему те мысли и чувства, с которыми смотрит на эти предметы сам художник.
При достижении первой цели художник ограничивается тем, что помещает зрителя там, где стоит сам; он ставит его перед известным видом и покидает его. Зритель остается один. Он может предаваться своим собственным мыслям так, как он поступил бы в действительном уединении, или же он может остаться нетронутым, без всяких мыслей, равнодушным, смотря по расположению. Художник не дал ему ни одной мысли; он не приковал его внимания к новым идеям, не поселил в его сердце неведомых раньше чувств. Художник – проводник, но не товарищ зрителя, он играет роль коня, а не друга. При достижении же второй цели он не только помещает зрителя, но и говорит ему, делает его участником своих собственных сильных чувств и живых мыслей, увлекает его в вихре своего собственного восторга, направляет его ко всему прекрасному, отрывает его от всего низкого и дает ему больше, чем наслаждение, – он облагораживает и обучает его: зритель сознает, что не только заметил новый вид, но вступил в общение с новым умом, что его одарили на минуту острым чутьем и пылкими чувствами более благородного и проницательного духа.
Каждая из этих двух различных целей делает необходимой особую систему при выборе предметов, которые приходится воспроизводить.
§ 2. Они ведут к различным системам при выборе материальных сюжетов
Первая, в сущности, не требует выбора; с ней связаны все предметы, которые сами по себе постоянно могут нравиться всем людям, во все времена; и когда выбор подобных предметов сделан с искусством и старанием, он ведет к достижению чистого идеала. Но художник, стремящийся ко второй цели, выбирает предметы скорее по их смыслу и характеру, чем по их красоте; он пользуется ими скорее для того, чтобы пролить свет на те особые мысли, которые он желает сообщить, он не видит в них только предметов, которые сами по себе являются объектом отрывочного восхищения.
И вот, первый способ выбора, когда им руководит, глубоко обдуманная мысль, может повести к созданию произведении оказывающих благородное и беспрерывное влияние на человеческий ум.
§ 3. Первый способ выбора может породить однообразие и повторение
Но он способен (и в девяти случаях из десяти он не избегает этого) выродиться в простое обращение к неизменным и общим сторонам нашей животной натуры, которые разделяются всеми всегда, присущи всем. Таково, например, удовольствие, которое получает глаз от противопоставления холодных и теплых красок, массивных и тонких форм. Притом этот способ ведет к повторению одних и тех же идей, обращается к одним и тем же принципам. Он порождает те правила искусства, которые именно и возбуждали негодование Рейнольдса, когда применялись к высшим усилиям. Он источник и прибежище тех технических особенностей и нелепостей, которые во все века были проклятием искусства и доставляли венец мастеру.
Но искусство во второй, высшей своей цели не есть призыв к неизменным животным целям; оно есть выражение и пробуждение индивидуальной мысли.
§ 4. Второй делает необходимым разнообразие
Поэтому оно столь разнообразно и обширно в своих усилиях, как кругозор и постигающая способность направляющего ума. Мы чувствуем, что в каждом из его произведений видим не образчик товара, принадлежащего торговцу, который готовь сделать нам дюжину таких же, но созерцаем блеск постоянно деятельного ума, который не имел и не будет иметь другого, подобного себе.
Хотя не может быть никакого сомнения относительно того, который из двух видов искусства выше, однако из предыдущего ясно вытекает, что первый более чувствуют и ценят повсюду.
§ 5. Тем не менее первый доставляет удовольствие всем
В самом деле, простое трактование правды природы должно нравиться само по себе всякому уму, потому что всякая правда природы более или менее прекрасна, и если сделан справедливый и правильный выбор наиболее важных из этих видов правды, если он зиждется, как было отмечено выше, на чувствах и желаниях, общих всему человеческому роду, то факты, избранные таким образом, должны в известной степени доставить удовольствие всем, а их значение может оценить всякий, – более или менее, смотря по тому, насколько чувства и инстинкт его приобрели большую или меньшую остроту и верность, но в какой-нибудь степени могут оценить все, и все одним и тем же способом.
6. Второй – только немногим
Высшее же искусство зиждется на впечатлениях известных умов, впечатлениях, которые возникают в них только в известные моменты, а у большинства людей не являются, может быть, никогда; оно выражает мысли, которые могут произойти только из массы обширнейших знаний и настроений, принимающих тысячи изменчивых форм вследствие своеобразности ума. Таким искусством могут заинтересоваться, его могут понять только лица, имеющие некоторое сродство с высокими и одинокими умами, которые породили это искусство. Эту симпатию могут чувствовать только люди, которые сами до известной степени обладают высоким и одиноким умом. Только тот может оценит искусство, кто может понять речь художника, разделить его чувства в момент пробуждения самой горячей его страсти, самых оригинальных его мыслей. Тысячи людей не усмотрят или ложно поймут истинный смысл и цель таких художественных произведений. А между тем художнику, который стремится к своей особой цели, приходится нередко вступать в борьбу с нашими низшими и неизменными желаниями. Вследствие этого художник, цели которого не видны, очень часто возбуждает неудовольствие своими средствами и своим талантом.
Но то обстоятельство, что высшее искусство не имеет широкого влияния, происходит – на это следует обратить особое внимание – не от недостатка правды в самом искусстве; причиной является отсутствие в самом зрителе симпатии к чувствам художника, которые побудили его к выражению одной истины предпочтительно пред другой.
§ 7. Первый необходим для второго
В самом деле (я особенно хочу подчеркнуть это в настоящую минуту), можно достигнуть того, что я назвал первой целью, т. е. воспроизведения фактов, не осуществив второй цели, т. е. воспроизведения мыслей, но нет никакой возможности достигнуть второй цели, не достигнув предварительно первой. Я не хочу сказать, что человек не может мыслить, имея ложное основание и материал для мысли. Но такое ложное мышление хуже полного отсутствия мысли, и потому оно не имеет ничего общего с искусством. И вот почему, хотя я считаю вторую цель настоящей и единственно важной целью искусства, я называю первой целью его – воспроизведение фактов; потому что она необходима для второй и должна быть достигнута раньше ее. Она – фундамент всякого искусства. О ней, как и о действительном фундаменте, можно не думать тогда, когда уже воздвиглось на нем величественное здание. Но он должен быть. Здания редко бывают красивы, если каждая линия и колонна их не говорит о фундаменте, не указывает на его существование и прочность. Не может быть прекрасным ни одно художественное произведение, которое во всех своих частях не напоминает о фундаменте, не направляет к нему, и даже в тех случаях, когда в этом произведении все декорировано до последней частицы. Величайшие художественные строения построены из такого чистого и прозрачного хрусталя, что все могут сквозь него видеть фундамент. И вот одни, не глядя на все то, что построено выше первого этажа, восхищаются кладкой кирпича и воображают, что поняли все необходимое в данном творении. Другие, стоящие подле первых, не смотрят на нижний этаж, а обращают свой взор к небу, на хрустальное здание, где витает дух строителя. Таким образом, хотя мысли и чувства художника нужны нам так же, как и правда, но мысли должны вытекать из знания правды, а чувства из созерцания ее. Нам не нужно, чтобы его ум походил на стекло, которое плохо выдуто и искажает все, что мы видим сквозь него; его ум должен походить на стекло нежного и своеобразного цвета, которое дает новые тона тому, что мы видим сквозь него, – стекло редкой силы и ясности, чтобы сквозь него мы видели больше, чем могли бы увидать сами по себе, чтобы оно придвинуло, приблизило к нам природу[19]. Ничто не в состоянии искупить недостатка правды.
§ 8. Особенно важное значение правды
Ни самое блестящее воображение, ни самая игривая фантазия, ни самое чистое чувство (предполагая, что чувство может быть чистым и ложным одновременно), ни самая возвышенная идея, ни величайшая способность ума схватывать все на лету не могут вознаградить за отсутствие правды, и это по двум причинам: во-первых, ложное само в себе заключает что-то отталкивающее и принижающее; во-вторых, природа неизмеримо выше всего, что может вообразить человеческий ум, настолько выше, что всякое отступление от нее есть падение по сравнению с ней; ложное не может украшать. Ложь – пятно и грех, вред и обольщение.
Мы увидим, что ни один художник не может обладать грацией, воображением или оригинальностью, если не обладает правдивостью.
§ 9. Холодность или отсутствие красоты не служат признаками права
Стремление к красоте не только не удаляет нас от правды, но в десять раз увеличивает стремление к ней и необходимость ее. И у художников, обладающих действительно великой способностью воображения, смелость идей всегда основывалась на массе знания; последние далеко превышают знания тех людей, которые гордятся самым накоплением их и не делают из них употребления. Холодность и отсутствие страсти в картине не служат признаками безошибочности воспроизведения, а признаками его незначительности; истинная сила и блеск – признаки не смелости, a знания.
Отсюда следует, что каждый при старании и при затрате известного времени может выработать в себе нечто вроде правильного суждения о сравнительных достоинствах художника.
§ 10. Как правду можно считать настоящим критерием искусства
Правда, чувство и страсть в картине часто способны критиковать и ценить только те, у кого хоть в некоторой степени силы ума равны с умственными силами критикуемого художника и кто хоть в некоторых отношениях обладает однородным с ним складом ума. Но что касается воспроизведения фактов, то здесь для всякого, при известном внимании, возможно составить правильное суждение о степени способности каждого художника и о том, насколько он достигает цели. Правда есть рычаг сравнения, при помощи которого можно подвергнуть испытанию их всех, и соответственно тому рангу, который он приобретет на этом испытании, мы могли бы безошибочно признать за ним почти такой же ранг и во всех отношениях, если бы только могли судить о них. Так тесна связь, так неизменно отношение, существующее между суммой знаний и широтой мысли, между точностью восприятия и яркостью идеи.
Я постараюсь поэтому в настоящей части моего труда с полным вниманием и беспристрастием исследовать, насколько старые и новые школы пейзажа имеют право считаться правдивыми в воспроизведении природы. Я не буду обращать внимания на то, что можно считать в них прекрасным, или возвышенным, или богатым в отношении фантазии. Я буду искать только правды, голой, ясной, простой передачи фактов. При этом, насколько могу, я буду в каждом отдельном случае объяснять, что такое правда природы, буду искать ее простого выражения и только его одного. Не обращая, таким образом, никакого внимания на пылкость воображения, на блестящие эффекты и на всякие другие еще более привлекательные качества, я постараюсь изучить и оценить произведения великого художника, находящегося в живых, который, по мнению большинства публики, рисует больше ложного и меньше действительного, чем какой бы то ни было другой известный художник. Мы увидим, почему.
Глава II. Невоспитанное чувство не может распознать правды природы
читатель с большим на первый взгляд основанием может спросить меня, почему я нахожу нужным посвятить отдельную часть работы выяснению того, что такое правда в искусстве.
§ 1. Общераспространенный среди людей самообман относительно их способностей распознавать правду
«Разве, – скажет читатель, – мы собственными глазами не можем видеть, что такое природа и что похоже на нее?» Прежде чем идти дальше, полезно разъяснить этот вопрос, потому что если бы это было в действительности возможно, не было бы нужды в критике или в преподавании искусства.
Я только что заметил, что все люди могут при старании и внимании выработать в себе правильное суждение относительно того, насколько художники верны природе. Для этого не требуется ни специальных способностей ума, ни симпатии к особым чувствам художника, словом, ничего такого, чем не обладает в некоторой степени всякий человек с ординарным умом; нужна лишь способность наблюдения и понимания, которую культивировкой можно довести до высокой степени совершенства и остроты. Но пока не произведена такая культивировка, пока соответствующий орган не изощрился в целом ряде тщательных наблюдений, было бы столь же нелепо, сколько дерзко, претендовать на способность суждения относительно правды искусства; и первая задача моя, прежде чем сделать хоть один дальнейший шаг, должна заключаться в борьбе со всеобщим почти заблуждением, именно с убеждением легкомысленных и безрассудных людей в том, будто они знают, что такое природа и что похоже на нее, будто они могут инстинктивно распознать правду, будто ум их представляет собою столь чистое венецианское стекло, что всякая неправда поражает его. Мне предстоит доказать им, что и в небесах и на земле существует гораздо больше вещей, чем грезится им в их философских мечтах, – доказать, что правда природы есть отчасти правда Бога. Для того, кто не ищет ее, – мрак; для того, кто ищет, – бесконечность.
Первая великая ошибка, которую все делают в этом вопросе, заключается в предположении, будто мы должны видеть предмет, если он находится перед нашими глазами.
§ 2. Люди обыкновенно видят немногое из того, что находится перед их глазами
Они забывают великую истину, высказанную Локком (Locke, II, chap. 9. § 3): «Никакие изменения, произведенные в теле, не могут быть постигнуты, если они не достигли мозга; точно так же не могут быть постигнуты никакие впечатления, произведенно на наружные органы, если они не оставили следа внутри. Огонь может жечь наше тело, производя такое действие, точно горит полено, если только движение огня не дошло до мозга и если ощущение жара или идея боли не достигла ума, где происходит настоящее познавание. Как часто каждый может в самом себе проследить такой процесс; в то время как ум напряженно занимается созерцанием некоторых предметов и с любопытством рассматривает некоторые идеи, заключающиеся в них, он не воспринимает впечатлений, производимых звучащим телами на орган слуха, не воспринимает с тем вниманием, которое обыкновенно создает идею звука. Можно сообщить достаточный импульс органу, но если этот толчок не достиг поля наблюдения ума, познавание не последует, и хотя в ухе совершилось движение, которое обыкновенно производит идею звука, тем не менее звука не слышно». Это явление, справедливость которого каждый может проверить собственным опытом, более заметно и неизбежно в применении к зрению, чем ко всякому другому чувству, по той причине, что ухо не привыкло постоянно упражняться в своей функции; оно привыкло к тишине, и возникновение какого бы то ни было звука способно тотчас же пробудить внимание и сопровождается познаванием соответственно силе звука. Но глаз в течение всего времени нашего бодрствования постоянно упражняется в своей функции зрения. Это его обычное состояние; мы, поскольку дело касается физического органа, всегда что-нибудь видим, и видим с одинаковой интенсивностью, так что появление предмета созерцания для глаза есть только продолжение той деятельности, в которой он по необходимости пребывает. Появление предмета не пробуждает внимания, разве только он обладает особой природой и качествами. Таким образом, если ум не направлен специально к впечатлениям зрения, предметы постоянно проходят перед глазами, совершенно не сообщая впечатлений мозгу; проходят действительно невидимыми – не просто незамеченными, но невидимыми, в самом полном значении этого слова. А между тем большинство людей заняты всевозможными делами и заботами, которые ничего общего не имеют с созерцанием. Поэтому с ними так и бывает: они получают от природы только неизбежные впечатления синевы, красноты, мрака, света и т. д., и ничего более, за исключением особых редких моментов.
Степень незнания внешней природы, в котором могут таким образом оставаться люди, зависит частью от количества и характера посторонних предметов, занимающих ум, а частью от отсутствия природной чуткости к могуществу и красоте форм и других принадлежностей предметов.
§ 3. Но более или менее в соответствии с их природной чуткостью к прекрасному
Я не думаю, что у кого-нибудь глаза обладают абсолютной неспособностью различать известные формы и цвета и получать от них удовольствие, как у некоторых людей ухо не различает нот. Но существует известная степень тупости и остроты в распознании правильности форм и получении удовольствия от этой правильности, когда она познана. И хотя я думаю, что даже на своей низшей ступени эти способности посредством воспитания можно развить почти до бесконечности, но полученное удовольствие не вознаграждает необходимого для этой цели труда, и стремление это покидается. Поэтому в людях, по натуре обладающих острой и живой впечатлительностью, зов внешней природы так силен, что ему должно повиноваться, и слышен он тем громче, чем ближе подходят к ней. Между тем в людях, не обладающих чуткостью, этот голос заглушается сразу другими мыслями, и познавательные способности таких людей, слабые от природы, умирают от бездействия. С этой физической чуткостью к краскам и формам тесно связана та высшая чуткость, которую мы чтим как одну из главных принадлежностей всех благородных умов, как главный родник истинной поэзии.
§ 4. В связи с совершенным состоянием их нравственного чувства
Этот род чуткости, по моему мнению, вполне определяется остротой физического чувства, о котором я говорил выше, в соединении с любовью, разумея последнюю в ее бесконечных и священных функциях, поскольку она обнимает и божественное, и человеческое, и животное понимание, поскольку она освящает физическое познавание внешних предметов чувством гармонии, благодарности, благоговения и другими чистыми чувствами нашей нравственной природы. И хотя раскрытие правды само по себе есть акт умственный, хотя оно зависит только от наших способностей физического восприятия и абстрактного мышления и совершенно не зависит от нашей нравственной природы, однако последняя оказывает влияние на эти способности (восприятие и суждение): когда энергия и страсть нашей нравственной природы возбуждает их деятельность, они изощряются, очищаются, их употребляют с большей стремительностью и силой; восприятие становится благодаря любви настолько живее, a суждение настолько смягчается благоговением, что на практике человек с атрофированным нравственным чувством всегда обнаруживает тупость к восприятию правды; тысячи высших, божественных истин природы совершенно скрыты от него, хотя ум его может постоянно и неутомимо искать их. Таким образом, чем глубже мы смотрим на дело, тем меньше оказывается число тех, кого мы могли бы избрать в качестве экспертов истины, и тем яснее понимаем мы, какое огромное число людей можно признать в известных отношениях неспособными распознавать и чувствовать ее.
Рядом с чуткостью, которая необходима для познавания фактов, стоят обдумывание и память, которые необходимы для того, чтобы удерживать их и узнавать то, что похоже на них.
§ 5. И умственных потребностей
Человек может получать одно впечатление за другим, воспринимать их ярко и с удовольствием, и все-таки, если он не постарается поразмыслить над ними и проследить их до их источника, он может остаться в полном неведении относительно тех фактов, которые породили эти впечатления. Мало того, он может приписать их фактам, с которыми они не имеют никакой связи, и сплести для них такие причины, которые вовсе не существуют. И чем бóльшей чуткостью и воображением обладает человек, тем скорее рискует он впасть в ошибку, потому что в этом случае он видит все, чего ждет, восхищается и оценивает сердцем, а не глазами. Сколько людей было сбито с толку тем, что говорилось и пелось о ясности итальянского неба: они полагали, что это небо должно быть более голубым, чем небо Севера; и они воображали, что видят его таким и в действительности. Между тем итальянское небо по цвету более тускло и серо, чем северное, и отличается только необыкновенным спокойствием света. Это утверждает и Бенвенуто Челлини, который, едва вступив во Францию, был поражен ясностью неба в противоположность туманному небу Италии. Еще более комично, когда люди, глядя на картину, которая, по их предположению, есть источник их впечатлений, утверждают, что она правдива, хотя вовсе не получается от нее такого впечатления Таким образом целый ряд дней может отпечатлеваться в них цвет и теплота итальянского неба, но, не проследив чувства до его источника и предполагая, что отпечатлелась синева этого неба, они будут утверждать, что синее небо в картине правдиво, и отвергнуть самое вернейшее изображение всех реальных признаков Италии как холодное и тусклое. Это влияние воображения на чувства особенно заметно в постоянной склонности людей думать, будто они видят то, что знают, и vice versa в их способности не видеть того, чего они не знают. Так, если попросить ребенка начертать угол дома, он сделает нечто в роде буквы Т.
§ 6. Как зрение зависит от предварительных знаний
Он не имеет представления о том, что две линии крыши, которые, как он знает, лежат на одном уровне, производят на его глаз впечатление ломаной линии. Требуется продолжительное неослабное внимание, прежде чем он обнаружит истину или почувствует, что линии на бумаге неправильны. И китайцы, дети во всем, находят, что рисунок с хорошей перспективой неправилен, как нам кажутся неправильными их плоские узоры и странными их остроконечные здания. Потому-то и все ранние произведения, народов ли или отдельных людей, указывают отсутствием в них тени на то, что нельзя без знаний рассчитывать только на глаза при распознании правды. Глаз краснокожего индийца, достаточно зоркий для того, чтобы открыть след врага или добычу по неестественному изменению истоптанного листа, настолько плохо воспринимает впечатления тени, что мистер Катлин упоминает о великой опасности, которой он однажды подвергся: он нарисовал портрет с полуосвещенным лицом, и его непросвещенные зрители вообразили и стали утверждать, что он нарисовал только половину лица. Берри в шестой лекции указывает на такой же недостаток настоящего зрения у ранних итальянских художников. «Подражание, – говорит он, – в раннем искусстве напоминало подражание у детей. В предмете, находящемся перед нами, мы видим только то, что узнали и отыскали заранее, и бесконечное число черт, которые отличают век незнания от века знания, указывает на то, до какой степени сужение или расширение нашей сферы зрения зависит от разных посторонних соображений помимо того, что передают нам наши естественные органы зрения». И обман, столь распространенный в подобных случаях, оказывает на наше суждение тем большее влияние, чем сложнее и чем менее осязаема та или другая правда природы. Мы постоянно воображаем, что видим только то, что показал или может показать нам опыт; только оно существует в наших глазах, но мы совершенно не видим того, относительно чего мы заранее не узнали, что его можно видеть. И художники до последней минуты жизни сохраняют некоторую способность впадать в ошибку, рисуя то, что существует, предпочтительно перед тем, что они могут видеть. Впоследствии я докажу распространенность такой ошибки.
Следует заметить, что эти затруднения существовали бы и тогда, если бы истины природы были постоянно одни и те же, всегда повторялись и являлись пред нами.
§ 7. Затруднение увеличивается благодаря разнообразию истин в природе
Но истины природы – вечное изменение, бесконечное разнообразие: на всем земном шаре не найдется одного куста точь-в-точь похожего на другой куст. В лесу не встретится двух деревьев, которых ветви переплетались бы совершенно одинаково, на дереве – двух листьев, которых бы нельзя было отличить друг от друга, в море – двух совершенно одинаковых волн. И только при помощи продолжительного внимания воображение наше остановится, как на критерии истины, на распознании неизменных черт – идеальной формы, которую все намекает, но в которую ничто не облечено.
Нет ничего странного и дурного в том, что большинство зрителей совершенно неспособно оценить правду природы, когда она вполне предстала пред ними. Но странно и дурно то, что их так трудно убедить в их неспособности. Спросите знатока, облетевшего всю Европу, о форме вязового листа, и в девяти случаях из десяти вам не сумеют ответить. И эти господа будут разводить критическую болтовню по поводу каждого нарисованного пейзажа от Дрездена до Мадрида и претенциозно говорить о том, сходен ли он с природой или нет. Спросите восторженного болтуна в Сикстинской капелле, сколько у него ребер, и он не ответит вам. Но он не выпустит вас из дверей, не сообщив, что та или другая фигура, по его мнению, плохо нарисована.
Два-три таких вопроса могли бы обличить, если не убедить массу зрителей в их неспособности, но на это они все возражают, что могут признать то, чего не в состоянии описать, и могут почувствовать правдивое, хотя бы и не знали, в чем правда.
§ 8. Мы узнаем предметы по самым незначительным признакам их. Ч. 1, от. I, гл. IV
До некоторой степени это справедливо. Человек может признать портрет своего друга, хотя бы он не сумел ответить на вопрос о форме его носа или высоте его лба. И каждый в состоянии отличить природу от подражания. Почему же, спросят меня, ему не отличить того, что похоже на нее, от того, что не похоже? По очень простой причине: мы постоянно узнаем предметы по самым незначительным их признакам и с помощью весьма немногих из них. И если эти признаки отсутствуют в подражании, хотя бы при этом были налицо тысячи других высших и более ценных, если, повторяю, отсутствуют или недостаточно хорошо переданы те признаки, по которым мы привыкли узнавать предметы, мы станем отрицать сходство. Если же эти признаки имеются, то все остальные, великие, ценные и важные, могут отсутствовать, и мы все-таки будем настаивать на сходстве. Узнавание не есть доказательство реального и истинного сходства. Мы узнаем наши книги по переплетам, хотя настоящие, существенные их черты скрыты внутри. Собака узнает человека по запаху, портной по платью, друг – по улыбке. Каждый из них узнает его, но мало или много – это зависит от степени его понимания. То, что действительно характерно в человеке, известно только Богу. Портрет человека может с величайшей точностью передать его черты, но не уловить даже одного атома в его выражении. Может случиться, что он, – употребляя обычное выражение тех, кому нравятся подобные портреты, – «так похож, что кажется, будто смотрит во все глаза». Всякий, чуть ли не вплоть до его кошки, узнает его. В другом портрете может быть небрежно и даже неправильно воспроизведены черты, но прекрасно переданы блеск глаз и своеобразный склад губ, который можно видеть только в минуты высшего умственного подъема. Кроме друзей его, никто не узнал бы этого. Третий, наконец, может не передать ни одного из этих обычных выражений, но такое, которое является у человека в моменты величайшего возбуждения, когда сразу разыграются самые затаенные его страсти, самые высшие способности. Никто, кроме видевших его в те моменты, не признает сходства в этом портрете. Но какой портрет будет самым правдивым изображением человека? Первый передает физические особенности – прихоть климата, пищи, времени – те особенности, которые подвержены тлению, которые стерегут черви. Второй передает отпечаток духа на физической оболочке. Но проявление этого духа мы видим в таких чувствах, которые он разделяет со многими, которые не характеризуют его сущности. Они – результат привычек, воспитания, случайностей. Это покрывало, сохраняется ли оно с намерением или принимается бессознательно, может быть совершенно противоречит всему, действительно коренящемуся в том уме, который оно скрывает. Третий портрет схватывает следы всего самого затаенного, самого мощного в те моменты, когда всякое лицемерие, всякие привычки, все мелкие и преходящие волнения исчезли, когда лед, берега и пена бессмертного потока снесены, разбиты вдребезги и поглощены в первом движении его пробудившейся внутренней силы, когда призыв и побуждение какой-то божественной силы вызвали наружу скрытые силы и чувства, которых не могла бы пробудить собственная воля духа, не могло бы уловить его сознание, которые Бог один знает и Бог один может пробудить, – таинственную глубину особых специальных свойств духа. То же бывает и с внешней природой: она имеет тело и душу, подобно людям. Но ее душа – Божество. Можно изобразить тело без духа; и это изображение покажется сходным для тех, чьи чувства только и знают тело. Можно изобразить дух в его обычных и низших проявлениях; здесь отыщут сходство те, кто не подстерегал моментов проявления его силы. Можно изобразить дух в его тайных высших действиях. Такое изображение найдут похожим только те, которые открыли эти действия благодаря своей бдительности. Все эти изображения правдивы. Но сила художника, a следовательно и оценка судьи соответствуют достоинству той правды, которую художник может изобразить или почувствовать.
Глава III. Сравнительное значение истин. Первое: частные истины важнее общих
В последней главе я высказал мысль, что мы обыкновенно узнаем предметы по наименее существенным их чертам.
§ 1. Необходимость определения сравнительной важности истин
Эта мысль, естественно, возбуждает вопрос, что я считаю важными чертами и почему одни истины я называю более важными, чем другие. Этот вопрос должен быть теперь же разрешен, потому что несомненно, что при оценке правдивости художников мы должны принять в соображение не только точность передачи отдельных истин, но и сравнительную важность их самих; в самом деле, часто случается, что средства искусства не могут передать всякую истину; ввиду этого следует считать более правдивым того художника, который сохранил более важные и пожертвовал пустяками.
Если мы приступим к нашему исследованию по аристотелевскому методу и будем искать φαινόμενα предмета, мы тотчас же столкнемся с изречением, которое у всех на устах и которое можно считать верным и полезным в том смысле, как его понимают в практике, но оно ложно и вводит в заблуждение, когда применяется как аргумент.
§ 2. Ложное применение афоризма: «Общие истины важнее частных»
Это изречение следующее: «Общие истины важнее частных». Я часто хвалил Тернера за его удивительное разнообразие: он придает каждому из своих произведений настолько специальный, своеобразный характер, что ум художника можно оценить вполне, только увидев все, созданное им, и ничего нельзя предсказать о картине, появляющейся на его мольберте; она всегда по идее явится чем-то совершенно отличным от всего, написанного им раньше. Когда я противопоставлял это неисчерпаемое богатство знаний и воображения полдюжине идей, постоянно повторяющихся у Клода и Пуссена, меня встретили грозным возражением, которое с достоинством и самодовольством изрек мой противник. «Тот изображает частные истины, а эти изображают общие». Должно же быть что-то фальшивое в таком применении принципа, которое делает признаками величайшей ошибки художника разнообразие и полноту, т. е. те достоинства, которые в писателе мы считаем признаками величайшего ума. Совершенно так же, применяя вышеупомянутое изречение к другим вопросам, мы видим, что оно, взятое без ограничений, становится крайне ложным. Например, мистрис Джемсон приводит восклицание одной своей знакомой дамы, скорее стремившейся заполнить паузу в разговоре, чем обогатившей себя наблюдениями. «Какая превосходная книга – Библия!» – воскликнула она. Это была действительно общая истина – истина, применимая к Библии наравне со многими другими книгами, но эта истина не представляет собой ничего поразительного и важного. Если бы дама выразилась: «Как ясно проявилась в Библии Божественная сила», она выразила бы частную истину, но относящуюся только к Библии и безусловно более интересную и важную. Если бы, с другой стороны, она сказала, что Библия – книга, она выразила бы еще более общую, но еще менее интересную истину. Если бы я, спросив о ком-нибудь «кто это?», услыхал в ответ: «Это – человек», – я был бы мало удовлетворен. Но если бы мне сказали, что это – Ньютон, я тотчас бы поблагодарил своего соседа за сообщенное сведение.
§ 4. Общее важно в подлежащем, частное – в сказуемом
Несомненный факт (приведенные выше примеры могут послужить доказательством его, если он не очевиден сам по себе), что обобщение придает значение подлежащему, ограничению или частный характер – сказуемому. Если я скажу, что данный китаец употребляет опиум, я не скажу ничего интересного, потому что мое подлежащее (данный китаец) имеет частный характер. Если я скажу, что все китайцы употребляют опиум, я скажу нечто интересное, потому что мое подлежащее (все китайцы) имеет общий характер. Если я скажу, что все китайцы едят, я не скажу ничего интересного, потому что мое сказуемое (едят) – общего характера. Если я скажу, что все китайцы употребляют опиум, я скажу кое-что интересное, потому что мое сказуемое (употребляют опиум) – частного характера.
Все, о чем может спросить себя художник по отношению к данному предмету, намерен ли он изобразить его или нет, заключается в сказуемом. Вследствие этого в искусстве частные истины важнее общих.
Каким же образом выходит, что столь ясная мысль в применении к искусству стоит в противоречии с одним из самых общепринятых афоризмов? Стоит немного подумать, и мы увидим, при каких ограничениях наша мысль может быть верна на практике.
Само собою разумеется, что когда мы рисуем или описываем что-нибудь, то наиболее важными должны быть истины, наиболее характеризующие то, о чем мы говорим или что воспроизводим. Первой и самой важной характерной чертой в предмете есть то, что отличает его род или делает его им самим.
§ 5. Важность видовых истин не зависит от того, насколько они общи
Например, обстоятельство, благодаря которому драпри есть драпри, служит не то, что оно сделано из шелка, шерсти или пеньки: из всех этих материй делаются и такие вещи, которые не есть драпри. Этим обстоятельством служат идеи, присущие специально драпри. Свойства, наличность которых в предмете делает его драпри, следующие: протяженность, гибкость, лишенная эластичности, цельность и сравнительная тонкость. Все, обладающее этими свойствами, например водопад, если он льется сплошной стеной на известном протяжении, или сеть дикой травы, ползущей по стене, представляют собой драпри столько же, сколько шелковая и шерстяная материя. Таким образом, означенные идеи отделяют в нашем уме драпри от всего другого, они особенно характерны для него, а потому представляют собою самую важную группу связанных с ним идей. Так и в других случаях: то, что делает предмет им самим, является самою важною идеей или группой идей, соединенных с предметом. Но так как эта идея по необходимости должна быть общей для всех особей того вида, к которому принадлежит предмет, то эта идея является общей по отношению к данному виду. Между тем другие идеи, которые нехарактерны для вида, а потому в действительности общи (например, понятия черного и белого применимы к большему числу предметов, чем драпри) являются частными по отношению к данному виду, так как приложимы только к некоторым из его особей. Поэтому легкомысленно и неверно говорят, что общие идеи важнее частных. Я называю это выражение легкомысленным и неверным по следующей причине. Общая идея важна не потому, что она обща всем особям данного вида, а потому, что она отделяет этот вид от всякого другого. Важность истины состоит не в ее всеобщности, а в том, что она служит для различения. А так называемая частная идея не важна не потому, что ее нельзя применить к целому виду, а потому что ее можно применить и к таким предметам, которые не принадлежат к этому виду, ее обобщающее, а не ограничивающее свойство лишает ее важного значения.
§ 6. Все истины ценны, поскольку они характеризуют что бы то ни было
Таким образом истины важны соответственно с тем, насколько они характеризуют что бы то ни было, и ценны прежде всего постольку, поскольку они отделяют данный вид от всех других творений, а во-вторых, постольку, поскольку они отделяют особи этого вида друг от друга. «Шелковый» и «шерстяной» – неважные идеи по отношению к драпри, потому что они не отделяют ни этого вида от других, ни даже особей этого вида друг от друга: они не общи им всем в целом, хотя общи бесконечному числу их. Но особые складки, которые могут случайно образоваться на одном драпри, отличаются в некоторых чертах от складок, которые могут получиться на других драпри, и эти складки не только характеризуют вид (гибкость, лишенную эластичности и т. д.), но и особь; они определяют в рассматриваемом случае и вследствие этого являются самыми важными и необходимыми идеями. Так, короткие ноги или длинный нос, или какие-нибудь другие случайные качества в данном человеке не отличают его от всякого другого коротконогого и длинноносого животного. Важные истины по отношению к человеку заключаются, во-первых, в проявлении той особой организации, которая отделяет человека от других живых существ, а во-вторых, в совокупности тех качеств, которые отделяют одного человека от всех других людей, которые делают его Павлом или Иудой, Ньютоном или Шекспиром.
Таковы действительные источники важности истин, поскольку мы обсуждаем их только с точки зрения их общего или частного характера.
§ 7. Кроме того истины видовые ценны, потому они прекрасны
Но существуют и другие источники важности, которые придают больший вес обычному мнению о том, что общие истины ценнее, и которые делают это мнение верным на практике. Я имею в виду красоту, присущую самим истинам, качество, анализировать которое здесь не место, но его необходимо отметить как такое качество, которое придает видовым истинам бóльшую ценность, чем истинам особей. Качества или свойства, характеризующие человека или другое живое существо, как вид, являются совершеннейшими качествами их формы и ума. Почти все индивидуальные отличия проистекают из недостатков. Поэтому для искусства видовая истина всегда ценнее, так как она – красота, между тем истина особей – всегда до известной степени недостаток.
Далее, истина, которая может представлять большой интерес, если предмет рассматривать сам по себе, может быть неуместной, если его рассматривать в отношении к другим предметам.
§ 8. Некоторые истины, ценные в отдельности, могут оказаться неуместными в соединении с другими
Так, если драпри одно представляет собой цельный сюжет картины, то было бы уместно включить в нее все частные истины, которые могут занять наш ум, передать разнообразие красок и нежность ткани. Но если тот же кусок драпри служит частью одеяния Мадонны, то идеи роскоши красок и ткани следует отбросить: они помешают уму сосредоточиться на идее Девы. На идею драпри следует только намекнуть самыми простыми и легкими штрихами. Всякие указания на ткань и подробности следует устранить как можно решительнее, но не потому, чтобы они были частными или общими или какими-нибудь другими по отношению к самому драпри, а потому, что они отвлекают наше внимание к платью от самой Девы, смущают и принижают наше воображение и чувства. Вследствие этого мы должны дать идею драпри в наименее по возможности навязчивом виде, передавая только те существенные свойства, которые необходимы для самого существования драпри, и больше ничего.
Об этих двух последних источниках важности истин нам в настоящее время больше нечего говорить, так как они зависят от идей красоты и отношения. Я только намекнул на них здесь с целью показать, что совершенно верно и справедливо все, что утверждали Рейнольдс и другие ученые писатели относительно истин, которые следует изображать художнику или скульптору. И все-таки принцип, на котором они основывают свой выбор («общие истины важнее частных»), совершенно ложен. «Персей» Кановы в Ватикане весь испорчен несчастной кисточкой в складках плаща (поклонник Кановы поступил бы хорошо, если бы сбил ее), испорчен не потому, что эта истина – частная, а потому, что она низкая, ненужная и безобразная истина. Пуговица, которой застегнута одежда Даниила в Сикстинской капелле, столь же частная истина, как и та, но она необходима, и идея ее передана простейшими средствами; поэтому она верна и красива.
Итак, следует помнить относительно всех истин, поскольку их принадлежность к частным или
§ 9. Повторение
общим влияет на их ценность, следующий закон; их ценность пропорциональна тому, насколько они являются частными истинами; они лишены цены соответственно тому, насколько являются общими; или, выражаясь просто, ценность каждой истины соответствует тому, насколько она характеризует предмет, относительно которого ее утверждают.
Глава IV. Сравнительное значение истин. Второе: редко встречающиеся истины важнее тех, которые встречаются часто
Нам необходимо определить, какое влияние на важность истины оказывает тот факт, что она встречается часто или редко, а также
§ 1. Не следует изображать случайного нарушения принципов природы
выяснить, следует ли считать более правдивым художника, изображающего обычное или рисующего то, что необычно в природе.
Полное разрешение этого вопроса зависит от того, является ли необычный факт нарушением общих принципов или особым из ряду вон выходящим случаем применения этих принципов. Природа сама, хотя и редко, нарушает от времени до времени свои собственные принципы, ее принцип – все делать прекрасным, но порой она производит то, что по сравнению с остальными ее творениями может показаться безобразным. Несомненно, что даже эти редкие отрицательные явления допускаются, как было сказано выше, с добрыми целями (ч., о. I, гл. VI). Они представляют ценнность в природе, и если пользоваться ими так, как она это делает, они могут быть столь же ценными и в искусстве (в качестве минутных диссонансов). Но художник, который стал бы искать только их и не рисовал бы ничего другого, оказался бы лживым в точном смысле этого слова, хотя бы он и отыскал в природе оригиналы к каждому из созданных им уродств; он был бы лжив по отношению к природе и не послушен ее законам. Например, природа обыкновенно придает форму облакам посредством бесконечных углов и прямых линий. Может быть раз в месяц при усердном старании удастся подсмотреть облако, совершенно круглое, образованное кривыми. Но художника, который будет рисовать только круглые облака, следует тем не менее без всякого снисхождения признать лживым.
Но дело совершенно меняется, если вместо нарушения принципа мы встречаемся со случаем его необыкновенного применения или обнаружения при совершенно необычных условиях.
§ 2. Но те случаи, когда эти принципы проявились особым поразительным способом
Хотя природа всегда прекрасна, она не выставляет постоянно напоказ высших сил красоты, потому что они могли бы пресытить нас и стать приторными для наших чувств. Необходимо редко показывать их для того, чтобы мы их ценили. Самыми прекрасными штрихами природы являются те, которые приходится долго поджидать; совершеннейшие проявления красоты бывают мимолетны. Природа постоянно показывает нам что-нибудь прекрасное, но этого прекрасного она не давала нам прежде, не повторить после.
§ 3. Что бывает сравнительно редко
Он раскрывает свои главные силы при особых обстоятельствах, и если не подстеречь их вовремя, они никогда уже не повторятся. Эти-то мимолетные явления совершеннейшей красоты, эти – то постоянно изменяющиеся образцы высшей силы и должен стеречь и схватывать художник. Ничего не может быть нелепее предположения, будто те эффекты или истины, которые обнаруживаются часто, более характеризуют природу, чем те, которые столь же необходимы по ее законам, но проявляются реже. И частое и редкое – элементы одной и той же великой системы. Передавать одно или другое исключительно значит передавать недостаточно истину: повторять один и тот же эффект или мысль в двух картинах значит попусту тратить время. Что должны мы думать о поэте, который всю свою жизнь сталь бы повторять одни и те же мысли в различных выражениях?
§ 4. Всякое повторение достойно порицания
И почему мы должны быть снисходительнее к художнику-попугаю, который заучил лишь один урок из книги природы и, постоянно заикаясь, повторяет его, не переворачивая следующей страницы? Почему беспрестанно повторяющееся описание предмета в линиях следует считать в меньшей степени тавтологией, чем такое же описание его словами? Уроки природы столь же разнообразны и бесконечны, как и постоянны, и долг художника состоит в том, чтобы подслушивать каждый из этих уроков и передавать те (человеческая жизнь не может дать чего-нибудь большего), в которых ее принципы обнаружились наиболее своеобразно и поразительно. И чем глубже искания художника, чем реже встречаются подмеченные им явления, тем больше ценности будут представлять его произведения. Повториться даже в одном случае есть измена природе, потому что тысячей человеческих жизней было бы недостаточно для того, чтобы представить хоть по одному разу совершеннейшие проявления каждой ее силы. Что же касается комбинирования и классификации их, то художник мог бы взяться за выражение и объяснение в одном произведении сразу всех уроков, воспринятых им от Господних творений, с такой же надеждой на успех, с какой проповедник принялся бы за выражение и истолкование зараз всех дивных истин, раскрытых Божественным откровением.
§ 5. Обязанность художника та же, что и проведника
Оба они толкователи бесконечного, и обязанность каждого для каждой беседы выбирать только одну важную истину; они должны особенно отмечать и останавливаться на тех истинах, которые наименее ощутительны для обыкновенного наблюдателя, скорее всего ускользают от невнимательная взора. Он должен запечатлевать их и только их в сердцах тех, к кому он обращается, иллюстрируя их всем тем, что дает ему знание, украшая всем, что достижимо при его силах. И действительная правдивость художника находится в соответствии с числом и разнообразием фактов, которые он объяснил, притом эти факты всегда должны быть, как замечено выше, осуществлением, а не нарушением общих принципов. Количество истин соответствует числу таких фактов, a ценность и поучительность истин – редкости фактов. Таким образом, все действительно великие картины обнаруживают нам общие свойства природы, проявляющиеся своеобразными редким, прекрасным образом.
Глава V. Сравнительное значение истин. Третье: истины цвета наименее важны среди всех истин
В двух последних главах мы указали главные критерии для определения значения всех истин.
§ 1. Различие между первостепенными и второстепенными свойствами тел
Этих критериев вполне достаточно, чтобы сразу отличить в телах те свойства, которые важнее других, благодаря тому, что они более характеризуют частные предметы, подлежащие изображению, или принципы природы.
По Локку (кн. II, гл. 8), существуют три разряда свойств в телах: во-первых, «объем, внешний вид, число, положение, движение или спокойное состояние его плотных частей; эти свойства имеются в вещах независимо от того, постигаем ли мы их или нет»; эти свойства Локк называет первостепенными; во-вторых, «способность, присущая каждому телу производить особым образом действие на какое-нибудь из наших чувств» (sensible qualities); и в-третьих: «способность всякого тела совершать в другом теле такие изменения, что это тело начинает производить на нас действие, отличное от производимого прежде»; эти последние способности «обыкновенно называются силами».
Исходя из этого, Локк доказывает дальше, что то, чему он дал название первостепенных качеств, есть действительно часть сущности тел и характеризует их, а свойства двух других разрядов, которые он называет второстепенными, являются только способностью производить известные действия и впечатления на другие предметы и на нас. Способность влияния одинаково характерна для обоих предметов – для активного и пассивного.
§ 2. Первые вполне характеризуют предмет, вторые не вполне
В самом деле, в предмете воспринимающем должна существовать способность к получению впечатлений так же неизбежно, как в действующем предмете способность производить впечатление (Ср. Locke, book II, ch. 21, sect. 2). Часто бывает, что два человека воспринимают аромат двух совершенно различных видов от одного и того же цветка. Очевидно, что способность цветка давать тот и другой запах зависит столько же от природы их нервов, сколько от его собственных частиц. И мы будем правы, сказав, что в нас существует способность воспринимать, а в цветке – производить впечатление. Вследствие этого всякая сила, характеризующая природу двух предметов, недостаточно и несовершенно характеризует каждый из них в отдельности. Но первостепенные свойства, характеризуя только предмет, которому они присущи, являются наиболее важными истинами, соединенными с ним. Вопрос о том, что такое предмет, должен предшествовать вопросу о том, чем он может быть, и потому первый вопрос важнее второго.
По приведенному выше определению Локка только объем, внешний вид, положение и движение или спокойствие плотных частей являются первостепенными свойствами. Вследствие этого все истины цвета отступают на второй план.
§ 3. Цвет – второстепенное свойство, а потому имеет меньшее значение, чем форма
Тот, кто пренебрег истиной формы для истины цвета, пренебрег большей истиной для меньшей.
Что цвет действительно имеет меньше значения для характеристики предмета, легко видеть из самых простых соображений.
§ 4. Цвет не служит различием между предметами одного вида
Цвет растений меняется с каждым временем года, цвет всякого предмета – с изменением падающего на него света. Но природа и сущность предмета не зависят от этих изменений. Дуб останется дубом, зелен ли он весной, красен ли зимой; далия останется далией, желтого ли она цвета или пунцового, и если бы даже нашелся такой чудовищный охотник до цветов, который бы привел самый цветок в ужас, изобразив его голубым, последний все-таки остался бы далией. Но совсем другой получился бы результат, если бы такие же произвольные изменения были произведены с ее формой. Сгладьте шероховатость коры, уменьшите углы веток, и дуб перестает быть дубом, но сохраните его внутреннюю структуру и внешнюю форму, и все равно, сделаете ли вы его листья белыми, розовыми, голубыми или трехцветными, он будет белым дубом, розовым или республиканским, но все-таки дубом. Цвет едва ли даже и может служить различием между двумя предметами одного и того же вида. Два дерева, одного рода, одного времени года и возраста будут иметь безусловно одинаковый цвет. Но формы их будут совершенно различны, и даже ничего похожего в них не будет. Не может быть различия в цвете двух кусков скалы, отломившихся от одного места, но не может случиться, чтобы они были одинаковой или сходной формы. Таким образом форма характеризует не только виды, но и особи видов.
Далее, цвет рядом с другими цветами отличается от самого себя, если его взять отдельно.
§ 5. Он в сочетании с другими цветами отличается от себя самого, когда его берут отдельно
Он оказывает на ретину особое, своеобразное действие, зависящее от его сочетания с другими цветами. Следовательно, цвет какого бы то ни было предмета и созерцающий его глаз зависят от природы самого предмета не более, чем от цвета соседнего предмета. Таким образом, и с этой точки зрения он мало характерен.
Достоверность по отношению к свойствам и силам, зависящим от природы столько же воспринимающего, сколько активного предмета, совершенно отсутствует.
§ 6. Неизвестно, видят ли два человека один и тот же цвет в предмете
Ввиду этого совершенно невозможно доказать, что один человек видит какой-нибудь предмет в том же цвете, что и другой человек, хотя он может прилагать к нему одинаковое имя с первым. Один может видеть желтый цвет там, где другой видит голубой, но так как действие этого цвета на каждого из них остается постоянно одно и то же, то они сходятся в термине и оба называют его или желтым, или голубым, соединяя с этим названием совершенно различные идеи. И ни о том, ни о другом нельзя сказать, что они заблуждаются, потому что цвет заключается не в предмете, а в предмете и в них вместе. Но если они видят формы различно, то кто-нибудь из них должен ошибаться, потому что форма есть нечто положительное в предмете. Мой приятель может видеть кабана голубым вместо того, каким я его знаю, но невозможно, чтобы он видел его с лапами вместо копыт, разве только глаза его или руки ненормальны (Ср. Locke, book II, chap. XXXII, § 15). Но я не хочу сказать, что это отсутствие достоверности может оказать какое-нибудь влияние на искусство: хотя бы Лондсир видел дога в том цвете, который я назвал бы голубым, но зато и краска, которую он наложит на полотно, будучи для него голубой, для меня покажется бурым цветом собаки. Итак, о цветах мы можем разговаривать только в такой форме, словно все люди видят их одинаковыми (что, вероятно, и есть в действительности). Я упомянул об этом отсутствии достоверности только с целью показать неопределенность и маловажное значение цветов как свойств, характеризующих тела.
Прежде чем идти дальше, я должен объяснить смысл, в котором я употребляю слово «форма»: художники обыкновенно неточно и небрежно определяют им контуры тел, тогда как оно непременно включает в себе свет и тень.
§ 7. Форма, рассматриваемая как элемент пейзажа, включает в себе свет и тень
Правда, контур и светотень должны быть отдельными предметами исследования для студентов. Но без светотени никакая решительно форма не может быть передана глазу, и поэтому, говоря о форме вообще как об элементе пейзажа, я имею в виду полное и гармоничное единство контура со светом и тенью, благодаря которому были бы вполне выяснены глазу все части тела, их выпуклости и соразмерность. Будучи совершенно независимым от вида или свойств других предметов, присутствие света на предмет есть положительный факт, ощущаем ли мы его или нет, и он совершенно не зависит от наших чувств. После этих доводов наиболее убедительное доказательство маловажного значения цвета заключается в наблюдении над тем, каким путем в уме отпечатлеваются вещественные предметы. Внимательно изучая природу, мы найдем, что ее цвета находятся в состоянии постоянного смешения и неясности, тогда как ее формы, передаваемые светом и тенью, неизменно ясны, отчетливы и выразительны. На береговых камнях и песках отсвечивается зелень ветвей, раскинувшихся вверху, на кустах – серый или желтый цвет почвы.
§ 8. Важное значение света и тени для выражения характера тел и маловажное значение цветов
Каждая часть гладкой поверхности, шириной хотя бы с волосок, отражает мелкую частицу синего неба или золотого солнца, подобно тому, как каждая звезда оказывает влияние на колорит того или другого места. Этот местный колорит, изменчивый и неверный сам по себе, кроме того, совершенно или отчасти меняется сообразно с оттенками света и тускнеет в сероватой тени. Смешение и сочетание цветов в природе столь велико, что если бы нам пришлось узнавать предметы только по их цветам, едва ли нам удалось бы временами отличить ветки дерева от окружающей его атмосферы или находящейся под ним земли. Я знаю, что люди, не знающие на практике искусства, сразу не поверят этому, но если они обладают способностями к точному наблюдению, они скоро убедятся в этом. Они увидят, что они почти не в состоянии определить в точности цвет чего бы то ни было, кроме тех случаев, когда они имеют дело с большими одноцветными массами, например, с зеленым полем или голубым небом. Между тем форма, выражаемая светом и тенью, всегда определенна и ясна и служит главным источником для характеристики всех предметов. Свет и тень действительно настолько превосходят различие в цветах, что разница между освещенными частями белого и черного предметов не так велика, как разница (при солнечном свете) между освещенной и теневой стороной каждого из них в отдельности.
Рассматривая впоследствии идеи красоты, мы увидим, что цвет даже в качестве источника удовольствия не выдерживает сравнения с формой.
§ 9. Повторение
Но мы не можем останавливаться на этом в настоящую минуту. Мы имеем дело только с правдой, и наблюдений, сделанных нами, достаточно, чтобы доказать, что художник, жертвующий и пренебрегающей правдой формы ради стремления к правде цвета, жертвует определенным ради неопределенного и существенным ради случайного.
Глава VI. Повторение
необходимо далее заметить относительно истин вообще, что наиболее ценны из них те, которые являются в наибольшей степени историческими, т. е. истины, более всего говорящие нам о прошедшем и будущем состоянии данного предмета.
§ 1. Важное значение исторических истин
Например, в дереве важнее передать наличность энергии и эластичности в ветвях, свидетельствующую о его росте и жизни, чем передавать особый характер листа или ткань сучка. Почувствовать постоянное стремление верхних побегов все выше и выше к небу, уловить ток жизни и движения, одушевляющий каждую жилку, гораздо важнее для нас, чем узнать степень рельефности, с которой она вырисовывается на небесном фоне. Первые истины рассказывают нам повесть дерева, говорят о том, чем оно было и чем будет, между тем как последние характеризуют его только в его настоящем состоянии и вовсе неболтливы относительно самих себя. Говорливые факты всегда интереснее и важнее молчаливых. Так, линии в скале, обозначающие ее слои, повествующие о том, как ее омывала и закругляла вода, как ее вытягивал и искажал огонь, важнее, потому что они более говорят нам, чем моховые наросты, меняющиеся с каждым годом, чем случайные трещины, образовавшиеся от мороза и разрушения; не то чтобы последние не были историческими, но они являются историческими в менее отличительном роде и на более краткий период времени.
Таким образом истины видовой формы являются первостепенными и самыми важными, a вместе с ними и те истины светотени, которые необходимы, чтобы дать нам понять каждое свойство и часть форм и относительное расстояние между каждым предметом и другим и, наконец, их сравнительный объем.
§ 2. Форма, выражаемая светом и тенью, занимает первое место среди всех истин. Тон, свет и цвет второстепенное
Ниже их в качестве истин, хотя часто важнее в качестве элементов красоты, стоят все эффекты света и тени, производимые одним подражанием свету и тону, а также все эффекты цвета. Дать нам понять беспредельность неба есть цель, достойная художника с высшими способностями. Заняться его своеобразной синевой или золотистостью – это цель, о которой следует думать тогда, когда исполнена первая цель, но не раньше.
Наконец, ниже всех этих свойств стоят та особая точность и те факты светотени, благодаря которым предметы как бы выходят из полотна. Эти эффекты недостойны названия, так как для достижения их приходится жертвовать всеми другими.
3. Обманчивая светотень – последнее
В самом деле, не имея в своем распоряжении такой силы света, при помощи которой природа освещает предметы, мы, желая дать полную иллюзию в одном, должны исказить его отношение к остальным (ср. ч. I, от. I, гл. V). Кто выталкивает предмет из своей картины, тот никогда не допускает в нее зрителя. Микеланджело уносит нас за своими призраками в беспредельность небес, современный французский художник выводит своего героя из рамок картины.
Плотность или выпуклость, таким образом, представляют собой самые низшие истины, которые только может дать искусство. Это – живопись только материи, преподносящая глазу то, что в сущности есть предмет осязания; она не может ни поучать, ни возвышать; она не может нравиться, разве только в качестве жонглерства; она ничего не говорит ни чувству красоты, ни сознанию силы; и там, где она является главной целью картины, он есть признак и доказательство самой низшей и скверной механической работы; называть это искусством было бы оскорблением для последнего.
Глава VII. Общее применение предыдущих принципов
В предыдущих главах мы представили некоторые доказательства в пользу высказанной раньше мысли, что истины, необходимые для обманчивого подражания, не только немногочисленны, но и принадлежат к низшему разряду. Из этого вытекает, что художники распадаются на две большие группы. Одна стремится к тщательному обнаружению истин видовых форм, чистого цвета и эфирного пространства.
§ 1. Различие в выборе фактов вытекает из различия целей, именно из того, имеется ли в виду подражание или правда
Она довольствуется ясной и яркой передачей каждой из них, какими бы средствами это ни достигалось. Другие оставляют все это в стороне для того, чтобы достигнуть частных истин тона и светотени, производящих особый фокус, и зрителю кажется реальным то, что он видит. Художники первой группы, задумав нарисовать дерево, постараются дать тщательный рисунок его переплетающихся волнующихся ветвей, прелестных листьев, его внутренней организации, словом, передать все те качества, которые делают дерево прекрасным и привлекательным для нас. Художники второй группы постараются лишь убедить вас в том, что вы видите дерево. Они не обратят никакого внимания на правду и красоту форм. Для их целей и пень имеет ту же цену, что и ствол. Им важно одно: навязать глазу иллюзию, будто то, что он видит, есть пень, а не полотно.
К которому из этих двух классов принадлежит великая армия древних пейзажистов, можно отчасти вывести из характера похвал, расточаемых самыми ревностнейшими их поклонниками.
§ 2. Старинные мастера в целом стремятся только к подражанию
Эти похвалы всегда относятся к технических сторонам, к верности руки, искусному сопоставлению цветов и т. д., словом, эти похвалы имеют в виду способность художника обманывать. Мармонтель, войдя в галерею одного знатока, притворился, будто принял прекрасное произведение Бергема за окно. Владелец галереи счел это за высшую похвалу, которая только доставалась картине. Таков действительно взгляд на искусство, лежащий в основе того благоговения, которое обыкновенно питают к старинным мастерам. Это – первая, ясно ощущаемая идея невежественных людей. Это – единственное представление, которое люди, незнакомые с искусством, могут иметь об его конечных целях. Это – единственный критерий, при помощи которого люди, не знающие природы, могут претендовать на какое бы то ни было суждение об искусстве. Странно, что имея в качестве предшественников великих исторических художников Италии, разорвавших смело и гневно оковы этого понимания и отряхнувших даже прах его с своих ног, – странно, говорю я, что после таких предшественников следовавшие за ними пейзажисты тратили свою жизнь на какое-то фиглярство. А между тем это так, и чем более смотрим мы на их творения, тем более сознаем мы, что обман чувств был высшей и единственной целью всего искусства их. Чтобы достигнуть этих целей, они уделяли глубокое и серьезное внимание эффектам света и тона, точному воспроизведению рельефности, с которой материальные предметы выделяются из окружающей их атмосферы.
§ 3. Какие истины передавали они?
И принося в жертву другие истины этим (не вследствие необходимости, a вследствие того, что в тех не было надобности для получения иллюзии), они достигали успеха в передаче этих частных фактов; они обнаруживали при этом такую верность и силу, с которыми нельзя сравняться, которых нельзя превзойти, если судить по картинам, дошедшим до нас в неповрежденном виде. Они вырисовывали передний план своих картин с необыкновенным трудолюбием и старанием, покрывая этот план всевозможными деталями, чтобы ввести в заблуждение глаз обыкновенного зрителя; при этом они не обращали внимания на красоту или правдивость самих деталей; они, рисуя свои деревья, с самым тщательным вниманием относились к тому, насколько эти деревья выступают теневым пятном на небесном фоне, и они не обращали решительно никакого внимания на все, что было прекрасного и существенного в анатомии листьев и ветвей. Они рисуют пространства старательно, применяя прозрачные цвета и воздушные тона, совершенно пренебрегая всеми фактами и формами, для выражения и украшения которых природа пользуется этими цветами и тонами. Они никогда не любили природы, никогда не чувствовали ее красоты; они искали самых холодных и обыденных ее эффектов, потому что этим последним легче всего подражать; они искали самых вульгарных форм, потому что их легче всего узнавать необученному глазу тех, на чье одобрение они рассчитывали. Подобно древним фарисеям, они делали это для взора людского, и люди вознаградили их. Они обманывают и услаждают неопытный взгляд. Во все времена, пока держатся их краски, они будут образцами превосходства для всякого, кто, не зная природы, претендует на то, чтобы слыть сведущим в искусстве. Но кто любит и знает мироздание, оклеветанное ими, для тех во все времена они останутся поучительным доказательством малочисленности и низменности истин, необходимых для картин, которые имеют целью исключительно обман; для этих понимающих людей они останутся огромным скоплением настоящей, грубой и дерзкой лжи, которая допускается в таких картинах.
С этим стремлением к эффекту связана, конечно, более или менее точность знания и исполнения сообразно со старанием и верностью глаза, которыми обладает художник, а также связана более или менее красота форм сообразно с его природным вкусом. Но и красота и правда без всякого колебания приносятся в жертву там, где они мешают великой силе обмана. Клод обладал, хотя он не культивировал его, тонким чутьем к красоте форм; он почти всегда прекрасно изображает листву, но его картины, если исследовать их с точки зрения существенной правды, сплошной ряд ошибок от начала до конца. Кюип, с другой стороны, мог бы прекрасно изображать правду всего, кроме почвы и воды, но он не обладал чувством прекрасного. Гаспару Пуссену, еще менее понимавшему правду, чем Клод, и почти столь же тупому к красоте, как Кюип, были все-таки не чужды чувство и нравственная правда природы, которые часто выкупают картину; тем не менее все, что они могут сделать, они делают с целью обмана, и не делают ничего из любви к тому, что они изображают.
Новейшие художники смотрят на природу совершенно другими глазами; они ищут в ней не того, чему легче подражать, а того, что важнее передать. Отбросив всякую мысль о подражении bona fide, они думают только о том, чтобы передать уму зрителя впечатление природы.
§ 4. Принципы, принятые современными художниками при выборе фактов
И в результате в творениях двух-трех наших передовых новейших пейзажистов заключается большее количество ценных, существенных и ярко запечатлевающихся истин, чем в произведениях всех старинных мастеров вместе взятых, и при том истин, почти не смешанных с явной и нежелательной ложью; между тем незначительные и слабые истины старинных мастеров постоянно связаны с массой постоянных нарушений самых важных законов природы.
Я не жду, что эта мысль будет немедленно принята. Нужны доказательства при помощи анализа, к которому мы теперь приступим.
§ 5. Обыкновенно чувства Клода, Сальватора и Г. Пуссена при сопоставлении их с вольностью и простором природы
Даже не ссылаясь на запутанные и глубоко сидящие истины, мне кажется странным, что кто бы то ни было, зная и любя природу, не почувствует в сердце утомления и боли среди этих грустных и монотонных копий природы, которые только и возможно получить от старинных художественных школ. Кто привык к дикому, привольному морскому берегу с бьющими в него светлыми волнами, со свободными ветрами и гулкими скалами, кто привык к постоянному впечатлению неукротимой силы, тот не может не испытать жгучей боли, когда Клод заставит его остановиться на довольно плохо обтесанной и отделанной набережной с носильщиками и тачками, бегущими ему навстречу, заставить смотреть на слабую, струящуюся в оковах и заставах воду, ни одна волна которой не обладает достаточной силой для того, чтобы снести эти цветочные горшки с вала или хотя бы добросить брызги на сковавший ее камень. Человек, привыкший к силе и величию Божьих гор с их вершинами, лучезарными и уносящимися ввысь, с волнистыми очертаниями, уходящими в беспредельность, с царствами в долинах, с разнообразными климатами по горным склонам, не может не испытать жгучей боли, когда Сальватор заставить его остановиться под каким-то жалким обломком расколовшейся скалы, который казался бы подавленным пред любым пригорком снежной гирлянды Альп, со своим кое-где торчащим кустарником, с клубами фабричного дыма вместо неба. Человек, привыкший к прекрасной бесконечной листве природы, где каждая аллея – целый собор, где каждая ветка – целое откровение, такой человек не может не испытать жгучей боли, когда Пуссен точно издевается над ним со своими черными круглыми массами непроницаемой краски, которые расходятся какими-то перьями вместо листьев и поддерживаются какими-то пнями вместо стволов. Дело в том, что в творениях всех троих отсутствует один элемент, именно тот, благодаря которому главным образом творения человека возвышаются над дагеротипом, калотипом и всякими механическими средствами, которые когда бы то ни было изобретались или будут изобретены. Этот элемент – любовь. Не видно, чтобы упомянутые художники когда бы то ни было жадно, с любовью подходили к природе, чтобы она внушила им такие чувства, которые бы хоть на миг заставили их потерять из виду самих себя; у них нет серьезности и смирения, нет простого и честного отчета хотя бы об одной истине, нет тех простых слов, тех добрых усилий, которые всегда являются у людей, когда они чувствуют.
И не только профессиональные пейзажисты изменили великим истинам материального мира.
§ 6. Неудовлетворительность пейзажа Тициана и Тинторето
Как бы ни были велики мотивы[20], руководившие более ранними и мощными художниками при изображении пейзажа в их творениях, – у этих художников все-таки не было ничего, что приближало бы их к общему взгляду на явления природы, к полной передаче их. Но их не за что упрекать: они брали из природы только то, что годилось для их целей, и их миссия не требовала бóльшего. Но надо соблюдать осторожность, отличая ту существующую в воображении абстракцию, которую мы только и видим у них, от полного изображения правды, к которому делают попытки новые художники. Во втором томе, в главе о симметрии я говорю, что величие всякого пейзажа бледнеет перед пейзажами Тициана и Тинторето. Это справедливо по отношению ко всему, чего они касались, но касались они очень немногого. Несколько ровных рядов листвы орешника, какая-то голубая абстракция горных форм от Кадоре до Евганеев, накаленная почва и богатая трава, небольшие группы спокойных сияющих облаков – вот все, что было необходимо для них. Есть признаки того, что Тинторет чувствовал больше этого, но эти признаки можно уловить только в каком-нибудь второстепенном обломке скалы, обрывке облака, обрубке сосны; они едва заметны благодаря тому огромному интересу, который сосредоточен на изображении людей. Из окна Тицианова дома в Венеции видна цепь Тирольских Альп, вздымающаяся величественными призраками над Тревизской равниной, усеянной клумбами. Каждый рассвет, озаряющий башни Мурано, зажигает также линию пирамидальных огней вдоль гигантского горного хребта. Но насколько я знаю, ни в одном из произведений художника нет признаков того, чтобы он когда-нибудь замечал, а еще менее – чтобы чувствовал величие этого зарева. Темного неба и печальных сумерек Тинторето достаточно для их целей. Но солнце никогда не садится за Сан-Джиорджо в Алиге без целой свиты лучезарных облаков, без того лучистого пояса на зеленом озере, которого никогда не передавала рука этого художника. Мало того, даже из того, что они любили и передавали, многое передавалось условным образом; правда, условности эти прекрасны, но тем не менее им нельзя было бы найти оправдания, если бы пейзаж играл главную, а не служебную роль. Я приведу в пример только Святого Петра мученика, картину, которая является если не совершеннейшим, то популярнейшим из пейзажей Тициана. Чтобы получить свет на телах ближайших фигур, небо сделано темным, как глубокое море, горы окрашены ярким неестественным голубым цветом, за исключением одной налево, которая, чтобы связать отдаленный свет с передним планом, выделяется в виде светлого рельефа непонятного по своему материалу, неестественного по положению и невозможного по степени своей яркости при каких бы то ни было условиях.
Я привожу это не в качестве примера ложности в картине. Нет таких произведений сильного колорита, которые были бы свободны от условностей, сконцентрированных в одно место или разбросанных повсюду, смелых или скрытых.
§ 7. Она обуславливает отсутствие его влияния на последующие школы
Но так как условности всей этой картины проявились главным образом в ее ландшафте, то, признавая значение этого элемента как части великого целого, необходимо остерегаться своевольного характера, который он приобретает, и привлекательности чрезмерных красок этой части. Элементы гораздо более чистой правды встречаются в произведениях Тинторето; и в изображении листвы, смелыми или выделанными штрихами, массами или в деталях, венецианские художники, взятые в целом, должны считаться почти непогрешимыми образцами. Но вся сфера, в которой они вращаются, до того тесна, при этом в ней так много верного относительно, но ложного или несовершенного по существу, что молодые и неопытные художники не могут сделать более рискованного шага, как избрав их слишком рано своими учителями. Для обычного зрителя их ландшафт имеет ценность скорее в качестве стимула к своеобразной, торжественной иллюзии, чем в качестве стимула, направляющего или вдохновляющего на универсальную любовь к природе. Вследствие этого получается такое явление. Люди серьезного склада, особенно те, чьи занятия приводят их к постоянным сношениям с людьми, скорее, чем люди уединения, всегда увидят в венецианских художниках мастеров, затронувших простые струны ландшафтной гармонии, те струны, которые наиболее звучат в унисон с их собственными серьезными и меланхолическими чувствами. Но существуют другие люди с более жизнерадостным и широким миросозерцанием. Оно выросло и получило свою окраску среди простой и дикой природы; эти люди ищут более широкой и систематической сферы учения; они могут признать, что сплошная горизонтальная темнота тициановского неба и плотная листва тициановского леса принадлежат к наиболее возвышенным из всех постижимых форм материального мира. Но они знают, что достоинство этих форм можно понять только при сравнении с жизнерадостностью, полнотой и относительной беспокойностью других моментов и видов, что эти художники не имели намерения дать постоянную пищу, а только случайную усладу человеческому сердцу, что этот урок имеет не меньшую ценность на своем месте, хотя менее убедительную и яркую силу при всех других более низменных состояниях материальных вещей, и что существуют уроки равной или большей силы, которых эти мастера никогда не преподавали и никогда не воспринимали. И если бы не возникли новые школы пейзажа, искусство никогда не отметило бы звеньев этой мощной цепи. Какой смысл был в том, что там или здесь валялся отдельный обрывок; небесный свет не сходил на них. Пейзаж венецианцев остался без влияния на современные им и последующие школы; он еще и теперь остается на континенте бесполезным, точно он никогда не существовал. Даже в настоящей момент германские и итальянские пейзажи, крайнее падение которых не изобразит никакими презрительными словами, висят в Венецианской академии по соседству с Пустыней Тициана и Раем Тинторето[21].
Я бы хотел, чтобы читатель предъявлял именно в этом смысле требование к каждой подлежащей его суду картине неопределившегося достоинства. Он должен спросить себя не об особом, специальном величии, значении или силе картины, а о том, является ли она денной и существенной, как звено в этой цепи истины, передала ли она и истолковала ли что-нибудь, дотоле неизвестное, прибавила ли она хоть один камень к нашей пирамиде, устремляющейся к небу, срезала ли хоть один темный сучок с нашего пути, сравняла ли на нем хоть одну неровную кочку.
§ 8. Как судить о ценности второстепенных произведений искусства
Если она правдивое создание искусства, она должна это сделать: человек никогда не создавал ничего добросовестного, не оказав вместе с тем подобной услуги человечеству. Бог назначает каждому из своих творений особую миссию, и если они честно выполняют ее, мужественно производят расчет, если они неизменно следуют горящему внутри их свету, удаляя от него все, что может повеять на него холодом и погасить его, тогда этот свет разгорится в такое пламя, что станет вечно (в той мере и тем способом, которые достались в удел этим людям) сиять перед человечеством и сослужит ему священную службу. Как бы ни были бесконечны степени этого света, но даже самый слабый из нас обладает даром, который, сколь бы заурядным он ни казался, принадлежит ему специально и который, при достойном употреблении послужит навсегда даром и для человечества.
«Не называй никого глупцом, – говорит Жорж Герберт, –
потому что всякий может,
Если осмелится, выбрать славную жизнь или могилу».
Если, наоборот, эта свежесть не достигнута совершенно, если нет цели и правдивости в произведении, если оно является завистливым или слабым подражанием творениям других людей, если оно не что иное, как выставка ловкости рук или интересной фабрикации, вообще, если обнаружится, что в основании его лежит тщеславие, – тогда бросьте его, какие бы силы ума ни влагались в него и ни тратились ради него, оно теряет значение; все потерял свою прелесть; оно более чем недостойно – оно опасно. Выбросьте его.
В действительности произведения искусства бывают всегда смешанного характера. Их правдивость бывает более или менее испорчена различными слабостями художника, его суетностью, праздностью, трусливостью. Страх творить правильно оказывает на искусство большее влияние, чем обыкновенно думают. Только то следует безусловно отбросить, что безусловно суетно, праздно и трусливо; степень достоинства всего остального следует устанавливать скорее по чистоте металла, чем по ценности формы, в которую он отлился.
Приняв в соображение эти принципы, постараемся установить общую точку зрения на ту пользу, которую
§ 9. Религиозные пейзажи в Италии. Их удивительное совершенство
могут принести нам при изучении природы и старинное искусство, когда в нем попадаются различные элементы пейзажа, и новые школы, направившие свою работу более цельно на пейзаж.
Об идеальном пейзаже ранних религиозных живописцев Италии я упоминаю в заключительной главе второго тома. Этот пейзаж безусловно правилен и прекрасен с точки зрения его специального применения. Но он захватывает слишком узкую область природы и трактует ее во многих отношениях слишком строго и условно, чтобы послужить удобным образцом в тех случаях, когда пейзаж один является сюжетом для мысли. Великое достоинство религиозного пейзажа Италии – полное тщательное и смиренное изображение выбранных его авторами предметов. Он отличается от германских подражаний, которые я встречал, тем, что не заключает в себе стараний внести разные фантастические, орнаментные изменения в изучаемые предметы, а проникнут правдой и любовью к этим предметам. В деревьях на переднем плане никогда не бывает преувеличения, излишней густоты; они не образуют ни арок, ни рам, ни бордюров. Их прелесть дышит непринужденностью, их простота ничем не нарушается. Чима Конельянский в своей картине, находящейся в церкви Madonna dell’Orto в Венеции, изобразил дуб, фиговое дерево и прекрасную Erba della Madonna на стене, точь-в-точь в таком виде, в каком она существует в настоящее время на мраморных ступенях этой самой церкви. Плющ и другие ползучие растения, земляничный куст на переднем плане с цветком и ягодой, только что завязавшейся, одной полузрелой, другой вполне зрелой, – все это терпеливо и без всяких затей срисовано с реальных предметов и потому дивно хорошо. Употребление, которое Фра Анджелико сделал из Oxalis Acetosella, правильно в смысле воспроизведения и трогательно по чувству[22]. Папоротник, растущий на стенах Фьезоле, можно увидеть в его простом, правдивом виде в архитектуре Гирландаджио. Роза, мирт и лилия, апельсин и маслина, померанец и виноград – все это получило свое прекраснейшее изображение там, где они имели священный характер. Даже к изображению подорожника и мальвы Рафаэль приступал с глубочайшим благоговением. И действительно, только в этих школах найдем мы совершеннейшее изображение подобных деталей, изображение столь же тонкое и любовное, сколько возвышенное и смелое. Я особенно должен подчеркнуть их специальное превосходство, потому что оно принадлежит к числу свойств, которыми совершенно пренебрегают в Англии и с самыми печальными результатами. Некоторые из наших лучших художников, как например Гейнсборо, не заняли того места, которое заслужили, единственно благодаря отсутствию упомянутого качества. Этот недостаток помешал их развитию и придал их целям грубый характер.
Для всякого добросовестного критика несчастье заключается в том, что почти невозможно хвалить какое-нибудь качество художественного произведения само по себе, не касаясь мотивов, которые породили его, и места,
§ 10. При каких условиях законченность и отсутствие ее бывают законны и при каких ложны
в котором оно появляется; нельзя отстаивать какой-нибудь принцип просто, без того, чтобы при этом показалось, будто защищает какой-нибудь вредный принцип; квалификация и объяснение ослабляют силу сказанного и не всегда воспринимаются терпеливо; те, кто желает не понимать или возражать, всегда имеют возможность стать глухими слушателями и разыграть правдоподобно роль оппонентов. Таким образом, едва я осмелюсь отстаивать важное положительное значение законченности, во мне тотчас же увидят защитника Вувермена и Герарда Дау. Равным образом я не могу похвалить силы Тинторето без опасения, что меня сочтут противником Гольбейна или Перуджино. Дело в том, что и тщательная отделка, и смелая быстрота работы, мелочность в передаче видовых черт и широкая абстракция могут быть признаками или страсти, или совершенно противоположного, могут проистекать от любви или индифферентизма, от ума или тупости. Одни тщательно отделывают работу вследствие сильной любви к прекрасному даже в мельчайших частях того, что они изображает, другие – вследствие неспособности понять что бы то ни было, кроме мелких частей; третьи – чтобы показать свою ловкость в обращении с кистью или доказать, что затрачено известное время. Одни стремительны и смелы в работе, потому что имеют выразить великие мысли, не зависящие от деталей, другие – потому что обладают дурным вкусом или потому что их плохо учили; третьи – из тщеславия, четвертые – по лености. И вот, как законченность, так и несовершенство отделки законны там, где они являются признаками страсти или мысли, и ложны там (и при этом, я думаю, законченность хуже из двух), где перестают быть таковыми. Новейшие итальянские художники нарисуют каждый лист лаврового дерева или розового куста, совершенно не чувствуя при этом их красоты или характера, не обнаружив с начала до конца ни малейшего проблеска ума или любви. Хуже это нет ничего. И тем не менее высшие школы делают то же самое или почти то же, но они совершенно отличаются по руководящим мотивам и понятиям, и результаты получаются дивные. В общем, мне кажется, крайние ступени хорошего и дурного существуют у тех, кто тщательно отделывает работу, и как бы ни была велика сила, которую мы допускаем в художниках, подобных Тинторето, как бы ни казался нам привлекательным метод Рубенса, Рембрандта или (хотя в гораздо меньшей степени) нашего Рейнольдса, вполне великими людьми все-таки являются те, кто делает что-нибудь вполне, словом, кто никогда не пренебрегал ни одной, даже самой мелкой из созданных Богом форм. Главный недостаток наших английских пейзажистов заключается в том, что они не обладают всеобъемлющим, проницательным, уравновешенным умом, за исключением одного-двух, они не обладают хоть сколько-нибудь тем чувством, которое Вордсворт выразил в следующих строках: «Так прекрасно, так сладостно и вместе с тем так чувствительно. Я хотел бы, чтобы маленькие цветы, родившись для жизни, хоть наполовину сознавали то удовольствие, которое они доставляют, чтобы ведала горная маргаритка про красоту той звездообразной тени, которую она отбрасывает на гладкой поверхности голого камня». Это небольшая частица хорошо и искренне выполненного переднего плана картины; здесь нет ни одной ошибки; здесь все – и маргаритка, и тень, и ткань камня. Наши художники должны дойти до этого, прежде чем приступить к выполнению своего долга, и все-таки пусть они остерегаются законченной отделки ради самой отделки во всех своих картинах. Не вся земля покрыта маргаритками, не каждая из них отбрасывает звездообразную тень. В умении правильно скрывать предметы, заключается столько же законченности, сколько в умении правильно выставлять их. И требуя передачи видового характера там, где природа обнаруживает его, я требую также верности природе и там, где она скрывает видовой характер. Для того, чтобы правильно передать туман, даль и свет, часто нужно только воздержаться от изображения всего лишнего; правило для этого слишком простое. Если художник рисует то, что он знает и любит и при том знает именно потому, что любит, будет ли это прекрасная земляника Чимы, или ясное небо Франчиа, или огненный непонятный туман Тернера – все равно художник будет прав. Но когда художник рисует что бы то ни было, считая это обязательным только потому, что он не думал об этом, – такой художник не прав. Ему следует только спросить себя, заботится ли он о чем-нибудь, кроме самого себя. Если да, он создаст хорошую картину, если он думает только о себе – плохую. В этом недостаток всех французских школ. У них есть прилежание, есть знание, способности, есть чувство, и тем не менее они не обладают чувством настолько, чтобы забыть о самих себе хоть на минуту. Их руководящий мотив – тщеславие, и потому их картины являются какими-то недоносками.
Возвращаясь к картинам религиозных школ, мы увидим, что небо у них особенно ценно. Эта ценность так велика, что последующие школы по сравнению с ними, можно сказать, совсем не изобразили неба, а дали нам вместо него только облака или туманы или голубые навесы.
§ 11. Насколько ценно открытое небо религиозных школ. Изображение гор у Маскаччио. Пейзаж братьев Беллини и Джорджоне
Золотое небо Марко Базаити в Венецианской академии совершенно подавляет и лишает всякой цены помещенное рядом небо Тициана. Небеса Франчиа в Болонской галерее еще более удивительны, так как они еще холоднее по тону и находятся позади фигур, освещенных полным светом. Штрихи белого света на горизонте в Страшном суде Анджелико постигнуты и выполнены с такой же правдивостью. Величавые и простые формы спокойных облаков эти художники часто выражают величественным образом, но они не дают ни одного образца изменчивых облаков. Архитектура, горы и вода этого периода обыкновенно условны; в них можно найти мотивы высшей красоты; они особенно замечательны по объему и смыслу сюжета, но их можно изучать и принимать только с тем особым чувством, которое произвело их. Вообще следует заметить, что все, что является следствием сильной эмоции, покажется плохим, если не пройдет сквозь такую же эмоцию, и приведет к ложным и опасным выводам, если станет предметом хладнокровного наблюдения или объектом систематического подражания. Впрочем, есть один случай истинного изображения гор – в пейзаже Маскаччио Податные деньги. Трудно сказать, какие необыкновенные результаты могли бы получиться в этой специальной области искусства, какие великие школы пейзажа могли бы неожиданно явиться, если бы продлилась жизнь этого великого художника. Мне еще много придется впоследствии говорить специально об этой фреске. Два брата Беллини дали замечательно сильный толчок пейзажу в Венеции. Об архитектуре Джентиле Беллини я вскоре поговорю. Архитектура второго, Джиованни, менее интересна по стилю и занимает менее выдающееся место; по большей части она служит своего рода рамой для его картин, рамой, соединяющей эти последние с архитектурой церкви, для которой они создавались. Тем не менее по чистоте исполнения архитектурные работы Джиованни, я думаю, несравненны, особенно в таких местах, которые, как например, своды требуют чистоты перехода. Творения Веронезе показались бы призраками рядом с творениями Джованни, творения Тициана – лишенными света. Его пейзаж по временам причудлив и странен, подобно пейзажу Джорджоне, и столь красив по колориту, как пейзаж позади Мадонны в галерее Брера в Милане. Но более правдивое изображение находится на картине в San Francesco della Vigna, в Венеции, а на картине Святой Иероним в церкви San Grisostomo пейзаж достигает такого совершенства и красоты, какие только можно с законным правом допустить на заднем плане картины; поскольку дело касается пейзажа, эта картина превосходит все творения Тициана. Она замечательна по необыкновенной правдивости в изображении неба; его синева чистая, как кристалл, светлая, несмотря на густоту красок, как вольный свободный воздух, постепенно сливается с горизонтом так осторожно и с такой законченностью, что почти невозможно уловить этот переход. Для того чтобы получить свет горизонта, не противоречащего системе света и тени, которая принята в фигурах, освещенных с правой стороны, горизонт пересечен несколькими блестящими белыми перистыми облаками; им, в свою очередь, противопоставлена темная горизонтальная линия нависших ниже облаков. Далее, для того чтобы отодвинуть целое несколько вдаль, над горами плывет гирлянда дождевых облаков, освещенных с нижнего края. И по цвету и по своей форме неправильных, рассеянных обломков эти облака до того верны природе, что представляют собой совершеннейший образец. Так же верно схвачено блуждание света между горами, a венцом всей картины является необыкновенное воспроизведение листьев фигового дерева, которое я уже отмечал (vol II, p. 231), и растительности на скалах. И при такой тщательности и полноте на заднем плане картины нельзя указать и в фигурах ни одной черточки, которая бы не имела значения, не являлась необходимой. Величие и небесная красота, которые величайшие религиозные художники вкладывают в самые фигуры, соединены с такой силой и чистотой колорита, каких, по моему мнению, не достиг Тициан. Таким образом упомянутую картину можно считать почти непогрешимым образцом во всех отношениях для молодых художников. Пейзаж Джорджоне отличается изобретательностью и торжественностью. Но ввиду того, что даже номинальный его произведения очень редко встречаются, я не решаюсь говорить о нем в общих выражениях. Он носит характер условности, и по моему мнению, его скорее следует изучать за его колорит и побудительные мотивы, чем за детали.
О Тициане и Тинторето я уже говорил. Последний, во всяком случае, более великий мастер; он никогда не спускается до преувеличенного колорита Тициана и
§ 12. Пейзаж Тициана и Тинторето
достигает гораздо более совершенного света; он более широко постигает природу; у него больше воображения (отдельные указания на его пейзаж можно найти во втором томе, в главе о проницательности воображения), но отсутствие терпения мешает ему передавать свои мысли с такой же ясностью, как Тициан, и с такой же полнотой реализовать самую сущность их. Тицианова картина Святой Иероним в Брерской галерее служит прекрасным образцом того, каким образом следует или набрасывать, или тщательно отделывать элементы пейзажа сообразно с их местом и значением. Более широкие штрихи почвы, листвы и складок так же, как и лев в нижнем углу, сделаны с такой небрежностью, которая не допускает близкого рассмотрения их и которая оскорбила бы чувство обыкновенных зрителей, если бы не находилась в тени. Но в том месте скалы, возвышающейся над львом, которое обращено к свету и на котором художник умышленно останавливает взор зрителя, находится гирлянда из плюща: каждый лист ее вырисован отдельно с величайшей точностью и старанием; позади ящерица, сделанная так же тщательно и с той же законной величавостью манеры, которую я отметил в предисловии. Тинторетто редко достигает или пытается достигнуть такой отделки в передаче сущности и колорита этих предметов, но он более правдив и достоверен, изображая великие черты родовых форм, и в качестве живописца пространства он представляет исключительное явление среди умерших мастеров. Он первый ввел легкость и неясность штриха, служащие для выражения того действия, которое производят светлые предметы, когда на них смотрят сквозь большое воздушное пространство; он первый ввел принципы воздушного колорита, которые раньше применялись Тернером в других областях. Я считаю Тинторетто самым сильным художником, которого только знает мир; быть совершеннейшим художником ему помешали отчасти неблагоприятные условия его положения и воспитания, отчасти полнота и стремительность его собственного ума, отчасти отсутствие религиозного чувства и связанного с ним понимания красоты. Он прекрасно трактует религиозные сюжеты (несколько примеров приведено мною в третьей части), но это только результат того умения схватывать, которое великий и хорошо воспитанный ум проявляет в каждом сюжете, но в них не заметно более глубоких и священных симпатий[23].
Но каковы бы ни были успехи, достигнутые Тинторетто в способах художественного исполнения, нельзя сказать все-таки, что он расширил сферу понимания пейзажа. Он не обращал внимания на те представляющие исключительное явление по богатству колорита материалы и мотивы, которые всегда окружали его в родной Венеции. Все части венецианского пейзажа, введенные им, трактованы им условно и небрежно; архитектурные черты, утрачены совершенно; море отличается от неба только бóльшей темнотой зеленого цвета; что касается самого неба, он выбирал только те его формы, которые тысячи раз воспроизводились в течение веков, хотя с меньшей осязательностью и законченностью. Из горных пейзажей он, по моему мнению, не оставил ни одного такого образца, как указанное выше творение Джованни Беллини.
Флорентийская и умбрийская школы не внесли никакого пополнения в пейзаж, если не считать пейзажей, созданных
§ 13. Школы: флорентийская, миланская и болонская
самыми ранними мастерами, которых постепенно подавила архитектура Ренессанса.
Пейзаж Леонардо имел печальные последствия для искусства, насколько он вообще оказал на него влияние. В изображении деталей он доходит до орнаментации. В очертаниях его скал есть все недостатки и нет чувства более ранних мастеров. В картине Джотто Жертва друзьям в Пизе на заднем плане случайно очутилась скала; небольшой источник выбивается у подножия горы и струится в сторону; ветки тростника обозначают его путь; они исполнены, конечно, с известными условностями и все время идут триплетами. Но чувство природы, которое объемлет всю картину в ее целом, совершенно отсутствует в скалах Леонардо на картине Святое Семейство в Лувре. Эти скалы неестественны, не будучи в то же время идеальны; они необыкновенны, не производя в то же время сильного впечатления. Эскиз в Uffizii во Флоренции заключает в себе несколько прекрасных листьев, и, конечно, известные достоинства есть во всех творениях такого человека, как Леонардо, которого я вовсе не желал бы унизить, но в этой специальной сфере следует поклоняться ему с ограничениями и подражать ему с осторожностью.
Никаких успехов, насколько мне известно, со времени Тинторетто пейзаж не сделал; мощь искусства все убывала в школах, происходивших от него; ловкость и чувство разных степеней проявлялись в более или менее блестящих условностях. Некогда я думал, что в пейзаже Доменикино есть кое-какая жизнь, но я ошибался в этом. Человек, нарисовавший картины Madonna del Rosario или Мученическая кончина святой Агнесы в Болонской галерее, явно не способен создать что бы то ни было хорошее, великое или верное ни в какой области, ни в каком роде[24].
Впрочем, хотя в течение этого периода сфера действия школ постоянно суживается, тем не менее миру был преподнесен один дар художником Клодом; мы недостаточно отблагодарили его за это, благодаря, быть может, тому, что слишком часто наслаждались этим даром.
§ 14. Клод, Сальватор и Пуссен
Он воспроизвел солнце в небесах, он, по моему мнению, первый попытался создать нечто вроде реализации солнечного света в туманном воздухе. Он представил первый пример изучения природы ради нее самой, и, имея в виду печальные условия его воспитания, недостаточную высоту его ума, едва ли можно было ожидать от него чего-нибудь бóльшего. Его ложный вкус, натянутая композиция и невежественная передача деталей принесли, может быть, искусству больше ущерба, чем его дар – пользы. Он обладал странным складом ума; я не знаю ни одного подобного примера: человек постоянно рисует с натуры, желая быть правдивым, и ему не удается настолько овладеть искусством, чтобы сделать правильно хотя бы ветку дерева. Сальватор, наделенный от природы меньшими способностями ума, чем Клод, совершенно изменил своему назначению и, по моему мнению, ничего не принес нам в дар. Все его творчество имеет целью только выставить напоказ его ловкость; он ничего не любит; он выбирает различные черты в пейзаже не по любви к возвышенному, a вследствие чисто животной неугомонности и лютости, а также силы воображения, от которой он не мог вполне отрешиться. Все, что он сделал, было сделано другими лучше его; любое из своих творений он мог бы не создавать и поступил бы лучше. В природе он не отличает искажения от энергии, дикого от возвышенного, в человеке – нищеты от святости, злоумышления от героизма.
