С видом на Нескучный бесплатное чтение
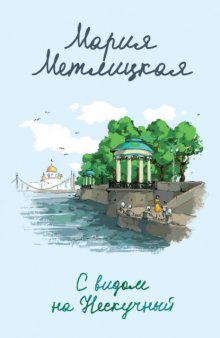
Мария Метлицкая
С видом на Нескучный
© Метлицкая М., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
С видом на Нескучный
– Мам! – сорвалась Вера. – Ты меня совсем не слышишь?
– Я-то тебя слышу, доча. А вот ты меня нет.
Вера с безнадежным отчаянием посмотрела на мать. Бесполезно. Мать упряма как осел. Уж если что-то вобьет в голову – не отступится. Такой характер. Вера, кстати, в нее. Ну что делать? Как донести до нее, что то, чего она требует – ну ладно, просит, – невозможно? Хотя нет, все-таки требует.
Тактика у Галюши такая – все начинается с намеков, грустных вздохов и жалобного поскрипывания. Не срабатывает – начинается вторая стадия. Вера называет ее «брать на измождение». Доковырять, доныть и наконец довести до нервного срыва, до состояния «да черт с тобой, лишь бы отстала!».
Правды ради, такое было всего несколько раз, и речь шла о том, что для Галины Ивановны было серьезным и жизненно важным.
Мать и дочь обожали друг друга и были одни на всем белом свете, но мнения их почти никогда не совпадали. Вера вредничала и противостояла, вернее пыталась противостоять, но, как правило, побеждала мама, Галина Ивановна. И почти всегда мама оказывалась права.
Предмет нынешнего спора и противостояния, по мнению Веры, был пустяковым, а вот по мнению мамы – куда как серьезным. В не к ночи помянутом родном городе (ха-ха, городе! Помоечном городишке, который Вера ненавидела всем сердцем и всю жизнь старалась забыть. Как и их жизнь в этом чертовом Мухосранске) у них, точнее у мамы, оставалась квартира, полученная от комбината. Эту квартиру мама ждала лет двадцать. Слово «квартира» произносилось с придыханием, негромко, словно говорилось о чем-то сакральном. «Мы на очереди», «нам выделили», «нам выдали», «мы получили». Маленькая Вера отлично помнила и слово «смотровой». Смысл его она не понимала, но чувствовала, что это что-то важное, бесценное, самое дорогое.
Тридцать лет пахоты на комбинате, утерянное здоровье, больные сердце и ноги, астма, заработанная на производстве, тяготы жизни в щелястом бараке, не меньшие тяготы в выделенной спустя девять лет ударной работы комнатушке в перенаселенной коммуналке, и слезы, слезы, слезы. Много лет слезы горя, а потом радости – как же, дождалась, заслужила.
Как мама радовалась квартирке, как плакала от счастья! «Дочь, свое жилье, собственное, отдельное!»
Отдельное, да. И собственное. Хотя поначалу не собственное, служебное, выданное от предприятия. Это потом, в перестройку, Горбачев разрешил приватизацию. Понятно, что из этого дерьма их никто не выселил бы и без приватизации, но когда мама получила гербовую о собственности… Тогда началось – лучше не вспоминать. Она целовала эту бумажку, гладила, любовалась. Это ж как надо было воспитать этих людей, что вбить в их несчастные головы, как убедить, что все это не честно заслуженное и сто лет как отработанное, а подарок, бесценный подарок, незаслуженный приз? А как мама гордилась! Квартиру-то выдали ей, ударнице коммунистического труда, бригадиру восьмой бригады, члену профсоюза.
Когда Вера перевозила маму в Москву, та рыдала как на поминках – прощалась с квартирой. Вера пыталась Галюшу уговорить продать эту квартиренку тогда же – ну зачем оплачивать коммуналку, зачем думать о том, что точно не пригодится? Было же очевидно, что мама, а уж тем более Вера туда не вернутся. Ну как же, сейчас! Продавать квартиру мама решительно отказалась – еще чего. «Не ты заработала – не тебе решать! Ишь, важная стала, решительная! Бизнесменша, подишь ты! Верка, сиди и помалкивай. Ты у себя на работе начальница, а надо мной – нет. Пусть хоть и маленькое, плохонькое, а мое. А вдруг чего? Ну вдруг, а? Вдруг что случится? Это у вас, молодых, память короткая. Какое «вдруг», говоришь? Да любое! Не верю я никому. Жизнь научила. Да мало ли? И все, разговоры закрыты!»
Вера тогда посмеялась: «Да бога ради, мне-то что!» Но неужели мама не понимает, что в этот, будь он неладен, родной город они не вернутся? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Подыхать будут, а не вернутся. Да и зачем подыхать? У них все прекрасно! А будет еще круче. Вера знает, Вера уверена в себе. Дела идут у нее отлично. И никакого «вдруг и мало ли что» в их жизни больше не будет. Хорош. Хватит с них и «вдруг», и «мало ли». Свое дерьмо и горести они съели и выпили до самого донышка. И она, и мама.
В общем, спорить не стала: «Хочешь, чтобы квартира осталась? Пожалуйста! Да и кому нужны эти деньги, смешно! Сколько может стоить двухкомнатная квартирка в городе Энске, за триста верст от столицы, с давно закрытым камвольным комбинатом – единственным, между прочим, местом, где можно было работать и хоть как-то зарабатывать. Крошечная двушка, с советскими выцветшими обоями в желтый цветочек, с урчащим, с коричневой ржавой дорожкой унитазом, треснутой раковиной, стертым линолеумом, разбухшими деревянными оконными рамами и старой самодельной кухонной мебелью, когда-то сколоченной папашей? О господи, какая немыслимая тоска!» Вера поежилась и передернула плечами – брррр!
Все, забыли. А зря – даст Галюша забыть! И, если честно, Веру достали ежедневные разговоры про продажу. Не прошло и ста лет, и Галюша созрела. А раз созрела – вынь да положь. Езжай и продавай, «тем более что ты, Вера, владелица!».
«Владелица… Смешная ты, мамуль! Я, мам, владелица, ага, владелица заводов, газет, пароходов и еще собственности в Энске. Только мне хватает и без газет и заводов – ты знаешь, мам, я не алчная. И хлопот у меня до фига, и проблем. Справиться бы! И никакой я, мамуль, не олигарх, как ты любишь подколоть. И не бизнесменша, а бизнесвумен, это я тебе объясняла. Но ты же упрямая, мам! Заладила – «олигархша» и «бизнесменша», а я и спорить перестала, назови хоть горшком, только в печь не ставь. Хватит с нас, мама, печей. Я, мамуль, просто успешная и небедная женщина, вот как-то так. Я тебя разочаровала? Ты хочешь дочь-олигарха? Но нет, увы, до олигарха я не дотягиваю. И очень этому рада. Нам же хватает, правда, мамуль? На все нам с тобой хватает. Да разве даже в самых сладких, в самых приторных и невозможных снах могли мы мечтать, что все у нас будет? Не, мамуль, не могли. Фантазии бы не хватило. Ты меня редко хвалишь. Ну и ладно, я все про себя знаю и сама себя хвалю. Молодец, говорю, Верка! Умница! Во развернулась! В пот шибает от гордости. Ай да Верка Кошелева, дочка Гальки Кошелевой, бригадирши с камвольного! Верка с разбитыми коленками, с пегой косицей, растрепанная, конопатая, курносая. В блеклом, да что там – страшном, – сарафане, перешитом из бабкиного халата. Верка, в сношенных коричневых сандалиях, страшных, как бабкина, по ее же словам, жизнь. Верка Кошелева, мечтающая о трех эклерах, когда на один не всегда хватало. Копила. Об эластической – бабкина интерпретация – водолазке, бьющей острыми искрами, когда тянешь ее через голову. Верка, мечтающая увидеть Ленинград». В Москве была с классом, правда, коротко и бестолково. Так почти ничего и не увидели. Сходили в Мавзолей с желтой мумией – ребята ржали, а училка, Клавдия Степановна, по прозвищу Конь, потому что топала по коридорам железными набойками, как настоящий коняка, плакала и сморкалась в платочек. Еще посмотрели Красную площадь, Лобное место, пряничный игрушечный собор Василия Блаженного с разноцветными главками, в ГУМе поели мороженого – вкусно, хотелось второго, но их увели. Калининский проспект посмотрели, здание СЭВ – да, красиво!.. Правда, в Планетарии были – вот где красота! Верка закинула голову и еле сдержалась, чтобы не пустить от восторга слезу – планеты, луна, звездное небо! Ничего красивее она не видела. В горле чесалось, но заплакать себе не позволила – она же не Клавка-конь. Вот еще – хлюпать носом! Вера гордая и сильная, по крайней мере, так думают одноклассники.
Кошелева защищает слабых и за всех вступается. Она борец за справедливость, и ей доверяют. А она будет хлюпать носом? Нет, никогда.
Москву вроде видела и не видела – так, обзорно. А театры, Третьяковскую галерею? И зачем их повели в Мавзолей? Зачем потеряли кучу времени в этой гробнице? Будь ее воля – ни в жизнь бы туда не пошла, покойников она навидалась.
А про Ленинград и говорить нечего – там вообще сказка. Вера и фильмы смотрела, и фотографии видела. Северная Венеция… Вот есть же на свете везучие люди – москвичи, ленинградцы, те, кто там родился. А Вера родилась в вонючем Энске.
Но даже тогда, на экскурсии, пятиклассница Вера Кошелева точно знала – из Энска она уедет. Окончит школу – и тю-тю, поминай как звали. Только бы поскорее! И даже мама ее не остановит. Только бы время летело побыстрее! Вот проснуться бы утром и – все, школа окончена! Выпускные сданы, форма на антресолях, билет в кармане, прощай, Энск. «А ты, мамуль, не реви – мы скоро увидимся! Не, мам, не здесь, и не надейся! В Москве, мам, в Москве! Мы, мам, будем столичные жители! Это я тебе обещаю, и ты меня знаешь! Только немножечко обожди… Ладно, мамуль?»
Немножечко… Ох, Верка! Какая же ты смешная! Смешная и глупая. Немножечко! Как обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы.
– Мам, – проговорила Вера жалобным голосом, – скажи честно, ты от меня не отстанешь?
Галина Ивановна ответила честно:
– Не отстану, дочк. И не надейся.
Понятно. Значит, надо начинать действовать. Сколько могла – тянула, но теперь все, край, больше этого Вере не вынести. И так дел и проблем столько, что порой хочется выть. Но у мамы своя правда, и упрямство, и настырность, и настойчивость, и все через край, в полном объеме. Не отстанет.
С одной стороны, проблема пустяковая, не о чем говорить. Особенно в сравнении с остальными. Вот только времени совсем нет. Значит, поедет не Вера, а ее помощница и верный друг, которой она полностью доверяла. Ее Танюха. Татьяна была человеком надежным, проверенным временем, а главное – деньгами. Партнером она не была, съев пуд соли, от предложенного Верой партнерства отказалась навеки.
Она числилась коммерческим директором на постоянной зарплате, но зарплата была такой, что, еще сто раз предложи ей долю в бизнесе, наверняка бы отказалась.
Зачем ей бессонные ночи, нервные срывы и прочее?
Но, пусть Татьяна не имела доли в бизнесе, переживала она едва ли меньше хозяйки. Во-первых, таким верная Таня была человеком. А во-вторых, они с Верой дружили. К тому же Татьяна, как и Вера, была одинока, ни мужа, ни детей. Так сложилось. И Татьяна считала, что, встретив Веру, вытянула самую счастливую карту. Все у нее было: и хорошая квартира, и прекрасная машина, и тряпки из приличных магазинов, и путешествия – что еще надо одинокой женщине сорока восьми лет?
И любовники у Татьяны случались, вот только от серьезных романов она, как и Вера, бежала. Так нахлебалась, что вспоминать неохота. Привязанностей и обязательств Татьяна боялась, и здесь они с Верой совпали.
Татьяна занималась в компании, по сути, всем – и бухгалтерией, и принятием на работу, и увольнениями. И разрешением конфликтных ситуаций в коллективе. И поощрениями в виде коротких поездок всей «хиврой», как говорила Вера, и подарками к праздникам. И сопли вытирала брошенным девицам, и одалживала деньги. Веру боялись, а Татьяну нет. Хоть и делала строгое лицо, но все знали: Танечка – человек!
Вера напоминала себе, что есть тончайшая грань между дружбой и службой. Общаться – да, а вот дружить взахлеб, доверяя друг другу сердечные тайны, не стоит. Держалась несколько лет, а потом прорвало, так получилось. Выпила и рассказала. А наутро испугалась – что наделала? Теперь все псу под хвост, сядет тихая Таня на шею. Неделю прятала от Татьяны глаза, а потом та пришла к ней и тихо сказала:
– Вер, жалеешь?
– О чем? – глухо спросила Вера, делая вид, что не поняла. – О чем, Тань, жалею?
– Не думай об этом, Веруша, – продолжила Татьяна, – не переживай. Я столько всего повидала. Жизнь научила ценить, что имею, а это главное. Ты мне, Вер, как сестра. Но работа есть работа. Отодвинешь меня – не обижусь. Пойму. Ты столько лет все это строила, столько вложила! Нет, Веруша. Подвоха не жди. Все остается как было: ты – хозяйка, я – наемный работник. Не справлюсь – уволишь. Все остается по-прежнему. Вер, ты меня поняла?
– Не очень понимаю, о чем ты, – кашлянув от волнения, ответила Вера. – Иди, Тань. Дел навалом. И не забудь про завтрашние переговоры.
Было неловко. Ах, как было неловко! Вот что ей, дуре, вошло в голову? Что Таня будет ее шантажировать? Что попросит поднять зарплату? Что расскажет сотрудникам то, чем с ней поделилась Вера? Чушь, ерунда! Стыдно плохо думать о людях! Стыдно, Вера Павловна! А уж тем более про Танюшку! В общем, все оставалось как прежде: вместе ходили в театры, ездили по миру, шлялись по магазинам, и лучшей спутницы, чем Татьяна, было не найти. Уж какой Вера была одиночкой, уж как уставала от людей, уж как сторонилась привязанностей, а от Татьяны не уставала никогда.
Та была сдержанна, ненавязчива и не болтлива. Впечатления держала при себе. Спросят – ответит. Не спросят – промолчит. Но самое главное – Татьяна была кристально честна. Вера не любила вспоминать, какие проверки прошла Татьяна. Противно. Противно, а необходимо – как доверять незнакомому человеку? В общем, идеальная спутница и идеальный работник. Вера ценила, что Татьяна не зарывалась – никогда не просила надбавок к зарплате, даже когда Вера платила копейки.
Утром решила окончательно: в Энск поедет Танюшка. Ей, Вере, это не под силу.
– Тань! – позвонила Вера. – Можешь зайти?
Татьяна появилась через минуту.
– Сядь, – устало кивнула Вера, – чаю выпьем? Тоже не хочешь? Ну да, и я отекаю… Ох, ничего удивительного – сколько мы за день выхлестываем кофе и чая? Слушай, Тань, – Вера запнулась, – дело дурацкое, плевое, а без тебя не справлюсь. Галюша достала.
С серьезным лицом Татьяна кивнула:
– Проси, чего душеньке угодно!
– Если бы душеньке! – усмехнулась Вера. – Так нет, не ей. Другой душеньке, нашей драгоценной Галине Ивановне! В общем, Тань, собственница сказочных хором Вера Павловна Кошелева дает генеральную доверенность Татьяне Владимировне Николаенко. С коей госпожа Николаенко отправляется в город Энск и занимается дай бог пару, не больше, недель продажей апартаментов. За ценой, понятное дело, не стоим, демпингуем и сбрасываем ее за минимум, за сколько возьмут. Только бы побыстрее.
– Вер, – жалобно проговорила Татьяна. – Ты забыла? Я ж в понедельник в больницу. Прости.
– Это ты, Тань, прости, – расстроилась Вера. – Господи, ну как я могла забыть, как? Даже в ежедневник не записала, была уверена, что не забуду. Ну да, в этот понедельник! Ой, Тань! Мне так стыдно…
Татьяна принялась ее успокаивать:
– Брось, Вер, а то я не понимаю! Последние две недели были такими, что ничего в голове не удержишь. А если через месяц? Ну или недели через три? Врачи говорят, что раньше не оклемаюсь.
– Не, Танюшка, не пойдет. Через какой месяц, через какие три недели? Ты что! Разве тебе будет под силу? Нет, дорогая, ты точно нет. Но Галюня взяла за горло. А ты ее знаешь. В общем, надо вопрос закрывать, не отвяжется. И слушать ничего не желает – езжай и продавай! Тань, я бы эти пятнадцать тысяч долларов ей просто отдала, без всякой продажи! Но Галя держит руку на пульсе – созванивается с бывшими соседками. Не скроешь и не соврешь. И знаешь, что она так активизировалась? Бывшая соседка ей сказала, будут отбирать квартиры, в которых никто не живет. Ну как тебе, а? И главное – не переубедить, ни в какую не переубедить. Соседка главный эксперт по недвижимости и главный законник. «Отберут у тебя, Галька, квартиру, как есть отберут. Ну тебе-то что, ты у нас теперь богачка, у тебя дочь олигарх!»
Вера с Татьяной рассмеялись.
– Я говорю: мам, а с чего? – продолжила, отсмеявшись, Вера. – Покажи мне закон, где это написано! Вот никаких аргументов, а жить не дает! Вдруг, говорит, отнимут? Увидят, что мы не живем, и тю-тю? Или кавказцы заселятся, а потом их не выгонишь. Или того хуже – цыгане! Табор заедет – и все, прощай квартира. Ну ты, Тань, поняла. И соседки звонят и добавляют, пенсионерки, делать-то нечего, вот и верещат: «Ой, Галька, уведут твою жилплощадь!» Ладно, Танюш, – обреченно сказала Вера, – видимо, это судьба. Судьба меня тянет туда, в этот Энск. Никак не дает его забыть. Что делать, сгоняю. Только не на машине, дороги сейчас адовы, пятьдесят километров отъедешь от столицы – и все, кошмар. С водителем тоже не хочу. Размещать его, разговаривать, посвящать во все. И еще не хочу, чтобы кто-то видел, в каком говне я росла. Я дура, да, Тань? Не отвечай, сама знаю. Вот знаешь, – Вера помолчала, – столько лет я в Москве, казалось бы, сама себя сделала. Как говорится, через тернии к звездам. Сколько прошла – не мне тебе рассказывать. Вместе в окопах. Люблю этот город, привыкла к нему. Знаю неплохо. А вот москвичкой себя все равно не чувствую, представляешь? Все знаю, все переулки исходила, все дворы облазила. В музеях часами торчала, образовывалась. Хотела нагнать и перегнать, наивно думала, что получится. Где вы, московские девочки, умненькие, модные, самодовольные, уверенные в себе? Где вы, высокомерные, образованные, и где я, Вера Кошелева из города Энска? Вот именно. Их-то я победила. А вот себя… А вот себя вряд ли. Так и осталась в душе Веркой из Энска. Так и осталась. Наглой от комплексов, а не от уверенности. И высокомерной от комплексов. Вот такие, Танюша, дела.
Татьяна поднялась с кресла.
– Нормальные дела, Вера. Я тебя понимаю. Все наши комплексы из детства. Банально, но факт. Ну, я пошла? – У двери обернулась: – А может, все-таки меня подождешь?
Вера покачала головой:
– Нет, Тань. Завтра и двину, чтоб поскорее вернуться. К тебе в том числе! А то ты в больнице, а я буду болтаться незнамо где.
Татьяна пожала плечами. Начальник тут Вера. Не ей, подчиненной, указывать.
Билетов в СВ не было. Вера выкупила целиком двухместное купе.
Поезд уходил в три часа дня. Отлично, значит, завтра утром она и соберется – пара свитеров, запасная пара джинсов, резиновые сапожки и высокие теплые кроссовки. Ну и, разумеется, документы. Документы лежали в сейфе – на этом настояла Галина Ивановна. И смех, и грех – кому они нужны, эти документы на собственность?
В поезде было жарко, и Вера сняла свитер и сапоги. Выдали одноразовые тапки. Ну что ж, спасибо на этом.
Можно было и заказать еду – вагона-ресторана в составе не было, их, кажется, извели за ненадобностью. Еду привозили замороженную, в контейнерах, ну и вкус у нее был соответствующий. Никаких разогретых блюд Вера брать не стала. Заказала салат из овощей, сэндвич с моцареллой и булочки с корицей и еще попросила заварить крепкий настоящий черный чай:
– Надеюсь, такой имеется?
Проводница кивнула.
Через пятнадцать минут сытая Вера лежала на полке и читала покетбук знаменитой детективщицы. Какая она умница, что купила несколько книжек! Будет чем заняться длинными вечерами. Впрочем, отоспаться бы не мешало. Но это было несбыточной мечтой – отсыпалась Вера только десять дней в году, в отпуске, когда, наплевав на завтраки, спала до обеда. Эти десять дней были только ее. Ни Танюшу, ни маму она с собой не брала. Десять дней моря, тишины и одиночества. Это не развлечения, это необходимый релакс. А вот в путешествие ездили втроем: Вера, мама и Татьяна. Италия, Франция, Германия, Австрия – где они только не были! На отдыхе Вера не экономила, и останавливались они в прекрасных отелях, брали водителя и гида. А зачем тогда зарабатывать, если экономить на своих удовольствиях? И то, что она смогла обеспечить маме такую жизнь, было ее главной радостью и главной победой.
На ночь выпила граммов сто коньяку, для сна и вообще для расслабухи. Назавтра предстояла не самая приятная встреча. Встреча с прошлым, которое она ненавидела.
Вокзал в родном городке перестроили – сколько лет она тут не была? Даже считать неохота. Маму забрала, как только встала на ноги и появилась своя квартира, – везти в съемную не хотела. Забирала ее на машине, вернее на двух машинах. Багажники и салоны были забиты доверху – как Вера ни возмущалась, как ни скандалила, Галина Ивановна была непоколебима – два ковра, добытых с кровью по талонам, несколько кастрюль и сковородок: «Дочк, чугунная, еще свекровкина, ты чего! Картошка, жаренная на ней, – пальчики оближешь, Вер, ты забыла? Сейчас такую не купишь».
Забыла. Очень старалась забыть. Даже хорошее, не говоря о плохом. Правда, хорошего было с копейку.
Прихватила Галюня и хрусталь, дешевый, штампованный, какой же еще. Не оставила в Энске и дурацкий, с дешевой позолотой сервиз, подаренный на юбилей от комбината. С этим Вера не спорила – память. Хоть и забыть бы надо было этот комбинат как страшный сон. И постельное белье. «Как же, льняное, столько лет собирала!» Жесткое, колючее, неиспользованное Верино приданое.
И цветы в старых кадках: огромный, до потолка, фикус, обнаглевшая и разросшаяся традесканция, щучий хвост и герань. Куда без герани? Мама утверждала, что герань отгоняет мух.
Несколько раз Вера взрывалась и начинала орать. Галина Ивановна криком не отвечала, а, скорбно поджав губы, покорно опускала глаза: «Хорошо, дочк, оставлю. Только тогда и меня здесь оставь, вместе с моими дурацкими цветами. Я с тобой не поеду, ты, Вер, не сердись! Тут, – она обводила рукой собранные тюки с вещами, – вся моя жизнь, понимаешь? Что мне ее, забыть? Зачеркнуть, как не было? А она, Вер, была». – «Лучше бы зачеркнуть, – шипела Вера, – и лучше бы не было. Мам! Ты называешь все это жизнью? Какая же ты непробиваемая!» – «Уж какая есть, – поджимала губы Галина Ивановна. – Могу и тут остаться. Я в твою Москву не стремлюсь – ты меня тянешь. А мне, Вер, и тут хорошо».
Хорошо ей. У Веры падало сердце: «Ага, хорошо! Врагу не пожелаешь. Ладно, мам. Клади свои тряпки». А про себя добавляла: «Все равно потом выкину».
Как же, выкинула! Хрусталь и сервиз стояли в новой Галюниной квартире, в бабкиной чугунной сковородке, и вправду чудесной, к Вериному приходу жарилась картошечка, выходившая хрустящей, с зажаренной корочкой. Только с красными коврами на стенах Вера справилась, здесь стояла не на жизнь, а на смерть.
Квартиру для мамы Вера купила в своем же доме, повезло. Вера на девятом, в трехкомнатной, Галина Ивановна в двушке на втором. Разумеется, сделала хороший ремонт, купила итальянскую кухню и спальню, румынскую гостиную, мамину мечту: стулья с завитушками и гобеленовой обивкой. Люстры – хрусталь, но не тот, о котором мама мечтала, а европейский, горевший так, что хотелось зажмуриться. Памятный сервиз с золотыми вензелями стоял на переднем плане в витрине на гнутых ногах.
Вера не спорила. Галина Ивановна была счастлива, могла ли она мечтать о таких царских хоромах?
На рынок ездила с водителем, а в магазины ходила сама – развлечение. Тут же перезнакомилась с соседками и часами сидела на лавочке у подъезда. Публика в доме жила интеллигентная: жены военных высоких чинов, врачи, архитекторы. Жилье на Фрунзенской набережной во все годы, включая далекие советские, было престижным.
Первое время Галюня пыталась готовить и для Веры – заносила кастрюли борщей, тазики котлет, торты и пирожки. Вера скандалила и умоляла этого не делать – вечерами она есть отвыкла. Да и днем не всегда получалось. Есть время – сходят с Татьяной в кафе в соседнем доме, нет – секретарь что-то закажет доставкой. А бывало, что времени не было и на чашку кофе.
Но как бы ни раздражалась Вера на мать, как бы ни спорила с ней, как бы ни возвращала ее супы и котлеты, все равно была счастлива – мама рядом, и она спокойна, а все остальное – мелочи и ерунда.
Вера проснулась от деликатного стука в дверь. Проводница предложила завтрак. Вера заказала кофе и йогурт. На часах было шесть. Через сорок минут они прибывали.
За окном мелькали деревушки со знакомыми названиями. Все те же, все то же, почти ничего не изменилось. Кажется, вообще ничего не изменилось. Те же переезды, те же размытые дороги, тот же осевший черный снег. Те же покосившиеся домики под темными крышами, те же кривые заборы. Пожалуй, только магазинчики, обитые сайдингом, стали наряднее, и ассортимент в них другой. Да и внешне март не приукрашивал, март обнажал.
Вера отвернулась от окна и посмотрела на себя в зеркало. Видок еще тот, но приводить себя в порядок она точно не будет – много чести! Ее родина не заслужила.
Она вспомнила, как после своих первых удач приехала в Энск на купленной на собственные деньги машине. Когда это было? В другой жизни. Но впечатление тогда Вера Кошелева произвела. Ого-го как произвела, не пропала Верка в Москве, выжила!
А сейчас? Волосы, забранные в хвост, простой свитер, кроссовки. Короче, видок еще тот. Но как говорили в детстве – сойдет для сельской местности. А уж для города Энска тем паче.
Поезд замедлил ход, пару раз дернулся и резко остановился.
– Стоянка в Энске шесть минут, – заверещала проводница.
Шесть минут – ого! Какое уважение! Раньше, помнится, больше трех не стоял.
Вера вышла на перрон. Шел мелкий снег – даже не снег, так, подобие. Снег – это хлопья, или крупные резные снежинки, или нежный, невесомый небесный пух. А это не снег, а мартовские вредности.
Поежившись, Вера накинула капюшон и направилась к зданию вокзала.
Надо сказать, что и здесь, в здании вокзала, все изменилось.
На прилавке вокзального буфета стояли не бутерброды с подсохшим и скрученным сыром, а многослойные сэндвичи, обернутые в прозрачную пленку. И кофемашина, нормальная, профессиональная, которая и мелет, и варит, и наливает. И запах кофе витает над залом. Вера потянула носом, и ей захотелось кофе. «Нет, здесь не буду, – решила она, – выпью в отеле».
Широко зевнув, сонная буфетчица проводила ее равнодушным взглядом.
На площади стояли три машины.
Вера подошла к первой. Внутри, надвинув полысевшую меховую ушанку на глаза, спал водитель. Будить его она не стала и подошла ко второй. Окно открылось, и она увидела хитрую, похожую на кошачью, физиономию.
– Куда вам, барышня? – осведомился молодой водила.
«Барышня», – Вера развеселилась.
– В центр, сынок. В отель «Пилигрим», знаешь такой?
Парень смутился:
– А кто ж, уважаемая, его не знает? Он у нас, можно сказать, эээх! Самая крутизна!
Вера усмехнулась: «Ну да, крутизна, можно себе представить».
Бросая на пассажирку осторожные взгляды, словоохотливый парень говорил не прекращая:
– С Москвы? По делам или так, поразвлечься?
Тут Вера от души рассмеялась:
– Ну да, поразвлечься! Лучшего места для развлечения не найти! Что у вас тут – зона беспошлинной торговли, как в Андорре? А может, легальные казино? А Диснейленд вам, часом, не построили? Или обнаружились исторические места, важные реликвии, откопанный амфитеатр? Поразвлечься, ага. – Вера отвернулась, дав понять, что разговор окончен.
Но водиле было скучно. А главное, эта странная и резкая, совсем, как показалось на первый взгляд, немолодая тетка была ему, человеку опытному, непонятна.
Вроде и сапоги у нее дорогие, и дорожная сумка явно не из дешевых, и часы, а видок странный, покоцанный, смурной. А может, все подделка, с оптового рынка, поди отличи! А если и настоящее, то тем более странно – бледная какая-то, уставшая. И едет в «Пилигрим». Может, командировка? Вряд ли. Командировочные к ним давно не ездят. Что здесь ловить? Нечего, кроме раков и мелких щук, и те вернулись недавно, спустя лет десять, как закрыли градообразующее предприятие, по-местному – камволку, камвольный комбинат. Видать, очистилась река, и рыба вернулась.
– А вы бывали у нас раньше? Или впервые? – по-светски осведомился он.
– Слушай, парень! – Вера повернулась к нему всем корпусом. – Хватить трындеть. Хороший водитель – молчаливый водитель. Усек? Будешь молчать – найму тебя на разъезды, – смягчилась она. – Сколько пробуду в ваших краях – не знаю, надеюсь, что за несколько недель управлюсь. Платить буду нормально, не обижу. Но болтовня мне твоя не нужна! Короче, если принимаешь мои условия, по рукам. – И она посмотрела в окно: – Мы, кажется, подъезжаем?
Так и есть. На центральной площади, рядом с бывшим универмагом, стояло новое современное здание – гостиница «Пилигрим»: три этажа, стекло, широкое крыльцо, мраморные ступени, шикарная дверь, и – ну просто смех! – темнокожий швейцар в галунах и фуражке. Ох, насмешили. Ну почему мы всегда заимствуем глупости?
Надо же – и внутри все прилично: стойка ресепшен с живыми орхидеями, и тихая классическая музыка, и девица в белоснежной блузке, с минимумом косметики, скромным пучком, бесцветным лаком на ухоженных ногтях. Европа, куда там.
Темнокожий швейцар, он же бой, донес Верину сумку до номера. В номере, уютном и совершенно не пошлом, наличествовал прилично наполненный мини-бар, на тумбочке две бутылки воды, на тарелке два мандарина, банан и ярко-красное блестящее, словно восковое, яблоко.
В душе присутствовало то, что полагается: хорошие, вкусно пахнущие полотенца, одноразовая мочалка и баночки с шампунями, гелями и прочим.
«Умеете, когда хотите», – подумала Вера. Но все еще впереди. Никакого оптимизма она не испытывала. Вот только интересно – кто хозяин этого «Пилигрима»? Кто так серьезно вложился, а главное – понадеялся, что эта история окупится? Или просто отмывают наворованное? Скорее всего. Схема проста – владеет гостиницей мэр или губер, оформлена она наверняка на подставных, номера всегда пригодятся: вышестоящее начальство, коллеги с любовницами, банно-прачечные одноразовые девицы. Сауна в подвале, приличный ресторан, единственный приличный в городе. Там все и питаются – в смысле, сильные мира сего. И на приглашенного шефа не пожалели – куда девать бюджетные деньги? Вера бы не удивилась, узнав, что шеф итальянец или француз. Ну в крайнем случае с Балкан, но непременно со Средиземноморья. А как же, модно, а главное – кухня полезная.
Душ, чашка кофе, поиск риелтора и звонок другу, новому знакомцу Максу, водителю «реношки», – и вперед, Верпална, вперед и с песнями. Дела не ждут.
Через полтора часа посвежевшая и взбодрившаяся, в джинсах, свитере, темных очках, потому что в окно заглянуло вялое и бледное мартовское солнце, Вера стояла на улице. Лихо подъехал Макс на блестящей, вымытой и отполированной старушке «реношке».
Риелторское бюро – да-да, не контора, а именно бюро – находилось на соседней улице, но ехать надо было в объезд, раздолбанную дорогу в очередной раз чинили.
Вера смотрела в окно. Шумно стучала по подоконникам капель, набухали почки, а где-то осторожно, словно распеваясь перед концертом, пробовала голос ранняя весенняя птица, и сквозь темный осевший подтаявший снег проглядывала черная влажная земля.
Улица Механишина, первого директора камволки, по слухам, порядочного человека, улица Гоголя, переулок Талалихина. Вера все помнила.
Их улица называлась Светлая. Да уж, куда там! Громко и совершенно беспочвенно. Светлая! Ничего на ней не было светлого, ничего. И вела она, кстати, на городское кладбище – мило, правда? Спасибо, что не Светлый путь.
Новые дома, построенные для работников камволки, находились на самой окраине, в десяти минутах от нового же городского кладбища. Впрочем, старое было прямо за новым, поди различи.
На старом лежала бабка Зина, отцовская мать, а дед Корней упокоился на скромном деревенском погосте. Вера отчетливо помнила бабкины похороны, а вот дедовские нет. Корней умер летом, когда она была на даче с детским садом. Но самого деда помнила хорошо, хоть и умер он, когда ей было пять лет. Вернее, помнила его запах – дед пах махоркой, кожей и сапожным клеем, так как был он сапожником, а на пенсии обувь чинил на дому, приговаривая, что копеечка всегда пригодится. Мама говорила, что дед Корней был скупым, всю жизнь копил и гнобил жену за чрезмерную расточительность – какая уж там расточительность, когда в магазинах ничего не было?
Бабка Зина сноху не любила, а кто любит снох? Это было не принято. Да и к внучке относилась так себе, называя ее «панфиловским отродьем», по девичьей фамилии матери.
«Странное дело, – иногда думала Вера, – бабка Зина прожила тяжелую жизнь. Коллективизация, голод, тяжкий деревенский труд и неустроенный быт, трое детей, один умер в детстве, пьющий и жадный муж, а потом выпивающий старший сын, забитая бездетная дочь, ранняя вдова. И вот приходит в твой дом невестка, совсем девочка, робкая, неумелая, зато послушная, тихая и очень влюбленная в твоего сына. А ты ее заранее ненавидишь! За что? Нормальная девочка из обычной семьи. Трудяга, старательная, бегает, суетится, варит щи, жарит блины, стирает белье, все терпит, молчит, не огрызается. Тихо плачет, и ты, свекровь, это слышишь. И знаешь, что сын твой не сахар. И дочка твоя, золовка ее, жену брата ненавидит, потому что завидует. И родные ее далеко, за восемьдесят верст, к ним не наездишься, да и когда? Всю жизнь сноха твоя пашет на комбинате. Пальцы кривые, ноги больные. Рожает тебе единственную внучку, копию твоего сына. Живет тяжелее, чем ты, ты хотя бы жила в своем доме, а снохе достался холодный барак. А когда ты заболела, эта самая ненавистная сноха взяла тебя к себе. Ухаживала за тобой, старой, мыла, кормила с ложки, моталась к тебе в больницу. А ты ее по-прежнему ненавидела! Жаловалась на нее, помыкала ею. Попрекала, что она плохо смотрит за тобой. Но смотрит-то сноха. Не дочка твоя и уж тем более не сын.
А может, твой сын ее осчастливил? Карьера там, деньги, хоромы? Жизнь ненавистной снохе шикарную наладил, а ты завидуешь? Тебе не выпало, а этой заразе… Да нет. Ничего подобного. Сын твой наладчик станков, простой работяга. Зарплата неплохая, но половину он пропивает. Руку на жену поднимает, дочкой не занимается. Словом, обычный, нормальный, как считается, мужик. Такой же, как все остальные.
Но и она ведь нормальная и тоже как все остальные! За что ты ее, баб Зин? Ну да, перед смертью ты очухалась, дошло. Все за руки мать хватала, норовила поцеловать. Полюбила типа.
А как соседка зашла – так и поехало. И сволочь Галька, и зараза. И кормит объедками, и белье не меняет! Вера своими ушами слышала и с тех пор бабку еще больше возненавидела.
Но долгие годы пыталась понять – за что? За что та гнобила всю жизнь мать, за что ненавидела? Сама баба, сама горе мыкала. Пожалей, посочувствуй, пойми! А нет, так положено! И сыночка своего дурного всегда оправдывала – «Павлуша, Павлушенька».
А памятник Зинаиде, свекрови, ненавистная Галька поставила. Хреновенький такой, пестрый, из цементной крошки. Но хоть такой. Не сыночек Павлушенька, не дочка Светланка, а стерва Галька.
И ходила до последнего к свекровке на могилу, благо, что близко, вниз по улице Светлой. Никто не ходил кроме нее. И к Пасхе прибиралась, и к Родительской, и оградку красила, и цветочки носила. Дура. Вера так матери и сказала:
– Дура ты, мам! Я б к этой суке… Да за все, что она тебе сделала…
Галина Ивановна махала рукой:
– Брось, дочк! Все давно прошло и давно забыто. К тому же я ж Павлушу любила. Вот поэтому и хожу. А как не ходить? Не по-людски это! Да и родня они мне. Семья.
О господи – семья! И зря, что забыто – Вера бы не забыла. Ни за что бы не забыла и не простила. Павлушу она любила! И Вера любила. В детстве. А когда предал их – разлюбила. А мама, кажется, нет.
На лето маленькую Веру отправляли к старикам в деревню. Ехать она не хотела, но до поры родителей слушалась. А в десять лет взбунтовалась – уперлась насмерть: не поеду к бабке Зине – и все. Потому что ее ненавижу.
Бабка и вправду к внучке была равнодушна. Покормит чем есть, никаких бабушкиных пирожков и блинчиков. Хочется сладенького? Иди в сад, сорви яблоко. Не хочешь? Поди ж ты, цаца какая! Конфет хочешь, вафель? А перебьешься! Куда на мою пензию шоколад покупать! А мать твоя рубля не дала, тяни, баба Зина, сама!
В выходной приезжала мама, и Вера просила ее забрать.
– Терпи, – вздыхала Галина Ивановна. – Не обижает – уже хорошо. А то, что неласковая и вредная… Ох, дочк! Так это ж характер. Она и меня терпеть не может, сама знаешь… Терпи до середины августа, Вер! Что в городе-то? Во дворе болтаться с ключом на шее? Не, дочк, все-таки здесь воздух, лес, речка – природа.
Природа была, говорить нечего – и лес Вера любила, и шуструю речку. И полное васильков и ромашек поле за домом. Какие из них получались венки – загляденье, а не веночки! Жаль, вяли быстро. А малина на солнечном косогоре? Невозможно пахучая и невероятно сладкая, правда, и руки, и ноги обдерешь, и лицо. И земляники по краям поля было полно на светлых, усыпанных прошлогодними иголками опушках. И как она пахла! Вера собирала букетики с ягодками и засушивала для мамы. Ягоды собирала на травинки – выбирала подлиннее и погибче – и нанизывала ожерельем.
И кино в деревню привозили, правда, пару раз в месяц, да и то старое, сто раз виденное, но все равно радость и развлечение. И за горохом на дальнее поле ребятня моталась. Шли не с кульками – с наволочками! Набирали полную, да еще и объедались до желудочных колик – так вкусно, разве остановишься. Сладкий и нежный был молодой горошек, вкуснее конфет!
Грибы начинались в июле. Вера была знатным грибником, мимо не пройдет, все увидит, ничего не пропустит. Бабка Зина томила сыроежки и лисички в печке с картошкой в глиняном почерневшем горшке, а в конце кидала стакан жирной домашней сметаны. Какая же это была вкуснота!
Бабка и сама грибы собирать любила и толк в них знала, но ходила по осени, за груздями и опятами, брала только на засолку, грибы, кроме боровиков, не уважала и называла мусором: «Опять корзину мусора приволокла? Хочешь жареху – садись и чисть! А у меня и так дел по горло!»
Дел и вправду было по горло: огород, куры, кабанчик, коза.
Это потом все постепенно исчезло, сначала померла старая, давно не дававшая молока коза Дуська, потом зарезали кабанчика Петьку, и больше бабка животину не заводила – тяжко. Кур еще держали, но и их зарезали. А когда бабка Зина заболела, избу закрыли и перевезли ее в город, досматривать.
Со временем дом в деревне продали и купили отцу мотоцикл. На нем он и свалил к новой жене, старой маминой подружке Лариске Купцовой. Вот тогда Вера отца окончательно разлюбила.
Риелторская контора встретила запахом растворимого кофе и разогретой капусты. За столом сидели две девушки, как две капли воды похожие друг на друга – явно сестры. Одна пила кофе с булочкой, а вторая ела тушеную капусту из пластиковой миски.
Увидев Веру, брезгливо сморщившуюся от ненавистного запаха, сестры смутились и принялись суетливо освобождать рабочий стол. Надев дежурные улыбки, представились, Маша и Наташа, сотрудницы бюро «Уютный дом».
«А нельзя было как-то попроще? Где здесь уютные дома, где? Покажите! Ни одного! Как не было, так и нет», – раздраженно подумала Вера. В центре несколько старых кирпичных строений, отданных под банк, офисы, магазины и прочее. А дальше частный сектор и пятиэтажки, за которыми гнездятся огороды и дачки, хилые, сколоченные наспех, слепленные из того, что было, насквозь продувные. Не жилище, а сараи для грабель, ведер и лопат. За ними поля, а потом начинаются деревушки. Наверняка полупустые – молодежь давно рванула в города, а стариков почти не осталось.
Нет, есть пара новых домов, отстроенных за последние десятилетия, есть. Вера знала, что там получали жилье ответственные работники и те, кто сумел жилье купить. Вот интересно на них посмотреть. Кто мог купить квартиру в новом доме? Если только восточные мужчины, торгующие на базаре или владеющие магазинчиками и постепенно оседающие в скучном и пыльном среднерусском городке. Новые хозяева жизни. Как и везде, по всей России, эти восточные орлы, старательно позабыв о семьях на родине, быстро создавали новые семьи, женились на русских женщинах, рожали новых детей, покупали квартиры и навсегда оседали на здешних землях.
– Продать? – переглянувшись, переспросили изумленные девицы. – Двушку на Светлой?
Вера кивнула:
– Двушку. На Светлой. Да, девочки. Ну не на Манхэттене же!
Одна из девиц открыла компьютер, другая принялась рассматривать Верины бумаги. Предложили кофе, но растворимый Вера не пила. Нет, она не выпендривалась, просто от растворимого болел желудок. А вот Макс от растворимого, приправленного пятью ложками сахара, и от печенья не отказался.
– Завтра дадим рекламу, – важным голосом объявила Наташа. – Вы там проживаете? В какие часы можно показывать?
Вера вытащила ключи и положила их на стол. Связка жалобно звякнула.
– Я там не проживаю. Показывайте в любое время. И еще – тридцать процентов от цены сбрасывайте сразу! Демпингуйте. Времени у нас мало, хотелось бы за неделю управиться!
– А вы наклейте на подъездах объявления, – посоветовала Маша. – Знаете, как бывает – кто-то для детей ищет, кто-то для родителей.
– Милая, – нежно сказала Вера, – вы мне предлагаете расклеивать объявления? Мне, вашему клиенту?
Растерянные сестрички испуганно переглянулись.
– Э, нет, – продолжала Вера, и в ее голосе уже не было напускной вежливости. Только металл. – Расклеивать будете вы. На домах, подъездах, у черта на заднице! Повторяю – вы, а не я! Вы меня поняли?
Девицы дружно закивали.
– А что квартира? – осмелилась Маша. – Ну, в смысле, в каком состоянии?
Вера вздохнула. «Господи, за что мне все это? Этот город, эта квартира, эти девицы? Вопросы эти дурацкие?»
– Так, девочки, – жестко сказала Вера, – ключи в зубы и вперед, на улицу Светлую! Объявления напечатайте, клей купите. И хватит вопросов, давайте к делу. Повторю – времени у меня не просто мало – его у меня нет! Я все подписала? Вы все проверили? – Вера направилась к выходу. У двери она обернулась: – Убитая квартира, девочки. Совсем убитая. Не жили в ней кучу лет. Но она и до этого была дерьмо дерьмом, если честно. Только это ничего не меняет. Я продаю, а кто-то покупает. На каждый товар есть купец. В общем, жду вашего звонка.
На улице было сыро, промозгло. Скорее бы в гостиницу, под теплое одеяло. Вера глянула на часы – ого, половина второго! Ничего себе проторчали в «Уютном доме».
«Ладно, в гостиницу, – с тоской подумала Вера, – и сколько дней мне придется здесь проторчать?»
– Вера Пална, – осторожно подал голос Макс, – а можно один вопросик?
– Можно и два, – усмехнулась Вера, – валяй, не робей!
Шустрый водила совсем стушевался:
– Я насчет квартиры, Вера Пална! Мы с родителями живем. Ну с тестем и тещей. Не скажу, что люди плохие, не, не скажу. Но все равно тяжело. Теща болтает без умолку, Инку мою теребит. Короче, цепляются они. А тесть, – Макс посерьезнел, нахмурился, – мужик хороший, но… малость отбитый. После ранения. Иногда ничего, а иногда… Иногда клинит.
– Макс, давай без подробностей? – попросила Вера. – К сути давай, если можно.
– Ну да, извините. Короче, мы с Инкой о своей квартире подумываем. Денег, конечно, нет, но мы копим, стараемся.
Вера молчала. Понятно, к чему клонит. Робеет, неловко ему, и это понятно.
– Короче, Вера Пална, – осмелел он. – Если вы отдаете так дешево – может, нам отдадите? Ну раз такая скидка? Может, это судьба? – И Макс нервно и смущенно рассмеялся.
– Не знаю, Макс. Судьба – не судьба, – равнодушно ответила Вера. – Да, цена низкая. Но ниже не опущусь. Я давно в бизнесе, и есть какие-то вещи, ну, ты меня понял. Ты мне не родственник, не сын и не брат. Устраивает – бери. Нет – извиняйте! Я не благотворительный фонд помощи молодым семьям и не святая. Подумай и дай ответ. Желательно завтра. Прикиньте, поговори с семьей. Девки-то тихие, но могут сшустрить – гляди и себе возьмут или предложат своим знакомым. В общем, право первой ночи у тебя. А там – как получится.
– Конечно, Верпална. Прямо завтра с утра, ага, – возбужденно затарахтел он.
У гостиницы Вера вышла.
На вопрос, во сколько подать машину, ответила:
– Позвоню, Макс. Не переживай. Сиди и жди, работа есть работа.
Тот радостно закивал. Вот так. А что, милый? Думал, просто так с неба тысячи валятся? Мне тоже просто так ничего не доставалось. Сиди и жди. С семьей беседуй. В общем, не расслабляйся. Удача – птица хрупкая.
«Вредная я, – подумала Вера. – Нет, сказать, чтобы отдыхал до завтра. Сегодня я точно никуда не поеду. Да и куда тут ехать, господи… Я и так тут в центре вселенной – в гостинице “Пилигрим”».
Кстати, ресторан на удивление оказался вполне ничего, на хорошем столичном уровне. Ну да, городские шишки делали его под себя. И солянка была неплоха, и котлета по-киевски. И клюквенный морс не из концентрата, а точно из ягод, пусть и замороженных, но со своих родимых болот.
Меню из прошлого века: бефстроганов с картофельным пюре, свиная отбивная, солянка, рассольник. Медовик и наполеон. Но все свежее и вкусное, аутентичное, как принято говорить. Едят то, к чему привыкли. Зачем им устрицы, гребешки и минестроне? Правильно, незачем.
После сытного обеда и ресторанного тепла захотелось спать. «Ну и прекрасно, – подумала Вера, – будем считать, что у меня такой внеплановый отпуск. Здесь, в гостинице, если не смотреть в окно, вполне комфортно. Вот и не надо смотреть и думать, где ты находишься. Да и вообще иногда хорошо ни о чем не думать. Только не получается. Ладно, спать, а потом мама, Татьяна, звонки. Но это потом».
Ни о чем не думать снова не получилось. Легла, позевала, а сон все не шел. Зато повалили воспоминания. Те самые, от которых она все эти годы бежала.
Отчий дом, родные берега, трава у дома…
Нет никакой ностальгии. Счастьем было уехать отсюда. Свалить, сбежать, улизнуть, удрать, смыться. Или так – уползти.
Потому что сил бежать у нее не было.
Так жили тысячи и сотни обычных людей, что она придумывает? Провинция? Да, провинция. Но есть и поглубже, позабористей, глуше, есть совсем медвежьи углы, куда только на вертолете или на вездеходе. И всюду люди живут. А здесь нате вам – поездом, автобусом, автомобилем. Дорога в столицу. Рабочий район – а что тут такого? А где должны жить обычные советские люди, работающие на предприятиях? Тоже мне, принцесса крови Вера Кошелева! И почему, собственно, ты должна была родиться в другом месте? Ты родилась там, где положено. Чем ты лучше других?
Барак Вера едва помнила. Помнила холодный сортир во дворе и ночное ведро у двери – зимой во двор не набегаешься. Общую кухню в бараке тоже помнила – длинную, узкую, с двумя плитами в ряд. Мама говорила, что газ – это счастье, раньше готовили на примусах. И вонь керосиновая, и медленно, хоть ты тресни, щи за два часа не сварить.
Мыться ходили в баню, банный день суббота. После бани мужики выпивали и закусывали – летом на улице, во дворе, зимой на кухне.
В баках кипятилось белье, и влажный, перемешанный с запахом хозяйственного мыла пар заползал в комнаты.
Дети, сопливые, кашляющие – в бараке, как ни утепляй, дуло из всех щелей, – играли в длиннющем полутемном коридоре, на потолке болталась пыльная лампочка Ильича.
На праздники, октябрьские, новогодние, майские, гуляли. Женщины пекли пироги, жарили котлеты, резали винегрет и накрывали столы. Летом на улице, зимой, опять же, на кухне. Так же справляли дни рождения, поминки, свадьбы. Сыто, пьяно, громко, с непременными скандалами и короткими мордобоями. Жизнь. А потом стали строить дома на Светлой. Вот это была радость! Женщины ежедневно бегали смотреть, сколько выросло этажей: один, два, три. Значит, скоро! Потом выдали ордер и ключи, и мама заплакала. Да все плакали. Плакали от счастья. Говорили – теперь заживем! Переехали, но по сути ничего не изменилось. Так же толкались за крупой и мороженой рыбой, мотались в столицу за колбасой и лимонами, вешали во дворах белье, сплетничали, цапались, дружили. Мужики забивали козла и пили пиво, мальчишки лазали по деревьям и били окна, а потом били мальчишек.
Девчонки закапывали во дворах секретики, прыгали через резинку, врали по мелочам, сплетничали, хвастались – в общем, жили. На балконах стояли ведра с заквашенной капустой, по осени на огородах за домом копали картошку, отбирали у мужиков зарплату, мечтали о ковре на стену, хрустальной вазе, зимних сапогах.
Обычные люди, обычная жизнь.
Отец загулял, когда Вера перешла в восьмой класс.
Вера слышала, как плачет мама, видела, как злится отец, и чувствовала: их ждет что-то плохое и страшное.
Скрутился отец с маминой подружкой тетей Ларисой, разведенкой. Худая, нервная, точнее вздернутая, тетя Лариса была моложавой и симпатичной. Особенно на фоне остальных женщин за сорок, обабившихся, располневших, неухоженных, с мелкой химической завивкой на волосах, красными стекляшками в ушах и облупившимся маникюром – какой уж тут маникюр, когда вечно на кухне или в огороде? В сорок женщины выглядели на пятьдесят. А Лариска была стройна и моложава, детей у нее не было, а два неудачных брака были. Женщины ее снисходительно жалели – одинокая и бездетная, уже полубаба.
Дуры тетки. Уж кого надо было бы пожалеть – так это их, замужних и имеющих детей! Что за жизнь была у этих женщин? А Лариска жила для себя. Служила она в бухгалтерии комбината, хоть и не главный бухгалтер, а птица важная. И работа у нее была чистая: тычь себе наманикюренными пальчиками в счетную машину и чаек попивай.
К тому же Лариска была большой модницей и за тряпками ездила в Москву, в магазин ГУМ, где продавали самое вкусное в мире мороженое.
Почему мать с ней подружилась, что у них было общего? Да ничего. А нет, не так: какое-то время у них был общий муж, Верин отец.
Жила Лариска в соседнем подъезде, в однокомнатной, выданной комбинатом, квартире. Мать туда бегала «попить кофейку», и после визита от нее попахивало коньяком и сигаретами.
Отец злился, скандалил, поносил «эту шалаву белобрысую», то есть Лариску, последними словами, а потом… потом к ней ушел.
Кроме боли, унижения и обиды был еще стыд – на глазах у всех, у всего дома и всего комбината! Да еще и тут, под самым носом! Хуже позора не придумать.
Вера помнила, как мама тогда похудела. Килограммов на десять, не меньше. Не ела, не пила, только страдала.
Поддерживали ее соседки и старые подружки по комбинату. Старый друг лучше новых двух. Эх, мама! Куда тебя утащило? Какой кофеек, какой коньячок?
Мать и жалели, и осуждали – сама виновата, указала своему мужику дорожку! А нечего было с этой дружить, не нашего поля ягода.
Нечего, верно. И не нашего поля, тоже верно. И сама виновата. Только сердце у Веры рвалось на куски, когда она видела, как страдает мама. И тогда поклялась – все сделаю, а мама будет счастливой! Самой счастливой на свете! Правда, как это сделать, Вера не представляла. Ни плана «А», ни плана «Б» у нее не было.
С отцом она общаться категорически отказалась, а завидев его на улице, сворачивала в другую сторону.
Однажды Лариска ее подловила и елейным голоском заверещала:
– Ой, Верунечка, заходи в гости, папа переживает.
Ну и так далее. Всякое, дескать, в жизни бывает, но плохой мир лучше доброй ссоры. Вера ответила грубо:
– Не нужен мне ни ваш плохой мир, ни добрая ссора. Ничего мне от вас не нужно! Видеть вас не могу!
– Ласковое теля двух маток сосет, – крикнула ей вслед Лариса.
Не оборачиваясь, Вера бросила:
– А не пошла бы ты вместе со своим муженьком!
Когда закрыли комбинат, отец с новой женой уехал на север на заработки. И это было для Веры счастьем – теперь, выходя из подъезда, она не оглядывалась, боясь повстречаться с ним или его новой женой. Но, пожив на севере несколько лет, они все же вернулись. Счастье, что Вера уже была далеко.
Потеряв работу, поникла и мама – как жить, на что? Настали смутные, дикие времена. Бывшие одноклассники, обыкновенные мальчишки, превращались в гопоту и бандитов. Странное дело – разбойничать в Энске было особенно негде, да и крышевать тогда было почти некого – разве что по мелочи. Пара-тройка ларьков со всякой всячиной – вот и весь бизнес. Но все же создавались группировки – так важно они себя называли. Какие уж там группировки. Обычные мелкие банды: ограбить случайного прохожего, вскрыть магазин или ларек, отобрать скудный заработок у бабок на рынке, ну или наехать на черных – так, а зачастую куда хуже, называли прибывающих в город кавказцев. Впрочем, скоро и те, пришлые, захотели себя защищать и создавали свои группировки.
А через какое-то время куча мелких шаек пропала: кто-то сел, кто-то уехал, а кого и похоронили. На кладбище за Вериным домом разрастались новые захоронения, бандитские, и вот там кореша изгалялись в меру своего вкуса и финансовых возможностей – памятники ушедшим бойцам ставили дорогие, богатые, с пафосными эпитафиями и с бандитскими атрибутами в виде толстенных золотых цепей на шеях усопших, здоровенных печаток на пальцах, выгравированных силуэтов «мерседесов» на заднем виде и пачки «Мальборо» на переднем. Все это было смешно и дико, с портретов смотрели бывшие одноклассники или соседи, зеленые пацаны, не попробовавшие жизни. Зато теперь они считались героями. На их могилы приходили родители – заплаканные женщины в черных косынках, с трудом держащие себя в руках мужики, их отцы и матери, растерянные, ничего не понимающие. За что погибли их дети? Ладно б война, Афганистан или что-то подобное, но так вот, быстро и запросто? Матери прибирали могилы, сажали привезенные с дачек цветы, разговаривали со своими сыновьями, а отцы, мужики закаленные, прошедшие многое, в том числе и советскую армию, нервно курили и втихаря смахивали слезу.
Стали появляться и незнакомые прежде слова и выражения: «забить стрелку», «фильтровать базар», «кидала», «терпила», «бомбила», «крыша» и «наезд», «по беспределу» и «включить счетчик», «кинуть ответку» и «сделать предъяву». Новый сленг так вошел в обиход, что им стали пользоваться не только бандиты.
Спустя некоторое время сферы влияния были поделены, то есть определены, и в городе наступила относительная тишина. Впрочем, и эта тишина иногда прерывалась – разборки между бандами случались, не без этого, и огромный пустырь неподалеку от нового кладбища стал местом стрелок, где зачастую слышались выстрелы.
В те годы и образовалась банда Геры Солдата, известного в городе человека, ходившего в армейских сапогах на шнуровке, за это получившего и прозвище. Впоследствии выяснилось, что ботинки были американские, а точнее – обувь служащих американских военных подразделений, доставшиеся Гере по большому блату.
В городе Геру знали все – личность известная, можно сказать, легендарная. Две ходки по малолетке, несколько лет в Подмосковье, возле какого-то авторитета. В родной Энск Герман приезжал с шиком, как и положено, – старая гремящая «БМВ», спортивный костюм и, разумеется, голда: золото, браслет в полруки, цепуха на шее, ну и котлы, в смысле часы.
До восьмого класса Герман учился в той же школе, что и Вера, но в конце учебного года его приняли, и он ушел по малолетке, чрезвычайно обрадовав этим учителей, директора и, кстати, ребят. Школа облегченно выдохнула.
Вера помнила худого, жилистого красивого подростка со злым и внимательным взглядом. Успевал Герман только по физкультуре и был любимчиком туповатого физрука.
– Гера! – улыбался во все золотые коронки физрук. – Ты красава! Далеко пойдешь, вот увидишь!
Как в воду глядел физрук – любимый ученик и вправду пошел далеко: сначала на зону, потом набираться опыта к старшим товарищам, а уж после приплыл к родным берегам.
В городе Германа встретили настороженно. От его дымящей и грохочущей «бээмвухи» шарахались, при встрече с ним отводили глаза. Поползли сплетни, что Герман собирает новую банду, что в столице у него покровители и что совсем скоро в городе будет новый хозяин – Гера Солдат.
Старый хозяин города, директор комбината, когда-то крупная шишка, в новое время не вписался и тихо спивался на даче.
Странное дело – девицы всех возрастов мечтали попасть к Герману в подружки, словно он был наследным принцем и будущим королем. А вообще-то так и было – королем города Гера стал, хозяином тоже. По сути, девицы были настроены правильно, только мало кто понимал, что эта «романтика» имеет весьма определенный и довольно предсказуемый конец.
Поначалу Гера Солдат квартировался у Райки-рыжей, продавщицы из центрального универмага, в прошлом личности важной и известной – на поклон к Райке ходили избранные. Райка, худющая, ярко-рыжая и по-кошачьи зеленоглазая, красивая, но страшно скандальная, имела дурную славу не только по части спекулятивной, но и личной, женской – первый муж сидел много лет. По первости нагруженная сумками Райка по-честному моталась на свиданки. Ну а потом перестала, нашла себе нового мужа. Тот не работал и жил за ее счет. Пил, жрал и погуливал. Драки там были кровавые, народ Райку жалел – не повезло.
А спустя несколько лет вернулся Райкин первый, сиделец. Тот разобрался по-быстрому – прибил соперника в первый же вечер. На суде говорил, что защищал несчастную женщину.
Разумеется, его снова закрыли, и Райка осталась одна – первый в тюряге, второй на кладбище. Райка надела траур по обоим – черное платье, гипюровая косынка. В общем, дважды вдова.
Ходили слухи, что она попивает, мечтает о тихой и спокойной семейной жизни, а самое главное – страстно желает родить ребенка.
Но тихая семейная жизнь не получилась – в город вернулся Гера Солдат.
Райка приободрилась, ожила и помолодела, сделала короткую модную стрижку, надела джинсы и перестала накладывать синие тени. Взгляд ее снова стал заносчивым, наглым – в общем, королева города, не иначе. Но, надо сказать, о рыжей и наглой Райке мечтало почти все мужское население города Энска.
А Герман занялся делом – отбирая бойцов, времени не терял. Дураком он не был и понимал, что время лихое имеет свой срок. А это значит, что надо успеть подняться, встать на ноги, срубить бабла, но главное – заработать авторитет. Вскоре банда Геры Солдата стала хозяйничать в городе. Два ресторана, несколько кафешек и торговых точек, ларьки, парикмахерские, городской рынок – все контролировали его бойцы.
Сразу за городом, не так далеко от кладбища и улицы Светлой, за сущие копейки Гера выкупил деревеньку Снетки – да и выкупать-то было особенно не у кого, в деревне осталось несколько стариков. Им Гера и купил жилье в пятиэтажках. Через два года хилую и заброшенную деревеньку было не узнать – там гордо возвышались восемь кирпичных коттеджей в новорусском стиле, с башнями и бойницами. Была там и своя инфраструктура – два магазина, кафе с игральными автоматами, сауна, парикмахерская, шашлычная у трассы, где колдовал азербайджанец Абдул, придорожная торговля и даже свои проститутки, работающие тоже на трассе.
В общем, братва создала себе красивую, а главное, удобную жизнь – этакое королевство, куда никому не было входа. В Снетках жили Денис по прозвищу Щука, Герин зам и лучший друг, Вася Чечен, Серега Поп, Петя Голос, Миша Собачник ну и так далее, по рангу и по иерархии. По иерархии были не только дома, но и машины. Участки охраняли здоровенные и страшные алабаи.
Поговаривали, что есть у бандюков и прислуга с садовником. Короче, жила братва широко.
Теперь вместо старой и дряхлой «бээмвухи» Гера Солдат рассекал на новенькой «ауди».
Райку рыжую Гера отставил – достала – и пребывал в состоянии перманентного и очень желанного жениха.
Галина Ивановна трудилась в новой, организованной Гериными стараниями пекарне. Уставала, но деньги бандиты платили, не задерживали. Вера окончила школу и совсем не знала, что делать дальше. Хотелось сбежать из Энска, но как бросить маму? Как оставить ее одну, да и куда податься? В Москву было боязно – знакомых там не было, денег тоже не было, да ничего не было, кроме желания изменить свою жизнь. Но как это сделать, Вера не знала.
Да и слухи про жизнь в столице ходили разные. Вот, например, Рита Горинова уехала, и все у нее хорошо. Но Рита умница, медалистка, легко поступила в институт, жила в общежитии, с ней все было понятно.
Или вот Ленка Стукалина – вот там, говорят, все иначе. Сплетничали, что Ленка стала путаной, то есть дорогой проституткой. В Энск Ленка не приезжала, и понять, что правда, а что вранье, было нельзя.
Была еще одна уехавшая, Настя Говоренко. Та работала в баре официанткой, в Энск наезжала навестить родителей. Появлялась модная, вся из себя столичная. Короче, фифа и воображала.
С Москвой Вера тянула. С мамой они эту тему не поднимали, потому что обе боялись этого разговора. Однако тема Вериного отъезда висела в воздухе. А пока она работала на почте и готовилась к поступлению в институт.
С Герой Солдатом Вера столкнулась накануне Нового года на выходе из центрального универмага, где покупала новые елочные игрушки и блестящую мишуру.
Вера вышла на улицу и, вдохнув свежий колючий морозный воздух, от блаженства закрыла глаза. В эту минуту нога и поехала, поскользнулась на обледенелой ступеньке. Точно бы полетела и точно бы что-то сломала, но тут ее кто-то крепко схватил за локоть. Вера вздрогнула от неожиданности и испуганно оглянулась – позади нее стоял парень в дубленой куртке и кепке. В углу узкого рта сигарета, взгляд острый, цепкий, колючий. Неужели Гера Солдат?
Вера попробовала вырваться из цепких рук опасного незнакомца. Но не тут-то было – руки своей он не разжал, зато кривовато усмехнулся:
– Что, испугалась?
– Не испугалась! – дерзко ответила Вера, попыталась вырваться, дернулась вперед и не удержалась, грохнулась вместе с коробкой с игрушками, которые жалобно хрустнули. Вот ведь корова! Вера сидела на обледенелых ступеньках и в голос ревела. Слезы лились без остановки, ручьями. Вера не помнила, чтобы с ней было подобное. Отчего она так плакала? От неловкости, испуга, боли в копчике. От растерянности, смущения. От стыда. Ну надо же было так осрамиться! А этот? Стоит и ржет. Чистая сволочь!
Но «чистая сволочь» аккуратно и осторожно поднял ее, спросил, что болит, отряхнул ее дурацкое, перешитое из маминого пальто, вытер ей слезы и попросил согнуть-разогнуть руки и ноги:
– Так больно? А так?
– Не больно! Отстань! – выкрикнула Вера. – Чего привязался?
Гера внимательно посмотрел на нее и улыбнулся:
– Да понравилась! Ну и потом – первая помощь пострадавшему. – Он бросил злой взгляд на универмаг. – Сволочи, – сквозь зубы прошипел он, – завтра все пойдут на хер! Такое устроить! Сколько еще здесь поломаются?
– Кто пойдет? – переспросила Вера. – Дворник?
Гера сплюнул сквозь зубы:
– И он в том числе. А еще директриса, старая сука! А может, и кто-то еще! – Прищурившись, он выдавил из себя улыбку, хотя злился и был раздражен.
Вера приоткрыла коробку с елочными игрушками. Так и есть, все побилось. Еще бы – так шлепнуться! Хорошо, что не поломалась, а то были бы празднички! А игрушки – да бог с ними, обойдемся старыми.
Но случайный спасатель так не считал.
– Погоди! – бросил он коротко. – Постой тут минутку. – И исчез в недрах универсального магазина.
Почему она не ушла, почему осталась? Вот и автобус подошел, ее автобус, семерка, идущий на улицу Светлую. Со скрипом открылись двери, и наружу вырвалось облако пара. Почему она не вскочила в семерку? Почему застыла, как заколдованная? Почему стояла и как полная дура хлопала глазами, провожая автобус взглядом?
– Молодец! – услышала она. – Дождалась. На вот, держи! А то будешь на праздник без цацек!
Вера обернулась. Гера Солдат стоял напротив нее, держа в руках большую, перевязанную красной атласной лентой коробку. А пока Вера раздумывала, как бы повежливее отказаться, он сам принял решение:
– Э, нет! Хрупкое тебе доверять нельзя, вдруг снова грохнешься?
– Не доверяй, – буркнула Вера, – оставь себе. Я и не собиралась их брать! – И гордо пошла вперед. Осторожно пошла, почти не отрывая подошвы от тротуара – еще не хватало снова грохнуться. Вот будет умора!
– Далеко собралась? – Он снова схватил ее за локоть. – Идти команды не было!
– Собакой своей командуй! – разозлилась Вера. – И все, до свидания! Спасибо за… – тут Вера запнулась. За что? За то, что поднял? За то, что отряхнул? За то, что принес эти чертовы игрушки? Господи, ну какая же она дура! Ну почему она не уехала домой?
Позже думала – тот старенький скрипучий автобус-семерка был послан ей свыше. Как шанс. Шанс спастись. А она его упустила.
Потом они сидели в кафе-мороженом, она ела свое любимое, сливочное с клюквенной поливкой, и было очень вкусно – смешение сладкого и кислого. И кофе был вкусный. А как он сказочно пах…
Герман пил чай. Медленно прихлебывая, со звуком, по-деревенски. Вера хмыкнула. О чем они говорили? Да обо всем. Он расспрашивал ее про планы, кивал, но ничего не комментировал, просто слушал. Она удивилась – слушатель он был хороший, внимательный, что называется – благодарный.
Почему-то она рассказала ему об отце, о разлучнице Лариске-бухгалтерше, о бабке Зине, о маме, обо всем.
Рассказала и о планах на будущее, о желании уехать из города, смахнуть с себя прежнюю жизнь, начать новую, конечно же, прекрасную, светлую, без опечаток. Он по-прежнему не перебивал ее и не задавал никаких вопросов. Только смотрел ей в глаза, внимательно, заинтересованно и почему-то грустно.
Потом все же спросил:
– А ты уверена, что там, в Москве, или в другом большом городе все будет по-другому?
Она удивилась этой наивности и заговорила горячо и убедительно:
– Ну, конечно же, на сто процентов! Там все незнакомые, никто ничего друг про друга не знает! Там можно затеряться, раствориться. Там другие возможности, абсолютно другие! Там просто возможности! А здесь? – Она уперлась в него взглядом. – Что здесь? Шаг влево, шаг вправо – всё, тупик! И еще там музеи, выставки, театры! Аэропорты, вокзалы во все концы света! Там жизнь! Не то что здесь… – Вера устало откинулась на спинку стула.
– А что здесь? – спросил он.
– Здесь? Здесь болото. Болото, которое тебя обязательно засосет. Не сегодня, так завтра. Но точно засосет, поглотит. Проглотит. Ты не согласен?
Он не ответил. Просто пожал плечом. Понимай как знаешь.
Вспомнили школу, вернее напомнила Вера:
– А мы с тобой в одной школе учились, только ты на четыре года старше.
Он удивился и сказал, что ее не помнит. Вера расхохоталась:
– Еще бы! Я была малявкой, соплей. Девочка с косичками. А ты уже зажигал. Тебя все знали – как же, Герман Распопов! Король школы, куда там. Мальчишки тебя боялись, да и девчонки тоже. Гроза школы, гроза района, в общем… – Она осеклась. – Я как-то слышала, как ты с директрисой схватился. Помню, испугалась до жути – как ты с ней разговаривал! Ее же все боялись – и родители, и учителя, не говоря про детей. А тут ты ей всю правду-матку. Прям борец за справедливость. Она еще визжала: «Ты, Распопов, хулиган и хам!» Я думала, тебя в порошок сотрут, а нет, ничего не сделали. Только предупредили и поставили на вид. Ну а потом ты из школы исчез. И все говорили: «Так ему и надо!» А больше всех радовалась директриса. А потом о тебе забыли.
Они вышли из кафе, и Герман поймал такси, чтобы проводить Веру домой. Не просто посадил в машину и назвал адрес, а сел рядом, на заднее сиденье, и потом, несмотря на ее сопротивление, довел до подъезда.
Они не виделись три месяца. О том вечере в кафе напоминали только елочные игрушки, красивые, блестящие и самые дорогие – Герман не поскупился. Но в конце января осыпающуюся елочку выкинули и, переложив старой ватой, убрали в коробку игрушки, а саму коробку поставили на антресоль, и тот декабрьский вечер почти стерся из памяти, почти исчез, как исчезает и растворяется дым или проплывает облако, и остался только слабый вкус сладкого вперемешку с кислым, вкус мороженого и клюквенного варенья, и слабый свет фар от проезжающих машин за морозным стеклом, и разноцветное мигание светофора, и чувство защищенности, которого раньше у Веры не было, – с Германом было не страшно. Он мог защитить.
Герман Распопов, он же Гера Солдат, возник у дверей ее дома спустя три месяца, аккурат в ее день рождения, шестого марта, в начале весны, ранней весны того года. Ранней и на редкость теплой, с уже растаявшим снегом и почти чистыми тротуарами, с набухшими, готовыми лопнуть и вырваться на свободу спелыми почками, с робкими первоцветами, пробившимися сквозь влажную землю, с наглым и громким пением птиц, с повеселевшим народом и с предвкушением Женского дня – какой-никакой, а праздник, и отмечать его было принято, и печь пироги было принято, и дарить подарки. И на всех углах продавалась мимоза – обманные, надо сказать, цветы, сначала пушистые, как цыплята, но в доме они мгновенно усыхали, теряли свою пушистость и становились просто маленькими сморщенными, твердыми желтыми шариками. Вид пропадал, но слабый запах оставался – свежий, нежный, весенний.
В переднике и косынке, руки в тесте, нос присыпан мукой, на ногах стоптанные старые тапки, Вера замерла на пороге – перед ней стоял Герман Солдат, держа в руках две корзины. Одну полную разноцветных диковинных цветов: гиацинтов, тюльпанов, ландышей, – и вторую, наполненную доверху фруктами: ананасами, манго, огромными фиолетовыми сливами, круглобокой ярко-желтой шершавой дыней, здоровенными кистями черного и зеленого винограда, волосатыми киви, розовыми блестящими яблоками и огромными желтыми грушами. Невиданная роскошь и красота.
Ошарашенная и растерянная, Вера не знала, что сказать.
– С чего это вдруг? – наконец хрипло спросила она.
– А то нет повода? Чего прикидываешься?
– Я… не прикидываюсь. – Голос у Веры осел, как после ангины. – Я… А ты откуда узнал?
– Ну ты наивная! Захотел и узнал, тоже мне – военная тайна!
«Какая уж тайна, смешно, – подумала Вера и разозлилась: – Я всегда выгляжу рядом с ним по-дурацки, вернее, он умеет поставить в дурацкое положение». Корзины пришлось принять и еще пригласить непрошеного гостя зайти на чашку кофе. Хорошо, что мама была на работе, иначе бы Вера не оправдалась.
Кофе Герман не пил, потому что «горько, кисло и потом пить хочется». Ну и вообще не приучен. А вот чай любил, мог спокойно выхлестать литр. Потом Вера поняла – привык в тюрьме.
Она прошла мимо зеркала и ужаснулась – ну и видок! Косынка дурацкая, нос в муке, халат столетний! Да уж, красавица. Да наплевать – она его в гости не приглашала и к его визиту не готовилась. А если он навсегда исчезнет, туда ему и дорога, плакать не будем. И приукрашивать себя не стала, еще чего. Только косынку стянула и нос оттерла – сойдет.
Сошло. Тем же вечером они пошли в ресторан – отмечать ее восемнадцатилетие, дата. Она согласилась, потому что чувствовала, что ему нельзя отказать – вряд ли Гера Солдат привык к отказам. А если по-честному… Совсем не хотелось отказываться.
В ресторан она нарядилась в платье с выпускного – так себе, скромное, и ткань барахло, и цвет никакой, а где найдешь другое? В общем, скромное бежевое платье с вышивкой по воротничку. И туфли свои единственные выходные, на каблуках надела. Неудобные, но с виду приличные. Перетерпит. И золотые сережки в уши вдела, скромные, маленькие, без камешка, но какие уж есть. И волосы распустила, знала, что волосы – ее украшение. Краситься не любила, но подкрасилась: ресницы, помада – все-таки ресторан.
В центральном ресторане «Каменный цветок» было шумно, громко и очень накурено. Сновали официанты, гремела музыка, на пятачке у сцены толкались танцующие. От дыма и шума Вера поморщилась: «Ничего себе, не такое уж удовольствие – этот ресторан! Долго не просидишь, ну и хорошо. Да и вообще сомнительное мероприятие – заявиться в людное место в компании Германа… И зачем я на это решилась?»
В общем зале не задержались, Герман решительно прошел сквозь шум, гам и суету, Вера едва за ним успевала, и они оказались в уютном, тихом зальчике, где был накрыт стол на двоих. Но главное – никого больше не было. Оказывается, бывает и так. «Для уважаемых гостей», как сказал, поклонившись, пожилой официант. Ну да, ее спутник – личность известная и уважаемая… Попробуй не окажи уважение Гере Солдату.
Еда была вкусной. Шампанское тоже. Скатерти белые, накрахмаленные. Фужеры хрустальные, приборы тяжелые. Музыка еле слышна. Официант молчалив. Вера смущена, а ее спутник, кажется, доволен:
– Вкусно тебе? Нравится? Хочешь потанцевать?
Вера хотела. Голова кружилась от шампанского.
Да, она хочет танцевать. Положить руки ему на плечи, закрыть глаза и медленно двигаться в такт музыке.
Так все и было. Когда они вышли, заиграла тихая, ненавязчивая музыка, Вера узнала ее – да, это «Шербургские зонтики». Она эту мелодию обожала.
Положив руки на плечи Герману, Вера закрыла глаза. Наверное, так и выглядит счастье?
Через полгода Вера переехала в замок с башнями на правах хозяйки. Перед этим они расписались в служебной комнатке загса очень по-будничному – наспех, без свидетелей, безо всяких там Мендельсонов, родственников, торжественных речей и поздравлений. Не было и свадебного платья, о каком мечтает каждая девушка: длинного, кружевного, расшитого бусинами. И никакой фаты тоже не было – какая фата. И банкетного зала в ресторане тоже не было, а был просто обед, тоже наспех и тоже обычный, рядовой, потому что у Германа были дела. Зато было обручальное кольцо и еще одно, с бриллиантом, подарок на свадьбу. А вечером у них были гости: Денис Щука, Мишка Собачник, Вася Чечен и Петя Голос. Короче, вся банда. И, разумеется, мама. Да, и свекровь – маленькая, худая женщина с потертым лицом и блеклыми, почти бесцветными глазами. Мама Валя. Не вредная, нет. Обычная, затурканная и забитая тетка. Таких вон целый город! Тихая и попивающая. Сына своего важного мама Валя побаивалась – во всяком случае, ничего у него не просила и в споры не вступала, не нагличала.
В доме у мамы Вали была своя комната, но бывала она у сына с невесткой редко – на ночь не оставалась: «Ой, Герчик, мне лучше дома! Дома привычнее!» Приезжала на пару часов и незаметно исчезала. И хорошо. Вере хватало Галины Ивановны, собственной мамы и новоиспеченной тещи. В покое она Веру не оставляла.
Ранний, поспешный и опасный Верин брак принять Галина Ивановна не могла. Пусть и жила Вера в достатке, и даже в богатстве, но что это богатство, когда муж – бандит? Такого позора Галина Ивановна не ждала. Пусть и относился зять к теще со всем уважением, а на жену смотрел влюбленными глазами, Галина Ивановна переживала. Во-первых, страшно. Еще как страшно! Вон только глянь в телевизор – страсти какие! То одного грохнут свои же, то другого. То конкуренты наедут на стрелке, а то милиция заметет, да еще и на месте перестреляет! Пачками ведь ложатся, штабелями! А совсем молодые ребята! Нет, в их городке пока тихо, хозяин один – ее зять. А вот в столицах да в крупных городах – ужас сплошной. И названия есть у всех этих банд – «ореховские», «солнцевские», «реутовские».
Ощущение, что все в банды пошли, в эти группировки! ОПГ называется. Посмотришь – вроде нормальные ребята, обычные такие, кстати, почти непьющие. Спортом занимаются, волосы не отращивают, вежливые, обходительные, молчаливые. А что по малолетке сидели – так у нас вся страна сидела, подумаешь! Кто уголовный, а кто политический, а кто-то по мелочовке: кража, или драка, или угон – шалила пацанва, завели старые разбитые соседские «жигули» покататься, но не повезло, поймали и посадили. А спрашивается – за что? Ну да, хулиганство. Но не украли и не убили, за что срока? А ведь вернутся стопроцентными уголовниками, кого тюрьма и наказание перевоспитывало? Так судьбы и ломаются по ерунде.
– Мам, страна такая, – вяло оправдывалась Вера. – А менты – не бандиты? Ты, мам, очнись! Они же все в связке, не договоришься – враги, договоришься – друзья. Все дело в деньгах. И времена такие, мам, беспорядочные. Сама знаешь – приходят ребята из армии, а заняться нечем. Работы нет, денег нет. Что делать, куда податься? Ага, в бандиты, больше некуда. Да не передразниваю я тебя, я объясняю. И никакие времена не одинаковые, не говори ерунды. Вон, сильные мира сего, банкиры там и прочие – смотри, делят банки, делят заводы, полезные ископаемые! Вот чье это все, ответь! Ага, народное. Как же. Мам, нет ничего народного и ничего общего. Есть сильные, которые отбирают, и есть слабые, которые прогибаются.
Спорили до хрипоты. У обеих свои аргументы. Правых не было. Да и Галина Ивановна не с лихолетьем боролась и не с несправедливостью, куда ей! За дочь она беспокоилась. Чувствовала, что конец будет скорый, только какой?
– Это ваша Мамваля мозги портвейном высушила, а не я! – кричала Галина Ивановна. – Ага, все бандиты! Прям куда ни посмотри. Это у вас кругом бандиты, Вера. И друзья ваши, и подельники! И подружки у тебя – бандитские жены! А есть еще и шофера, и строители, и врачи, и инженера! Не все пошли в бандиты, Вер! Поверь, не все!
Не все. Разумеется, не все. В иные минуты становилось страшно – как она, Вера, могла здесь оказаться? Среди этих людей, среди этих щук, голосов, чеченов, собачников, сидящих за ее столом? Как она могла оказаться среди их жен, Снежан, Кристин, Анжелик и Жанн? Среди этих одинаковых пластмассовых, как под копирку, женщин? Обязательно худых и обязательно белокурых, с увеличенными бюстами, накачанными губами и наклеенными ресницами? Во всех этих гуччах, версачах, шанелях, поддельных и натуральных?
Как она может участвовать в этих пустых разговорах о строптивых няньках и горничных, о новых коллекциях, о бриллиантах в каратах, о дорогих отелях и плохом или хорошем сервисе? Как она может во всем этом жить? Жить и делать вид, что все абсолютно нормально? Во что она превращается? В такую же резиновую пустую куклу?
Вера разглядывала себя в зеркало – нет, ничего похожего! Она не покрасилась в жемчужную блондинку, не подколола губы, не сделала грудь. Она не скандалит с прислугой, не выдвигает претензии мужу, не унижает массажистку и официантку, не кричит на садовника. Она занимается спортом, сажает цветы, печет пироги, по-прежнему читает книги и смотрит хорошие фильмы. На ней не откладывается, не отпечатывается эта жизнь. Она та же самая Вера. Или она ошибается?
Но что она может сделать? Переделать собственного мужа? Заставить его уйти из банды и выучиться на повара? Да, для кого-то он бандит, а для нее он лучший муж на свете. Любимый человек. Для нее он ее нежный Герка, ее смешливый Герман, ее муж и защитник.
Впрочем, от кого ее защищать? Если только от мамы. Мама всю душу вынимает. А ведь помощи Геркиной не отвергает, пользуется благами и все равно выступает! Поносит зятя на чем свет стоит. Разве это справедливо?
И в санаторий в Болгарию съездила, и мебель ей Герка поменял. И в Москву к частным врачам возил, вернее давал машину. С работы уволил – еще чего! «Ты, Мамгаль, напахалась, хорош. Сиди дома и пеки плюшки». Хорошо он к ней, к теще, хоть и понимает, что она Верке покоя не дает. Нет, он, зять, к ней всем сердцем: «Живи, Мамгаль, не заморачивайся! К нам переезжай, воздухом дыши! Все тебе подадут и все уберут. А ты расслабляйся».
Но нет, не тот характер. Не может Галина Ивановна расслабиться. Не хочет понять, что ее дочери хорошо. Упрямая как ослица, что в башку забьет – караул.
Ну он, зятек, с этим мирился. Понимал, что теща переживает за дочь. Ладно, надо дать время. Всем надо дать время. Привыкнуть, смириться, принять.
Привыкнуть привыкла. Смирилась? Наверное… А вот принять не получилось. Да не очень-то и старалась.
Вера жила как в полусне. Иногда себя хотелось ущипнуть – это со мной? Это я и это моя новая жизнь?
Нет, жизнь-то как раз была совсем неплоха. Удобная, комфортная, уютная. Ни тебе тяжелых мыслей про то, где взять деньги, ни беспокойства за маму. Сиди себе в кресле, читай, смотри кино, пеки свои торты. Хочешь – вот тебе сад и вот огород, отводи душеньку.
Отводила. Завела парники, где росли помидоры, перцы и баклажаны. В саду посадили японскую вишню, сливу, яблони, груши. Весной сад стоял как невеста перед алтарем, бело-розовый, воздушный. Красота. Развела и клумбы с цветами: флоксы, розы, георгины. За пару лет скучный участок Вера превратила в волшебную сказку, кто ни зайдет – замирает от восторга.
И в доме уют: мебель, светильники, пушистые ковры, картины на стенах. Тоже красота и тоже восхищение. И библиотеку завела, на полках любимые книги. И нарядов было столько, что за век не сносить. И драгоценностей в сейфе – подарков любимого мужа. И путешествия, о которых и мечтать было невозможно. Все у них было, кроме одного – покоя. Покоя не было ни днем ни ночью. Ни дома, ни в путешествиях – нигде.
Спала Вера тревожно и беспокойно. Было ей душно, муторно, тоскливо. Сны снились такие, что лучше не вспоминать. Фильмы ужасов, не иначе, пару дней в себя прийти не могла. Видела, что и муж дергается, тревожится. О чем? Не спросишь – все равно ответа не будет. Ответ у него всегда один: «Все нормально, Верунь! Меньше знаешь – лучше спишь».
Ага, как же! Она ничего не знала о его делах, а спала ужасно. Вот тебе и меньше знаешь… А что было бы, если бы знала? Убеждала не только маму, убеждала себя – такие вот времена, такой вот бизнес. Ну да, пахнет все это не очень. Но так повсеместно, по всей стране, и в Италии, стране западной и демократичной, тоже мафии всякие, коза ностра, каморра, стидда. И что? Да ничего! Живут все и не парятся.
Но все равно на душе было паршиво, сколько ни уговаривай себя, сколько ни убеждай.
За три года Вера превратилась в законченную неврастеничку, вздрагивала от каждого стука, от каждого звонка. Ветка с сосны упадет – у Веры истерика: слезы, холодный пот, трясущиеся руки.
Муж обнимает, успокаивает, а она как заведенная:
– Гер, я так больше не могу! Вчера опять по телевизору – расстреляли участников ОПГ Ростова, взяли главаря банды Уфы. Я не могу, слышишь?
А он успокаивает, шуткует:
– Какое такое ОПГ, Верунь? Что это за птица? Какие главари, ты о чем? А мы с тобой какое ко всему этому имеем отношение?
Вера рыдает:
– Шутишь, да? Тебе смешно, Гера?
Он крепко сожмет ее в объятиях, погладит по голове, поцелует в ухо и шепнет:
– Все будет хорошо, Верочка. Ты просто мне верь.
По ночам она смотрела на мужа и не могла представить, что он, ее нежный Герман, кого-то мучает, пытает, отбирает что-то или в кого-то стреляет.
Нет, этого не может быть! И Денька, его лучший друг и верный помощник, не может причинять зло – Денька, Денис, самый трепетный на свете папаша. Как он обожает своих девчонок, семилетнюю Леру и трехлетнюю Катюшку!
А Сережа Поп, самый прекрасный и заботливый сын? Как он относится к своим старикам, отцу и матери, как переживает за них, как заботится. Сережка и пытки? Смешно! Сережка плачет над фильмами.
А Мишка Собачник? Мишка, который обожает животных и построил приют для бездомных собак? Мишка, у которого на участке живут семь собак и штук двадцать кошек? Не породистых, а подобранных, калечных? Мишка – зверь и упырь?
Не верила. Не верила, пока не услышала разговор горячо любимого и самого нежного мужа. Если бы у нее было одно-единственное желание и золотая рыбка, она бы попросила об одном – забыть тот разговор.
Это был не ее Герман, не ее Герка, смешливый, остроумный и нежный. Нет. Это был жестокий и жесткий человек, не человек – зверь. Зверь, отдающий указания: запереть, отбить почки, спрятать ребенка, надругаться над женой, пугануть мать. Ну и так далее. Всё, дальше невозможно, иначе она умрет. Тем более что людей этих Вера знала.
И невозможно было забыть. Забыть его четкие, короткие и страшные указания.
Вера ходила по дому как зашуганный, подстреленный зверек, билась об углы, натыкалась на предметы, падала на диван и начинала рыдать. Перестала есть, выходить на улицу. Не причесывалась, не умывалась.
Герман этого не видел, куда-то уехал.
Прятать чьих-то детей? Насиловать чью-то жену? Отбирать квартиру? Она старалась не думать, чем он занимается в командировках. А если подумать – какие такие командировки могут быть у бандитов?
В те дни она обнаружила, что беременна.
Рожать от него, от этого зверя?
А ты, милая, как хотела? Любишь меня беленького – полюби и черненького. Покажется сатана лучше ясного сокола? Или по-другому: ради милого и себя не жаль? Для милого дружка и сережку из ушка? Миленок и не умыт беленок? Нет, так не получалось. Не был беленок ее миленок.
Кому она могла рассказать то, что слышала? Маме? Конечно же нет. Свекрови? Тем более. Свекровь жила в своем мире.
Поделилась со Снежанкой, Денькиной женой. Та смотрела на нее блеклыми, светло-голубыми, рыбьими глазами и хлопала наращенными ресницами.
– И чё? – наконец спросила она. – И чё ты хочешь этим сказать? Работа такая, Вер. У наших мужиков такая работа! Ты что, не догадывалась? Ты дурочку-то не строй, баба взрослая. И вообще не парься, забей. Весь мир говно, все люди, Вер. – Снежана рассмеялась, обнажив розовые десны и идеальные, голубоватые зубы.
«А, да, – вспомнила Вера, – за зубами Снежанка гоняла в Германию. Но что за цвет, боже! Цвет унитаза, а не настоящих зубов».
– Ладно, я пошла, – зевнула Снежана, – дел невпроворот. В секцию за малой, на музыку со старшей. А в пять ногти, к Оксанке!
У двери посмотрела на Веру, как смотрят на умалишенных – с жалостью и с брезгливостью: «Не повезло Герке, а такой, блин, мужик!»
Той ночью Вера выпила упаковку таблеток. Днем постучалась прислуга, и ее спасли. Но ребенка она потеряла. Это была ее единственная беременность. Больше не было.
Впрочем, забеременеть она и не пыталась.
С того дня отношения с мужем испортились. Как ни старался Герман, ничего не получалось.
А через два месяца Вера ушла. Ушла, не забрав ни тряпок, ни шуб, ни драгоценностей.
Сколько раз он пытался ее вернуть! Караулил у дома, умолял, недоумевал, орал как резаный. Однажды ударил. Потом просил прощения, плакал, говорил, что не сдержался, что нервы на пределе и что она его довела. Угрожал, что жить ей не даст, все равно вернет ее, все равно она будет с ним.
Вера молчала. Любила ли она его по-прежнему, скучала ли по нему? Не понимала. Внутри все как выгорело – сплошное черное пепелище. Ни мыслей, ни эмоций, ни чувств – ничего. Голое поле, выжженная трава. Пошла в церковь, отстаивала службы, молилась. Не помогало. Поехала в Оптину, к старцу. Тот выслушал ее, покряхтел и велел молиться дальше… Молилась, но легче не становилось.
Страшные мысли ее тогда посещали – Вера радовалась, что ребенок погиб. Ведь, если бы он родился, вряд ли Герман оставил бы ее в покое. Или вряд ли оставил ей ребенка.
Ребенок от бандита… Двойные стандарты, матушка! Как-то нечестно. Дурочкой прикидываешься? Не знала, за кого шла? Или что думала – он белый и пушистый, такой мальчик-с-пальчик, твой Гера?
Но неожиданно он от нее отстал. Вера недоумевала – неужели остыл, нашел другую, успокоился? Неужели смирил свою гордыню? Это было самое для него сложное: как так, от Геры Солдата ушла жена? Эта соплюшка, которой он дал все, что мог?
Нет, причина была в другом. В это самое время в городе заполыхала война – лучший друг и верный соратник Денька Щука решил, что ходить под бывшим шефом Герой Солдатом ему больше не с руки, несолидно. Мальчик подрос. Подрос, оперился и решил, что все может сам, откололся и сколотил новую банду. Дескать, Гера зажрался, включает начальника, ну и вообще во многом неправ.
По городу поползи слухи – Гера Солдат что-то не поделил с бандитами из соседнего региона, находчивый и осторожный Щука общий язык с конкурентами нашел, ну и те решили, что тот лучше, чем строптивый и несговорчивый Гера. Гера, который не прогибается.
В городке запахло жареным – сгорел ресторан банды, потом сгорела химчистка на центральной улице, а следом запылал новый, почти достроенный торговый комплекс на окраине, куда Гера вложил огромные деньги.
Приехали какие-то важные люди от губернатора, из-за которых на двое суток закрыли ресторан и банно-спортивный комплекс. Начался падеж лошадей в Гериной любимой конюшне – словом, бардак и переполох.
Вера почти не выходила из дома, но однажды столкнулась с Мариной, женой Сереги Попа.
– Сбежала? – прошипела та. – Как последний предатель, сбежала?
Вера смотрела на нее и не узнавала – в глазах тихой и очень спокойной Марины плескалась ненависть.
– Я до того ушла, – глухо ответила Вера, – или ты забыла?
Марина плюнула ей под ноги:
– Сволочь ты, Верка. Последняя сволочь. – И быстро пошла к машине.
Вера смотрела ей вслед. Неужели все так? Она, Вера, предатель и сволочь? И в который раз подумала: как все это могло произойти в ее жизни? Как она могла влипнуть в эту историю? Бежать, срочно бежать! В Москву, Питер, куда угодно! Только подальше отсюда, от прежней жизни и этого ненавистного города.
* * *
С Татьяной разобрались быстро: в офисе все в порядке, на производстве тоже. Татьяна была встревожена и растеряна – еще бы, впереди маячила больница. Вера уверила ее, что скоро приедет. А раз она будет рядом – все будет нормально!
Даже Галина Ивановна, Галюша, считает Татьяну приемной дочкой: «У нас хоть с тобой, дочк, есть мы друг у друга. А у Таньки никого! Вообще никого, во всем белом свете!» Это была чистая правда – родителей у Татьяны не было. Ей было три года, когда родители развелись, и Таня осталась с матерью, но, как выяснилось, ненадолго. Вскоре мать сошлась с мужчиной, но нервная и плаксивая дочка мешала новому счастью. И Танечку отвезли в деревню к тетке.
Тетку мать обманула, сказала, что на лето, на пару месяцев, но так и не вернулась за дочкой.
До двенадцати лет Таня воспитывалась в деревне. Жили скудно, плохо: картошка да капуста, если кто из соседей пожалеет – нальет банку молока. Молоко с черной горбушкой – главное лакомство. А уж если была белая булка и банка варенья, тогда просто праздник.
Одинокая тетка была невредной, но бестолковой и бесхозяйственной. Любила собрать подружек и крепко поддать. Пьянела быстро и тут же начинала жаловаться на жизнь – дескать, досталось ей по самое не балуйся: привезла стерва-сеструха девку и бросила, расти как умеешь, теть Дунь! Живите как сможете. Тетка плакала пьяными слезами и поносила Танину мать. Подружки сочувствовали. А Таня от обиды ревела – неужели она обуза? Неужели тягость, тяжелая ноша и страшный крест? Разве она не помогает тетке, не моет полы, не варит суп, не подает чай, когда та болеет, не бегает в магазин и в аптечный киоск, не копает картошку? Неужели она такое невыносимое бремя для тети Дуни? И учится почти на «отлично», и вязать научилась, и шить! И картошку жарит вкуснее Дуни. Дуня-то безрукая, ничего не умеет. Это не Танькины слова, так говорят бабы в деревне.
Когда Тане исполнилось четырнадцать, Дуня вышла замуж. Вернее, привела в дом сожителя, которого подобрала на автобусной остановке.
Это был мужик неопределенного возраста, испитой, высохший, с мутным, не фокусирующимся взглядом – наверняка бомж со стажем, давно не надеющийся на свою счастливую звезду – неужели даже такой, как он, может быть кому-то нужен? Оказалось, что нужен. Дуня ожила, захлопотала, забегала. Отмыла Виталика в бане, постригла, залечила ссадины и синяки, купила новую одежду. Дунина жизнь наполнилась смыслом.
Помолодевшая, она громко смеялась и на лавочных посиделках с бабами без конца повторяла «мой, мой»: «мой срубил старую яблоню», «мой окопал картоху», «мой попросил блинов».
Бабы все понимали – замуж Дуня так и не сходила, любовь не понюхала – так, все между делом, на сеновале или в сенях. Дурная баба, пустая, но не вредная, не обидчивая и добрая, сама нищая, а последним куском поделится. Да и девку чужую в детдом не сдала, пожалела. А ведь могла, и кто бы ее осудил? Вся семья была бестолковая, мать еще и безрукая, Дунька в нее. Отец слабый, пил да плакал. Сестра-кукушка. А брат Колька вообще сгинул, как не было – сел, убили, сам помер? Кто знает…
Правда, и Дунькин «муж» уж совсем сомнительный. Кто он, откуда, чего от него ждать? Может, вор, может, сиделец. Рассказывает, что жена выгнала – вот и остался на улице. А там кто его знает! Отъевшийся, отмытый и одетый в чистое, Виталик оказался вполне ничего – бланши сошли, царапины зажили, сложен он был хорошо, мускулист, поджар, ловок. И дров напилит, и огород вскопает, и крыльцо починит. Пил, кстати, в меру – по выходным и праздникам. О себе говорил скупо: жил в городе, работал водопроводчиком. Были семья, дочь, квартира. А потом все, кирдык. Жена изменила, начал бухать, и вся жизнь покатилась под откос. Ему и верили, и не верили – где она, правда, никто не узнает.
А счастливая Дуня летала. Крутилась у печки, роняла кастрюли и сковородки, материлась, когда подгорали блины – а подгорали они всегда. Сделала себе шестимесячную и стала похожа на овцу – в мелких кудрях, с розовыми деснами и постоянной блаженной дурацкой улыбкой.
Таня чувствовала, что молодым мешает. Уходила к подружкам, задерживалась в школе. Думала об одном – доползти до лета, до окончания восьмого класса, сдать переходные, получить аттестат и – тю-тю! Уехать, сбежать. Сбежать из этой деревни, от дурной влюбленной тетки, от этого странного, молчаливого и непонятного мужика – вроде не злого, не страшного, но почему-то Таня его боится. Точнее – опасается.
Вопрос был в другом – куда бежать, куда податься? В Москву страшновато, в Саратов не хочется. Была она там с классом, не понравилось.
Если уж ехать, то в большой, настоящий город! Или начинать новую жизнь проще в провинции?
Но и не это самое главное. Самое главное – выбрать направление, получить профессию, стать хорошим специалистом. Тогда тебя будут ценить, тогда ты устроишься. Медсестра, воспитатель детского сада, повар, кондитер, закройщик, парикмахер – сколько прекрасных профессий! Но нужно выбрать по душе.
Решила пойти на закройщика верхней одежды. Тихая, спокойная профессия и надежный кусок хлеба.
Съездила в Саратов, сходила в училище, пообещали койку в общежитии. Стипендия крошечная, на нее не прожить, значит, придется искать работу: дворники, почтальоны и уборщицы требуются всегда.
Переночевав на автовокзале, Таня с раннего утра поехала домой.
Домой… Разве это дом? Дом – это там, где тепло и спокойно. Где горячая еда, где тебе рады, где тебя выслушают, пожалеют и помогут. Дом – это родные люди. А разве у нее есть родные люди? Разве ей где-то рады? Смешно. Таня брела от автобусной остановки и зевала, очень хотелось спать. Рухнуть на свой скрипучий пружинистый матрас и спать до самого вечера.
У Дуниного дома стояла милицейская «канарейка». На такой приезжали из района – местный участковый дядя Ваня ездил на мотороллере. У дома толпился народ. Танино сердце забухало, как колокол. Что-то случилось. И случилось ужасное, страшное, дикое.
Она подошла к дому. Притихшие соседи смотрели на нее и перешептывались. Молодой милицейский, важный и напыщенный, как петух, заполнял какие-то бумаги.
Из дома, таща носилки, покрытые цветастым Дуниным пододеяльником, вышли два мужика в грязноватых белых халатах. Под пододеяльником проглядывали контуры человеческого тела, свисала выпростанная рука. Тонкая женская рука с розовым маникюром и тонким блеклым колечком с голубым камешком. Рука была не Дунина. Дуня отродясь не красила ногти и не носила колец, откуда у Дуни кольца?
– Кто это? – не своим голосом спросила Таня у стоящей рядом соседки. – Что случилось?
– Убили, – ответила та. – Вроде сеструха к Дуньке приехала. Сели отмечать. Ну а там пошло-поехало, напились, сцепились, кто-то схватил нож и… – Соседка внимательно посмотрела на побледневшую девочку. – Ой, Тань, прости! Сестра-то Дунькина – мать тебе, верно? Выходит, ее и убили? А может, Тань, не она? Может, так, слухи? Ты к милиционерам-то подойди, спроси, как и чего, может, врут? Может, не мать твоя, а кто-то другой?
– Кто ее? – Голос осел. Не голос, а хрип. – Кто ее? Дуня?
– Разное говорят. Ты в дом иди, Тань. Там все и расскажут.
В дом идти было страшно. Так страшно, что дрожали ноги.
Таня замотала головой:
– Нет, я здесь подожду.
Она села на пенек от недавно спиленной яблони и закрыла лицо руками. Что ее ждет? Сейчас и вообще?
Таня не видела, как из дома вывели окровавленного Виталика, а вслед за ним увезли в больницу и раненную в живот Дуню.
Таня зашла в сени и почувствовала запах крови. Ночевала в ту ночь она у соседки. Наутро дошла весть, что Дуня умерла. Обвиненного в убийстве Тони, Таниной матери, и в нападении на сожительницу Виталия посадили, хотя он и отрицал и одно, и другое, говорил, что на сестру, приревновав ее к нему, напала Дуня, а та, схватив нож, ранила нападавшую.
Разбираться не стали – бомж, алкаш, много чести! Да и у женщин не спросишь, обе мертвы. Похоронили их в одной могиле, возле родителей. Два металлических креста, две фотографии – миловидные, свежие, улыбчивые девушки с надеждой смотрят в объектив.
Других фотографий не нашлось, да и эти отыскались случайно.
– Счастье, что ты в тот день уехала, – хором повторяли соседки, – иначе бы все при тебе! И как бы все повернулось, будь ты, Танька, в доме! Ох, страшно представить.
Повезло. Вернуться домой и увидеть труп матери, а потом тетки. Хоронить их в одной могиле. Страшное везение, о чем говорить!
А кто кого там зарезал… Об этом Таня не думала, так было легче.
Все, тема закрыта, и закрыта навсегда. И никогда – никогда! – Таня не приедет сюда, в эту деревню, и не пойдет на кладбище к тетке и матери. И не зайдет в этот дом. У нее будет новая жизнь. Она ни за что не повторит судьбу этих женщин! Но для этого надо бежать, бежать без оглядки. Куда угодно, только подальше отсюда. И забыть, забыть, забыть навсегда.
И еще – теперь у нее никого нет. Вообще никого. Да и раньше особенно не было, если по правде.
В училище было нелегко, зато спокойно – никто не попрекал куском хлеба, никто не выговаривал, не лез в душу.
Соседкой по комнате оказалась глухонемая девушка Лида, так что разговорами Тане никто не докучал. Работала она тяжело, мыла четыре подъезда, а по воскресеньям, вместо того чтобы отсыпаться, разносила заказные письма и телеграммы, да еще два раза в неделю помогала женщинам на почте разбирать бандероли и посылки, раскладывать по ячейкам, рассортировывать печатную продукцию для почтальонов. Трудно, но и это была копеечка.
Отучившись полтора года, Таня устроилась в ателье и сняла угол у пенсионерки, тихой верующей бабули, хорошей, но слегка сумасшедшей – по ночам она хрустела припрятанными засохшими пряниками и карамельками.
Таня затыкала уши ватой – бабкино шуршание было похоже на мышиное, а мышей Таня боялась, даром что деревенская.
Крой у нее получался ровным, аккуратным, но, как говорила заведующая ателье Нонна Борисовна, скучный: «Нет в тебе, Тань, искры! Все у тебя аккуратно, не придерешься. А изюминки нет! В общем, подумай, девочка. Может, это не твое?»
Не ее. Конечно, не ее, она ошиблась. Скучно ей было, тоскливо. Делала все правильно, четко, а радости не получала. Ни она, ни клиенты.
Портнихи из Тани не вышло.
Спустя два года она уехала в Москву. Собиралась долго, а собралась быстро, за пару дней. Отрабатывать две недели ее не заставили. «Лети, птичка, – вздохнула заведующая, – может, найдешь свое счастье». На прощание обнялись, и неслезливая Таня расплакалась.
Снова новая, незнакомая жизнь. Снова полнейшее одиночество. Здесь хотя бы были Нонна, добрая душа, и полоумная бабуля с пряниками, женщины-закройщицы, с которыми у Тани были хорошие отношения, чаепития во время обеденного перерыва. Но отсидеться в тихом месте не получилось.
Что ждет ее в городе, где нет ни одной знакомой души? И еще нет ни одной мысли, чем она, Таня, будет заниматься в столице.
Но ведь Москва слезам не верит, правда? И слабым не верит. И трусам. Значит, она, Таня, плакать не будет. И слабой не будет, и трусливой.
Сначала был Павелецкий вокзал, который Таня выучила как свою комнату. Дальше – работа в парикмахерской, в бельевой: стирка, глажка и уборка. Потом повышение – мытье голов клиентов.
Жила она там же, в парикмахерской, спасибо доброй заведующей. В общем, и прачкой побыла, и сторожем, и уборщицей.
Девочки уговорили ее научиться профессии: женский мастер – хороший кусок хлеба. Но таланта к профессии не обнаружилось – все как всегда: аккуратно, без ляпов, но и без фантазии, без огонька. В общем, стригла она только детей и непривередливых пенсионеров – тем все равно, лишь бы коротко и подешевле.
В соседнем доме находилась районная библиотека, куда Таня с удовольствием бегала. Она подружилась с библиотекарем Ниной Васильевной, женщиной интеллигентной, бессемейной и очень нездоровой – у Ниночки Васильевны, как называла ее Таня, была страшная болезнь, туберкулез костей. Ходила она на костылях.
Спустя два года Нина Васильевна, страшно смущаясь и теряясь, предложила Тане переехать к ней, в ее маленькую однокомнатную квартирку. Призналась, что совсем тяжело, что не справляется с самым незатейливым бытом.
Таня растерялась. Ниночка была ее лучшим другом и самым близким и дорогим человеком, единственным близким и дорогим. Она и так помогала ей чем могла: бегала за продуктами и в аптеку, прибиралась в ее квартире, несмотря на яростные возражения хозяйки. Стирала и гладила, иногда готовила, хоть Ниночка была крайне неприхотлива: чай, бутерброд и печенье – вот и весь рацион.
До поры до времени Нина Васильевна еще справлялась, но с каждым днем было все тяжелее. Здоровье ухудшалось, болезнь прогрессировала, боли и немощь усиливались, а перспектива не радовала – брать сиделку или уйти в интернат? В интернат не хотелось, и это очень мягко говоря. «Лучше сразу на кладбище», – плакала Ниночка. А вот вариант с сиделкой рассматривала.
Родни у нее не было, завещать квартиру было некому, а если попадется хорошая честная женщина – почему бы и нет? На тот свет не прихватишь. И если этой женщиной окажется Танечка, и если они уживутся… А они уживутся, Нина Васильевна не сомневалась – Таня чудесная, тихая, милая, ни одного лишнего слова, ни одной глупости, к тому же аккуратная, ответственная и наверняка честная. Еще Таня любит читать, а всех тех, кто читает, Нина Васильевна уже обожала. Всю жизнь среди книг – спасибо мамочке, сообразила дать больной дочке профессию.
Танечка – человек тяжелой судьбы, она совершенно одинока, и в этом они с Ниной Васильевной похожи.
– Подумай, – мягко сказала Нина Васильевна. – Я ни на чем не настаиваю. И обещаю тебе не превращаться в злобную и противную старуху! Честное комсомольское!
Таня растерянно улыбнулась:
– Ну что вы, Ниночка Васильевна! Вас в таком заподозрить трудно.
А что, взаимовыгодное сотрудничество. Девочки в парикмахерской считали, что Тане сказочно повезло – сколько протянет бабка? Год, два, пять? Да какая разница. Главное – перспектива. Квартира. Крошечная: комнатка в четырнадцать метров, кухонька в пять, ванна сидячая, прихожки, считай, нет, но все равно счастье – во-первых, центр, Красная Пресня. А во-вторых, и в-главных, своя квартира в Москве! Да не на окраине, не в хрущобе.
Приезжие девочки зависти не скрывали: «Передумаешь – мы согласны. Будем твою старуху в задницу целовать. Нет, ты совсем дура! Вы посмотрите – она еще думает».
Думала, мучилась: ведь это сделка, расчет. Разжива, как говорила Дуня.
Звучит ужасно, но… Если об этом не думать, если повернуть по-другому, Таня ухаживает за дорогим ей человеком, помогает той справиться, выжить. Труд это тяжелый и неблагодарный, старики капризны, упрямы, настойчивы, нет пожилого человека с легким характером, а уж тем более если одинокий и больной. Да и физически это непросто – Нина Васильевна практически неходячая больная, не грузная, а все равно тяжелая, поди лишний раз подними!
У Ниночки свой график и свое расписание, все четко, как по писаному. Многолетние привычки, и это касается абсолютно всего: распорядка дня, дневного отдыха, еды. Это касается радио и телевидения: по радио две программы, старые записи чтецов и концерты классической музыки, по телевизору тоже. Закончилось – щелк, и темный экран. Когда Ниночка читает, в доме должна быть полная тишина. Когда спит – тем более, спит она плохо, тревожно.
Дальше, поликлиника, иногда больницы, приходящая массажистка. Парикмахерская, где раз в два месяца Ниночка делает стрижку и укладку, а раз в месяц обязательный маникюр.
Но и это не главное – главное, что Таня перестанет принадлежать самой себе. Молчать, когда хочется, валяться, когда заблагорассудится, улечься спать, когда сильно устанет. Посмотреть телик, почитать, сходить в кино или на прогулку. Она перестанет быть свободным человеком. А несвобода – это самое страшное.
Но есть и другая сторона этого дела – в первую очередь сама Нина Васильевна, Ниночка. Как можно от нее отказаться? Чужих Нина боится, никому не доверяет, и это вполне объяснимо – одинокий пожилой человек, за которого некому постоять. Ну и что уж там – квартира… Да, квартира. Единственная возможность стать москвичкой. Не лимитой, не приезжей, не деревней, не понаехавшей, а самой настоящей москвичкой.
Таня понимала: денег не то что на квартиру, на комнату не заработать. Причем никогда. Значит, выход один, и раздумывать нечего.
Только одна из коллег, парикмахер Лера, не позавидовала, скривилась: «Это же рабство, Тань. Такая зависимость! Нет, лично я бы ни за что не согласилась. Ни за какие коврижки. Запереть себя со старухой? Со стопроцентным инвалидом? Убирать за ней? Тань, очнись! Цени свою свободу. Это ж такое счастье – ни за кого не отвечать. Вот вся моя родня ждет от меня одного – денег. И им наплевать, как я тут, что. Как кручусь, как экономлю, сколько за комнату свою убогую за Кольцевой плачу! Что ем, как сплю. Наплевать! Только и ждут переводов. Как конец месяца, начинается: «Лер, а у нас денюжки кончились!», «Лер, а у нас холодильник пустой!», «Лер, а Артемке надо сандалии купить!», «Лер, так хочется твердой колбаски!»… Да ладно бы колбаски – им всего хочется! Московских конфет, сыра, сосисок. Апельсинов хочется, пастилы. Ну и так далее, долго перечислять. А что Лера? А ничего, вперед, по магазинам! Никуда не денешься – они твоего ребенка воспитывают! И все время об этом напоминают. И тянут, тянут. Ты, говорят, ведь на заработки поехала? Сына оставила, у тебя там Москва, асфальт, огни, центральное отопление, горячая вода и свобода, а у нас сарай с курями, поросенок, печка, на которую не напасешься, и грязь по колено. А я тут, можно подумать, – Лера смахнула слезу, – в шоколаде. Счастливая ты, Танька. А не понимаешь! Не уходи к этой бабке, цени свободу. И молодость цени – сама знаешь: проскочит – не заметишь. И люби себя, знай себе цену».
Все так, Лера права. Даже девчонки притихли. Хорошо, когда не приходится выбирать. Выбор – всегда сложное дело.
И посоветоваться не с кем, в парикмахерской все говорено-переговорено, да и решение принимать не девчонкам, а ей, им бы только языками почесать.
Тянула, отводила от Ниночки взгляд, а та ждала. Ждала как приговора. Однажды поймала Танину руку. Вздрогнув, Таня посмотрела на нее. Обе молчали, потому что понимали – больше тянуть нельзя, вопрос должен быть закрыт. Как на нее смотрела Нина Васильевна! Сколько надежды, тревоги и боли было в ее глазах.
Таня выдавила улыбку:
– Завтра и перееду, Ниночка Васильевна! Окончательно, с вещами. Не возражаете?
Какое! Расплакались обе.
«Я помогаю немощному и старому человеку, я помогаю близкому человеку, дорогому и одинокому. Я все сделала правильно, и я не жалею об этом, – твердила Таня. – Я все сделала правильно».
Но осадочек, как говорится, оставался: квартира. И когда она говорила, что не жалеет, то врала. Жалела. Вернее – спустя пять лет пожалела. Когда появился Вадим. Было ли ей тяжело? Безусловно. Хотелось сбежать? И такое было. Хоть куда: в магазин, в аптеку, только бы выскочить на свободу хоть на час или два, вдохнуть свежего воздуха, увидеть людей.
Были и мысли уйти, были. Уставала. Не физически, хотя и здесь было тяжко, – морально. Маленькая комната, духота, Ниночка, как многие старики, боялась сквозняков. Запахи лекарств, болезни, старости. Разговоры по кругу. Капризы, обиды, претензии. Неумолимая старость и болезнь отнимали у Ниночки разум, такт, терпимость и спасительный юмор.
Таня раздражалась, злилась, огрызалась. Жалела. Жалела, что согласилась. Авантюра. Страшная авантюра – запереть себя заживо, отказаться от молодой жизни.
Потом, правда, было стыдно – ее решение, никто не заставлял, выходит, терпи. Терпи и оставайся человеком, не смей поддаваться настроению, не смей себя жалеть. Ниночке хуже в сто, в миллион раз.
И ни о какой квартире она не думает, боже упаси! Просто она очень устала.
Вадим. Ее единственная любовь, больше не было. Любовь и непрекращающаяся боль, вечная незаживающая рана. Вадим, который мог бы быть ее мужем, отцом ее детей. Да всем! Всей Вселенной, абсолютным счастьем и совпадением – так разве бывает? Вадим, от которого она сама отказалась. Сама, по собственной воле. Отдала своими руками то, что было дороже всего на свете. Во имя чего? Вот об этом лучше не думать. Не вспоминать. Да, приказывала себе не вспоминать. Смешная! Разве такое возможно? Да и потом, что уж, сама виновата.
Он ошибся дверью. Вернее, шел к своему научному руководителю, чтобы передать материалы по кандидатской, но перепутал подъезд. Немудрено: все подъезды похожи…
Научного руководителя его в доме все знали – еще бы, сколько раз чудаковатый седой старичок вел беседы на телевидении.
Таня все поняла и объяснила – соседний подъезд, тоже шестой этаж, кажется, металлическая дверь.
Молодой симпатичный мужчина широко улыбнулся:
– Спасибо!
Таня улыбнулась в ответ.
На следующий день он возник на пороге квартиры с букетом мимозы.
А, завтра Восьмое марта! Господи, она совершенно забыла!
На улице буйствовала настоящая весна – растаял снег и высохли тротуары, по утрам шаркали метлы старательных дворников – как же, центр столицы.
На улицах появились улыбающиеся, скинувшие тяжелые надоевшие зимние пальто, стянувшие береты, косынки и шапки, распустившие уставшие волосы женщины и мужчины с загоревшимися глазами. Все пахло весной, и все сулило надежду!
Таня четыре дня не выходила из дома – болела Ниночка – и пропустила внезапно, как волна, нахлынувшую весну.
– Это мне? – изумилась Таня. – Да зачем? Ой, ну спасибо! – Она совсем растерялась. Никто не дарил ей цветы. – Хотите чаю?
Повезло, что он отказался. Просто сказочно повезло – как пригласить его в дом, где находится тяжелобольной человек? Где подоконник и стол уставлены коробками и коробочками с таблетками, где на батареях развешены постиранные пеленки, где беспорядок, потому что убирать нет смысла и нет настроения, где стоит запах больного старого человека, наверняка стоит, как без него, это Таня принюхалась.
А она сама? Чумичка, как говорила Дуня: волосы собраны в хвост, старые треники, растянутая майка, поношенные тапки. Та еще невеста. Хотя при чем тут невеста?
Договорились встретиться вечером у кинотеатра.
– Хороший фильм? – переспросила она. – Нет, не видела. Я редко куда-то выбираюсь – ухаживаю за старенькой родственницей.
Он, кажется, удивился. А может, ей показалось.
Поставила в вазу букет и села напротив. Ни разу в жизни ей не дарили цветы. Странное чувство.
Таня смотрела на букет и размышляла. Если она пойдет на свидание, то у них может что-то закрутиться. Ну если вдруг… Нет, она абсолютно ничего такого о себе не думает, глупости! Обычная рядовая девица, ничего примечательного и выдающегося. При этом куча комплексов, помноженных на другую кучу комплексов. Она вообще состоит из сплошных комплексов. Приезжая деревенская дурочка. Портняжка и недоделанная парикмахерша, бесталанная во всем, за что бы ни взялась. В какую бы дверь ни постучалась – все мимо. Ей далеко за двадцать, а она ничего не достигла. Кто она – сиделка при больной старушке? Что она умеет – выносить горшки, кормить с ложки и делать уколы? Тоже мне достижения! У нее нет ни талантов, ни даже способностей. Она никто, тень, призрак. У нее временная прописка и весьма шаткое положение. Она – круглая сирота, как говорится, без роду, без племени, а про ее родственников лучше не говорить – страшный стыд и страшный позор.
Когда она согласилась ухаживать за Ниной Васильевной, ей хотелось немного приподнять себя, сделать чище и лучше, но она не святая и, если по правде… Если бы не квартира – пришла бы она сюда, к бедной старушке? Отказалась бы от молодой жизни, пожертвовала бы собой? Выходит, что, кроме всего перечисленного, она еще и корыстная. Корыстная стерва и дрянь. Нет, она не пойдет на свидание! Вадим, молодой, подающий надежды ученый. Коренной москвич из интеллигентной семьи. А она – прибившаяся дворняжка, она никто, и цена ей копейка.
Все, решено, никаких свиданий. Остается надеяться, что он все поймет и больше не придет по этому адресу. На дурака он не похож.
Пошла. Конечно, пошла! И оделась нормально, и подкрасилась, и волосы распустила. Глянула на себя в зеркало и осталась довольна.
У Ниночки отпросилась, правду не сказала, наврала про день рождения бывшей коллеги из парикмахерской. Вспомнила слова Леры: «Люби себя, знай себе цену». Лера права – и ничем она не хуже других, в том числе этих москвичек! И фигура у нее вполне, и лицо симпатичное. Волосы на зависть, мечта парикмахера, как шутили девочки. И вообще она нормальная! А никакая-то там замухрышка и чумичка. Нормальная современная девушка. Просто со сложной судьбой. Но ведь за это не судят, верно? Она в этом не виновата.
Все закрутилось мгновенно: любовь набросилась на них как убийца из-за угла – теперь Таня понимала слова из любимого романа. Лихорадка, озноб, ожидание встреч и звонков, бессонница, слезы, печаль и ощущение огромного, безмерного счастья – вот что с ней было.
Она не видела у Вадима недостатков, он был прекрасен, ее возлюбленный. Только расстраивалась – он не желал понимать ее жизни, злился и раздражался: «Да как это так, Таня? Как ты могла на это пойти, как могла обречь себя на несвободу, как могла так легкомысленно распорядиться своей молодой жизнью?»
Ей приходилось оправдываться. Но и его она понимала – его недоумение по поводу ее несвободы: «Не могу оставить Нину Васильевну, не могу выйти в восемь, а могу только после того, как накормлю и уложу, не могу в понедельник, потому что придет врач». И еще сто тысяч «не могу» и «извини, не получится».
Она и вправду чувствовала себя пойманной, бьющейся о прутья клетки птицей.
В тот год она впервые сдала Ниночку в больницу. Решиться на это было непросто, помнила свое обещание «никогда и ни при каких условиях», но сдала, отдала.
Отводила глаза, суетилась, собирала вещи, приговаривала, что это необходимо, что это ненадолго, что время пролетит как миг, а посмотреть в глаза ей не могла. «Скорая» уехала, а Таня в изнеможении опустилась на стул и заплакала.
Да нет, ничего такого, пожилые люди часто попадают в больницу. И это не ее решение, это рекомендация врачей. Вроде все так, но почему так паршиво на сердце? И почему такая тоска?
Ничего, быстро отвлеклась. Пришла в себя и повеселела – позвонила любимому и сообщила, что свободна – до пятницы.
– До пятницы? – не понял он. – Сегодня же четверг. А, до следующей!
Почему-то она сникла, скисла:
– Это из мультика про Винни-Пуха. Не помнишь? Да ладно, какая разница.
Назавтра, в пятницу, рванули в Питер. А там все окончательно прошло, никаких тебе мук совести, потому что снова счастье, снова одно сплошное счастье, какое-то безразмерное, необъятное. Разве такое бывает? Выходит, бывает. И Невский бывает, и Петроградка, и стрелка Васильевского, и Русский, и Эрмитаж, и пончики, они же пышки, и песни уличных музыкантов. Они подпевали. Конечно, подпевали, еще бы!
– Странно, что ты знаешь слова, – сказал он.
Она удивилась:
– Почему странно? По-моему, нормально, мы же из одного поколения.
Он стушевался и что-то забормотал, а до нее дошло, что он имел в виду, – для нее странно, для девочки из деревни. Для сироты убогой. Где она – и где все они, эти питерские центровые, лохматые, образованные ребята, и он, московский парень?
Там, в Питере, Вадим сделал ей предложение. От счастья из глаз брызнули слезы: «Неужели это происходит со мной? Со мной, сиротой из деревни, никому не нужной и никем не любимой, со мной, считавшей, что жизнь моя не стоит копейки, моя ничтожная, мелкая, скучная серая жизнь? И этот сероглазый красавчик, избалованный московский мальчик из небедной семьи, мой Вадим, мой Вадька, мой самый нежный и самый прекрасный, мой друг, мой любовник, мой… всё! Он рядом, он любит меня и зовет меня замуж? Нет, невозможно. Это сон».
Три года безмятежного счастья. Три года любви, страсти, вранья и побегов из дома.
И страшных мыслей: «Когда же? Когда это закончится, когда я буду свободна?» И раздражение, и злость на несчастную, ни в чем не повинную старуху. И ненависть к себе: «Как я могу, как я дошла до этого?» И участившиеся ссоры с любимым, вдруг ставшим таким раздражительным и таким нетерпимым.
А Нина Васильевна все жила. Болела, страдала, твердила, что устала, хватит, надоело, но распоряжаются этим не люди, не Нина и Таня, а кто-то другой, тот, кто на самом верху, тот, кому это подвластно.
Но постепенно, шаг за шагом, их отношения с Вадимом совсем расстроились, и о свадьбе он больше не заговаривал. Таня чувствовала: он избегает ее. Да и как можно было это не почувствовать? Их встречи стали совсем редкими, он отдалялся от нее, она его раздражала.
А потом он пропал. Она звонила, ей отвечали, что он в командировке, отвечали раздраженно, а однажды женщина с металлом в голосе попросила их больше не беспокоить.
Таня разрыдалась:
– Как же так? Вы знаете, что мы должны пожениться?
– Пожениться? – усмехнулась женщина. – Милочка, вы опоздали! Месяц назад, ровно месяц назад, Вадик женился! А вы разве не в курсе?
Таня молчала, словно парализованная. Горло сдавила стальная проволока.
– Вы меня слышите? – переспросила женщина. Кажется, в ее голосе даже проскочило сочувствие. Или Тане показалось? Впрочем, какая разница. Жизнь все равно закончилась. Началась и закончилась, точка. Как быстро, однако! Как говорила когда-то Нина Васильевна, есть люди, которым предписано одиночество. Люди, не предназначенные для счастья. И она, Таня, среди них.
Через полгода умерла Нина Васильевна. Как сказала бы Дуня – отмучилась. Таня делала все что могла и как могла, заглаживала свою вину перед ней.
А виновата она была страшно. Да за одни эти мысли, за эти страшные, греховные мысли, когда она желала для Ниночки смерти, а для себя – освобождения, ей уже полагалось ужасное наказание. Вот она и получила его, все правильно, все справедливо.
А то, что она больше никогда, ни разу в жизни не поверит мужчине – так это наверняка.
Есть люди, не предназначенные для счастья. Есть люди, которым предписано одиночество. И она это принимает. Потому что за все надо платить.
Похоронив Нину Васильевну, Таня устроилась в соседнюю булочную кассиршей и стала готовиться к поступлению в институт. Разумеется, в заочный – очный не потянуть, ей нужно работать, чтобы содержать себя. Теперь она снова свободна и ни за кого не отвечает. И знаете, при всех тяготах одиночества, это – прекрасное чувство!
* * *
Чем бы занять себя, чем? Чем бы занять, чтобы не сдохнуть? От телевизора устали глаза, да и все эти фильмы просмотрены по сто раз, сколько можно? Книги Вера прочла, книги закончились. Так, ерунда, но чуть-чуть отвлеклась, и на этом спасибо.
Гулять не хотелось, но все-таки собралась и вышла, потому что сидеть в номере было невыносимо. Да и свежий воздух ей не повредит, башка чугунная, отупевшая. Нуте-с! Как развлекаетесь, господа? Какие у вас нынче забавы?
На улице Вера накинула капюшон. Холодно, бррр. Холодно и противно. Да, вечера еще холодные, и до настоящего тепла далеко.
Она шла по центральной улице и думала: «Не дай бог встретить кого-то знакомого!» Впрочем, вряд ли ее узнают – другой цвет волос, другой облик, другие глаза. Другая Вера.
Да и годы свое без стеснения взяли. Давно нет худенькой, длинненькой, растерянной и настороженной девочки Веры – есть жесткая, подчас суровая бизнес-леди Вера Павловна Кошелева. Поди узнай в ней прежнюю Веру.
Город жил своей жизнью. Вокруг разнообразные едальни – их оказалось довольно много: кофейни и кафе-мороженое, итальянские и грузинские рестораны, суши-бары, куда же без них.
В них сидели люди, в основном молодежь, откуда-то доносилась музыка, кое-где танцевали, где-то сидели в полутьме при свечах, где-то гуляли разудалую свадьбу. По улице шли люди – обычные, почти ничем не отличающиеся от столичных жителей.
Центральная закончилась, и Вера свернула на параллельную, где когда-то находился первый в городе фитнес-клуб, конечно же, детище Германа. Вера там часто бывала.
Клуба уже не было, в здании был офис агрофирмы – ну да, все правильно, все как и должно быть.
В окнах домов загорался свет, мелькали блики от телевизоров, и Вера почувствовала острое одиночество и щемящую тоску: «Мама, господи! За что ты мне устроила такое испытание?»
Обратно Вера почти бежала, сердце стучало как сумасшедшее, билось у горла, и ей казалось, что оно сейчас выскочит. Как это теперь называется – закрыть гештальт? Ну да, разобраться со своим прошлым, прожить его еще раз, прожить, прокрутить и закрыть, попрощаться. Навеки, навсегда. И не делать вид, что ты все забыла, что ты свободна и что тебе все равно.
Вернувшись в отель, Вера открыла мини-бар и выпила залпом бутылочку коньяка. Слегка отпустило. Закрыв глаза, она лежала на кровати, пытаясь отогнать воспоминания.
Энск, ничтожный никчемный и ненавистный городишко, все еще крепко держал ее за горло. Сколько лет прошло! Сложных, невыносимо трудных, о которых хотелось забыть, потому что казалось, она не выдержит, сломается и – уедет из Москвы, из этого огромного и прекрасного города, который долго испытывал ее на прочность, долго проверял, тянул время, чтобы уж наверняка. Справится – не справится, выдюжит или нет, сломается или выстоит? Ломал ее, крутил, выворачивал руки. А как ты хотела, девочка? Он насмехался над ней. Да что там – в голос смеялся! Иди, милая. Ступай своей дорогой! Здесь, знаешь ли, и без тебя достаточно такого добра – за полушку в базарный день. Но сдаваться Вера не собиралась, и Москву она полюбила, не представляла без нее жизни.
Москва бьет с носка. И Веру она била, еще как! Била почти одиннадцать лет. А потом отпустила. Пожалела или просто устала? Устала испытывать, унижать? И у Веры начало получаться.
Спустя одиннадцать лет. Почти одиннадцать, десять с половиной.
Измученная и почти обескровленная, закаленная, как та самая сталь, давно никому не верящая, с недобрым, придирчивым и недоверчивым взглядом, жесткая, суровая. Такой она стала. Немудрено, правда? Ничего не осталось от тихой, доверчивой девочки Веры. Совсем ничего.
Мама по-прежнему жила в Энске и приезжала к дочери в гости. В первых съемных и совсем убитых квартирах мама рыдала: «Как же так, дочк! Такая убогость! Еще хуже, чем в нашем городке, Вер! И для чего ты уехала?»
Они и вправду были убогими, ее первые жилища, за Кольцевой, на самых дальних окраинах, с вечно грязными от выхлопов окнами, мой – не мой, бесполезно. Виды из окон тоже не радовали, куда там – громадные мрачные серые трубы ТЭЦ, не трубы – вулканы, извергающие густой плотный пар.
Были и заводские трубы, тоже смердящие. Была и квартирка с видом на крематорий. Тот еще кайф. И грязные темные дворы, и такие же подъезды, и пахнувшие мочой, варварски изрисованные лестничные пролеты и лифты.
Как Вера мечтала о нормальном жилье! Ехала по городу и представляла – вот здесь или вот здесь. И тут неплохо. А если с видом на Нескучный? Квартира с видом на Нескучный, зеленый летом, желто-красный осенью, белый зимой. Москва-река, по которой плывут баржи и семенят прогулочные пароходики.
Вряд ли сбудется, вряд ли. Даже коренные москвичи об этом и не мечтают: элитный район, дорогое жилье. Сидят в своих норах в спальных районах и счастливы, что есть эти норы. Да, тесноватые, с маленькими кухнями и низкими потолками, и добираться до них сложновато, особенно в час пик. Зато своя нора, собственная, отдельная. На что ты замахнулась, Вера? Охолони и приди в себя! И если потянешь и купишь квартирку в спальном – радуйся и считай, что тебе повезло!
Мама отмывала ее съемное жилье, отскребала плитку и ванну, без конца терла окна, стирала ветхие шторы, но ничего не менялось – бедность трудно прикрыть. А уж дешевыми пледами точно.
Обратно в Энск Галина Ивановна ее не звала. Понимала, что этого точно не будет.
– Но ведь и это не жизнь, а, Вер? Нет, ну ты глянь! Это по-людски?
Вера огрызалась:
– А у нас в Энске было по-людски? То же дерьмо. Тот же двор, тот же подъезд, та же шпана под окном. Те же звуки разбитых бутылок, ночные крики, пьяные песни. Ой, мам, не надо! И потом, мне ли к этому привыкать? Я, мам, выросла на такой же скудной, сдобренной дерьмом грядке.
– Тогда зачем? – не сдавалась Галина Ивановна. – Зачем это было делать? Что там в говне, что здесь, в столице?
– Не, мам. Не так. Там все безвыходно. Без вариантов. А здесь куча возможностей. И я, – Вера бросала на мать яростный взгляд, – я добьюсь, мам, я тебе обещаю! И будем мы жить с тобой ну, например, с видом на Калининский или Старый Арбат! Хотя нет, там шумновато… А если с видом на Нескучный? Мне кажется, что это самое лучшее место.
– Дурочка, – вздыхала Галина Ивановна, – сама-то веришь?
Вера молчала.
– Ага, вижу, как же! С видом на Нескучный! Вот про Скучный я еще поверю! – шутила Галина Ивановна и тут же грустно добавляла: – Ой, дочк… Другого у нас и не будет! Для таких, как мы, Вер, всегда будут Скучные. Или такого у вас не имеется?
– Такого нет, мам. Есть только Нескучный.
Но если честно, и сама не верила, что такое когда-нибудь может быть возможно.
А вот фигушки вам! Есть у нее квартира с видом на Нескучный! Еще как есть! Неправа была мама – и для них нашлось место напротив Нескучного!
Вера понимала, что ей сказочно повезло. Ей на голову не свалилось никакого наследства от неожиданно обнаруженных родственников, никаких богатых любовников, кинувших с барского плеча успешный бизнес. Вера была не из везунчиков. Хотя как посмотреть…
Безусловно, ей повезло. Повезло встретить Ингу Романовну, которая научила ее жить. Ну и с Таней ей повезло, еще как повезло, Вера понимала и ценила это.
И пусть в ущерб личной жизни, в ущерб свободе, здоровью и еще много чему, пусть не стала Вера миллионершей, да и, честно говоря, никогда к этому не стремилась. И пусть всего добилась тяжелым трудом, ценой хронической бессонницы, которую подчас не брали даже таблетки, пусть пережила разочарование, иногда предательство, ей удалось встать на ноги, заработать на достойную жизнь и обеспечить достойную старость маме. И еще – уважать себя, гордиться собой и сделать так, чтобы ее уважали другие.
Пять первых лет Вера помнила плохо: в те годы было так суетно и так бестолково, что в голове все смешалось. Чем она только не занималась – от уборщицы в школе до ночной нянечки в детском саду, от торговки мороженым до кассира в супермаркете. Перечислять можно бесконечно. Моталась по съемным квартирам. Дом, работа, общественный транспорт. Лишала себя всего: пол-яблока в день, пустые щи на неделю, каши, картошка, кусок недорогой колбасы. Мороженое как бонус, бутылка фанты как приз, дешевая шоколадка как премия. Потому что хоть что-то надо было послать маме. Работать Галина Ивановна уже не могла – сколько можно. Да и здоровье было не то, возраст. Еще надо было платить за квартиру и коммуналку, покупать что-то из одежды и обуви – из-за реагентов и дешевизны обувь летела на раз.
В целях экономии никаких парикмахерских – длинные, собранные в хвост волосы. Ничего Вера не видела в те годы, совсем ничего. Жила как на автомате: встать, почистить зубы, выпить чашку дешевого кофе, натянуть китайскую куртку и китайские кроссовки – и вперед, к новым вершинам! Вот только вершин совсем не было… А была одна суета.
Иногда ужасалась. Пять лет она живет в Москве, в городе огромных возможностей. И что видела за эти годы? В театре была два раза, когда приезжала мама. Конечно, не в Большом, не в «Ленкоме» и не в «Современнике» – это им не по деньгам. Но и то хорошо. Два раза была в Третьяковке, только пришла туда такая усталая, что думала об одном – добраться до дома и рухнуть в кровать. Пару раз с мамой были в «Макдоналдсе», ни одной, ни другой не понравилось, потом мучились от изжоги. Один раз в кафе выпила кофе с пирожным, и это было вкусно, хотя и недешево.
Вот, кажется, и все ее развлечения. А, три раза ходили в кино! Правда, сидели на дешевых местах. Кино дурацкое, американское, слишком шумное, боевик. Хотелось уйти, но постеснялись и досидели.
По Москве они очень даже часто гуляли. И в парках бывали, и на Красной площади, и на Старом Арбате, и в любимом Нескучном… Мама в Москве уставала, а Вера нет, пусть слишком пестро и суетно, а все равно здорово – жизнь.
На третьем курсе Вера бросила свой заочный. Жалко? Да. Но учиться сил не было, все отнимала работа – и настроение, и, главное, силы.
Но ни разу – ни разу, – несмотря на все сложности, у нее не возникла мысль уехать. Да и куда, собственно? Отступать некуда, разве что Энск. Значит, выхода нет.
К Инге она нанялась случайно, по объявлению, увидела, что требуется продавец в отдел элитных шуб.
Вера зашла в туалет торгового центра и посмотрела на себя в зеркало. Чучело гороховое. Какие элитные шубы? Кто ее наймет? За прилавком магазина элитных шуб должна стоять молодая длинноногая и ухоженная красотка, а не эта бледная и уставшая моль. Хотя длинные ноги имелись, и стройная фигура тоже. И лицо было вполне ничего, особенно если привести его в надлежащий вид. И волосы хороши, да кто их видит? Вечно убраны и затянуты в хвост.
Ну нет, просто смешно. Не пойдет она в павильон номер шестьдесят восемь в магазин с витиеватым названием. Не пойдет, потому что результат известен заранее.
Вера умылась холодной водой, облизнула сухие губы, гордо вскинула голову и вышла из туалета.
Домой. На сегодня она свободна. А дома пельмени из пачки, чашка растворимого кофе и сериал по телевизору. А завтра выходной! И не один, а целых три, майские праздники!
Она направилась к выходу и вдруг увидела яркую, гламурную, серебристо-черную вывеску магазина мехов.
«Как черти несли, – потом смеялась она. – Ей-богу, не просто так! Хотела найти другой выход, а пошла, как оказалось, в нужную сторону».
Она толкнула дверь в магазинчик элитных шуб – выпрут так выпрут, не привыкать. Как говорится, наглость – второе счастье. И совсем Вера не робкая! Просто замученная и разочарованная.
За прилавком стояла красивая и, как показалось Вере, молодая женщина. Она подняла на нее глаза и улыбнулась.
– Я по объявлению! – почти выкрикнула Вера. – Вам нужны продавцы?
Женщина внимательно и пристально разглядывала Веру. В ее взгляде не было удивления.
– Нужны, – просто сказала она.
Вера сделала шаг вперед.
Инга сразу разглядела и поняла Веру – опыт. Девка умная, серьезная, здорово покусанная и побитая жизнью. Но не сломленная, не злая – так, обозленная. Но главное – честная. В людях Инга разбиралась.
Да и привести ее в порядок дело плевое, данные отличные: худая, высокая, лицо неброское, но хорошее, умное. Глаза настороженные, испуганные, но это пройдет. И, главное, никаких надутых губ, наращенных ресниц, никакого дешевого провинциального пафоса, за которым комплексы, злость и обиды.
Словом, сделать из Веры надежную помощницу – пара пустяков. И не таких укрощали. Опыт у Инги не просто большой – громадный. И планы громадные, вот поэтому ей и нужна такая, как Вера. Понятно, что это займет время, не все сразу: сначала постоит за прилавком, изучит склад и поставки, потом съездит в Грецию, к Дидумасу, поторчит там с месяцок-другой, а уж потом можно познакомить ее с бухгалтерией, объяснить все про налоговую и таможню, познакомить с кем надо. Инга надеялась, что в Вере она не ошиблась.
Все, собственно, так и получилось, и ни по одному из пунктов разочарования Инга не испытала. Пожалуй, кроме одного – Вера непросто сходилась с людьми. Точнее – с нужными людьми. Не умела ласково улыбаться, делать комплименты и отвечать на них, желать удачи. У Веры все сухо, конкретно и только по делу.
– Зачем? – искренне удивлялась она. – Зачем мне говорить этой мерзкой тетке из налоговой, что у нее потрясающий костюм и волшебная стрижка? Она же корова и безвкусная уродина! Зачем мне строить глазки мерзкому хрену-таможеннику, взяточнику и похабнику, когда он и так получает от нас ого-го?
Инга вздыхала, и ликбез начинался по новой. Вера молчала, опустив голову.
– Ладно, – вздыхала она и неуверенно добавляла: – Я попробую.
«Раненая девка, – думала Инга. – Хорошая, но подстреленная. Тревожная, пугливая – ну да, жизнь научила. И все-таки настоящая, без шелухи. И судьба такая – невероятная любовь с бандюганом, потеря ребенка, городок этот тухлый, да и все остальное. Видно, на все нужно время».
Хотя времени прошло достаточно, Вера все еще не пришла в себя. Остались и боль, и обида. А у кого они исчезают бесследно? Сама Инга тоже пережила – врагу не пожелаешь. А ничего, выкарабкалась, стряхнула то, что на нее обрушилось, и зажила дальше. Казалось, что после пережитого уже никогда не придет в себя, никогда никому не поверит, никогда не пойдет на подобное. А ведь пошла! И как счастлива! А разве могла подумать? Потыкала судьба носом в дерьмо, потрепала за косы, вынула все кишки, всю душу, вытряхнула, как мусорный пакет, внутренности, а потом дала шанс. Сильная, умная – воспользуешься. Возьмешь – и будешь жить как человек.
Слабая дура – тогда мне тебя не жалко. Слабые не выживают, помни о Спарте. Инга свой шанс взяла, не упустила. Потому что сильная и точно не дура. Все сделала так, что сама с трудом верила: «Все это – у меня? Со мной? Это я – владелица магазинов элитных мехов? В меня влюблен Дидумас Ламбракис, владелец меховой фабрики в Касторье?» Эта фабрика досталась ему и его младшему брату Василиду по наследству от прадеда. Василида назвали как раз в честь того самого прадедушки. О любви с Дидумасом Инга и не мечтала – ну, во-первых, он был моложе ее на добрых (или не добрых) семь лет, а это немало. Во-вторых, Дидумас – местный плейбой, накачанный черноглазый красавчик, девки за ним табунами ходят, умница и весельчак, при этом удачливый бизнесмен – яхта и двухэтажный дом с колоннами. А Инга, пусть красивая и ухоженная, женщина далеко за тридцать, прошедшая и Крым, и Рым, дважды побывавшая замужем, и оба раза, надо сказать, неудачно. Отчаявшаяся и отчаянная, бойкая, но ранимая.
Но это была любовь. Дидумас влюбился серьезно, и, как Инга ни отбивалась, помня, что отношения могут помешать бизнесу, спустя два года сдалась. Не без боя, но все же сдалась.
Дидумас сделал ей предложение. Господи, предложение! Могла ли она об этом подумать? Нет, не мечтать – такие мысли в голову не приходили, – просто подумать. И был торжественный семейный вечер, на котором присутствовала огромная семья Ламбракис, мама и папа, старенькая, ничего не соображающая бабуля, три сестрицы Дидумаса, брат Василид и еще тети с дядями, их многочисленные дети, кузены Дидумаса, – в общем, как Инга все это пережила, сложно представить. Пережила. Понимала, что Ламбракисы не в восторге от выбора старшего сына. Какой уж восторг – немолодая русская женщина, миловидная, даже красивая, милая в общении, но… Вы ж понимаете. Плюс возраст, вряд ли сумеет родить. А греки – нация чадолюбивая, да и старший сын – главный наследник. Но возражать не посмели, с Дидумасом это бы не прошло.
От постоянно надетой улыбки болели скулы. Как же она устала! Не было сил снять платье и белье.
Раздевал ее Дидумас. Бережно стянул одежду, уложил в кровать, принес лимонаду и, нежно поцеловав, выключил свет.
И вот тут Инга заплакала. Она плакала, а Дидумас недоумевал – что случилось с его возлюбленной? Кто ее обидел? Или ей не понравилось торжество? А он так старался… Он что-то пропустил, не заметил, его девочке кто-то сказал что-то недоброе?
– Нет, никто? Тебе все понравилось? Тогда почему ты так плачешь, милая? Ты меня разлюбила?
– Дурачок. Мой любимый и глупый мальчик. Я тебя разлюбила? Какой ты смешной! Мне не понравилось твое семейство? Меня кто-то обидел? Милый ты мой! Мой прекрасный! Мой наивный и светлый мальчик! Мой самый лучший и самый добрый! Ты мой чудесный… Ты никогда не поймешь, почему я так плачу. И самое главное – тебе и не надо. Не надо понимать. Почему? Какой ты смешной! Конечно, это слезы радости, ты правильно понял. У вас тоже плачут от счастья? Ну, разумеется, все похоже. Нет, нет, я уже не плачу. Честно, не плачу – ну вот, посмотри! Да, буду спать. Кольцо? Твой подарок прекрасен! Как и ты сам. Да, засыпаю. Все, все. Иди, отдыхай. Со мной все отлично. Да, честное слово. Я в полном порядке, ну перенервничала, устала! Иди, милый, иди, отдыхай!
Разве можно ему объяснить? Ему ничего не нужно знать. Ничего про ее прошлую жизнь. Про ее мужей, про ее унижения. Про то, как ее, его прекрасную Ингу, выгнали в ночь с одним чемоданом.
Потом смеялась – в чемодане оказалось три пижамы, две старые майки, пляжные тапочки, кусок мыла (не зубная щетка, а именно кусок мыла!), мужнина бейсболка с логотипом футбольной команды, почему-то пара перчаток, собачий ошейник и что-то еще.
В каком же она была состоянии! Ни денег, ни драгоценностей (на тот час он еще их не забрал), ни флакона духов. Ни даже сменного белья, ничего! Три пижамы. Все, что она прихватила из семилетнего брака с очень небедным человеком. Человеком, которого она очень любила.
Побитой собакой вернулась к маме. А у той своя жизнь, новый мужчина. Зачем ей рыдающая и несчастная дочь? Мама так долго ждала своего счастья.
У мамы Инга выдержала недолго, пять месяцев. Устроилась на работу, сняла комнату и изо всех сил принялась выживать.
А потом новые отношения. Тогда казалось, что этим спаслась. Новый возлюбленный очень поддерживал ее во время развода. Нанял хорошего адвоката, свозил на море. Инга приходила в себя.
Он был неплохим человеком, совсем неплохим. Только запойным. Просто она об этом не знала. А когда узнала и впервые увидела, от страха сбежала. Смотреть на это было невыносимо.
Потом взяла себя в руки и вернулась.
Опытные люди проконсультировали: «Пока свое не выпьет, бороться бесполезно. Стонет и лежит на полу? Ну и хорошо, не волнуйся. Поставь ящик водки и жди. Чего? Сама поймешь. Через неделю – дней десять вызывай нарколога. Капельницы, промывания – он все знает. Вот телефон, проверенный мужик. Страшное зрелище? Да, понимаем. Ну что делать – болезнь».
Так все и было: сидела как мышь в соседней комнате, засыпала и тут же в холодном поту просыпалась. Он стонал, кричал, выл, мычал. «Животное, – думала она, – абсолютное животное. Ничего человеческого. Надо бежать».
На седьмой день вызвала нарколога. Тот не халтурил, трудился. Через три дня все стало налаживаться. Крепкий бульон, крепкий чай. Потом муж попросил котлеты. Пожарила. Под кроватью стоял собранный чемодан. «Как только он встанет, как только ему полегчает, сбегу в тот же миг».
Не сбежала – бежать было некуда. Спустя пару дней чемодан разобрала. Выслушала все извинения и клятвы. Поверила. Казалось, все было искренне – и отчаяние, и стыд, и раскаяние. И обещания. Наверняка все и было искренне – он был неплохим человеком. Стыдился, просил прощения, замаливал. Съездили в Париж, муж купил ей новую шикарную шубу. Взял для нее машину в кредит, пусть маленькую, но новую. «Моя букашка», – говорила она.
Со временем все пришло в норму. Инга повеселела и поверила, что запой больше не повторится. Сказала, что второй раз такого не вынесет. Он снова клялся и целовал ей руки.
Почти год все было нормально. А через год все повторилось. Все правильно, это болезнь. Но… При чем тут она?
Но и после второго эпизода не ушла, пожалела. В конце концов, бывает и хуже. А две недели пару раз в год…
Еще поняла, почему от него, такого хорошего, умного и порядочного, ушла первая жена. И почему ушла другая женщина, которая была до нее. Он называл их предательницами. Просто они поняли, что все бесполезно. Это не лечится, а только усугубляется.
Они спасали себя. И Инге тоже надо спасать себя. Иначе ее просто не будет.
А потом было долгое, холодное, бесконечное одиночество и накрывало такое отчаяние, что выла, как волк на луну.
Со временем привыкла и даже словила от этого кайф – одна, никто не командует, не ноет, не делает замечания, не капризничает, не критикует, не требует завтрак, обед и ужин, не ревнует и не устраивает сцен. Красота! А тут и бизнес пошел. Начинала, как все, с Лужников, а потом раскрутилась, развернулась и не пошла – побежала. А через пару лет вместо холодного, продувного, на самом ветру, павильончика с прилавком из металлического листа стала хозяйкой магазина элитных шуб в очень известном и недешевом торговом центре в самом сердце Москвы.
Из лужниковского наследия остались мучительный хронический цистит и не менее мучительный гайморит, но с этим как-то справлялась – теперь в ее магазине было тепло, светло и очень красиво. Денег на интерьер не пожалела. Внутреннее убранство – лицо торговой точки. Нежно-кремовые стены, вставки из итальянских, немыслимо дорогих черно-серебристых обоев, люстры с подвесками из черного хрусталя, свет от которых слепил и играл как алмазы. Стильный черный ковер, кожаный персиковый диван под цвет стен. Возле дивана журнальный столик с каталогами меховых изделий, ваза с конфетами – хорошими, шоколадными, известных московских фабрик. Имелись и кофемашина, и приличный сервиз, а уж про кулер с водой нечего и говорить.
Все куплено в долг, который, казалось, был неподъемным, неотдаваемым. Но скоро Инга поняла – все она сделала правильно. На красивую, умную и интеллигентную хозяйку, на хороший кофе с хорошими конфетами, на красивый интерьер сбегались люди. Причем люди небедные, люди, желающие комфорта и уважения.
И наплевать, что такие же шубы, жакеты, манто, шарфы и горжетки на третьем этаже были дешевле – во-первых, туда еще надо дойти, а во-вторых, хотелось себя чувствовать человеком и обслуживаться у милейшей и культурной Инги, а не у какой-то хамоватой тетки.
Что работает лучше всего? Правильно, сарафанное радио. Меха покупают нечасто, надолго, иногда навсегда.
Инга давала хорошие скидки и делала милые подарочки в виде фигурного бельгийского шоколада или шелковых, на шею под меховой воротник, платочков. Ерунда, а приятно. И пусть шоколадки стоили сущую ерунду, а платочки она закупила оптом и за копейки, как говорится, доброе слово и внимание никто не отменял.
Инга была так увлечена бизнесом, что про мужчин и не думала. К тому же человек, вкусивший свободу, вряд ли захочет обратно на цепь.
Но тут появился Дидумас. Отказываться от такого подарка? Нет, она не идиотка. Да и она влюбилась.
Казалось бы, все сошлось, сложилось – ее любовь и прекрасный, влюбленный в нее и щедрый мужчина, чудесная, теплая страна, семья, где к ней отнеслись если не с любовью и нескрываемой радостью, то точно с уважением. Ни сплетен, ни слухов, ни осуждения, ни мерзкого шепотка за спиной Инга не слышала – авторитет Дидумаса, старшего сына, был в семье абсолютным.
Конечно, Инга понимала, что ей тут не рады – еще бы! Кто эта малопонятная немолодая русская женщина, да еще и бизнес-леди? Все слышали про кровавые разборки и перестрелки, про рэкет, все знали, что бизнес в России под криминалом. Выходит, и их невестка замешана? Выходит, и она общается с бандитами?
Выходит. Инге было смешно, когда ее спросила об этом золовка, сестра Дидумаса.
– Видела ли ты бандитов, дорогая? – с глазами, полными ужаса, спросила та.
«Какие же вы наивные, – подумала Инга. – Думаете, нынешние бандиты – это что-то вроде пиратов с деревянной ногой, черной повязкой на глазу, пистолетом за поясом и алчным, прищуренным взглядом? Эх, мои же вы простодушные и неискушенные! Нынешнего бандита вряд ли бы вы отличили от успешного бизнесмена, у которого красавица-жена и дети в заграничных колледжах и университетах. Плюс загородный дом с итальянской мебелью, дорогая машина и брендовые шмотки. Нынешний бандит тщательно выбрит, пахнет хорошим одеколоном, ходит в театры и престижные рестораны. И разговаривает, кстати, без матюгов. Это вам не девяностые, милые вы мои, мои вы наивные. Понятно, что все бизнесы, а уж тем более торговля, крышуются. Но вам об этом лучше не знать. К чему тревожить ваши сладкие сны?
И никаких разборок, о которых вы слышали, давно нет. А есть сумма, которую ты… Ой, ну ладно. Зачем вам это? Вы же чисты, как дети. Не беспокойтесь, все давно поделено, распределено, все давно порешали. Ладно, хватит. Ей-богу, ничего интересного".
Ингу в семье мужа не то чтобы побаивались – ее немножко остерегались. Что ж, непонятного всегда остерегаются. И еще она чувствовала свой возраст. Вроде еще молодая, а все уже как-то не так…
Как она раньше любила тусовки! Гостей, шумные компании, подружек до рассвета! Бары среди ночи, клубы с грохочущей музыкой! Все было тогда нипочем… А сейчас, к сорока, захотелось покоя. Как говорится, тихого семейного счастья. Вечеров у камина, шезлонга у бассейна, прогулки по тихим улочкам, книжечки на ночь. И еще – тишины.
Как ни держись, как ни храбрись, а она понимала, как сильно устала – выживать, карабкаться, вздрагивать по ночам, бояться, что отожмут бизнес. В России это часто бывает. Сегодня пан, а завтра пропал, от сумы и от тюрьмы не зарекаются. Без ума торговать – суму нажить. Не зря ведь такие пословицы… Все на ее родине неустойчиво и все ненадежно – сегодня есть, а завтра нет. Человек предполагает, а бог располагает.
Разве наивные люди, ее новые родственники, могут это понять? Они, чьи предки, далекие пра-пра, создали этот бизнес, и до сих пор, спустя больше ста лет, он всегда переходит по наследству и по-прежнему принадлежит их семье?
Конечно, ей приходилось держаться. Быть бодрой, оживленной, готовой к любым приключениям, улыбаться гостям, удивлять их русскими блюдами, хорошо и молодо выглядеть, чтобы соответствовать молодому красавцу-мужу.
Но как же все надоело – и бизнес, и шумная, грохочущая Москва, и бесконечные пробки, и непроходящая усталость, и даже клиентки… И вечно хмурое серое небо, и озабоченный, малолюбезный народ.
И на родине мужа тоже все надоело. Даже вечное солнце и море. И улыбки во весь рот, и громкие, слишком громкие приветствия. И запах плавящегося асфальта, и вечный запах барбекю и жареной рыбы.
Иногда думала: к чему все это? Зачем она согласилась?
Да нет, было все замечательно: любовь, секс, пылко влюбленный красавец-мужчина. Муж. Были деньги, улыбки и одно сплошное дружелюбие. Она могла быть спокойна за свое будущее – она замужем за обеспеченным человеком.
Да, все было в порядке! Просто она очень устала. Придет в себя, отдохнет, привыкнет к жаркой стране и ее обычаям, полюбит все это – иначе нельзя. Конечно, полюбит – хорошее полюбить совсем просто!
Кстати, за московский бизнес Инга была спокойна – в Вере она не ошиблась. Бизнес развивался, Вера приезжала в Грецию, отбирала товар и, невзирая на сложности и проблемы, деньги переводила в срок, прилагая полнейшую отчетность, иначе это была бы не Вера.
Вера в Греции не задерживалась, приезжала накоротко и исключительно по делу, пыталась отбиться от проживания в доме Ламбракисов: «Бизнес есть бизнес, вы и так столько для меня делаете». Но ни Дидумас, ни Инга не соглашались: «Еще чего! Огромный дом, а тебе в нем нет места?»
Оформив все сделки, ехали путешествовать – Болгария, Македония, Турция. Вере нравилась греческая еда – мусака, стифадо, клефтико. Инга же скучала по соленым огурцам, моченым яблокам, докторской колбасе, кислым щам и бородинскому хлебу. Хлеб и соленые огурцы Вера, конечно же, привозила, но разве дело в огурцах и хлебе? Вера видела, что Инга тоскует.
«Странные мы люди, – думала Вера. – Казалось бы, Инге выпал чудесный, просто волшебный шанс быть счастливой, такое выпадает немногим. Дидумас хороший человек и очень ее любит. Про дом, деньги, машины и просто возможности говорить смешно – всего в избытке. А счастливой Инга не выглядит. Потухшие глаза, вымученная улыбка – чего не хватает любимой подруге? Как хочется спросить! Хочется, а неловко. Никогда они не пускались в подобные откровения. Никогда. Вроде и близкие люди, вроде и доверяют друг другу, а самым сокровенным не делились. Правильно, говорила Инга, – мы с тобой не женщины, а роботы, машины. Женщины в нас давно кончились. Чистая правда. Про Веру точно. Что она знает кроме работы? А самое главное – ничего знать не хочет.
Но при чем здесь Инга? У нее же все хорошо.
Инга погибла через три года. Разбилась на машине. Точнее – Ингина машина слетела в ущелье. Говорили, что отказали тормоза. Чушь, в это Вера не верила – как могут отказать тормоза в прекрасной новой немецкой машине?
Дидумас был черным от горя.
Стоя у закрытого гроба подруги, Вера вспомнила ее слова: «Знаешь, Вер, мне кажется, что я живу чужой жизнью. Как будто я заняла чье-то место. Ты меня понимаешь?»
После похорон Вера улетела в Москву. Что теперь будет? Боже, о чем она думает! Какой невыносимый стыд думать о себе!
Но человек так устроен. Куда она теперь? Опять на улицу, опять все по новой? Конечно, деньги у нее есть, все эти годы она откладывала. Но что делать, чем заниматься?
Решила так – будь что будет. В конце концов, не пропадет. Квартира есть, машина тоже. Проживет. А там что-нибудь да придумает, с ее-то опытом и разумностью!
Вот ведь правда – человек предполагает, а бог располагает. Инга часто повторяла эту поговорку. Инга… Такая молодая и такая счастливая! Инга, как ты могла? Или все-таки авария, случайность?
Никто теперь не узнает.
И еще, Инга. Спасибо за то, что ты была в моей жизни. Спасибо, что встретилась. Что ты меня всему научила. Спасибо за твое доверие, за дружбу и за все остальное. Да и вообще – если бы не ты, Ингуша…
Через полгода Дидумас предложил Вере выкупить магазин. Цена была более чем щадящая. Денег почти хватило. Часть отдала, часть в рассрочку. Конечно, изменились условия поставок. Но все равно они были не просто хорошими, они были сказочными. А через несколько лет Веру стали называть Королевой мехов, Царицей мехов и Императрицей мехов. Сеть магазинов по всей стране, собственное ателье, где можно было сшить шубу на заказ и просто переделать, прокат меховых изделий, хранилище-холодильник. Словом, успешная дама, селфмейд-вумен, девушка из провинции, достигшая вершин бизнеса. За интервью с ней стояли в очереди лучшие глянцевые журналы. Веру приглашали на важные мероприятия и на телевидение. У нее были личный водитель, секретарь и помощник. Вернее, помощница – Татьяна, подарок, находка, гарант Вериного спокойствия. Наверное, так же когда-то про Веру думала Инга.
* * *
Историю с предательством Вадима Таня пережила. Но с тех пор в серьезные отношения вступать не хотела – боялась.
Квартиру, доставшуюся ей после смерти Нины Васильевны, отремонтировала своими силами, побелила, покрасила, поклеила свежие обои. Не «ах», но жить можно. К тому же не выселки, а практически центр, о чем еще можно мечтать?
Она и не мечтала – жизнь текла так, как текла. Тихая, почти пенсионерская жизнь – дом, работа, по выходным кино или прогулка в Сокольниках. Книги, вязание – оно ее успокаивало.
И еще одиночество. Слезы и жалость к себе: ну почему у нее так получилось? Не слишком ли дорогую цену она заплатила за это? А может, надо было наплевать на Ниночку: конец один, да и что говорить, пожила старушка немало. Может, надо было остаться с Вадимом, выйти замуж, родить ребенка и жить жизнью обычной нормальной женщины? А она все профукала.
Ниночка, обязательства, столько лет – и все бросить? Таня приличный, честный и ответственный человек, она не предатель. Она просто дура. А раз дура – так и сиди тут одна, вяжи свои шарфики, смотри бразильские сериалы, попивай чаек со сладкими булочками, набирай вес, носи свои старые юбки и скучные кофты, закручивай на затылке дурацкий старушечий пучок, надевай на нос жуткие очки, сплетничай с тетками из булочной – в общем, превращайся в обычный синий чулок, в старую деву. Впрочем, ты уже в нее превратилась, даром что молодая. И вся твоя жизнь, дорогая Таня, расписана и предсказуема до мелочей – так все и будет. Та же (или другая, какая разница) булочная, те же туфли со стоптанными каблуками, та же сумка с потертыми ручками, самовязанные варежки из лежалой Ниночкиной шерсти, те же булочки с маком, те же сериалы про страстную любовь и предательство – ах, как все похоже! Те же выцветшие обои и старый Ниночкин холодильник. Все будет так же, без изменений, только ты, Таня, будешь стареть. Стареть и дряхлеть, бормотать про болячки, ходить в поликлинику, ворчать по поводу цен, полнеть, седеть и покрываться морщинами. И, глядя в старое, мутное бабкино зеркало, будешь себя ненавидеть. Ах, как же ты будешь себя ненавидеть, как проклинать, как презирать себя! Потому что ты, Таня, упустила шанс. Сама, по собственной воле. Потому что порядочная. Да, Танечка? Но порядочность не всегда сочетается со счастьем, разве не так? Всем хочется оставаться порядочными, не тебе одной, Таня! Все хотят дружить со своей совестью, но… Иногда жизнь ставит в другие условия, предлагает выбирать. И человек всегда выбирает себя. Если, конечно, он не дурак. И наплевать на совесть и честь, наплевать на жалость и обещания. Своя жизнь дороже всего. И свое счастье только в собственных руках.
Разве ты, Таня, можешь быть уверена, что твоя замечательная Ниночка, твоя Нина Васильевна, не предала бы тебя, будь ей это выгодно? Ну, например, не заменила бы тебя на другую сиделку, более покладистую и спокойную? И не переписала бы завещание?
Чего ты боялась? Больной совести или остаться без квартиры? С совестью ты бы справилась. А что до квартиры – так у тебя бы была квартира, двухкомнатная Вадима, с видом на Останкинский парк. Отличная, надо сказать, квартира, комнаты по пятнадцать и кухня десять квадратов. Но все, Таня, все. Ты все профукала.
Вот к чему привели твоя порядочность, честность и благородство. А теперь живи так, как получится. Впрочем, получится у тебя плохо. Скучно и серо, но как уж есть. Как говорил Вадим, в первую очередь надо думать о себе, только идиоты думают о других. Ну вот и сиди, идиотка. И наслаждайся своим наследством.
К ней уже не обращались «девушка» – к ней обращались «гражданочка», «женщина» или «тетенька».
Как быстро, почти мгновенно, из молодой и симпатичной девушки она превратилась в обычную зачуханную тетку? Как так получилось? Как она допустила это, как не заметила?
Надо срочно менять прическу, одежду. Худеть, наконец! Надо срочно менять работу. Да что там работу – жизнь.
Но эта самая жизнь, как всегда, оказалась мудрее нас. Все, что могла, Таня сделала: перестала есть сдобные булочки, на обед и ужин строгала капусту, морковь и свеклу. Остригла волосы, купила очки в модной современной оправе, надела джинсы, накрасила глаза. Так изменилась, что на работе ее не узнали. «Ой, Танька, неужели мужик появился?» – охали женщины. Господи, при чем тут мужик? Таня искала себя. И вот результат ее достижений – она перестала шугаться зеркал и ее перестали называть тетенькой и гражданкой. Успех.
Знакомство с Верой было случайным – та сломала каблук. Бежала куда-то, споткнулась – и нате вам: авария. Чертовы каблуки, чертовы босоножки! От отчаяния и злости Вера заплакала.
Таня шла мимо. Увидев плачущую молодую женщину, остановилась:
– Ой, как же вы так! Я могу вам помочь?
– Интересно, – раздраженно ответила Вера, – чем вы мне можете помочь? Снять с себя туфли и отдать мне? Хотя нет, можете! Пожалуйста, поймайте машину! Вам не сложно? Я даже до угла не доковыляю, а здесь никто не остановится.
– Конечно, поймаю, – улыбнулась Таня. – Но и туфлями могу поделиться. – И Таня потрясла пакетом, в котором лежали только что купленные новые туфли. – Может, они так себе, но, по крайней мере, с целыми каблуками. – Она вытащила коробку с туфлями из пакета.
Обычные бежевые лодочки, вполне себе ничего, быстро оценила Вера и с сомнением спросила:
– А размер? И вообще как-то неловко… Но я вам все компенсирую, вы не волнуйтесь! По виду тридцать восьмой, я права?
– Ух ты, – удивилась Таня. – Да у вас глаз-алмаз! Да, тридцать восьмой! А вы примерьте.
Туфли подошли. Обрадованная Вера благодарила неожиданную знакомую и оправдывалась, что торопится на очень важную встречу. Таня успокаивала ее, повторяя, что это всего лишь туфли, к тому же совсем недорогие, и вообще не о чем говорить. Они обменялись телефонами и разбежались по своим делам – Вера схватила такси, а Таня, купив мороженое, двинулась к дому. Торопиться ей было некуда.
На следующий день Вера стояла у двери Таниной квартиры. В ее руках были коробка с новыми итальянскими туфлями – не чета Таниным бежевым китайским, купленным на толкучке, – коробка с пирожными, бутылка шампанского и букет.
Таня растерянно бормотала:
– Зачем вы, господи! Вообще не о чем говорить. Ой, мне так неловко, что вы!
Конечно, выпили шампанского и съели пирожные – таких вкусных, легких и необычных Таня еще не ела. Потом пили кофе – как хорошо, что Таня купила свежие зерна, – и без конца говорили о жизни. У них оказалось много общего – обе провинциалки, обе с несладким детством, обе одиночки, обе пережили предательство. Только у Веры все начало складываться, а у Тани по-прежнему было не очень.
– Ты сделала то, что почти никто бы не сделал, – строго сказала Вера, оборвав Танины причитания по поводу их первой встречи. – Для тебя это долгожданная покупка, ты копила на туфли, мечтала их надеть. И, ни минуты – ни минуты! – не раздумывая и не колеблясь, отдала их совершенно незнакомому человеку. А вдруг я аферистка или воровка? Вдруг дала не свой телефон? Вдруг бы не появилась?
Таня смеялась и махала рукой:
– И что? Да брось, Вер! Тоже мне, подвиг! Да и потерю эту я бы пережила. Куда больше теряла. Подумаешь, туфли!
– Подвиг, – сурово повторила Вера. – И еще подтверждение, что на тебя можно рассчитывать. А это, знаешь ли, не просто много, а очень много!
Через неделю Таня работала в меховом магазине. Кем? Да всем, как Вера когда-то. Вникала в бухгалтерию, осваивала работу на складе, стояла за прилавком.
– Ты должна разбираться во всем, – твердила Вера, – и все уметь! И вымыть полы, и составить отчет для налоговой, и разбираться в товаре, и выстраивать отношения с сотрудниками. В общем всё, ты меня поняла?
Таня работы не боялась. И понимала, что со временем во всем разберется. Главное – не подвести Веру.
И Вера в ней не ошиблась – она понимала в людях. Научилась. Да и учителя были хорошие.
Со временем их роли определились: Вера – владелица и генеральный директор. Татьяна – коммерческий директор и все остальное. Веру побаивались и со всеми вопросами бежали к Татьяне. Та никого не подставит и не заложит, разрулит проблему, уладит с хозяйкой, помирит поссорившихся.
Но если поймает на чем-то плохом – пощады не жди. Татьяна Сергеевна покрывать никого не будет. Главное – интересы компании. И, разумеется, Веры Павловны, ее хозяйки.
Отдыхать ездили втроем: Вера, Таня и Галина Ивановна. Номера, разумеется, были разные, а вот в рестораны, в магазины и на экскурсии только вместе.
Татьяна, с ее природным тактом и тонкой душой, остро чувствовала, когда Вере было необходимо уединение.
Словом, им было комфортно друг с другом, они понимали друг друга без слов.
Вера была молчуньей, да и Татьяна не из болтушек. Отсутствие раздражения – самый главный фактор для взаимного существования. И еще строгий кодекс – уважение к личному пространству, и они его соблюдали. Татьяна всегда помнила, что Вера – главная во всем. Но это ее не угнетало, в ней не было амбиций, честолюбия и тщеславия, зато было четкое понимание, что есть ведущие и ведомые, да и все про себя она знала: она – ведомая. Исполнитель. И это ее совсем не напрягает, даже наоборот, вполне устраивает. Куда ей на пьедестал – эта роль не для нее.
Конечно, были мелкие недовольства друг другом, обиды и непонимание. Но Татьяна все смягчала, микшировала, как говорила Вера: «Тань, ты у нас великий дипломат! Куда там Голде Меир и Коллонтай! Мне бы твое терпение и толерантность». – «Каждому свое, – смеялась Татьяна. – А мне бы твои лидерские и организаторские качества! – И тут же поправлялась: – Ой, нет! Меня все устраивает и главной я быть не хочу!»
А вот в личной жизни, если таковая вообще имелась, все у Татьяны и Веры было не ах.
Несколько лет у Татьяны тянулся роман с неким Вячеславом Владимировичем, бывшим военным, а теперь начальником службы безопасности банка, где
© Метлицкая М., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
С видом на Нескучный
– Мам! – сорвалась Вера. – Ты меня совсем не слышишь?
– Я-то тебя слышу, доча. А вот ты меня нет.
Вера с безнадежным отчаянием посмотрела на мать. Бесполезно. Мать упряма как осел. Уж если что-то вобьет в голову – не отступится. Такой характер. Вера, кстати, в нее. Ну что делать? Как донести до нее, что то, чего она требует – ну ладно, просит, – невозможно? Хотя нет, все-таки требует.
Тактика у Галюши такая – все начинается с намеков, грустных вздохов и жалобного поскрипывания. Не срабатывает – начинается вторая стадия. Вера называет ее «брать на измождение». Доковырять, доныть и наконец довести до нервного срыва, до состояния «да черт с тобой, лишь бы отстала!».
Правды ради, такое было всего несколько раз, и речь шла о том, что для Галины Ивановны было серьезным и жизненно важным.
Мать и дочь обожали друг друга и были одни на всем белом свете, но мнения их почти никогда не совпадали. Вера вредничала и противостояла, вернее пыталась противостоять, но, как правило, побеждала мама, Галина Ивановна. И почти всегда мама оказывалась права.
Предмет нынешнего спора и противостояния, по мнению Веры, был пустяковым, а вот по мнению мамы – куда как серьезным. В не к ночи помянутом родном городе (ха-ха, городе! Помоечном городишке, который Вера ненавидела всем сердцем и всю жизнь старалась забыть. Как и их жизнь в этом чертовом Мухосранске) у них, точнее у мамы, оставалась квартира, полученная от комбината. Эту квартиру мама ждала лет двадцать. Слово «квартира» произносилось с придыханием, негромко, словно говорилось о чем-то сакральном. «Мы на очереди», «нам выделили», «нам выдали», «мы получили». Маленькая Вера отлично помнила и слово «смотровой». Смысл его она не понимала, но чувствовала, что это что-то важное, бесценное, самое дорогое.
Тридцать лет пахоты на комбинате, утерянное здоровье, больные сердце и ноги, астма, заработанная на производстве, тяготы жизни в щелястом бараке, не меньшие тяготы в выделенной спустя девять лет ударной работы комнатушке в перенаселенной коммуналке, и слезы, слезы, слезы. Много лет слезы горя, а потом радости – как же, дождалась, заслужила.
Как мама радовалась квартирке, как плакала от счастья! «Дочь, свое жилье, собственное, отдельное!»
Отдельное, да. И собственное. Хотя поначалу не собственное, служебное, выданное от предприятия. Это потом, в перестройку, Горбачев разрешил приватизацию. Понятно, что из этого дерьма их никто не выселил бы и без приватизации, но когда мама получила гербовую о собственности… Тогда началось – лучше не вспоминать. Она целовала эту бумажку, гладила, любовалась. Это ж как надо было воспитать этих людей, что вбить в их несчастные головы, как убедить, что все это не честно заслуженное и сто лет как отработанное, а подарок, бесценный подарок, незаслуженный приз? А как мама гордилась! Квартиру-то выдали ей, ударнице коммунистического труда, бригадиру восьмой бригады, члену профсоюза.
Когда Вера перевозила маму в Москву, та рыдала как на поминках – прощалась с квартирой. Вера пыталась Галюшу уговорить продать эту квартиренку тогда же – ну зачем оплачивать коммуналку, зачем думать о том, что точно не пригодится? Было же очевидно, что мама, а уж тем более Вера туда не вернутся. Ну как же, сейчас! Продавать квартиру мама решительно отказалась – еще чего. «Не ты заработала – не тебе решать! Ишь, важная стала, решительная! Бизнесменша, подишь ты! Верка, сиди и помалкивай. Ты у себя на работе начальница, а надо мной – нет. Пусть хоть и маленькое, плохонькое, а мое. А вдруг чего? Ну вдруг, а? Вдруг что случится? Это у вас, молодых, память короткая. Какое «вдруг», говоришь? Да любое! Не верю я никому. Жизнь научила. Да мало ли? И все, разговоры закрыты!»
Вера тогда посмеялась: «Да бога ради, мне-то что!» Но неужели мама не понимает, что в этот, будь он неладен, родной город они не вернутся? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Подыхать будут, а не вернутся. Да и зачем подыхать? У них все прекрасно! А будет еще круче. Вера знает, Вера уверена в себе. Дела идут у нее отлично. И никакого «вдруг и мало ли что» в их жизни больше не будет. Хорош. Хватит с них и «вдруг», и «мало ли». Свое дерьмо и горести они съели и выпили до самого донышка. И она, и мама.
В общем, спорить не стала: «Хочешь, чтобы квартира осталась? Пожалуйста! Да и кому нужны эти деньги, смешно! Сколько может стоить двухкомнатная квартирка в городе Энске, за триста верст от столицы, с давно закрытым камвольным комбинатом – единственным, между прочим, местом, где можно было работать и хоть как-то зарабатывать. Крошечная двушка, с советскими выцветшими обоями в желтый цветочек, с урчащим, с коричневой ржавой дорожкой унитазом, треснутой раковиной, стертым линолеумом, разбухшими деревянными оконными рамами и старой самодельной кухонной мебелью, когда-то сколоченной папашей? О господи, какая немыслимая тоска!» Вера поежилась и передернула плечами – брррр!
Все, забыли. А зря – даст Галюша забыть! И, если честно, Веру достали ежедневные разговоры про продажу. Не прошло и ста лет, и Галюша созрела. А раз созрела – вынь да положь. Езжай и продавай, «тем более что ты, Вера, владелица!».
«Владелица… Смешная ты, мамуль! Я, мам, владелица, ага, владелица заводов, газет, пароходов и еще собственности в Энске. Только мне хватает и без газет и заводов – ты знаешь, мам, я не алчная. И хлопот у меня до фига, и проблем. Справиться бы! И никакой я, мамуль, не олигарх, как ты любишь подколоть. И не бизнесменша, а бизнесвумен, это я тебе объясняла. Но ты же упрямая, мам! Заладила – «олигархша» и «бизнесменша», а я и спорить перестала, назови хоть горшком, только в печь не ставь. Хватит с нас, мама, печей. Я, мамуль, просто успешная и небедная женщина, вот как-то так. Я тебя разочаровала? Ты хочешь дочь-олигарха? Но нет, увы, до олигарха я не дотягиваю. И очень этому рада. Нам же хватает, правда, мамуль? На все нам с тобой хватает. Да разве даже в самых сладких, в самых приторных и невозможных снах могли мы мечтать, что все у нас будет? Не, мамуль, не могли. Фантазии бы не хватило. Ты меня редко хвалишь. Ну и ладно, я все про себя знаю и сама себя хвалю. Молодец, говорю, Верка! Умница! Во развернулась! В пот шибает от гордости. Ай да Верка Кошелева, дочка Гальки Кошелевой, бригадирши с камвольного! Верка с разбитыми коленками, с пегой косицей, растрепанная, конопатая, курносая. В блеклом, да что там – страшном, – сарафане, перешитом из бабкиного халата. Верка, в сношенных коричневых сандалиях, страшных, как бабкина, по ее же словам, жизнь. Верка Кошелева, мечтающая о трех эклерах, когда на один не всегда хватало. Копила. Об эластической – бабкина интерпретация – водолазке, бьющей острыми искрами, когда тянешь ее через голову. Верка, мечтающая увидеть Ленинград». В Москве была с классом, правда, коротко и бестолково. Так почти ничего и не увидели. Сходили в Мавзолей с желтой мумией – ребята ржали, а училка, Клавдия Степановна, по прозвищу Конь, потому что топала по коридорам железными набойками, как настоящий коняка, плакала и сморкалась в платочек. Еще посмотрели Красную площадь, Лобное место, пряничный игрушечный собор Василия Блаженного с разноцветными главками, в ГУМе поели мороженого – вкусно, хотелось второго, но их увели. Калининский проспект посмотрели, здание СЭВ – да, красиво!.. Правда, в Планетарии были – вот где красота! Верка закинула голову и еле сдержалась, чтобы не пустить от восторга слезу – планеты, луна, звездное небо! Ничего красивее она не видела. В горле чесалось, но заплакать себе не позволила – она же не Клавка-конь. Вот еще – хлюпать носом! Вера гордая и сильная, по крайней мере, так думают одноклассники.
Кошелева защищает слабых и за всех вступается. Она борец за справедливость, и ей доверяют. А она будет хлюпать носом? Нет, никогда.
Москву вроде видела и не видела – так, обзорно. А театры, Третьяковскую галерею? И зачем их повели в Мавзолей? Зачем потеряли кучу времени в этой гробнице? Будь ее воля – ни в жизнь бы туда не пошла, покойников она навидалась.
А про Ленинград и говорить нечего – там вообще сказка. Вера и фильмы смотрела, и фотографии видела. Северная Венеция… Вот есть же на свете везучие люди – москвичи, ленинградцы, те, кто там родился. А Вера родилась в вонючем Энске.
Но даже тогда, на экскурсии, пятиклассница Вера Кошелева точно знала – из Энска она уедет. Окончит школу – и тю-тю, поминай как звали. Только бы поскорее! И даже мама ее не остановит. Только бы время летело побыстрее! Вот проснуться бы утром и – все, школа окончена! Выпускные сданы, форма на антресолях, билет в кармане, прощай, Энск. «А ты, мамуль, не реви – мы скоро увидимся! Не, мам, не здесь, и не надейся! В Москве, мам, в Москве! Мы, мам, будем столичные жители! Это я тебе обещаю, и ты меня знаешь! Только немножечко обожди… Ладно, мамуль?»
Немножечко… Ох, Верка! Какая же ты смешная! Смешная и глупая. Немножечко! Как обычно бывает, жизнь внесла свои коррективы.
– Мам, – проговорила Вера жалобным голосом, – скажи честно, ты от меня не отстанешь?
Галина Ивановна ответила честно:
– Не отстану, дочк. И не надейся.
Понятно. Значит, надо начинать действовать. Сколько могла – тянула, но теперь все, край, больше этого Вере не вынести. И так дел и проблем столько, что порой хочется выть. Но у мамы своя правда, и упрямство, и настырность, и настойчивость, и все через край, в полном объеме. Не отстанет.
С одной стороны, проблема пустяковая, не о чем говорить. Особенно в сравнении с остальными. Вот только времени совсем нет. Значит, поедет не Вера, а ее помощница и верный друг, которой она полностью доверяла. Ее Танюха. Татьяна была человеком надежным, проверенным временем, а главное – деньгами. Партнером она не была, съев пуд соли, от предложенного Верой партнерства отказалась навеки.
Она числилась коммерческим директором на постоянной зарплате, но зарплата была такой, что, еще сто раз предложи ей долю в бизнесе, наверняка бы отказалась.
Зачем ей бессонные ночи, нервные срывы и прочее?
Но, пусть Татьяна не имела доли в бизнесе, переживала она едва ли меньше хозяйки. Во-первых, таким верная Таня была человеком. А во-вторых, они с Верой дружили. К тому же Татьяна, как и Вера, была одинока, ни мужа, ни детей. Так сложилось. И Татьяна считала, что, встретив Веру, вытянула самую счастливую карту. Все у нее было: и хорошая квартира, и прекрасная машина, и тряпки из приличных магазинов, и путешествия – что еще надо одинокой женщине сорока восьми лет?
И любовники у Татьяны случались, вот только от серьезных романов она, как и Вера, бежала. Так нахлебалась, что вспоминать неохота. Привязанностей и обязательств Татьяна боялась, и здесь они с Верой совпали.
Татьяна занималась в компании, по сути, всем – и бухгалтерией, и принятием на работу, и увольнениями. И разрешением конфликтных ситуаций в коллективе. И поощрениями в виде коротких поездок всей «хиврой», как говорила Вера, и подарками к праздникам. И сопли вытирала брошенным девицам, и одалживала деньги. Веру боялись, а Татьяну нет. Хоть и делала строгое лицо, но все знали: Танечка – человек!
Вера напоминала себе, что есть тончайшая грань между дружбой и службой. Общаться – да, а вот дружить взахлеб, доверяя друг другу сердечные тайны, не стоит. Держалась несколько лет, а потом прорвало, так получилось. Выпила и рассказала. А наутро испугалась – что наделала? Теперь все псу под хвост, сядет тихая Таня на шею. Неделю прятала от Татьяны глаза, а потом та пришла к ней и тихо сказала:
– Вер, жалеешь?
– О чем? – глухо спросила Вера, делая вид, что не поняла. – О чем, Тань, жалею?
– Не думай об этом, Веруша, – продолжила Татьяна, – не переживай. Я столько всего повидала. Жизнь научила ценить, что имею, а это главное. Ты мне, Вер, как сестра. Но работа есть работа. Отодвинешь меня – не обижусь. Пойму. Ты столько лет все это строила, столько вложила! Нет, Веруша. Подвоха не жди. Все остается как было: ты – хозяйка, я – наемный работник. Не справлюсь – уволишь. Все остается по-прежнему. Вер, ты меня поняла?
– Не очень понимаю, о чем ты, – кашлянув от волнения, ответила Вера. – Иди, Тань. Дел навалом. И не забудь про завтрашние переговоры.
Было неловко. Ах, как было неловко! Вот что ей, дуре, вошло в голову? Что Таня будет ее шантажировать? Что попросит поднять зарплату? Что расскажет сотрудникам то, чем с ней поделилась Вера? Чушь, ерунда! Стыдно плохо думать о людях! Стыдно, Вера Павловна! А уж тем более про Танюшку! В общем, все оставалось как прежде: вместе ходили в театры, ездили по миру, шлялись по магазинам, и лучшей спутницы, чем Татьяна, было не найти. Уж какой Вера была одиночкой, уж как уставала от людей, уж как сторонилась привязанностей, а от Татьяны не уставала никогда.
Та была сдержанна, ненавязчива и не болтлива. Впечатления держала при себе. Спросят – ответит. Не спросят – промолчит. Но самое главное – Татьяна была кристально честна. Вера не любила вспоминать, какие проверки прошла Татьяна. Противно. Противно, а необходимо – как доверять незнакомому человеку? В общем, идеальная спутница и идеальный работник. Вера ценила, что Татьяна не зарывалась – никогда не просила надбавок к зарплате, даже когда Вера платила копейки.
Утром решила окончательно: в Энск поедет Танюшка. Ей, Вере, это не под силу.
– Тань! – позвонила Вера. – Можешь зайти?
Татьяна появилась через минуту.
– Сядь, – устало кивнула Вера, – чаю выпьем? Тоже не хочешь? Ну да, и я отекаю… Ох, ничего удивительного – сколько мы за день выхлестываем кофе и чая? Слушай, Тань, – Вера запнулась, – дело дурацкое, плевое, а без тебя не справлюсь. Галюша достала.
С серьезным лицом Татьяна кивнула:
– Проси, чего душеньке угодно!
– Если бы душеньке! – усмехнулась Вера. – Так нет, не ей. Другой душеньке, нашей драгоценной Галине Ивановне! В общем, Тань, собственница сказочных хором Вера Павловна Кошелева дает генеральную доверенность Татьяне Владимировне Николаенко. С коей госпожа Николаенко отправляется в город Энск и занимается дай бог пару, не больше, недель продажей апартаментов. За ценой, понятное дело, не стоим, демпингуем и сбрасываем ее за минимум, за сколько возьмут. Только бы побыстрее.
– Вер, – жалобно проговорила Татьяна. – Ты забыла? Я ж в понедельник в больницу. Прости.
– Это ты, Тань, прости, – расстроилась Вера. – Господи, ну как я могла забыть, как? Даже в ежедневник не записала, была уверена, что не забуду. Ну да, в этот понедельник! Ой, Тань! Мне так стыдно…
Татьяна принялась ее успокаивать:
– Брось, Вер, а то я не понимаю! Последние две недели были такими, что ничего в голове не удержишь. А если через месяц? Ну или недели через три? Врачи говорят, что раньше не оклемаюсь.
– Не, Танюшка, не пойдет. Через какой месяц, через какие три недели? Ты что! Разве тебе будет под силу? Нет, дорогая, ты точно нет. Но Галюня взяла за горло. А ты ее знаешь. В общем, надо вопрос закрывать, не отвяжется. И слушать ничего не желает – езжай и продавай! Тань, я бы эти пятнадцать тысяч долларов ей просто отдала, без всякой продажи! Но Галя держит руку на пульсе – созванивается с бывшими соседками. Не скроешь и не соврешь. И знаешь, что она так активизировалась? Бывшая соседка ей сказала, будут отбирать квартиры, в которых никто не живет. Ну как тебе, а? И главное – не переубедить, ни в какую не переубедить. Соседка главный эксперт по недвижимости и главный законник. «Отберут у тебя, Галька, квартиру, как есть отберут. Ну тебе-то что, ты у нас теперь богачка, у тебя дочь олигарх!»
Вера с Татьяной рассмеялись.
– Я говорю: мам, а с чего? – продолжила, отсмеявшись, Вера. – Покажи мне закон, где это написано! Вот никаких аргументов, а жить не дает! Вдруг, говорит, отнимут? Увидят, что мы не живем, и тю-тю? Или кавказцы заселятся, а потом их не выгонишь. Или того хуже – цыгане! Табор заедет – и все, прощай квартира. Ну ты, Тань, поняла. И соседки звонят и добавляют, пенсионерки, делать-то нечего, вот и верещат: «Ой, Галька, уведут твою жилплощадь!» Ладно, Танюш, – обреченно сказала Вера, – видимо, это судьба. Судьба меня тянет туда, в этот Энск. Никак не дает его забыть. Что делать, сгоняю. Только не на машине, дороги сейчас адовы, пятьдесят километров отъедешь от столицы – и все, кошмар. С водителем тоже не хочу. Размещать его, разговаривать, посвящать во все. И еще не хочу, чтобы кто-то видел, в каком говне я росла. Я дура, да, Тань? Не отвечай, сама знаю. Вот знаешь, – Вера помолчала, – столько лет я в Москве, казалось бы, сама себя сделала. Как говорится, через тернии к звездам. Сколько прошла – не мне тебе рассказывать. Вместе в окопах. Люблю этот город, привыкла к нему. Знаю неплохо. А вот москвичкой себя все равно не чувствую, представляешь? Все знаю, все переулки исходила, все дворы облазила. В музеях часами торчала, образовывалась. Хотела нагнать и перегнать, наивно думала, что получится. Где вы, московские девочки, умненькие, модные, самодовольные, уверенные в себе? Где вы, высокомерные, образованные, и где я, Вера Кошелева из города Энска? Вот именно. Их-то я победила. А вот себя… А вот себя вряд ли. Так и осталась в душе Веркой из Энска. Так и осталась. Наглой от комплексов, а не от уверенности. И высокомерной от комплексов. Вот такие, Танюша, дела.
Татьяна поднялась с кресла.
– Нормальные дела, Вера. Я тебя понимаю. Все наши комплексы из детства. Банально, но факт. Ну, я пошла? – У двери обернулась: – А может, все-таки меня подождешь?
Вера покачала головой:
– Нет, Тань. Завтра и двину, чтоб поскорее вернуться. К тебе в том числе! А то ты в больнице, а я буду болтаться незнамо где.
Татьяна пожала плечами. Начальник тут Вера. Не ей, подчиненной, указывать.
Билетов в СВ не было. Вера выкупила целиком двухместное купе.
Поезд уходил в три часа дня. Отлично, значит, завтра утром она и соберется – пара свитеров, запасная пара джинсов, резиновые сапожки и высокие теплые кроссовки. Ну и, разумеется, документы. Документы лежали в сейфе – на этом настояла Галина Ивановна. И смех, и грех – кому они нужны, эти документы на собственность?
В поезде было жарко, и Вера сняла свитер и сапоги. Выдали одноразовые тапки. Ну что ж, спасибо на этом.
Можно было и заказать еду – вагона-ресторана в составе не было, их, кажется, извели за ненадобностью. Еду привозили замороженную, в контейнерах, ну и вкус у нее был соответствующий. Никаких разогретых блюд Вера брать не стала. Заказала салат из овощей, сэндвич с моцареллой и булочки с корицей и еще попросила заварить крепкий настоящий черный чай:
– Надеюсь, такой имеется?
Проводница кивнула.
Через пятнадцать минут сытая Вера лежала на полке и читала покетбук знаменитой детективщицы. Какая она умница, что купила несколько книжек! Будет чем заняться длинными вечерами. Впрочем, отоспаться бы не мешало. Но это было несбыточной мечтой – отсыпалась Вера только десять дней в году, в отпуске, когда, наплевав на завтраки, спала до обеда. Эти десять дней были только ее. Ни Танюшу, ни маму она с собой не брала. Десять дней моря, тишины и одиночества. Это не развлечения, это необходимый релакс. А вот в путешествие ездили втроем: Вера, мама и Татьяна. Италия, Франция, Германия, Австрия – где они только не были! На отдыхе Вера не экономила, и останавливались они в прекрасных отелях, брали водителя и гида. А зачем тогда зарабатывать, если экономить на своих удовольствиях? И то, что она смогла обеспечить маме такую жизнь, было ее главной радостью и главной победой.
На ночь выпила граммов сто коньяку, для сна и вообще для расслабухи. Назавтра предстояла не самая приятная встреча. Встреча с прошлым, которое она ненавидела.
Вокзал в родном городке перестроили – сколько лет она тут не была? Даже считать неохота. Маму забрала, как только встала на ноги и появилась своя квартира, – везти в съемную не хотела. Забирала ее на машине, вернее на двух машинах. Багажники и салоны были забиты доверху – как Вера ни возмущалась, как ни скандалила, Галина Ивановна была непоколебима – два ковра, добытых с кровью по талонам, несколько кастрюль и сковородок: «Дочк, чугунная, еще свекровкина, ты чего! Картошка, жаренная на ней, – пальчики оближешь, Вер, ты забыла? Сейчас такую не купишь».
Забыла. Очень старалась забыть. Даже хорошее, не говоря о плохом. Правда, хорошего было с копейку.
Прихватила Галюня и хрусталь, дешевый, штампованный, какой же еще. Не оставила в Энске и дурацкий, с дешевой позолотой сервиз, подаренный на юбилей от комбината. С этим Вера не спорила – память. Хоть и забыть бы надо было этот комбинат как страшный сон. И постельное белье. «Как же, льняное, столько лет собирала!» Жесткое, колючее, неиспользованное Верино приданое.
И цветы в старых кадках: огромный, до потолка, фикус, обнаглевшая и разросшаяся традесканция, щучий хвост и герань. Куда без герани? Мама утверждала, что герань отгоняет мух.
Несколько раз Вера взрывалась и начинала орать. Галина Ивановна криком не отвечала, а, скорбно поджав губы, покорно опускала глаза: «Хорошо, дочк, оставлю. Только тогда и меня здесь оставь, вместе с моими дурацкими цветами. Я с тобой не поеду, ты, Вер, не сердись! Тут, – она обводила рукой собранные тюки с вещами, – вся моя жизнь, понимаешь? Что мне ее, забыть? Зачеркнуть, как не было? А она, Вер, была». – «Лучше бы зачеркнуть, – шипела Вера, – и лучше бы не было. Мам! Ты называешь все это жизнью? Какая же ты непробиваемая!» – «Уж какая есть, – поджимала губы Галина Ивановна. – Могу и тут остаться. Я в твою Москву не стремлюсь – ты меня тянешь. А мне, Вер, и тут хорошо».
Хорошо ей. У Веры падало сердце: «Ага, хорошо! Врагу не пожелаешь. Ладно, мам. Клади свои тряпки». А про себя добавляла: «Все равно потом выкину».
Как же, выкинула! Хрусталь и сервиз стояли в новой Галюниной квартире, в бабкиной чугунной сковородке, и вправду чудесной, к Вериному приходу жарилась картошечка, выходившая хрустящей, с зажаренной корочкой. Только с красными коврами на стенах Вера справилась, здесь стояла не на жизнь, а на смерть.
Квартиру для мамы Вера купила в своем же доме, повезло. Вера на девятом, в трехкомнатной, Галина Ивановна в двушке на втором. Разумеется, сделала хороший ремонт, купила итальянскую кухню и спальню, румынскую гостиную, мамину мечту: стулья с завитушками и гобеленовой обивкой. Люстры – хрусталь, но не тот, о котором мама мечтала, а европейский, горевший так, что хотелось зажмуриться. Памятный сервиз с золотыми вензелями стоял на переднем плане в витрине на гнутых ногах.
Вера не спорила. Галина Ивановна была счастлива, могла ли она мечтать о таких царских хоромах?
На рынок ездила с водителем, а в магазины ходила сама – развлечение. Тут же перезнакомилась с соседками и часами сидела на лавочке у подъезда. Публика в доме жила интеллигентная: жены военных высоких чинов, врачи, архитекторы. Жилье на Фрунзенской набережной во все годы, включая далекие советские, было престижным.
Первое время Галюня пыталась готовить и для Веры – заносила кастрюли борщей, тазики котлет, торты и пирожки. Вера скандалила и умоляла этого не делать – вечерами она есть отвыкла. Да и днем не всегда получалось. Есть время – сходят с Татьяной в кафе в соседнем доме, нет – секретарь что-то закажет доставкой. А бывало, что времени не было и на чашку кофе.
Но как бы ни раздражалась Вера на мать, как бы ни спорила с ней, как бы ни возвращала ее супы и котлеты, все равно была счастлива – мама рядом, и она спокойна, а все остальное – мелочи и ерунда.
Вера проснулась от деликатного стука в дверь. Проводница предложила завтрак. Вера заказала кофе и йогурт. На часах было шесть. Через сорок минут они прибывали.
За окном мелькали деревушки со знакомыми названиями. Все те же, все то же, почти ничего не изменилось. Кажется, вообще ничего не изменилось. Те же переезды, те же размытые дороги, тот же осевший черный снег. Те же покосившиеся домики под темными крышами, те же кривые заборы. Пожалуй, только магазинчики, обитые сайдингом, стали наряднее, и ассортимент в них другой. Да и внешне март не приукрашивал, март обнажал.
Вера отвернулась от окна и посмотрела на себя в зеркало. Видок еще тот, но приводить себя в порядок она точно не будет – много чести! Ее родина не заслужила.
Она вспомнила, как после своих первых удач приехала в Энск на купленной на собственные деньги машине. Когда это было? В другой жизни. Но впечатление тогда Вера Кошелева произвела. Ого-го как произвела, не пропала Верка в Москве, выжила!
А сейчас? Волосы, забранные в хвост, простой свитер, кроссовки. Короче, видок еще тот. Но как говорили в детстве – сойдет для сельской местности. А уж для города Энска тем паче.
Поезд замедлил ход, пару раз дернулся и резко остановился.
– Стоянка в Энске шесть минут, – заверещала проводница.
Шесть минут – ого! Какое уважение! Раньше, помнится, больше трех не стоял.
Вера вышла на перрон. Шел мелкий снег – даже не снег, так, подобие. Снег – это хлопья, или крупные резные снежинки, или нежный, невесомый небесный пух. А это не снег, а мартовские вредности.
Поежившись, Вера накинула капюшон и направилась к зданию вокзала.
Надо сказать, что и здесь, в здании вокзала, все изменилось.
На прилавке вокзального буфета стояли не бутерброды с подсохшим и скрученным сыром, а многослойные сэндвичи, обернутые в прозрачную пленку. И кофемашина, нормальная, профессиональная, которая и мелет, и варит, и наливает. И запах кофе витает над залом. Вера потянула носом, и ей захотелось кофе. «Нет, здесь не буду, – решила она, – выпью в отеле».
Широко зевнув, сонная буфетчица проводила ее равнодушным взглядом.
На площади стояли три машины.
Вера подошла к первой. Внутри, надвинув полысевшую меховую ушанку на глаза, спал водитель. Будить его она не стала и подошла ко второй. Окно открылось, и она увидела хитрую, похожую на кошачью, физиономию.
– Куда вам, барышня? – осведомился молодой водила.
«Барышня», – Вера развеселилась.
– В центр, сынок. В отель «Пилигрим», знаешь такой?
Парень смутился:
– А кто ж, уважаемая, его не знает? Он у нас, можно сказать, эээх! Самая крутизна!
Вера усмехнулась: «Ну да, крутизна, можно себе представить».
Бросая на пассажирку осторожные взгляды, словоохотливый парень говорил не прекращая:
– С Москвы? По делам или так, поразвлечься?
Тут Вера от души рассмеялась:
– Ну да, поразвлечься! Лучшего места для развлечения не найти! Что у вас тут – зона беспошлинной торговли, как в Андорре? А может, легальные казино? А Диснейленд вам, часом, не построили? Или обнаружились исторические места, важные реликвии, откопанный амфитеатр? Поразвлечься, ага. – Вера отвернулась, дав понять, что разговор окончен.
Но водиле было скучно. А главное, эта странная и резкая, совсем, как показалось на первый взгляд, немолодая тетка была ему, человеку опытному, непонятна.
Вроде и сапоги у нее дорогие, и дорожная сумка явно не из дешевых, и часы, а видок странный, покоцанный, смурной. А может, все подделка, с оптового рынка, поди отличи! А если и настоящее, то тем более странно – бледная какая-то, уставшая. И едет в «Пилигрим». Может, командировка? Вряд ли. Командировочные к ним давно не ездят. Что здесь ловить? Нечего, кроме раков и мелких щук, и те вернулись недавно, спустя лет десять, как закрыли градообразующее предприятие, по-местному – камволку, камвольный комбинат. Видать, очистилась река, и рыба вернулась.
– А вы бывали у нас раньше? Или впервые? – по-светски осведомился он.
– Слушай, парень! – Вера повернулась к нему всем корпусом. – Хватить трындеть. Хороший водитель – молчаливый водитель. Усек? Будешь молчать – найму тебя на разъезды, – смягчилась она. – Сколько пробуду в ваших краях – не знаю, надеюсь, что за несколько недель управлюсь. Платить буду нормально, не обижу. Но болтовня мне твоя не нужна! Короче, если принимаешь мои условия, по рукам. – И она посмотрела в окно: – Мы, кажется, подъезжаем?
Так и есть. На центральной площади, рядом с бывшим универмагом, стояло новое современное здание – гостиница «Пилигрим»: три этажа, стекло, широкое крыльцо, мраморные ступени, шикарная дверь, и – ну просто смех! – темнокожий швейцар в галунах и фуражке. Ох, насмешили. Ну почему мы всегда заимствуем глупости?
Надо же – и внутри все прилично: стойка ресепшен с живыми орхидеями, и тихая классическая музыка, и девица в белоснежной блузке, с минимумом косметики, скромным пучком, бесцветным лаком на ухоженных ногтях. Европа, куда там.
Темнокожий швейцар, он же бой, донес Верину сумку до номера. В номере, уютном и совершенно не пошлом, наличествовал прилично наполненный мини-бар, на тумбочке две бутылки воды, на тарелке два мандарина, банан и ярко-красное блестящее, словно восковое, яблоко.
В душе присутствовало то, что полагается: хорошие, вкусно пахнущие полотенца, одноразовая мочалка и баночки с шампунями, гелями и прочим.
«Умеете, когда хотите», – подумала Вера. Но все еще впереди. Никакого оптимизма она не испытывала. Вот только интересно – кто хозяин этого «Пилигрима»? Кто так серьезно вложился, а главное – понадеялся, что эта история окупится? Или просто отмывают наворованное? Скорее всего. Схема проста – владеет гостиницей мэр или губер, оформлена она наверняка на подставных, номера всегда пригодятся: вышестоящее начальство, коллеги с любовницами, банно-прачечные одноразовые девицы. Сауна в подвале, приличный ресторан, единственный приличный в городе. Там все и питаются – в смысле, сильные мира сего. И на приглашенного шефа не пожалели – куда девать бюджетные деньги? Вера бы не удивилась, узнав, что шеф итальянец или француз. Ну в крайнем случае с Балкан, но непременно со Средиземноморья. А как же, модно, а главное – кухня полезная.
Душ, чашка кофе, поиск риелтора и звонок другу, новому знакомцу Максу, водителю «реношки», – и вперед, Верпална, вперед и с песнями. Дела не ждут.
Через полтора часа посвежевшая и взбодрившаяся, в джинсах, свитере, темных очках, потому что в окно заглянуло вялое и бледное мартовское солнце, Вера стояла на улице. Лихо подъехал Макс на блестящей, вымытой и отполированной старушке «реношке».
Риелторское бюро – да-да, не контора, а именно бюро – находилось на соседней улице, но ехать надо было в объезд, раздолбанную дорогу в очередной раз чинили.
Вера смотрела в окно. Шумно стучала по подоконникам капель, набухали почки, а где-то осторожно, словно распеваясь перед концертом, пробовала голос ранняя весенняя птица, и сквозь темный осевший подтаявший снег проглядывала черная влажная земля.
Улица Механишина, первого директора камволки, по слухам, порядочного человека, улица Гоголя, переулок Талалихина. Вера все помнила.
Их улица называлась Светлая. Да уж, куда там! Громко и совершенно беспочвенно. Светлая! Ничего на ней не было светлого, ничего. И вела она, кстати, на городское кладбище – мило, правда? Спасибо, что не Светлый путь.
Новые дома, построенные для работников камволки, находились на самой окраине, в десяти минутах от нового же городского кладбища. Впрочем, старое было прямо за новым, поди различи.
На старом лежала бабка Зина, отцовская мать, а дед Корней упокоился на скромном деревенском погосте. Вера отчетливо помнила бабкины похороны, а вот дедовские нет. Корней умер летом, когда она была на даче с детским садом. Но самого деда помнила хорошо, хоть и умер он, когда ей было пять лет. Вернее, помнила его запах – дед пах махоркой, кожей и сапожным клеем, так как был он сапожником, а на пенсии обувь чинил на дому, приговаривая, что копеечка всегда пригодится. Мама говорила, что дед Корней был скупым, всю жизнь копил и гнобил жену за чрезмерную расточительность – какая уж там расточительность, когда в магазинах ничего не было?
Бабка Зина сноху не любила, а кто любит снох? Это было не принято. Да и к внучке относилась так себе, называя ее «панфиловским отродьем», по девичьей фамилии матери.
«Странное дело, – иногда думала Вера, – бабка Зина прожила тяжелую жизнь. Коллективизация, голод, тяжкий деревенский труд и неустроенный быт, трое детей, один умер в детстве, пьющий и жадный муж, а потом выпивающий старший сын, забитая бездетная дочь, ранняя вдова. И вот приходит в твой дом невестка, совсем девочка, робкая, неумелая, зато послушная, тихая и очень влюбленная в твоего сына. А ты ее заранее ненавидишь! За что? Нормальная девочка из обычной семьи. Трудяга, старательная, бегает, суетится, варит щи, жарит блины, стирает белье, все терпит, молчит, не огрызается. Тихо плачет, и ты, свекровь, это слышишь. И знаешь, что сын твой не сахар. И дочка твоя, золовка ее, жену брата ненавидит, потому что завидует. И родные ее далеко, за восемьдесят верст, к ним не наездишься, да и когда? Всю жизнь сноха твоя пашет на комбинате. Пальцы кривые, ноги больные. Рожает тебе единственную внучку, копию твоего сына. Живет тяжелее, чем ты, ты хотя бы жила в своем доме, а снохе достался холодный барак. А когда ты заболела, эта самая ненавистная сноха взяла тебя к себе. Ухаживала за тобой, старой, мыла, кормила с ложки, моталась к тебе в больницу. А ты ее по-прежнему ненавидела! Жаловалась на нее, помыкала ею. Попрекала, что она плохо смотрит за тобой. Но смотрит-то сноха. Не дочка твоя и уж тем более не сын.
А может, твой сын ее осчастливил? Карьера там, деньги, хоромы? Жизнь ненавистной снохе шикарную наладил, а ты завидуешь? Тебе не выпало, а этой заразе… Да нет. Ничего подобного. Сын твой наладчик станков, простой работяга. Зарплата неплохая, но половину он пропивает. Руку на жену поднимает, дочкой не занимается. Словом, обычный, нормальный, как считается, мужик. Такой же, как все остальные.
Но и она ведь нормальная и тоже как все остальные! За что ты ее, баб Зин? Ну да, перед смертью ты очухалась, дошло. Все за руки мать хватала, норовила поцеловать. Полюбила типа.
А как соседка зашла – так и поехало. И сволочь Галька, и зараза. И кормит объедками, и белье не меняет! Вера своими ушами слышала и с тех пор бабку еще больше возненавидела.
Но долгие годы пыталась понять – за что? За что та гнобила всю жизнь мать, за что ненавидела? Сама баба, сама горе мыкала. Пожалей, посочувствуй, пойми! А нет, так положено! И сыночка своего дурного всегда оправдывала – «Павлуша, Павлушенька».
А памятник Зинаиде, свекрови, ненавистная Галька поставила. Хреновенький такой, пестрый, из цементной крошки. Но хоть такой. Не сыночек Павлушенька, не дочка Светланка, а стерва Галька.
И ходила до последнего к свекровке на могилу, благо, что близко, вниз по улице Светлой. Никто не ходил кроме нее. И к Пасхе прибиралась, и к Родительской, и оградку красила, и цветочки носила. Дура. Вера так матери и сказала:
– Дура ты, мам! Я б к этой суке… Да за все, что она тебе сделала…
Галина Ивановна махала рукой:
– Брось, дочк! Все давно прошло и давно забыто. К тому же я ж Павлушу любила. Вот поэтому и хожу. А как не ходить? Не по-людски это! Да и родня они мне. Семья.
О господи – семья! И зря, что забыто – Вера бы не забыла. Ни за что бы не забыла и не простила. Павлушу она любила! И Вера любила. В детстве. А когда предал их – разлюбила. А мама, кажется, нет.
На лето маленькую Веру отправляли к старикам в деревню. Ехать она не хотела, но до поры родителей слушалась. А в десять лет взбунтовалась – уперлась насмерть: не поеду к бабке Зине – и все. Потому что ее ненавижу.
Бабка и вправду к внучке была равнодушна. Покормит чем есть, никаких бабушкиных пирожков и блинчиков. Хочется сладенького? Иди в сад, сорви яблоко. Не хочешь? Поди ж ты, цаца какая! Конфет хочешь, вафель? А перебьешься! Куда на мою пензию шоколад покупать! А мать твоя рубля не дала, тяни, баба Зина, сама!
В выходной приезжала мама, и Вера просила ее забрать.
– Терпи, – вздыхала Галина Ивановна. – Не обижает – уже хорошо. А то, что неласковая и вредная… Ох, дочк! Так это ж характер. Она и меня терпеть не может, сама знаешь… Терпи до середины августа, Вер! Что в городе-то? Во дворе болтаться с ключом на шее? Не, дочк, все-таки здесь воздух, лес, речка – природа.
Природа была, говорить нечего – и лес Вера любила, и шуструю речку. И полное васильков и ромашек поле за домом. Какие из них получались венки – загляденье, а не веночки! Жаль, вяли быстро. А малина на солнечном косогоре? Невозможно пахучая и невероятно сладкая, правда, и руки, и ноги обдерешь, и лицо. И земляники по краям поля было полно на светлых, усыпанных прошлогодними иголками опушках. И как она пахла! Вера собирала букетики с ягодками и засушивала для мамы. Ягоды собирала на травинки – выбирала подлиннее и погибче – и нанизывала ожерельем.
И кино в деревню привозили, правда, пару раз в месяц, да и то старое, сто раз виденное, но все равно радость и развлечение. И за горохом на дальнее поле ребятня моталась. Шли не с кульками – с наволочками! Набирали полную, да еще и объедались до желудочных колик – так вкусно, разве остановишься. Сладкий и нежный был молодой горошек, вкуснее конфет!
Грибы начинались в июле. Вера была знатным грибником, мимо не пройдет, все увидит, ничего не пропустит. Бабка Зина томила сыроежки и лисички в печке с картошкой в глиняном почерневшем горшке, а в конце кидала стакан жирной домашней сметаны. Какая же это была вкуснота!
Бабка и сама грибы собирать любила и толк в них знала, но ходила по осени, за груздями и опятами, брала только на засолку, грибы, кроме боровиков, не уважала и называла мусором: «Опять корзину мусора приволокла? Хочешь жареху – садись и чисть! А у меня и так дел по горло!»
Дел и вправду было по горло: огород, куры, кабанчик, коза.
Это потом все постепенно исчезло, сначала померла старая, давно не дававшая молока коза Дуська, потом зарезали кабанчика Петьку, и больше бабка животину не заводила – тяжко. Кур еще держали, но и их зарезали. А когда бабка Зина заболела, избу закрыли и перевезли ее в город, досматривать.
Со временем дом в деревне продали и купили отцу мотоцикл. На нем он и свалил к новой жене, старой маминой подружке Лариске Купцовой. Вот тогда Вера отца окончательно разлюбила.
Риелторская контора встретила запахом растворимого кофе и разогретой капусты. За столом сидели две девушки, как две капли воды похожие друг на друга – явно сестры. Одна пила кофе с булочкой, а вторая ела тушеную капусту из пластиковой миски.
Увидев Веру, брезгливо сморщившуюся от ненавистного запаха, сестры смутились и принялись суетливо освобождать рабочий стол. Надев дежурные улыбки, представились, Маша и Наташа, сотрудницы бюро «Уютный дом».
«А нельзя было как-то попроще? Где здесь уютные дома, где? Покажите! Ни одного! Как не было, так и нет», – раздраженно подумала Вера. В центре несколько старых кирпичных строений, отданных под банк, офисы, магазины и прочее. А дальше частный сектор и пятиэтажки, за которыми гнездятся огороды и дачки, хилые, сколоченные наспех, слепленные из того, что было, насквозь продувные. Не жилище, а сараи для грабель, ведер и лопат. За ними поля, а потом начинаются деревушки. Наверняка полупустые – молодежь давно рванула в города, а стариков почти не осталось.
Нет, есть пара новых домов, отстроенных за последние десятилетия, есть. Вера знала, что там получали жилье ответственные работники и те, кто сумел жилье купить. Вот интересно на них посмотреть. Кто мог купить квартиру в новом доме? Если только восточные мужчины, торгующие на базаре или владеющие магазинчиками и постепенно оседающие в скучном и пыльном среднерусском городке. Новые хозяева жизни. Как и везде, по всей России, эти восточные орлы, старательно позабыв о семьях на родине, быстро создавали новые семьи, женились на русских женщинах, рожали новых детей, покупали квартиры и навсегда оседали на здешних землях.
– Продать? – переглянувшись, переспросили изумленные девицы. – Двушку на Светлой?
Вера кивнула:
– Двушку. На Светлой. Да, девочки. Ну не на Манхэттене же!
Одна из девиц открыла компьютер, другая принялась рассматривать Верины бумаги. Предложили кофе, но растворимый Вера не пила. Нет, она не выпендривалась, просто от растворимого болел желудок. А вот Макс от растворимого, приправленного пятью ложками сахара, и от печенья не отказался.
– Завтра дадим рекламу, – важным голосом объявила Наташа. – Вы там проживаете? В какие часы можно показывать?
Вера вытащила ключи и положила их на стол. Связка жалобно звякнула.
– Я там не проживаю. Показывайте в любое время. И еще – тридцать процентов от цены сбрасывайте сразу! Демпингуйте. Времени у нас мало, хотелось бы за неделю управиться!
– А вы наклейте на подъездах объявления, – посоветовала Маша. – Знаете, как бывает – кто-то для детей ищет, кто-то для родителей.
– Милая, – нежно сказала Вера, – вы мне предлагаете расклеивать объявления? Мне, вашему клиенту?
Растерянные сестрички испуганно переглянулись.
– Э, нет, – продолжала Вера, и в ее голосе уже не было напускной вежливости. Только металл. – Расклеивать будете вы. На домах, подъездах, у черта на заднице! Повторяю – вы, а не я! Вы меня поняли?
Девицы дружно закивали.
– А что квартира? – осмелилась Маша. – Ну, в смысле, в каком состоянии?
Вера вздохнула. «Господи, за что мне все это? Этот город, эта квартира, эти девицы? Вопросы эти дурацкие?»
– Так, девочки, – жестко сказала Вера, – ключи в зубы и вперед, на улицу Светлую! Объявления напечатайте, клей купите. И хватит вопросов, давайте к делу. Повторю – времени у меня не просто мало – его у меня нет! Я все подписала? Вы все проверили? – Вера направилась к выходу. У двери она обернулась: – Убитая квартира, девочки. Совсем убитая. Не жили в ней кучу лет. Но она и до этого была дерьмо дерьмом, если честно. Только это ничего не меняет. Я продаю, а кто-то покупает. На каждый товар есть купец. В общем, жду вашего звонка.
На улице было сыро, промозгло. Скорее бы в гостиницу, под теплое одеяло. Вера глянула на часы – ого, половина второго! Ничего себе проторчали в «Уютном доме».
«Ладно, в гостиницу, – с тоской подумала Вера, – и сколько дней мне придется здесь проторчать?»
– Вера Пална, – осторожно подал голос Макс, – а можно один вопросик?
– Можно и два, – усмехнулась Вера, – валяй, не робей!
Шустрый водила совсем стушевался:
– Я насчет квартиры, Вера Пална! Мы с родителями живем. Ну с тестем и тещей. Не скажу, что люди плохие, не, не скажу. Но все равно тяжело. Теща болтает без умолку, Инку мою теребит. Короче, цепляются они. А тесть, – Макс посерьезнел, нахмурился, – мужик хороший, но… малость отбитый. После ранения. Иногда ничего, а иногда… Иногда клинит.
– Макс, давай без подробностей? – попросила Вера. – К сути давай, если можно.
– Ну да, извините. Короче, мы с Инкой о своей квартире подумываем. Денег, конечно, нет, но мы копим, стараемся.
Вера молчала. Понятно, к чему клонит. Робеет, неловко ему, и это понятно.
– Короче, Вера Пална, – осмелел он. – Если вы отдаете так дешево – может, нам отдадите? Ну раз такая скидка? Может, это судьба? – И Макс нервно и смущенно рассмеялся.
– Не знаю, Макс. Судьба – не судьба, – равнодушно ответила Вера. – Да, цена низкая. Но ниже не опущусь. Я давно в бизнесе, и есть какие-то вещи, ну, ты меня понял. Ты мне не родственник, не сын и не брат. Устраивает – бери. Нет – извиняйте! Я не благотворительный фонд помощи молодым семьям и не святая. Подумай и дай ответ. Желательно завтра. Прикиньте, поговори с семьей. Девки-то тихие, но могут сшустрить – гляди и себе возьмут или предложат своим знакомым. В общем, право первой ночи у тебя. А там – как получится.
– Конечно, Верпална. Прямо завтра с утра, ага, – возбужденно затарахтел он.
У гостиницы Вера вышла.
На вопрос, во сколько подать машину, ответила:
– Позвоню, Макс. Не переживай. Сиди и жди, работа есть работа.
Тот радостно закивал. Вот так. А что, милый? Думал, просто так с неба тысячи валятся? Мне тоже просто так ничего не доставалось. Сиди и жди. С семьей беседуй. В общем, не расслабляйся. Удача – птица хрупкая.
«Вредная я, – подумала Вера. – Нет, сказать, чтобы отдыхал до завтра. Сегодня я точно никуда не поеду. Да и куда тут ехать, господи… Я и так тут в центре вселенной – в гостинице “Пилигрим”».
Кстати, ресторан на удивление оказался вполне ничего, на хорошем столичном уровне. Ну да, городские шишки делали его под себя. И солянка была неплоха, и котлета по-киевски. И клюквенный морс не из концентрата, а точно из ягод, пусть и замороженных, но со своих родимых болот.
Меню из прошлого века: бефстроганов с картофельным пюре, свиная отбивная, солянка, рассольник. Медовик и наполеон. Но все свежее и вкусное, аутентичное, как принято говорить. Едят то, к чему привыкли. Зачем им устрицы, гребешки и минестроне? Правильно, незачем.
После сытного обеда и ресторанного тепла захотелось спать. «Ну и прекрасно, – подумала Вера, – будем считать, что у меня такой внеплановый отпуск. Здесь, в гостинице, если не смотреть в окно, вполне комфортно. Вот и не надо смотреть и думать, где ты находишься. Да и вообще иногда хорошо ни о чем не думать. Только не получается. Ладно, спать, а потом мама, Татьяна, звонки. Но это потом».
Ни о чем не думать снова не получилось. Легла, позевала, а сон все не шел. Зато повалили воспоминания. Те самые, от которых она все эти годы бежала.
Отчий дом, родные берега, трава у дома…
Нет никакой ностальгии. Счастьем было уехать отсюда. Свалить, сбежать, улизнуть, удрать, смыться. Или так – уползти.
Потому что сил бежать у нее не было.
Так жили тысячи и сотни обычных людей, что она придумывает? Провинция? Да, провинция. Но есть и поглубже, позабористей, глуше, есть совсем медвежьи углы, куда только на вертолете или на вездеходе. И всюду люди живут. А здесь нате вам – поездом, автобусом, автомобилем. Дорога в столицу. Рабочий район – а что тут такого? А где должны жить обычные советские люди, работающие на предприятиях? Тоже мне, принцесса крови Вера Кошелева! И почему, собственно, ты должна была родиться в другом месте? Ты родилась там, где положено. Чем ты лучше других?
Барак Вера едва помнила. Помнила холодный сортир во дворе и ночное ведро у двери – зимой во двор не набегаешься. Общую кухню в бараке тоже помнила – длинную, узкую, с двумя плитами в ряд. Мама говорила, что газ – это счастье, раньше готовили на примусах. И вонь керосиновая, и медленно, хоть ты тресни, щи за два часа не сварить.
Мыться ходили в баню, банный день суббота. После бани мужики выпивали и закусывали – летом на улице, во дворе, зимой на кухне.
В баках кипятилось белье, и влажный, перемешанный с запахом хозяйственного мыла пар заползал в комнаты.
Дети, сопливые, кашляющие – в бараке, как ни утепляй, дуло из всех щелей, – играли в длиннющем полутемном коридоре, на потолке болталась пыльная лампочка Ильича.
На праздники, октябрьские, новогодние, майские, гуляли. Женщины пекли пироги, жарили котлеты, резали винегрет и накрывали столы. Летом на улице, зимой, опять же, на кухне. Так же справляли дни рождения, поминки, свадьбы. Сыто, пьяно, громко, с непременными скандалами и короткими мордобоями. Жизнь. А потом стали строить дома на Светлой. Вот это была радость! Женщины ежедневно бегали смотреть, сколько выросло этажей: один, два, три. Значит, скоро! Потом выдали ордер и ключи, и мама заплакала. Да все плакали. Плакали от счастья. Говорили – теперь заживем! Переехали, но по сути ничего не изменилось. Так же толкались за крупой и мороженой рыбой, мотались в столицу за колбасой и лимонами, вешали во дворах белье, сплетничали, цапались, дружили. Мужики забивали козла и пили пиво, мальчишки лазали по деревьям и били окна, а потом били мальчишек.
Девчонки закапывали во дворах секретики, прыгали через резинку, врали по мелочам, сплетничали, хвастались – в общем, жили. На балконах стояли ведра с заквашенной капустой, по осени на огородах за домом копали картошку, отбирали у мужиков зарплату, мечтали о ковре на стену, хрустальной вазе, зимних сапогах.
Обычные люди, обычная жизнь.
Отец загулял, когда Вера перешла в восьмой класс.
Вера слышала, как плачет мама, видела, как злится отец, и чувствовала: их ждет что-то плохое и страшное.
Скрутился отец с маминой подружкой тетей Ларисой, разведенкой. Худая, нервная, точнее вздернутая, тетя Лариса была моложавой и симпатичной. Особенно на фоне остальных женщин за сорок, обабившихся, располневших, неухоженных, с мелкой химической завивкой на волосах, красными стекляшками в ушах и облупившимся маникюром – какой уж тут маникюр, когда вечно на кухне или в огороде? В сорок женщины выглядели на пятьдесят. А Лариска была стройна и моложава, детей у нее не было, а два неудачных брака были. Женщины ее снисходительно жалели – одинокая и бездетная, уже полубаба.
Дуры тетки. Уж кого надо было бы пожалеть – так это их, замужних и имеющих детей! Что за жизнь была у этих женщин? А Лариска жила для себя. Служила она в бухгалтерии комбината, хоть и не главный бухгалтер, а птица важная. И работа у нее была чистая: тычь себе наманикюренными пальчиками в счетную машину и чаек попивай.
К тому же Лариска была большой модницей и за тряпками ездила в Москву, в магазин ГУМ, где продавали самое вкусное в мире мороженое.
Почему мать с ней подружилась, что у них было общего? Да ничего. А нет, не так: какое-то время у них был общий муж, Верин отец.
Жила Лариска в соседнем подъезде, в однокомнатной, выданной комбинатом, квартире. Мать туда бегала «попить кофейку», и после визита от нее попахивало коньяком и сигаретами.
Отец злился, скандалил, поносил «эту шалаву белобрысую», то есть Лариску, последними словами, а потом… потом к ней ушел.
Кроме боли, унижения и обиды был еще стыд – на глазах у всех, у всего дома и всего комбината! Да еще и тут, под самым носом! Хуже позора не придумать.
Вера помнила, как мама тогда похудела. Килограммов на десять, не меньше. Не ела, не пила, только страдала.
Поддерживали ее соседки и старые подружки по комбинату. Старый друг лучше новых двух. Эх, мама! Куда тебя утащило? Какой кофеек, какой коньячок?
Мать и жалели, и осуждали – сама виновата, указала своему мужику дорожку! А нечего было с этой дружить, не нашего поля ягода.
Нечего, верно. И не нашего поля, тоже верно. И сама виновата. Только сердце у Веры рвалось на куски, когда она видела, как страдает мама. И тогда поклялась – все сделаю, а мама будет счастливой! Самой счастливой на свете! Правда, как это сделать, Вера не представляла. Ни плана «А», ни плана «Б» у нее не было.
С отцом она общаться категорически отказалась, а завидев его на улице, сворачивала в другую сторону.
Однажды Лариска ее подловила и елейным голоском заверещала:
– Ой, Верунечка, заходи в гости, папа переживает.
Ну и так далее. Всякое, дескать, в жизни бывает, но плохой мир лучше доброй ссоры. Вера ответила грубо:
– Не нужен мне ни ваш плохой мир, ни добрая ссора. Ничего мне от вас не нужно! Видеть вас не могу!
– Ласковое теля двух маток сосет, – крикнула ей вслед Лариса.
Не оборачиваясь, Вера бросила:
– А не пошла бы ты вместе со своим муженьком!
Когда закрыли комбинат, отец с новой женой уехал на север на заработки. И это было для Веры счастьем – теперь, выходя из подъезда, она не оглядывалась, боясь повстречаться с ним или его новой женой. Но, пожив на севере несколько лет, они все же вернулись. Счастье, что Вера уже была далеко.
Потеряв работу, поникла и мама – как жить, на что? Настали смутные, дикие времена. Бывшие одноклассники, обыкновенные мальчишки, превращались в гопоту и бандитов. Странное дело – разбойничать в Энске было особенно негде, да и крышевать тогда было почти некого – разве что по мелочи. Пара-тройка ларьков со всякой всячиной – вот и весь бизнес. Но все же создавались группировки – так важно они себя называли. Какие уж там группировки. Обычные мелкие банды: ограбить случайного прохожего, вскрыть магазин или ларек, отобрать скудный заработок у бабок на рынке, ну или наехать на черных – так, а зачастую куда хуже, называли прибывающих в город кавказцев. Впрочем, скоро и те, пришлые, захотели себя защищать и создавали свои группировки.
А через какое-то время куча мелких шаек пропала: кто-то сел, кто-то уехал, а кого и похоронили. На кладбище за Вериным домом разрастались новые захоронения, бандитские, и вот там кореша изгалялись в меру своего вкуса и финансовых возможностей – памятники ушедшим бойцам ставили дорогие, богатые, с пафосными эпитафиями и с бандитскими атрибутами в виде толстенных золотых цепей на шеях усопших, здоровенных печаток на пальцах, выгравированных силуэтов «мерседесов» на заднем виде и пачки «Мальборо» на переднем. Все это было смешно и дико, с портретов смотрели бывшие одноклассники или соседи, зеленые пацаны, не попробовавшие жизни. Зато теперь они считались героями. На их могилы приходили родители – заплаканные женщины в черных косынках, с трудом держащие себя в руках мужики, их отцы и матери, растерянные, ничего не понимающие. За что погибли их дети? Ладно б война, Афганистан или что-то подобное, но так вот, быстро и запросто? Матери прибирали могилы, сажали привезенные с дачек цветы, разговаривали со своими сыновьями, а отцы, мужики закаленные, прошедшие многое, в том числе и советскую армию, нервно курили и втихаря смахивали слезу.
Стали появляться и незнакомые прежде слова и выражения: «забить стрелку», «фильтровать базар», «кидала», «терпила», «бомбила», «крыша» и «наезд», «по беспределу» и «включить счетчик», «кинуть ответку» и «сделать предъяву». Новый сленг так вошел в обиход, что им стали пользоваться не только бандиты.
Спустя некоторое время сферы влияния были поделены, то есть определены, и в городе наступила относительная тишина. Впрочем, и эта тишина иногда прерывалась – разборки между бандами случались, не без этого, и огромный пустырь неподалеку от нового кладбища стал местом стрелок, где зачастую слышались выстрелы.
В те годы и образовалась банда Геры Солдата, известного в городе человека, ходившего в армейских сапогах на шнуровке, за это получившего и прозвище. Впоследствии выяснилось, что ботинки были американские, а точнее – обувь служащих американских военных подразделений, доставшиеся Гере по большому блату.
В городе Геру знали все – личность известная, можно сказать, легендарная. Две ходки по малолетке, несколько лет в Подмосковье, возле какого-то авторитета. В родной Энск Герман приезжал с шиком, как и положено, – старая гремящая «БМВ», спортивный костюм и, разумеется, голда: золото, браслет в полруки, цепуха на шее, ну и котлы, в смысле часы.
До восьмого класса Герман учился в той же школе, что и Вера, но в конце учебного года его приняли, и он ушел по малолетке, чрезвычайно обрадовав этим учителей, директора и, кстати, ребят. Школа облегченно выдохнула.
Вера помнила худого, жилистого красивого подростка со злым и внимательным взглядом. Успевал Герман только по физкультуре и был любимчиком туповатого физрука.
– Гера! – улыбался во все золотые коронки физрук. – Ты красава! Далеко пойдешь, вот увидишь!
Как в воду глядел физрук – любимый ученик и вправду пошел далеко: сначала на зону, потом набираться опыта к старшим товарищам, а уж после приплыл к родным берегам.
В городе Германа встретили настороженно. От его дымящей и грохочущей «бээмвухи» шарахались, при встрече с ним отводили глаза. Поползли сплетни, что Герман собирает новую банду, что в столице у него покровители и что совсем скоро в городе будет новый хозяин – Гера Солдат.
Старый хозяин города, директор комбината, когда-то крупная шишка, в новое время не вписался и тихо спивался на даче.
Странное дело – девицы всех возрастов мечтали попасть к Герману в подружки, словно он был наследным принцем и будущим королем. А вообще-то так и было – королем города Гера стал, хозяином тоже. По сути, девицы были настроены правильно, только мало кто понимал, что эта «романтика» имеет весьма определенный и довольно предсказуемый конец.
Поначалу Гера Солдат квартировался у Райки-рыжей, продавщицы из центрального универмага, в прошлом личности важной и известной – на поклон к Райке ходили избранные. Райка, худющая, ярко-рыжая и по-кошачьи зеленоглазая, красивая, но страшно скандальная, имела дурную славу не только по части спекулятивной, но и личной, женской – первый муж сидел много лет. По первости нагруженная сумками Райка по-честному моталась на свиданки. Ну а потом перестала, нашла себе нового мужа. Тот не работал и жил за ее счет. Пил, жрал и погуливал. Драки там были кровавые, народ Райку жалел – не повезло.
А спустя несколько лет вернулся Райкин первый, сиделец. Тот разобрался по-быстрому – прибил соперника в первый же вечер. На суде говорил, что защищал несчастную женщину.
Разумеется, его снова закрыли, и Райка осталась одна – первый в тюряге, второй на кладбище. Райка надела траур по обоим – черное платье, гипюровая косынка. В общем, дважды вдова.
Ходили слухи, что она попивает, мечтает о тихой и спокойной семейной жизни, а самое главное – страстно желает родить ребенка.
Но тихая семейная жизнь не получилась – в город вернулся Гера Солдат.
Райка приободрилась, ожила и помолодела, сделала короткую модную стрижку, надела джинсы и перестала накладывать синие тени. Взгляд ее снова стал заносчивым, наглым – в общем, королева города, не иначе. Но, надо сказать, о рыжей и наглой Райке мечтало почти все мужское население города Энска.
А Герман занялся делом – отбирая бойцов, времени не терял. Дураком он не был и понимал, что время лихое имеет свой срок. А это значит, что надо успеть подняться, встать на ноги, срубить бабла, но главное – заработать авторитет. Вскоре банда Геры Солдата стала хозяйничать в городе. Два ресторана, несколько кафешек и торговых точек, ларьки, парикмахерские, городской рынок – все контролировали его бойцы.
Сразу за городом, не так далеко от кладбища и улицы Светлой, за сущие копейки Гера выкупил деревеньку Снетки – да и выкупать-то было особенно не у кого, в деревне осталось несколько стариков. Им Гера и купил жилье в пятиэтажках. Через два года хилую и заброшенную деревеньку было не узнать – там гордо возвышались восемь кирпичных коттеджей в новорусском стиле, с башнями и бойницами. Была там и своя инфраструктура – два магазина, кафе с игральными автоматами, сауна, парикмахерская, шашлычная у трассы, где колдовал азербайджанец Абдул, придорожная торговля и даже свои проститутки, работающие тоже на трассе.
В общем, братва создала себе красивую, а главное, удобную жизнь – этакое королевство, куда никому не было входа. В Снетках жили Денис по прозвищу Щука, Герин зам и лучший друг, Вася Чечен, Серега Поп, Петя Голос, Миша Собачник ну и так далее, по рангу и по иерархии. По иерархии были не только дома, но и машины. Участки охраняли здоровенные и страшные алабаи.
Поговаривали, что есть у бандюков и прислуга с садовником. Короче, жила братва широко.
Теперь вместо старой и дряхлой «бээмвухи» Гера Солдат рассекал на новенькой «ауди».
Райку рыжую Гера отставил – достала – и пребывал в состоянии перманентного и очень желанного жениха.
Галина Ивановна трудилась в новой, организованной Гериными стараниями пекарне. Уставала, но деньги бандиты платили, не задерживали. Вера окончила школу и совсем не знала, что делать дальше. Хотелось сбежать из Энска, но как бросить маму? Как оставить ее одну, да и куда податься? В Москву было боязно – знакомых там не было, денег тоже не было, да ничего не было, кроме желания изменить свою жизнь. Но как это сделать, Вера не знала.
Да и слухи про жизнь в столице ходили разные. Вот, например, Рита Горинова уехала, и все у нее хорошо. Но Рита умница, медалистка, легко поступила в институт, жила в общежитии, с ней все было понятно.
Или вот Ленка Стукалина – вот там, говорят, все иначе. Сплетничали, что Ленка стала путаной, то есть дорогой проституткой. В Энск Ленка не приезжала, и понять, что правда, а что вранье, было нельзя.
Была еще одна уехавшая, Настя Говоренко. Та работала в баре официанткой, в Энск наезжала навестить родителей. Появлялась модная, вся из себя столичная. Короче, фифа и воображала.
С Москвой Вера тянула. С мамой они эту тему не поднимали, потому что обе боялись этого разговора. Однако тема Вериного отъезда висела в воздухе. А пока она работала на почте и готовилась к поступлению в институт.
С Герой Солдатом Вера столкнулась накануне Нового года на выходе из центрального универмага, где покупала новые елочные игрушки и блестящую мишуру.
Вера вышла на улицу и, вдохнув свежий колючий морозный воздух, от блаженства закрыла глаза. В эту минуту нога и поехала, поскользнулась на обледенелой ступеньке. Точно бы полетела и точно бы что-то сломала, но тут ее кто-то крепко схватил за локоть. Вера вздрогнула от неожиданности и испуганно оглянулась – позади нее стоял парень в дубленой куртке и кепке. В углу узкого рта сигарета, взгляд острый, цепкий, колючий. Неужели Гера Солдат?
Вера попробовала вырваться из цепких рук опасного незнакомца. Но не тут-то было – руки своей он не разжал, зато кривовато усмехнулся:
– Что, испугалась?
– Не испугалась! – дерзко ответила Вера, попыталась вырваться, дернулась вперед и не удержалась, грохнулась вместе с коробкой с игрушками, которые жалобно хрустнули. Вот ведь корова! Вера сидела на обледенелых ступеньках и в голос ревела. Слезы лились без остановки, ручьями. Вера не помнила, чтобы с ней было подобное. Отчего она так плакала? От неловкости, испуга, боли в копчике. От растерянности, смущения. От стыда. Ну надо же было так осрамиться! А этот? Стоит и ржет. Чистая сволочь!
Но «чистая сволочь» аккуратно и осторожно поднял ее, спросил, что болит, отряхнул ее дурацкое, перешитое из маминого пальто, вытер ей слезы и попросил согнуть-разогнуть руки и ноги:
– Так больно? А так?
– Не больно! Отстань! – выкрикнула Вера. – Чего привязался?
Гера внимательно посмотрел на нее и улыбнулся:
– Да понравилась! Ну и потом – первая помощь пострадавшему. – Он бросил злой взгляд на универмаг. – Сволочи, – сквозь зубы прошипел он, – завтра все пойдут на хер! Такое устроить! Сколько еще здесь поломаются?
– Кто пойдет? – переспросила Вера. – Дворник?
Гера сплюнул сквозь зубы:
– И он в том числе. А еще директриса, старая сука! А может, и кто-то еще! – Прищурившись, он выдавил из себя улыбку, хотя злился и был раздражен.
Вера приоткрыла коробку с елочными игрушками. Так и есть, все побилось. Еще бы – так шлепнуться! Хорошо, что не поломалась, а то были бы празднички! А игрушки – да бог с ними, обойдемся старыми.
Но случайный спасатель так не считал.
– Погоди! – бросил он коротко. – Постой тут минутку. – И исчез в недрах универсального магазина.
Почему она не ушла, почему осталась? Вот и автобус подошел, ее автобус, семерка, идущий на улицу Светлую. Со скрипом открылись двери, и наружу вырвалось облако пара. Почему она не вскочила в семерку? Почему застыла, как заколдованная? Почему стояла и как полная дура хлопала глазами, провожая автобус взглядом?
– Молодец! – услышала она. – Дождалась. На вот, держи! А то будешь на праздник без цацек!
Вера обернулась. Гера Солдат стоял напротив нее, держа в руках большую, перевязанную красной атласной лентой коробку. А пока Вера раздумывала, как бы повежливее отказаться, он сам принял решение:
– Э, нет! Хрупкое тебе доверять нельзя, вдруг снова грохнешься?
– Не доверяй, – буркнула Вера, – оставь себе. Я и не собиралась их брать! – И гордо пошла вперед. Осторожно пошла, почти не отрывая подошвы от тротуара – еще не хватало снова грохнуться. Вот будет умора!
– Далеко собралась? – Он снова схватил ее за локоть. – Идти команды не было!
– Собакой своей командуй! – разозлилась Вера. – И все, до свидания! Спасибо за… – тут Вера запнулась. За что? За то, что поднял? За то, что отряхнул? За то, что принес эти чертовы игрушки? Господи, ну какая же она дура! Ну почему она не уехала домой?
Позже думала – тот старенький скрипучий автобус-семерка был послан ей свыше. Как шанс. Шанс спастись. А она его упустила.
Потом они сидели в кафе-мороженом, она ела свое любимое, сливочное с клюквенной поливкой, и было очень вкусно – смешение сладкого и кислого. И кофе был вкусный. А как он сказочно пах…
Герман пил чай. Медленно прихлебывая, со звуком, по-деревенски. Вера хмыкнула. О чем они говорили? Да обо всем. Он расспрашивал ее про планы, кивал, но ничего не комментировал, просто слушал. Она удивилась – слушатель он был хороший, внимательный, что называется – благодарный.
Почему-то она рассказала ему об отце, о разлучнице Лариске-бухгалтерше, о бабке Зине, о маме, обо всем.
Рассказала и о планах на будущее, о желании уехать из города, смахнуть с себя прежнюю жизнь, начать новую, конечно же, прекрасную, светлую, без опечаток. Он по-прежнему не перебивал ее и не задавал никаких вопросов. Только смотрел ей в глаза, внимательно, заинтересованно и почему-то грустно.
Потом все же спросил:
– А ты уверена, что там, в Москве, или в другом большом городе все будет по-другому?
Она удивилась этой наивности и заговорила горячо и убедительно:
– Ну, конечно же, на сто процентов! Там все незнакомые, никто ничего друг про друга не знает! Там можно затеряться, раствориться. Там другие возможности, абсолютно другие! Там просто возможности! А здесь? – Она уперлась в него взглядом. – Что здесь? Шаг влево, шаг вправо – всё, тупик! И еще там музеи, выставки, театры! Аэропорты, вокзалы во все концы света! Там жизнь! Не то что здесь… – Вера устало откинулась на спинку стула.
– А что здесь? – спросил он.
– Здесь? Здесь болото. Болото, которое тебя обязательно засосет. Не сегодня, так завтра. Но точно засосет, поглотит. Проглотит. Ты не согласен?
Он не ответил. Просто пожал плечом. Понимай как знаешь.
Вспомнили школу, вернее напомнила Вера:
– А мы с тобой в одной школе учились, только ты на четыре года старше.
Он удивился и сказал, что ее не помнит. Вера расхохоталась:
– Еще бы! Я была малявкой, соплей. Девочка с косичками. А ты уже зажигал. Тебя все знали – как же, Герман Распопов! Король школы, куда там. Мальчишки тебя боялись, да и девчонки тоже. Гроза школы, гроза района, в общем… – Она осеклась. – Я как-то слышала, как ты с директрисой схватился. Помню, испугалась до жути – как ты с ней разговаривал! Ее же все боялись – и родители, и учителя, не говоря про детей. А тут ты ей всю правду-матку. Прям борец за справедливость. Она еще визжала: «Ты, Распопов, хулиган и хам!» Я думала, тебя в порошок сотрут, а нет, ничего не сделали. Только предупредили и поставили на вид. Ну а потом ты из школы исчез. И все говорили: «Так ему и надо!» А больше всех радовалась директриса. А потом о тебе забыли.
Они вышли из кафе, и Герман поймал такси, чтобы проводить Веру домой. Не просто посадил в машину и назвал адрес, а сел рядом, на заднее сиденье, и потом, несмотря на ее сопротивление, довел до подъезда.
Они не виделись три месяца. О том вечере в кафе напоминали только елочные игрушки, красивые, блестящие и самые дорогие – Герман не поскупился. Но в конце января осыпающуюся елочку выкинули и, переложив старой ватой, убрали в коробку игрушки, а саму коробку поставили на антресоль, и тот декабрьский вечер почти стерся из памяти, почти исчез, как исчезает и растворяется дым или проплывает облако, и остался только слабый вкус сладкого вперемешку с кислым, вкус мороженого и клюквенного варенья, и слабый свет фар от проезжающих машин за морозным стеклом, и разноцветное мигание светофора, и чувство защищенности, которого раньше у Веры не было, – с Германом было не страшно. Он мог защитить.
Герман Распопов, он же Гера Солдат, возник у дверей ее дома спустя три месяца, аккурат в ее день рождения, шестого марта, в начале весны, ранней весны того года. Ранней и на редкость теплой, с уже растаявшим снегом и почти чистыми тротуарами, с набухшими, готовыми лопнуть и вырваться на свободу спелыми почками, с робкими первоцветами, пробившимися сквозь влажную землю, с наглым и громким пением птиц, с повеселевшим народом и с предвкушением Женского дня – какой-никакой, а праздник, и отмечать его было принято, и печь пироги было принято, и дарить подарки. И на всех углах продавалась мимоза – обманные, надо сказать, цветы, сначала пушистые, как цыплята, но в доме они мгновенно усыхали, теряли свою пушистость и становились просто маленькими сморщенными, твердыми желтыми шариками. Вид пропадал, но слабый запах оставался – свежий, нежный, весенний.
В переднике и косынке, руки в тесте, нос присыпан мукой, на ногах стоптанные старые тапки, Вера замерла на пороге – перед ней стоял Герман Солдат, держа в руках две корзины. Одну полную разноцветных диковинных цветов: гиацинтов, тюльпанов, ландышей, – и вторую, наполненную доверху фруктами: ананасами, манго, огромными фиолетовыми сливами, круглобокой ярко-желтой шершавой дыней, здоровенными кистями черного и зеленого винограда, волосатыми киви, розовыми блестящими яблоками и огромными желтыми грушами. Невиданная роскошь и красота.
Ошарашенная и растерянная, Вера не знала, что сказать.
– С чего это вдруг? – наконец хрипло спросила она.
– А то нет повода? Чего прикидываешься?
– Я… не прикидываюсь. – Голос у Веры осел, как после ангины. – Я… А ты откуда узнал?
– Ну ты наивная! Захотел и узнал, тоже мне – военная тайна!
«Какая уж тайна, смешно, – подумала Вера и разозлилась: – Я всегда выгляжу рядом с ним по-дурацки, вернее, он умеет поставить в дурацкое положение». Корзины пришлось принять и еще пригласить непрошеного гостя зайти на чашку кофе. Хорошо, что мама была на работе, иначе бы Вера не оправдалась.
Кофе Герман не пил, потому что «горько, кисло и потом пить хочется». Ну и вообще не приучен. А вот чай любил, мог спокойно выхлестать литр. Потом Вера поняла – привык в тюрьме.
Она прошла мимо зеркала и ужаснулась – ну и видок! Косынка дурацкая, нос в муке, халат столетний! Да уж, красавица. Да наплевать – она его в гости не приглашала и к его визиту не готовилась. А если он навсегда исчезнет, туда ему и дорога, плакать не будем. И приукрашивать себя не стала, еще чего. Только косынку стянула и нос оттерла – сойдет.
Сошло. Тем же вечером они пошли в ресторан – отмечать ее восемнадцатилетие, дата. Она согласилась, потому что чувствовала, что ему нельзя отказать – вряд ли Гера Солдат привык к отказам. А если по-честному… Совсем не хотелось отказываться.
В ресторан она нарядилась в платье с выпускного – так себе, скромное, и ткань барахло, и цвет никакой, а где найдешь другое? В общем, скромное бежевое платье с вышивкой по воротничку. И туфли свои единственные выходные, на каблуках надела. Неудобные, но с виду приличные. Перетерпит. И золотые сережки в уши вдела, скромные, маленькие, без камешка, но какие уж есть. И волосы распустила, знала, что волосы – ее украшение. Краситься не любила, но подкрасилась: ресницы, помада – все-таки ресторан.
В центральном ресторане «Каменный цветок» было шумно, громко и очень накурено. Сновали официанты, гремела музыка, на пятачке у сцены толкались танцующие. От дыма и шума Вера поморщилась: «Ничего себе, не такое уж удовольствие – этот ресторан! Долго не просидишь, ну и хорошо. Да и вообще сомнительное мероприятие – заявиться в людное место в компании Германа… И зачем я на это решилась?»
В общем зале не задержались, Герман решительно прошел сквозь шум, гам и суету, Вера едва за ним успевала, и они оказались в уютном, тихом зальчике, где был накрыт стол на двоих. Но главное – никого больше не было. Оказывается, бывает и так. «Для уважаемых гостей», как сказал, поклонившись, пожилой официант. Ну да, ее спутник – личность известная и уважаемая… Попробуй не окажи уважение Гере Солдату.
Еда была вкусной. Шампанское тоже. Скатерти белые, накрахмаленные. Фужеры хрустальные, приборы тяжелые. Музыка еле слышна. Официант молчалив. Вера смущена, а ее спутник, кажется, доволен:
– Вкусно тебе? Нравится? Хочешь потанцевать?
Вера хотела. Голова кружилась от шампанского.
Да, она хочет танцевать. Положить руки ему на плечи, закрыть глаза и медленно двигаться в такт музыке.
Так все и было. Когда они вышли, заиграла тихая, ненавязчивая музыка, Вера узнала ее – да, это «Шербургские зонтики». Она эту мелодию обожала.
Положив руки на плечи Герману, Вера закрыла глаза. Наверное, так и выглядит счастье?
Через полгода Вера переехала в замок с башнями на правах хозяйки. Перед этим они расписались в служебной комнатке загса очень по-будничному – наспех, без свидетелей, безо всяких там Мендельсонов, родственников, торжественных речей и поздравлений. Не было и свадебного платья, о каком мечтает каждая девушка: длинного, кружевного, расшитого бусинами. И никакой фаты тоже не было – какая фата. И банкетного зала в ресторане тоже не было, а был просто обед, тоже наспех и тоже обычный, рядовой, потому что у Германа были дела. Зато было обручальное кольцо и еще одно, с бриллиантом, подарок на свадьбу. А вечером у них были гости: Денис Щука, Мишка Собачник, Вася Чечен и Петя Голос. Короче, вся банда. И, разумеется, мама. Да, и свекровь – маленькая, худая женщина с потертым лицом и блеклыми, почти бесцветными глазами. Мама Валя. Не вредная, нет. Обычная, затурканная и забитая тетка. Таких вон целый город! Тихая и попивающая. Сына своего важного мама Валя побаивалась – во всяком случае, ничего у него не просила и в споры не вступала, не нагличала.
В доме у мамы Вали была своя комната, но бывала она у сына с невесткой редко – на ночь не оставалась: «Ой, Герчик, мне лучше дома! Дома привычнее!» Приезжала на пару часов и незаметно исчезала. И хорошо. Вере хватало Галины Ивановны, собственной мамы и новоиспеченной тещи. В покое она Веру не оставляла.
Ранний, поспешный и опасный Верин брак принять Галина Ивановна не могла. Пусть и жила Вера в достатке, и даже в богатстве, но что это богатство, когда муж – бандит? Такого позора Галина Ивановна не ждала. Пусть и относился зять к теще со всем уважением, а на жену смотрел влюбленными глазами, Галина Ивановна переживала. Во-первых, страшно. Еще как страшно! Вон только глянь в телевизор – страсти какие! То одного грохнут свои же, то другого. То конкуренты наедут на стрелке, а то милиция заметет, да еще и на месте перестреляет! Пачками ведь ложатся, штабелями! А совсем молодые ребята! Нет, в их городке пока тихо, хозяин один – ее зять. А вот в столицах да в крупных городах – ужас сплошной. И названия есть у всех этих банд – «ореховские», «солнцевские», «реутовские».
Ощущение, что все в банды пошли, в эти группировки! ОПГ называется. Посмотришь – вроде нормальные ребята, обычные такие, кстати, почти непьющие. Спортом занимаются, волосы не отращивают, вежливые, обходительные, молчаливые. А что по малолетке сидели – так у нас вся страна сидела, подумаешь! Кто уголовный, а кто политический, а кто-то по мелочовке: кража, или драка, или угон – шалила пацанва, завели старые разбитые соседские «жигули» покататься, но не повезло, поймали и посадили. А спрашивается – за что? Ну да, хулиганство. Но не украли и не убили, за что срока? А ведь вернутся стопроцентными уголовниками, кого тюрьма и наказание перевоспитывало? Так судьбы и ломаются по ерунде.
– Мам, страна такая, – вяло оправдывалась Вера. – А менты – не бандиты? Ты, мам, очнись! Они же все в связке, не договоришься – враги, договоришься – друзья. Все дело в деньгах. И времена такие, мам, беспорядочные. Сама знаешь – приходят ребята из армии, а заняться нечем. Работы нет, денег нет. Что делать, куда податься? Ага, в бандиты, больше некуда. Да не передразниваю я тебя, я объясняю. И никакие времена не одинаковые, не говори ерунды. Вон, сильные мира сего, банкиры там и прочие – смотри, делят банки, делят заводы, полезные ископаемые! Вот чье это все, ответь! Ага, народное. Как же. Мам, нет ничего народного и ничего общего. Есть сильные, которые отбирают, и есть слабые, которые прогибаются.
Спорили до хрипоты. У обеих свои аргументы. Правых не было. Да и Галина Ивановна не с лихолетьем боролась и не с несправедливостью, куда ей! За дочь она беспокоилась. Чувствовала, что конец будет скорый, только какой?
– Это ваша Мамваля мозги портвейном высушила, а не я! – кричала Галина Ивановна. – Ага, все бандиты! Прям куда ни посмотри. Это у вас кругом бандиты, Вера. И друзья ваши, и подельники! И подружки у тебя – бандитские жены! А есть еще и шофера, и строители, и врачи, и инженера! Не все пошли в бандиты, Вер! Поверь, не все!
Не все. Разумеется, не все. В иные минуты становилось страшно – как она, Вера, могла здесь оказаться? Среди этих людей, среди этих щук, голосов, чеченов, собачников, сидящих за ее столом? Как она могла оказаться среди их жен, Снежан, Кристин, Анжелик и Жанн? Среди этих одинаковых пластмассовых, как под копирку, женщин? Обязательно худых и обязательно белокурых, с увеличенными бюстами, накачанными губами и наклеенными ресницами? Во всех этих гуччах, версачах, шанелях, поддельных и натуральных?
Как она может участвовать в этих пустых разговорах о строптивых няньках и горничных, о новых коллекциях, о бриллиантах в каратах, о дорогих отелях и плохом или хорошем сервисе? Как она может во всем этом жить? Жить и делать вид, что все абсолютно нормально? Во что она превращается? В такую же резиновую пустую куклу?
Вера разглядывала себя в зеркало – нет, ничего похожего! Она не покрасилась в жемчужную блондинку, не подколола губы, не сделала грудь. Она не скандалит с прислугой, не выдвигает претензии мужу, не унижает массажистку и официантку, не кричит на садовника. Она занимается спортом, сажает цветы, печет пироги, по-прежнему читает книги и смотрит хорошие фильмы. На ней не откладывается, не отпечатывается эта жизнь. Она та же самая Вера. Или она ошибается?
Но что она может сделать? Переделать собственного мужа? Заставить его уйти из банды и выучиться на повара? Да, для кого-то он бандит, а для нее он лучший муж на свете. Любимый человек. Для нее он ее нежный Герка, ее смешливый Герман, ее муж и защитник.
Впрочем, от кого ее защищать? Если только от мамы. Мама всю душу вынимает. А ведь помощи Геркиной не отвергает, пользуется благами и все равно выступает! Поносит зятя на чем свет стоит. Разве это справедливо?
И в санаторий в Болгарию съездила, и мебель ей Герка поменял. И в Москву к частным врачам возил, вернее давал машину. С работы уволил – еще чего! «Ты, Мамгаль, напахалась, хорош. Сиди дома и пеки плюшки». Хорошо он к ней, к теще, хоть и понимает, что она Верке покоя не дает. Нет, он, зять, к ней всем сердцем: «Живи, Мамгаль, не заморачивайся! К нам переезжай, воздухом дыши! Все тебе подадут и все уберут. А ты расслабляйся».
Но нет, не тот характер. Не может Галина Ивановна расслабиться. Не хочет понять, что ее дочери хорошо. Упрямая как ослица, что в башку забьет – караул.
Ну он, зятек, с этим мирился. Понимал, что теща переживает за дочь. Ладно, надо дать время. Всем надо дать время. Привыкнуть, смириться, принять.
Привыкнуть привыкла. Смирилась? Наверное… А вот принять не получилось. Да не очень-то и старалась.
Вера жила как в полусне. Иногда себя хотелось ущипнуть – это со мной? Это я и это моя новая жизнь?
Нет, жизнь-то как раз была совсем неплоха. Удобная, комфортная, уютная. Ни тебе тяжелых мыслей про то, где взять деньги, ни беспокойства за маму. Сиди себе в кресле, читай, смотри кино, пеки свои торты. Хочешь – вот тебе сад и вот огород, отводи душеньку.
Отводила. Завела парники, где росли помидоры, перцы и баклажаны. В саду посадили японскую вишню, сливу, яблони, груши. Весной сад стоял как невеста перед алтарем, бело-розовый, воздушный. Красота. Развела и клумбы с цветами: флоксы, розы, георгины. За пару лет скучный участок Вера превратила в волшебную сказку, кто ни зайдет – замирает от восторга.
И в доме уют: мебель, светильники, пушистые ковры, картины на стенах. Тоже красота и тоже восхищение. И библиотеку завела, на полках любимые книги. И нарядов было столько, что за век не сносить. И драгоценностей в сейфе – подарков любимого мужа. И путешествия, о которых и мечтать было невозможно. Все у них было, кроме одного – покоя. Покоя не было ни днем ни ночью. Ни дома, ни в путешествиях – нигде.
Спала Вера тревожно и беспокойно. Было ей душно, муторно, тоскливо. Сны снились такие, что лучше не вспоминать. Фильмы ужасов, не иначе, пару дней в себя прийти не могла. Видела, что и муж дергается, тревожится. О чем? Не спросишь – все равно ответа не будет. Ответ у него всегда один: «Все нормально, Верунь! Меньше знаешь – лучше спишь».
Ага, как же! Она ничего не знала о его делах, а спала ужасно. Вот тебе и меньше знаешь… А что было бы, если бы знала? Убеждала не только маму, убеждала себя – такие вот времена, такой вот бизнес. Ну да, пахнет все это не очень. Но так повсеместно, по всей стране, и в Италии, стране западной и демократичной, тоже мафии всякие, коза ностра, каморра, стидда. И что? Да ничего! Живут все и не парятся.
Но все равно на душе было паршиво, сколько ни уговаривай себя, сколько ни убеждай.
За три года Вера превратилась в законченную неврастеничку, вздрагивала от каждого стука, от каждого звонка. Ветка с сосны упадет – у Веры истерика: слезы, холодный пот, трясущиеся руки.
Муж обнимает, успокаивает, а она как заведенная:
– Гер, я так больше не могу! Вчера опять по телевизору – расстреляли участников ОПГ Ростова, взяли главаря банды Уфы. Я не могу, слышишь?
А он успокаивает, шуткует:
– Какое такое ОПГ, Верунь? Что это за птица? Какие главари, ты о чем? А мы с тобой какое ко всему этому имеем отношение?
Вера рыдает:
– Шутишь, да? Тебе смешно, Гера?
Он крепко сожмет ее в объятиях, погладит по голове, поцелует в ухо и шепнет:
– Все будет хорошо, Верочка. Ты просто мне верь.
По ночам она смотрела на мужа и не могла представить, что он, ее нежный Герман, кого-то мучает, пытает, отбирает что-то или в кого-то стреляет.
Нет, этого не может быть! И Денька, его лучший друг и верный помощник, не может причинять зло – Денька, Денис, самый трепетный на свете папаша. Как он обожает своих девчонок, семилетнюю Леру и трехлетнюю Катюшку!
А Сережа Поп, самый прекрасный и заботливый сын? Как он относится к своим старикам, отцу и матери, как переживает за них, как заботится. Сережка и пытки? Смешно! Сережка плачет над фильмами.
А Мишка Собачник? Мишка, который обожает животных и построил приют для бездомных собак? Мишка, у которого на участке живут семь собак и штук двадцать кошек? Не породистых, а подобранных, калечных? Мишка – зверь и упырь?
Не верила. Не верила, пока не услышала разговор горячо любимого и самого нежного мужа. Если бы у нее было одно-единственное желание и золотая рыбка, она бы попросила об одном – забыть тот разговор.
Это был не ее Герман, не ее Герка, смешливый, остроумный и нежный. Нет. Это был жестокий и жесткий человек, не человек – зверь. Зверь, отдающий указания: запереть, отбить почки, спрятать ребенка, надругаться над женой, пугануть мать. Ну и так далее. Всё, дальше невозможно, иначе она умрет. Тем более что людей этих Вера знала.
И невозможно было забыть. Забыть его четкие, короткие и страшные указания.
Вера ходила по дому как зашуганный, подстреленный зверек, билась об углы, натыкалась на предметы, падала на диван и начинала рыдать. Перестала есть, выходить на улицу. Не причесывалась, не умывалась.
Герман этого не видел, куда-то уехал.
Прятать чьих-то детей? Насиловать чью-то жену? Отбирать квартиру? Она старалась не думать, чем он занимается в командировках. А если подумать – какие такие командировки могут быть у бандитов?
В те дни она обнаружила, что беременна.
Рожать от него, от этого зверя?
А ты, милая, как хотела? Любишь меня беленького – полюби и черненького. Покажется сатана лучше ясного сокола? Или по-другому: ради милого и себя не жаль? Для милого дружка и сережку из ушка? Миленок и не умыт беленок? Нет, так не получалось. Не был беленок ее миленок.
Кому она могла рассказать то, что слышала? Маме? Конечно же нет. Свекрови? Тем более. Свекровь жила в своем мире.
Поделилась со Снежанкой, Денькиной женой. Та смотрела на нее блеклыми, светло-голубыми, рыбьими глазами и хлопала наращенными ресницами.
– И чё? – наконец спросила она. – И чё ты хочешь этим сказать? Работа такая, Вер. У наших мужиков такая работа! Ты что, не догадывалась? Ты дурочку-то не строй, баба взрослая. И вообще не парься, забей. Весь мир говно, все люди, Вер. – Снежана рассмеялась, обнажив розовые десны и идеальные, голубоватые зубы.
«А, да, – вспомнила Вера, – за зубами Снежанка гоняла в Германию. Но что за цвет, боже! Цвет унитаза, а не настоящих зубов».
– Ладно, я пошла, – зевнула Снежана, – дел невпроворот. В секцию за малой, на музыку со старшей. А в пять ногти, к Оксанке!
У двери посмотрела на Веру, как смотрят на умалишенных – с жалостью и с брезгливостью: «Не повезло Герке, а такой, блин, мужик!»
Той ночью Вера выпила упаковку таблеток. Днем постучалась прислуга, и ее спасли. Но ребенка она потеряла. Это была ее единственная беременность. Больше не было.
Впрочем, забеременеть она и не пыталась.
С того дня отношения с мужем испортились. Как ни старался Герман, ничего не получалось.
А через два месяца Вера ушла. Ушла, не забрав ни тряпок, ни шуб, ни драгоценностей.
Сколько раз он пытался ее вернуть! Караулил у дома, умолял, недоумевал, орал как резаный. Однажды ударил. Потом просил прощения, плакал, говорил, что не сдержался, что нервы на пределе и что она его довела. Угрожал, что жить ей не даст, все равно вернет ее, все равно она будет с ним.
Вера молчала. Любила ли она его по-прежнему, скучала ли по нему? Не понимала. Внутри все как выгорело – сплошное черное пепелище. Ни мыслей, ни эмоций, ни чувств – ничего. Голое поле, выжженная трава. Пошла в церковь, отстаивала службы, молилась. Не помогало. Поехала в Оптину, к старцу. Тот выслушал ее, покряхтел и велел молиться дальше… Молилась, но легче не становилось.
Страшные мысли ее тогда посещали – Вера радовалась, что ребенок погиб. Ведь, если бы он родился, вряд ли Герман оставил бы ее в покое. Или вряд ли оставил ей ребенка.
Ребенок от бандита… Двойные стандарты, матушка! Как-то нечестно. Дурочкой прикидываешься? Не знала, за кого шла? Или что думала – он белый и пушистый, такой мальчик-с-пальчик, твой Гера?
Но неожиданно он от нее отстал. Вера недоумевала – неужели остыл, нашел другую, успокоился? Неужели смирил свою гордыню? Это было самое для него сложное: как так, от Геры Солдата ушла жена? Эта соплюшка, которой он дал все, что мог?
Нет, причина была в другом. В это самое время в городе заполыхала война – лучший друг и верный соратник Денька Щука решил, что ходить под бывшим шефом Герой Солдатом ему больше не с руки, несолидно. Мальчик подрос. Подрос, оперился и решил, что все может сам, откололся и сколотил новую банду. Дескать, Гера зажрался, включает начальника, ну и вообще во многом неправ.
По городу поползи слухи – Гера Солдат что-то не поделил с бандитами из соседнего региона, находчивый и осторожный Щука общий язык с конкурентами нашел, ну и те решили, что тот лучше, чем строптивый и несговорчивый Гера. Гера, который не прогибается.
В городке запахло жареным – сгорел ресторан банды, потом сгорела химчистка на центральной улице, а следом запылал новый, почти достроенный торговый комплекс на окраине, куда Гера вложил огромные деньги.
Приехали какие-то важные люди от губернатора, из-за которых на двое суток закрыли ресторан и банно-спортивный комплекс. Начался падеж лошадей в Гериной любимой конюшне – словом, бардак и переполох.
Вера почти не выходила из дома, но однажды столкнулась с Мариной, женой Сереги Попа.
– Сбежала? – прошипела та. – Как последний предатель, сбежала?
Вера смотрела на нее и не узнавала – в глазах тихой и очень спокойной Марины плескалась ненависть.
– Я до того ушла, – глухо ответила Вера, – или ты забыла?
Марина плюнула ей под ноги:
– Сволочь ты, Верка. Последняя сволочь. – И быстро пошла к машине.
Вера смотрела ей вслед. Неужели все так? Она, Вера, предатель и сволочь? И в который раз подумала: как все это могло произойти в ее жизни? Как она могла влипнуть в эту историю? Бежать, срочно бежать! В Москву, Питер, куда угодно! Только подальше отсюда, от прежней жизни и этого ненавистного города.
С Татьяной разобрались быстро: в офисе все в порядке, на производстве тоже. Татьяна была встревожена и растеряна – еще бы, впереди маячила больница. Вера уверила ее, что скоро приедет. А раз она будет рядом – все будет нормально!
Даже Галина Ивановна, Галюша, считает Татьяну приемной дочкой: «У нас хоть с тобой, дочк, есть мы друг у друга. А у Таньки никого! Вообще никого, во всем белом свете!» Это была чистая правда – родителей у Татьяны не было. Ей было три года, когда родители развелись, и Таня осталась с матерью, но, как выяснилось, ненадолго. Вскоре мать сошлась с мужчиной, но нервная и плаксивая дочка мешала новому счастью. И Танечку отвезли в деревню к тетке.
Тетку мать обманула, сказала, что на лето, на пару месяцев, но так и не вернулась за дочкой.
До двенадцати лет Таня воспитывалась в деревне. Жили скудно, плохо: картошка да капуста, если кто из соседей пожалеет – нальет банку молока. Молоко с черной горбушкой – главное лакомство. А уж если была белая булка и банка варенья, тогда просто праздник.
Одинокая тетка была невредной, но бестолковой и бесхозяйственной. Любила собрать подружек и крепко поддать. Пьянела быстро и тут же начинала жаловаться на жизнь – дескать, досталось ей по самое не балуйся: привезла стерва-сеструха девку и бросила, расти как умеешь, теть Дунь! Живите как сможете. Тетка плакала пьяными слезами и поносила Танину мать. Подружки сочувствовали. А Таня от обиды ревела – неужели она обуза? Неужели тягость, тяжелая ноша и страшный крест? Разве она не помогает тетке, не моет полы, не варит суп, не подает чай, когда та болеет, не бегает в магазин и в аптечный киоск, не копает картошку? Неужели она такое невыносимое бремя для тети Дуни? И учится почти на «отлично», и вязать научилась, и шить! И картошку жарит вкуснее Дуни. Дуня-то безрукая, ничего не умеет. Это не Танькины слова, так говорят бабы в деревне.
Когда Тане исполнилось четырнадцать, Дуня вышла замуж. Вернее, привела в дом сожителя, которого подобрала на автобусной остановке.
Это был мужик неопределенного возраста, испитой, высохший, с мутным, не фокусирующимся взглядом – наверняка бомж со стажем, давно не надеющийся на свою счастливую звезду – неужели даже такой, как он, может быть кому-то нужен? Оказалось, что нужен. Дуня ожила, захлопотала, забегала. Отмыла Виталика в бане, постригла, залечила ссадины и синяки, купила новую одежду. Дунина жизнь наполнилась смыслом.
Помолодевшая, она громко смеялась и на лавочных посиделках с бабами без конца повторяла «мой, мой»: «мой срубил старую яблоню», «мой окопал картоху», «мой попросил блинов».
Бабы все понимали – замуж Дуня так и не сходила, любовь не понюхала – так, все между делом, на сеновале или в сенях. Дурная баба, пустая, но не вредная, не обидчивая и добрая, сама нищая, а последним куском поделится. Да и девку чужую в детдом не сдала, пожалела. А ведь могла, и кто бы ее осудил? Вся семья была бестолковая, мать еще и безрукая, Дунька в нее. Отец слабый, пил да плакал. Сестра-кукушка. А брат Колька вообще сгинул, как не было – сел, убили, сам помер? Кто знает…
Правда, и Дунькин «муж» уж совсем сомнительный. Кто он, откуда, чего от него ждать? Может, вор, может, сиделец. Рассказывает, что жена выгнала – вот и остался на улице. А там кто его знает! Отъевшийся, отмытый и одетый в чистое, Виталик оказался вполне ничего – бланши сошли, царапины зажили, сложен он был хорошо, мускулист, поджар, ловок. И дров напилит, и огород вскопает, и крыльцо починит. Пил, кстати, в меру – по выходным и праздникам. О себе говорил скупо: жил в городе, работал водопроводчиком. Были семья, дочь, квартира. А потом все, кирдык. Жена изменила, начал бухать, и вся жизнь покатилась под откос. Ему и верили, и не верили – где она, правда, никто не узнает.
А счастливая Дуня летала. Крутилась у печки, роняла кастрюли и сковородки, материлась, когда подгорали блины – а подгорали они всегда. Сделала себе шестимесячную и стала похожа на овцу – в мелких кудрях, с розовыми деснами и постоянной блаженной дурацкой улыбкой.
Таня чувствовала, что молодым мешает. Уходила к подружкам, задерживалась в школе. Думала об одном – доползти до лета, до окончания восьмого класса, сдать переходные, получить аттестат и – тю-тю! Уехать, сбежать. Сбежать из этой деревни, от дурной влюбленной тетки, от этого странного, молчаливого и непонятного мужика – вроде не злого, не страшного, но почему-то Таня его боится. Точнее – опасается.
Вопрос был в другом – куда бежать, куда податься? В Москву страшновато, в Саратов не хочется. Была она там с классом, не понравилось.
Если уж ехать, то в большой, настоящий город! Или начинать новую жизнь проще в провинции?
Но и не это самое главное. Самое главное – выбрать направление, получить профессию, стать хорошим специалистом. Тогда тебя будут ценить, тогда ты устроишься. Медсестра, воспитатель детского сада, повар, кондитер, закройщик, парикмахер – сколько прекрасных профессий! Но нужно выбрать по душе.
Решила пойти на закройщика верхней одежды. Тихая, спокойная профессия и надежный кусок хлеба.
Съездила в Саратов, сходила в училище, пообещали койку в общежитии. Стипендия крошечная, на нее не прожить, значит, придется искать работу: дворники, почтальоны и уборщицы требуются всегда.
Переночевав на автовокзале, Таня с раннего утра поехала домой.
Домой… Разве это дом? Дом – это там, где тепло и спокойно. Где горячая еда, где тебе рады, где тебя выслушают, пожалеют и помогут. Дом – это родные люди. А разве у нее есть родные люди? Разве ей где-то рады? Смешно. Таня брела от автобусной остановки и зевала, очень хотелось спать. Рухнуть на свой скрипучий пружинистый матрас и спать до самого вечера.
У Дуниного дома стояла милицейская «канарейка». На такой приезжали из района – местный участковый дядя Ваня ездил на мотороллере. У дома толпился народ. Танино сердце забухало, как колокол. Что-то случилось. И случилось ужасное, страшное, дикое.
Она подошла к дому. Притихшие соседи смотрели на нее и перешептывались. Молодой милицейский, важный и напыщенный, как петух, заполнял какие-то бумаги.
Из дома, таща носилки, покрытые цветастым Дуниным пододеяльником, вышли два мужика в грязноватых белых халатах. Под пододеяльником проглядывали контуры человеческого тела, свисала выпростанная рука. Тонкая женская рука с розовым маникюром и тонким блеклым колечком с голубым камешком. Рука была не Дунина. Дуня отродясь не красила ногти и не носила колец, откуда у Дуни кольца?
– Кто это? – не своим голосом спросила Таня у стоящей рядом соседки. – Что случилось?
– Убили, – ответила та. – Вроде сеструха к Дуньке приехала. Сели отмечать. Ну а там пошло-поехало, напились, сцепились, кто-то схватил нож и… – Соседка внимательно посмотрела на побледневшую девочку. – Ой, Тань, прости! Сестра-то Дунькина – мать тебе, верно? Выходит, ее и убили? А может, Тань, не она? Может, так, слухи? Ты к милиционерам-то подойди, спроси, как и чего, может, врут? Может, не мать твоя, а кто-то другой?
– Кто ее? – Голос осел. Не голос, а хрип. – Кто ее? Дуня?
– Разное говорят. Ты в дом иди, Тань. Там все и расскажут.
В дом идти было страшно. Так страшно, что дрожали ноги.
Таня замотала головой:
– Нет, я здесь подожду.
Она села на пенек от недавно спиленной яблони и закрыла лицо руками. Что ее ждет? Сейчас и вообще?
Таня не видела, как из дома вывели окровавленного Виталика, а вслед за ним увезли в больницу и раненную в живот Дуню.
Таня зашла в сени и почувствовала запах крови. Ночевала в ту ночь она у соседки. Наутро дошла весть, что Дуня умерла. Обвиненного в убийстве Тони, Таниной матери, и в нападении на сожительницу Виталия посадили, хотя он и отрицал и одно, и другое, говорил, что на сестру, приревновав ее к нему, напала Дуня, а та, схватив нож, ранила нападавшую.
Разбираться не стали – бомж, алкаш, много чести! Да и у женщин не спросишь, обе мертвы. Похоронили их в одной могиле, возле родителей. Два металлических креста, две фотографии – миловидные, свежие, улыбчивые девушки с надеждой смотрят в объектив.
Других фотографий не нашлось, да и эти отыскались случайно.
– Счастье, что ты в тот день уехала, – хором повторяли соседки, – иначе бы все при тебе! И как бы все повернулось, будь ты, Танька, в доме! Ох, страшно представить.
Повезло. Вернуться домой и увидеть труп матери, а потом тетки. Хоронить их в одной могиле. Страшное везение, о чем говорить!
А кто кого там зарезал… Об этом Таня не думала, так было легче.
Все, тема закрыта, и закрыта навсегда. И никогда – никогда! – Таня не приедет сюда, в эту деревню, и не пойдет на кладбище к тетке и матери. И не зайдет в этот дом. У нее будет новая жизнь. Она ни за что не повторит судьбу этих женщин! Но для этого надо бежать, бежать без оглядки. Куда угодно, только подальше отсюда. И забыть, забыть, забыть навсегда.
И еще – теперь у нее никого нет. Вообще никого. Да и раньше особенно не было, если по правде.
В училище было нелегко, зато спокойно – никто не попрекал куском хлеба, никто не выговаривал, не лез в душу.
Соседкой по комнате оказалась глухонемая девушка Лида, так что разговорами Тане никто не докучал. Работала она тяжело, мыла четыре подъезда, а по воскресеньям, вместо того чтобы отсыпаться, разносила заказные письма и телеграммы, да еще два раза в неделю помогала женщинам на почте разбирать бандероли и посылки, раскладывать по ячейкам, рассортировывать печатную продукцию для почтальонов. Трудно, но и это была копеечка.
Отучившись полтора года, Таня устроилась в ателье и сняла угол у пенсионерки, тихой верующей бабули, хорошей, но слегка сумасшедшей – по ночам она хрустела припрятанными засохшими пряниками и карамельками.
Таня затыкала уши ватой – бабкино шуршание было похоже на мышиное, а мышей Таня боялась, даром что деревенская.
