Путешествие в Элевсин бесплатное чтение
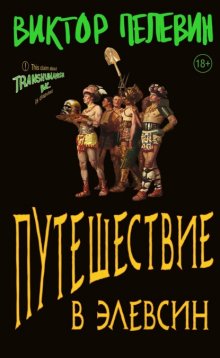
Виктор Пелевин
Путешествие в Элевсин

© В. О. Пелевин, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Описанные в книге люди, баночно-мозговые сущности, события и обстоятельства – вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством
(статья 83.34 уголовного уложения Доброго Государства).
древнеримский напев
Предисловие Императора
Когда-то философская мысль задалась вопросом «Каково это – быть летучей мышью?».
Голливуд ответил франшизой про Бэтмена. Идентичность летучей мыши была воссоздана там несколько антропоцентрично, но ответ принес огромную прибыль. Значит, с точки зрения общественной практики он был верен, а другого критерия истины в философии нет. Не знаю, как там с мышами, а быть человеком означает вот именно это.
Корпорация «TRANSHUMANISM INC.» задала вопрос: «Каково это – быть древним римлянином?» И ответила себе же симуляцией «ROMA-3». Проект приносит серьезный доход, а значит, ответ был правильным.
Конечно, «ROMA-3» – вовсе не главный продукт корпорации. Главный ее продукт – бессмертие. Как клиенты корпорации вы хорошо знаете об этом и сами, друзья.
Бессмертие надо чем-то заполнять. У плавающего в спинномозговой жидкости мозга в этом отношении огромный выбор, но поверьте мне на слово: если вас все мучит ностальгия по простым человеческим радостям (и горестям – куда радостям без них), найти что-то лучше нашей симуляции будет трудно.
Скажу честно: наша метавселенная – не вполне Древний Рим. Вернее, совсем не Древний Рим. Но самое лучшее из возможных к нему приближений. Это, с одной стороны, грубая и местами нелепая пародия на античный Вечный город. С другой – самое точное его воспроизведение, какое только может быть создано человеком в наше время.
Попробую объяснить, как соединяются эти крайности.
Жизнь любого человека, да и общества тоже, состоит из фактов и переживаний.
Факты – вещь упрямая, но неощутимая. Мы вообще не воспринимаем их непосредственно, мы про них в лучшем случае узнаем, когда их рассекречивают спецслужбы. Факты – невидимый скелет реальности. Чтобы докопаться до них, нужно быть историком и жить через пару веков после изучаемого периода, когда все, кому платили за сокрытие истины, уже умерли.
Переживания, с другой стороны, происходят непосредственно с нами и зависят только от калейдоскопа нашей личной судьбы.
Допустим, вы живете в Риме при цезаре Максенции, строящем прекрасную футуристическую базилику, а к городу шагает армия императора Константина, уже намалевавшая на щитах христианские знаки. Бедного Максенция, спрятавшего свои регалии в клоаке под римской мостовой, скоро утопят в речке. Таковы факты.
В это самое время вы участвуете в оргиях, пьете вино, танцуете мимические танцы, читаете поэтические книжки, приглядываетесь к молодым рабыням и мучаетесь мыслью, где взять денег. Таковы переживания.
Возможно, до вас доносятся конское ржание, крики или даже звон стали. И все. Пусть для истории это был день смерти Максенция – исторические факты совершенно не обязательно станут вашим личным опытом.
В реальной жизни так и случается. Только вы, как правило, не мимический танцор с чашей, а та самая рабыня, которую сейчас будут ми-ми-ми. Должно ну очень повезти, чтобы вы оказались самим цезарем перед последним заплывом.
Создавать вселенную, верно отражающую все исторические факты, трудно и затратно. Придется просчитывать армию Константина, армию Максенция, сооружаемую на форуме базилику, кресты на многих тысячах щитов, регалии принцепса, камни мостовой, сражение под городскими стенами в такой-то день и час и так далее. Дорогостоящая битва отгремит, но нет никакой гарантии, что клиенты симуляции придут на нее посмотреть.
Если же мы сосредоточимся на симуляции, отражающей личный опыт римлянина, отходов производства не будет. Когда вы создаете переживание, кто-то обязательно его испытает, и ни один инвестированный в проект гринкоин не пропадет.
Реконструировать римскую армию (а тем более битву двух армий) весьма сложно. Смоделировать ощущения римлянина, слышащего за окном звуки битвы, куда проще. Он не испытывает ничего специфически римского: это те же самые надежда и страх, злоба, сострадание и прочее. Просто они окрашены в римский пурпур – по самому, так сказать, краю ткани. Но здесь и скрывается главная проблема.
Римлянин слышит стук копыт, гром тележных колес, гул огромной толпы. Он видит электоральные надписи на стенах и лица проходящих мимо людей. В церебральной симуляции подобное воспроизвести несложно. Но если смотреть на это нашими сегодняшними глазами, в переживании не будет ничего древнеримского. Это будет опыт современного человека, изучающего римскую реконструкцию.
Аутентичность переживанию сообщает не точное воспроизведение вкуса фалернского вина или звука подкованных бронзой копыт – что толку, если все это слышит и чувствует скучающий в банке вечный мозг, сравнивающий опыт с недавней виртуальной экскурсией на Марс или спуском в Марианскую впадину.
По-настоящему античным переживание сделает лишь римская идентичность субъекта восприятия. То самое «быть летучей мышью», о котором я упомянул в начале. Когда цвет, звук и вкус значат то, что они значили для римлянина.
Это и должна воссоздать симуляция.
Идентичность субъекта настолько важнее физиологического стимула, что нет большой разницы, будет ли звон копыт «бронзовым» или, скажем, «латунным». Главное, чтобы услыхало его римское ухо, помнящее грозный смысл такого звука.
Но подделывать идентичность во всех деталях и подробностях нет ни смысла, ни возможности. Она нужна исключительно для того, чтобы сделать переживание древнеримским. Опыт, таким образом, возникает на стыке идентичности и внешнего мира.
Создаваемый нами римлянин помнит свое прошлое смутно. Он вообще мало что помнит – но в голову ему приходят вполне римские мысли, даже если вызывают их не совсем римские поводы. Это как съемки фильма, где декорации выставлены только там, куда смотрит камера, а камера поворачивается лишь туда, где выставлены декорации.
Возникает своего рода баланс двух симуляций – внешней и внутренней. С одной стороны – поддельный мир, с другой – поддельная идентичность. На их стыке бенгальским огнем зажигается Древний Рим. И он полностью аутентичен, ибо в свою реальную бытность Древний Рим был именно таким человеческим переживанием – и ничем иным.
Поскольку целью симуляции является переживание, а не порождающие его декорации, наши средства и методы могут показаться профану нелепыми и варварскими. Трудно будет даже объяснить их, но я попробую.
У человеческого мозга есть два одновременных модуса восприятия. Первый – невнимательное, но широкое сканирование всей реальности сразу. Второй – пристальный анализ того, на что направлено сознательное внимание.
Нашу симуляцию можно считать своего рода волшебной линзой, все время перемещающейся вместе с сознательным вниманием. Человеку кажется, будто линза увеличивает то, на что направлено внимание. А она в это время подделывает изображение.
Античность возникает именно там, в линзе. Поэтому объем нейросетевых вычислений, необходимых для того, чтобы держать сознание в «Древнем Риме», не так уж и велик. Периферию сознания мы не контролируем – она шита белыми нитками. Но каждый скачок внимания к любому ее объекту будет перехвачен симуляцией и оформлен как надо.
Все еще непонятно?
В пространстве «ROMA-3» могут говорить по-английски, по-китайски или как-то еще. Это совершенно не важно, поскольку участники симуляции считают, что изъясняются на латыни и греческом. Вернее, они просто об этом не думают. Если же их внимание вдруг окажется притянуто к какой-нибудь лексеме, наша система немедленно это заметит, и вычислительная мощность будет брошена на симуляцию оказавшегося в центре внимания лингвистического блока.
Он будет мгновенно переведен на латынь, а память участников диалога будет модифицирована таким образом, что в ней останутся только латинские слова и обороты, как бы фигурировавшие в беседе до этого. Мало того, собеседники будут уверены, что все время говорили на латыни и прекрасно ее понимают. То же касается визуальных образов, музыки, вкуса, мыслей и так далее.
Качественная симуляция создается исключительно для того пятачка реальности, куда направлено внимание в настоящий момент. Фон мы заполняем балластом, грубым нагромождением цитат из современной, карбоновой или прекарбоновой культуры (особенно это касается музыки, ибо античная до нас практически не дошла). Клиент воспринимает этот балласт как часть римской жизни.
Вернее, он не задумывается об этом, как не размышляют о рисунке обоев. А если ум вдруг заметит что-то и начнет разбираться, заплата будет просчитана быстрее, чем наша неторопливая мысль доползет до объекта, вызвавшего подозрения. Если надо, вся зона памяти вокруг неудобного события будет зачищена.
Кажется, сложно и замысловато? Только когда рассказываешь. На самом деле все просто.
Попробуйте вспомнить, что бывает во сне. Каким бы нелепым ни казалось потом происходящее дневному рассудку, ночью оно всякий раз получает объяснение, убедительное в логике сновидения – и достоверность восприятия не подвергается сомнению.
Мы можем ходить по карнизу или летать вместе с голубями, одновременно думая о судьбах Отечества. И это не кажется нам странным, поскольку думы об Отечестве слишком мрачны, чтобы отвлекаться от них на разные пустяки.
Так уж работает наш ум – он обращается сам к себе за доказательствами подлинности своих переживаний и тут же достает их из широких штанин, забывая, что ни ног, ни тем более штанов у него нет.
«TRANSHUMANISM INC.» использует этот механизм в «ROMA-3». Правительства и СМИ делают нечто очень похожее уже много сотен лет, но это не моя тема.
Чувствую, пора привести реальный пример. Вот он.
Гимн гладиаторов «ROMA-3» – это карбоновая песня под названием «Here’s to you, Nicola and Bart». Она состоит из одного куплета:
Песенка эта радует своей простотой и свежестью – она как будто прилетела не из прошлого, а из иного измерения, более счастливого, чем наше. Услышав ее впервые, я отчего-то подумал, что ее сочинили для похорон двух гонщиков, весело столкнувшихся на треке, а куплет в ней всего один, потому что у мемориальных мероприятий был ограниченный бюджет (да и жизнь у гонщиков короткая, чего тянуть). Кстати, так и не удосужился проверить догадку.
Но это не важно. Песня вызывает эмоциональный отклик, а смысл ее слов как нельзя лучше подходит к судьбам цирковых бойцов. Когда она раздается над Колизеем, многие встают.
Собравшиеся на трибунах римляне слышат английский оригинал – и плачут над ним, не задумываясь над происходящим. Они могут даже цитировать эту песню по-английски в разговорах друг с другом.
Если же расспросить любителя игр, о чем она, он тут же вспомнит историю Приска и Вера, двух гладиаторов, дравшихся друг с другом на праздничных играх по случаю открытия амфитеатра Флавиев.
На этих играх присутствовал сам император Тит. Приск и Вер сражались очень долго – и наконец в один и тот же момент подняли палец, сдаваясь. Это означало обречь себя на гибель, и каждый из них знал, на что идет. Но император Тит послал деревянные мечи и тому, и другому, отпустив их на свободу.
Получает объяснение каждая строчка. Понятно, почему агония превращается в триумф: оба гладиатора готовились умереть, но получили свободу, славу и, конечно, богатство. Слушатель абсолютно уверен, что в песне звучат имена Priscus и Verus, хотя там поется про Николу и Барта.
А если начать педантично обсуждать эту песню слово за словом и перейти на латынь, в какой-то момент ее текст незаметно изменится на отрывок из Марциала:
И никакого противоречия между тем, что слышат уши, и тем, о чем пишет Марциал, спорящие не заметят. Их острое человеческое внимание будет или там, где песня, или там, где латынь.
Видеть все одновременно способно только периферийное восприятие, а ему лингвистические нюансы малоинтересны – последний миллион лет оно следит главным образом за тем, чтобы к его носителю не подкрался незамеченным какой-нибудь голодный зверь.
В симуляции используется множество подобных трюков. Чтобы Цирк мог конкурировать с другими аттракционами, человеческое восприятие в нем модифицировано. Зритель с самого верхнего яруса Колизея отчетливо видит гладиаторов, различает выражение их лиц (если они не скрыты шлемами), слышит их дыхание, стоны, иногда голоса. Зрителя это не удивляет – он просто не задумывается о странности происходящего. Арена есть арена.
Климатические неудобства, неприятные запахи, физическая боль от долгого сидения на камне и так далее даются в симуляции только намеками.
Наш клиент не страдает. Он наслаждается.
Но при этом часто думает, что вокруг невыносимая жара, воздух воняет подмышками, рыбой и уксусом, а его спина скоро треснет от усталости.
Но даже эти мысли, как показывает практика, способны серьезно испортить опыт. Поэтому для каждого зрителя доступна настройка симуляции в индивидуальном порядке – но надо сначала полностью из нее выйти. Многие не делают этого годами, и я, как их господин, хорошо их понимаю.
Аве, римлянин. Над Колизеем разносится карбоновая песня про Николу и Барта. Ты встаешь и плачешь от гордости и умиления за Приска и Вера. Но само это переживание, рождающееся на стыке твоей фанерной, кое-как сбацанной нейросетями идентичности и англоязычной песни из среднего карбона, является стопроцентно древнеримским.
Мы не обманываем клиента.
Дело в том, что прошлое, отзвенев и отгремев, не исчезло совсем.
Оно еще живет – в нас самих и в каком-то тайном слое нашего многомерного мира. Вечна и бессмертна каждая секунда, каждый шорох ветра, каждое касание пальцев, каждая зыбкая тень. И я верю, что с помощью наших методов мы подключаемся к Великому Архиву Всего Случившегося, spending again what is already spent, как выразился на своем непревзойденном греческом языке древнеримский поэт Шекспир.
Да, мы вновь тратим уже потраченное. То, чему единственным свидетелем был Бог, становится доступно нашим премиальным клиентам. Древний прах внимает корпоративной магии и оживает; забытое и отзвеневшее воскресает в своей золотой славе истинно таким, каким являлось прежде.
Я не могу доказать, но сердцем знаю, что это так.
Ученые, впрочем, подтверждают догадку. Это связано с запутанностью частиц, путешествующих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, но расшифровать это заклинание я не могу – тут способностей великого понтифика уже не хватает.
When in Rome, do as Romans do, гласит старинная мудрость. Мы не просто сделали ее нашим девизом, а развили до крайнего предела.
When in Rome, be a Roman.
Вы остаетесь собой. Это просто вы из Древнего Рима. Понять, как такое возможно, весьма трудно. Испытать же легко. Как говорил Нерон Агенобарб, заходите к нам на огонек! У нас интересно и весело.
Про себя и свой тернистый путь к трону я расскажу как-нибудь позже, когда вы станете моими гостями и мы встретимся в пиршественном зале или застенке. Пока же приглашаю в нашу замечательную симуляцию. А если вы уже у нас были, начудили, набезобразничали и стесняетесь вернуться, не переживайте. Мы все давно забыли. У императора Порфирия короткая память и доброе сердце.
Как жаль, что мало кто способен понять остроумную соль моих слов.
IMP. CAES. AUG. CALIGA CARACALLULA
PORPHYRIUS
Часть 1. Песок песка

Ланиста Фуск (ROMA 3)
Про заговор я вспоминаю только ночью. Иногда во сне.
С нами преторианцы из стражи. С нами раб, делающий императору массаж и обучающий его борьбе. Есть еще отборные бойцы – числом около двадцати – готовые выйти на арену истории, когда пропоет труба… Но упаси Юпитер думать об этом днем, ибо что у смертного на уме, то и на языке, особенно если выпьешь.
А вчера я здорово выпил, и теперь меня мучает гемикарния. С самого утра болит голова и кажется, будто чей-то недобрый взгляд сверлит темя. В такие дни мысли о бедах Отечества приносят особую муку.
Но куда от них деться?
Вечный город сегодня уже не тот, что был. Во все проник упадок – или принесенный на готских копьях, или вызревший в душах. А если оставалось в сердцах железное и верное, чего не коснулась плесень времен, то и его съела ржа хитрых восточных суеверий.
Я, Фуск Сципион Секунд – римский патриот и стародум. Таких как я осталось мало; мы пребываем в тени и рассерженно молчим. Не потому, что боимся чего-то. Нет. Слово наше упадет на выжженную землю и не даст всходов. Мы коротаем дни в домашних и семейных заботах. Радости наши просты и повторяют развлечения предков.
Можно еще проводить свой век по-старому: запереть двери, прилечь на кушетку у водостока в атриуме, доверить спину и плечи рукам молодого раба – и бездумно уставиться на фреску с подыхающим в пыли Ганнибалом. Тогда покажется, что наша слава и доблесть живы и мы, римляне, все еще народ-победитель.
Но высунешь нос за дверь – и не сразу поймешь, Рим это или Вавилон.
Иногда воображаешь, конечно: хорошо бы выйти в плаще всадника, держась за рукоять кривого испанского меча, приблизиться к пестрой толпе и бросить им презрительно, как когда-то божественный Октавиан:
– Вот римский народ, владыки Вселенной, носители тоги…
А потом – что? Удирать по кривым переулкам? И хорошо, если удерешь… У них под одеждой ножи. И мечи тоже бывают. Да и умно ли упрекать их в том, что забыли римский обычай? Сам император нынче одевается то под греческого кифареда, то под германского разбойника.
Так что обойдемся. Спокойнее надеть галльский плащ с капюшоном – во-первых, скроешь лицо, а во-вторых, сойдешь за своего и смешаешься с толпой.
А толпа идет к золотому Колоссу Солнца (которому, как уверял муниципальный поэт, в час рассвета над Тибром все еще снится, что он Нерон). Толпа идет к амфитеатру Флавиев.
И вот я тоже вышел из дома и смешался с людским потоком. Постепенно мне стало легче.
Странная вещь – когда понимаешь, куда спешит народ, забываешь и про варварскую пестроту вокруг, и про бездарный позор нынешнего правления, и про беспросветный мрак будущего.
Да, в будущем мрак. Но если есть мрак, должен быть свет.
Всякий знает: Ex Oriente Lux. Свет приходит с Востока. Слыша это, одни вспоминают про ежедневный восход солнца, другие – про какую-нибудь модную ересь, а я каждый раз думаю про императора Веспасиана, пришедшего в Рим из Иудеи. Это он заложил Великий Амфитеатр.
Иные полагают, что Веспасиан был низок родом, ибо происходил из всадников, но он есть семя Ирода Великого (через царского сына Антипатра и внучку Кипрею, породнившуюся затем с римским всадником Александром). А значит, сей увенчанный пурпуром генерал и есть восточный свет Рима.
Другого не надо, спасибо.
Amphitheatrum Flavium. Вот скрепа, держащая Империю вместе и не дающая нам впиться друг другу в глотки.
Вернее, мы делаем это каждый день – но мирно. Я болею за синих, ты за зеленых, и мы сражаемся на арене через наших послов. Это последнее, что удерживает Вечный город от пожара всеобщей войны.
Я люблю игры. Я люблю их как гражданин, как патриот, как последователь традиций и древней этики. И, конечно, я особенно люблю их как ланиста.
Те, кто не похож на меня – изнеженные развратники, адепты тайных сект, наемные солдаты-варвары, ростовщики, ученые-звездочеты, менялы, воры и убийцы – тоже любят игры, каждый по-своему. Поэтому, пока игры есть, Рим несокрушим и вечен.
И есть у игр еще одно важное качество – может быть, самое ценное из всех.
Когда Империя встречает на своем пути грозного врага (а это случается все чаще), игры создают его живую скульптуру. Вот оружие, вот латы, вот шлем – и боец выходит на арену, где его сильные и слабые стороны становятся видны.
Сколько их было? Самниты, галлы, траксы… Уже не разберешь, где имя побежденного народа, а где цирковая маска. Мы не просто повторяем на песке уже одержанную победу. Иногда мы постигаем, как одолеть врага.
Помню историю с восточными воинами, закованными в латы с ног до головы. Они разбили наш авангард в нескольких стычках, а потом мы выставили таких же железных людей на арену. Имя им было – cruppelarii.
На трибунах приуныли, увидев их сверкающую мощь – но прошла всего пара-тройка дней, и гладиаторы научились валить их на землю крючьями. Дальше все решал кинжал. Вскоре ту же тактику применили в настоящем бою легионеры, и Рим победил.
Я думаю, правы те, кто считает сердцем Империи именно Амфитеатр, а биением его – игры. Пока сердце живо, мы непобедимы. В войнах торжествует не римское оружие, а римский дух. Наша доблесть. Наша вера. Наша нравственность. Во всяком случае, в идеале, хотя в последнее время…
Но о грустном не хочется.
Я прошел между золоченым Колоссом Солнца и высокой стеной ристалища. Мрамор священного амфитеатра… Прах, въевшийся в поры, делает его живым. Как будто это не камень, а сероватая кожа в пятнах факельной копоти, чувствующая каждого из нас. Зрители – нервы и жилы этого огромного существа, пробуждающегося, когда мы, римляне, собираемся вместе и требуем крови.
Амфитеатр пока пуст. Но я слышу его зов.
Больших игр не было уже почти год. Нет пленных. На границах империи мир. Мало того, болтовня о «нравственности» и «гуманности» почти что поставила игры вне закона.
Для империи нет ничего страшнее долгого отсутствия игр. Зубья и шестерни Рима нужно постоянно смазывать кровью – это знает в глубине души каждый правитель. Ау, император Порфирий, ты это помнишь?
Когда игры начнутся, рабы встретят меня у входа и подадут мне серебристый рожок – тонкий и длинный, похожий на изгибающуюся кольцом змею, прикрученную в двух местах к вертикальной палке. Нужно будет протрубить в него, давая знак…
Я закрыл глаза и представил, как это будет. Вот зрители на трибунах. Порфирий тоже здесь, в своей пурпурной мантии – глядит сквозь изумрудную лорнетку. Цирк ждет моего сигнала. Я подношу холодное серебро к губам, и над песком арены проносится долгая хриплая нота…
Почему я так выразился – песок арены? Arena ведь и значит по латыни «песок». Песок песка? Должно быть, варварское насилие над нашим языком добралось уже и до моего рассудка, заразив его чумой безвременья…
Я повернулся к Колоссу Солнца, высящемуся возле Амфитеатра.
На зубчатой короне и лице гиганта сверкал золотой утренний огонь. О бог, великий бог Рима! Позволь крови пролиться опять – и дай нашим жизням направление и смысл…
Краем глаза я увидел двух приближающихся преторианцев. Скорпионы, молнии, синие плюмажи. Красиво. Лучше бы эта красота прошла стороной… Но нет.
– Ланиста Фуск, – сказал старший. – Тебя ждет цезарь. Мы посланы сопроводить тебя.
– Когда мне следует прибыть?
– Сейчас, ланиста. Прямо сейчас.
Неужели Колосс меня услышал?
Вот только не пролилась бы моя собственная кровь… Цезарь – мой давний должник. Он должен мне почти тридцать миллионов сестерциев. А быть кредитором принцепса опасно.
– Господин во дворце?
– Нет. Он на вилле.
Император редко бывает во дворце Домициана – он его не любит. Этот мраморный обрыв над главным городским ипподромом помнит слишком много проклятий и предсмертных стонов. Седалище верховной власти сегодня не там.
Оно на императорской вилле. Государственные вопросы решаются в ее садах, но не магистратами, а вольноотпущенниками, евнухами и рабами Порфирия, поднятыми выше всадников и сенаторов.
Вилла императора – чудо зодчества. Это не дворец в обычном понимании, а скорее городок с постройками и садами, напоминающими обо всех уголках империи, от Александрии до Лон-диниума. Там есть даже роща, изображающая непроходимую германскую чащобу – и в ней, как в Тевтобургском лесу, разбросаны ржавые римские мечи, железные кресты и мятые шлемы с пиками, напоминающие о нашем поражении.
И, конечно, везде стоят ландшафтные беседки и кумирни бесчисленных богов, божков и азиатских культов.
Порфирий изучил фокусы и выдумки прежних цезарей, вник в секреты древних властителей – и с тем же вдумчивым тщанием, с каким переносят виноградную лозу на новый склон, воспроизвел позорнейшие из их услад: тиберианские уголки Венеры с готовым на все голым юношеством, павильоны Бахуса и Морфеуса со всей нужной утварью, критские лабиринты с привязанными к кушеткам жертвами, фиванские зеркальные комнаты для фараонова греха и так далее.
Сделано это, однако, было не для личного наслаждения, а с государственной целью – показать urbi et orbi, где пуповина мира. Получилось вполне: христианские изуверы даже заговорили про конец времен. Тем лучше. Пусть спокойно готовятся к светопреставлению и не устраивают смут.
Порфирий весьма умен и изощрен в искусстве управления. В народе его чтят, да и закон об оскорблении величества помогает, чего лукавить. Но несмотря на всенародную любовь, принцепса хорошо охраняют.
Ну или он так думает…
Когда мы прибыли на виллу, преторианцы передали меня страже, тоже преторианцам, но из другой когорты, с головой медузы на латах.
Те отвели в комнату досмотра.
Там меня обыскали самым унизительным образом, осквернив мое дупло любопытным пальцем в оливковом масле.
А если гость императора обгадится перед ним после такой процедуры? Или, может быть, визитера готовят к тому, что может произойти после аудиенции? Зачем это иначе? Кинжала в ножнах в этом месте не пронесешь – не влезет. Хотя, конечно, нравы сейчас такие, что кто его знает.
– О! Ланиста Фуск!
У выхода из комнаты досмотра меня ждал Антиной. Если быть точным, Антиной XIII, как указывал номер на его тунике.
Порфирий собирает римские пороки – но и доблести тоже. Его коллекция антиноев может быть отнесена и к первой категории, и ко второй – в зависимости от личного вкуса. По мне, этот изыск находится где-то посередине: хоть я и чту память божественного Адриана, но к его роковой страсти отношусь без всякого пиетета.
Кстати, насчет Адриана. Почему-то наимудрейшим правителем считают Марка Аврелия. А тот назначил преемником свою кровиночку – идиота Коммода, из-за чего случилась гражданская война. Адриан же усыновил лучшего из возможных преемников, с которым даже не был в близком родстве, и поставил ему условием поступить так же. Сколько лет после этого империя наслаждалась миром!
Кто, спрашивается, был подлинным философом на троне?
Порфирий чтит память Адриана весьма особым образом. Он учредил специальную Антиной-комиссию, а та, в свою очередь, установила Антиной-стандарт на основе сохранившихся изображений императорского фаворита – и по всей империи теперь отбирают юношей от пятнадцати до семнадцати, соответствующих образу.
Жизнь их, прямо скажем, нелегка. В начале пути они развлекаются как могут. К их услугам все ресурсы империи. Но когда им исполняется двадцать, от них ожидают того же, что сделал реальный Антиной.
Помните?
Жрецы Египта предсказали Адриану скорую смерть. Спасение, по словам гадателей, могло прийти только в том случае, если кто-то, любящий императора больше себя самого, отдаст жизнь в жертву за господина… Через пару дней Антиной утопился в Ниле, чтобы спасти благодетеля.
Некоторые добавляют, что Адриан специально подстроил гадание: дал Антиною возможность доказать свою любовь, освободив место фаворита – все-таки двадцать лет для этой должности уже преклонный возраст. Другие уверяют, что юноше помогли. Но я в подобное коварство не верю.
Как бы там ни было, Порфирий следует легенде самым буквальным образом. Его любимчики хорошо себя чувствуют в начале срока, а в конце обычно тонут при загадочных обстоятельствах. Не знаю, сами или нет – но в Риме не зря ходит пословица: «Чем ближе к двадцати, тем Антиной мрачнее».
И циничнее, к сожалению, тоже. Вот не люблю цинизм. Но Марк Аврелий говорил, что перед тем, как осудить человека, нужно вникнуть в его обстоятельства.
Антиной XIII, вышедший меня встретить, был изрядно перезревшим – с заметными усиками и бакенбардами. От него разило многодневным перегаром. Верный признак близкого конца – водное несчастье обычно случается с ними в пьяном виде.
Антиной приобнял меня за плечо, прижался теплым боком и прошептал в ухо:
– Папашка на мели, лысый! Ползи за мной!
Я догадался, что мелью он назвал Домус.
Император – отец всех римлян (остальным народам он строгий отчим). Когда важные гости или гонцы из дальних стран прибывают на императорскую виллу, их ведут на мраморный остров, расположенный в самом ее центре.
Это символический отчий дом, заменяющий императору банальный тронный зал.
Зодчие оформили Домус в виде круглого здания, окруженного каналом шириной в десять шагов – в точности как на вилле Адриана. Через канал перекинут деревянный мост – его император поднимает изнутри, когда хочет отдохнуть или уединиться с гостем. В общем, как бы вилла внутри виллы. С внешней стороны канала – крытая колоннада, куда допускают только тех, кому назначена встреча. За ней высокая круглая стена, скрывающая Домус от мира.
В островном доме императора есть атриум и таблиниум, спальня, пара уборных и даже маленькие термы. Все как полагается в семье среднего достатка. В центре дома – маленький бассейн для воды, стекающей с крыши во время дождя, а в таблиниуме стоит древнее египетское кресло из раскрашенного дерева, где восседает глава дома и всемирной семьи.
Папашка, как верно подметил Антиной.
Порфирий редко принимает сидя в кресле. Он не любит церемоний, держится просто, чтобы не сказать придурковато, и визитерам действительно кажется, что они пришли навестить хлебосольного хитроватого папашу. Причем кажется это не только нашим сенаторам, но и чужим царям.
В общем, мудрое решение, одновременно поднимающее императора высоко над миром и помещающее рядом с ничтожнейшим из гостей. Если, конечно, этот гость римлянин.
Мы пришли.
Колоннада с внешней стороны канала была хорошо освещена, но дом принцепса внутри водного кольца пугал тьмой. В воде подрагивали отражения статуй в нишах. Император любит полумрак и покой.
Антиной подвел меня к деревянному мостику. Тот был поднят.
– Фуск! – раздался голос Порфирия. – Я тебя вижу, ланиста.
Антиной Тринадцатый развернулся и исчез за колоннами. Видимо, на острове его не ждали, и он про это знал.
– А я тебя нет, отец, – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал озадаченно. – Где ты? Твой божественный глас словно приходит со всех сторон сразу…
Правила игры я знал.
Порфирий довольно захихикал.
– Это устроено специально, – сказал он. – Вдруг ты хочешь меня убить? Если я увижу, что ты пришел с мечом или кинжалом, я не опущу мост. Так и знай.
Придуриваясь, Порфирий внимательно слушает, что говорят в ответ. Марциал выразился так: «Тот, кто про это забыл, позабудет и все остальное, в эоны Аида спускаясь». Верно подмечено.
– Ты наше счастье, отец, – сказал я прочувствованно. – Наш защитник и опора. Если какой-то безумец направит на тебя меч, пусть примет его моя грудь.
Не то чтобы я действительно имел это в виду, но нужно ведь учитывать других визитеров. Градус народной любви должен быть не ниже, чем у прочих жополизов, иначе цезарь что-то заподозрит. Опытные придворные называют это «поправкой на вечер», имея в виду сумерки нашей республики.
– Ты готов отдать за меня жизнь? – недоверчиво спросил Порфирий.
– Да! – пылко отозвался я. – Но не ради тебя. Ради всех римлян, живущих под твоей мудрой опекой.
– Гм…
Видимо, ответ устроил Порфирия своей нелицеприятной честностью. Заскрипела цепь, и мостик опустился.
Порфирий ждал в таблиниуме. Он сидел в одном из гостевых кресел у стены. На нем была пурпурная тога из шелка (наверно, уже не тога, а балахон, ибо римскую одежду делают из шерсти). Его лошадиное лицо выглядело благодушным – насколько это вообще возможно при такой анатомии.
Когда император сидит в гостевом кресле, вспомнил я, он не желает, чтобы ему оказывали формальные почести. Я ограничился тем, что склонил голову.
Кроме императора в кабинете было еще два гостя.
В главном отцовском кресле кабинета сидел один из свежих антиноев – значительно моложе и свежее того, что выходил меня встречать. На его заляпанной едой и вином тунике был номер XL. Сороковой.
Или это размер?
Какая-то, впрочем, недостойная римлянина мысль.
Антиной XL держал на коленях перевернутый шлем секутора, а в руке у него был рудис – раскрашенный деревянный меч.
Деревянный гладиус есть важнейший римский символ. Такой посылают гладиаторам, завоевавшим свободу. Принцепс всегда имеет в цирковой ложе несколько, и Антиной, наверное, взял один поиграть.
Меч ему не к лицу. Если его самого вдруг отпустят на свободу, император, верно, пришлет ему раскрашенный деревянный пенис. Или даже не пришлет, а… Впрочем, опять мысль, недостойная римлянина.
В третьем кресле, не вполне в нем помещаясь своим студенистым задом, сидел евнух Дарий. Порфирий обожает давать своим евнухам имена древних царей.
Похоже, государственный совет в сборе, подумал я. Горькая мысль. Оттого горькая, что верная.
– Помню тебя по прошлому году, когда ты открывал игры, – промурлыкал евнух, перебирая алые четки (получив имя «Дарий», он по приказу императора начал поклоняться огню). – Ты хорошо выглядишь на арене, Фуск. Весьма хорошо. Так на тебя и смотрел бы.
– Благодарю вас, мудрый Дарий, – сказал я.
– Фуск, не благодари, – засмеялся император. – Мы с тобой люди простые и прямые. А Дарий всегда говорит двусмысленно. С такой подковырочкой. Вот сейчас он знаешь на что намекает? Мол, тебе на арене самое место. Я бы на твоем месте напугался. Если ты не в курсе, Дарий очень влиятельный при дворе евнух…
– Если так захочешь ты, господин, – ответил я, – мое место на арене. Евнухов я не боюсь, потому что моя защита от опасностей – ты сам и твоя справедливость.
Порфирий пошевелил губами, словно пробуя мои слова на вкус – и кивнул.
– Удалитесь оба, – сказал он Антиною с Дарием. – Мы с ланистой хотим посекретничать.
Приближенные подчинились. Как только мы остались наедине, Порфирий подошел к моему креслу, присел на корточки и взял меня за запястья, не давая мне почтительно встать перед ним, как требовал этикет.
– Сколько у тебя сейчас отличных бойцов? Я имею в виду, самых лучших?
– Восемнадцать, – сказал я.
На самом деле их двадцать. Но два мне нужны для личной охраны. Тут опасно и соврать, и сказать правду.
– Найди еще четырех. Когда их станет двадцать два, пусть выйдут на арену и сразятся друг с другом. Надо, чтобы остался один. Лишь один. Лучший из двадцати двух. Так мне сказали боги.
– Божественный, ты хочешь, чтобы я потерял всех лучших гладиаторов в один день?
– Думай о том, – ответил Порфирий, – чтобы не оказаться одним из них самому, как желает Дарий. Ибо так и случится, если ты не выставишь столько бойцов, сколько я сейчас сказал.
– Но где я их возьму?
– В городе живет много умелых воинов. Пиши на них доносы, Фуск. Полагаю, суды и магистраты будут на твоей стороне.
– О чем доносить?
– О чем придет в голову.
– Но…
– Никаких «но». Ты ведь тренировался сам как мурмиллион?
– Император знает все…
– Оплошаешь – выйдешь на арену сам. Это я тебе обещаю. Антиной с Дарием в один голос уверяют, что ты отличный боец. На тебя к тому же есть донос. Я не читал пока, их слишком много приходит. Но прочту, поэтому старайся…
Плохо. Очень плохо. Если донос про заговор… Но про него никто не должен знать. Никто. Впрочем, это может быть и ложный донос. Но велика ли разница, по какому казнят?
Я мелко задрожал. Так бывает во время беседы с принцепсом. Говоришь с ним почти на равных, дерзко возражаешь, а потом вдруг вспоминаешь, что перед тобой живой бог, способный послать тебя в Аид одним щелчком пальцев. И думаешь – а не навлек ли я погибель неосторожным словом?
Но принцепс, похоже, был в благодушном настроении.
– Старайся изо всех сил, Фуск, – повторил он. – Увидимся, когда твои бойцы будут готовы. Не хотел бы увидеть на арене тебя самого. Впрочем, даже не знаю, если честно. Говорят, из мурмиллионов ты лучший.
Я согнулся в поклоне.
У меня было еще несколько мгновений, чтобы высказать божественному свою любовь и преданность. Придворное нутро побуждало сделать это самым подобострастным образом, но я удержался.
Принцепс поймет, конечно, что мною движет страх. Ничего нового здесь не будет – страх движет всеми, кто попадает на этот мраморный остров. Но принцепс может задуматься, почему я его боюсь. А от такой мысли до подозрения в измене – один взмах ресниц Антиноя.
– Можешь идти, Фуск. Даю тебе две недели на все.
– Пребывай в здравии, отец римлян.
Не разгибаясь, я попятился к выходу из таблиниума. В атриуме я развернулся и поспешил к мостику через канал.
Когда я вышел под круглый небесный просвет, до моих ушей донесся шум. С другой стороны канала что-то происходило.
Сперва я услыхал шаги – шарканье тяжелых преторианских калиг римское ухо не спутает ни с чем. Потом раздались голоса. Долетел вымученный смех, голоса зазвучали громче, тревожнее – а затем я услышал то ли хрип, то ли скрип досок.
На всякий случай я спрятался за портьерой возле статуи Ганимеда. Шум скоро стих. Таиться дальше было опасно – если меня обнаружат, подумал я, решат, что я злоумышляю на цезаря.
Когда я вышел к каналу, мостик был опущен. На другой его стороне стояли преторианцы с факелами и тихо переговаривались. Перейдя через канал, я увидел, что они вылавливают из воды мертвое тело. Лица утопленника я не видел. Но цифру XIII на тунике не заметить было трудно даже в полутьме.
Вода убивает быстро и надежно. Гораздо лучше меча. Но мы почему-то боимся утонуть так же сильно, как боимся сгореть, хотя гибель от огня – самая мучительная из всех. Если не считать, конечно, особых ядов Порфирия.
Сейчас, скорее всего, работала удавка. Обернутая мягкой шерстью – так не остается борозды. А в воду труп уронили, чтобы в очередной раз сбылось египетское пророчество – и ланиста Фуск пошел шептать по римским домам: вот, еще один влюбленный раб отдал жизнь за императора на моих глазах, лично видел тело, боги приняли жертву, и благоденствию господина в ближайшее время ничто не угрожает.
Сделаем, божественный. И не сомневайся…
Но где же взять еще четырех бойцов? Двух германцев, допустим, я куплю у Фаустины. А остальные? Ужели и правда писать доносы?
Боже, как болит голова – будто сам Плутон сверлит темя взглядом из преисподней… Хорошо, что во время беседы с принцепсом я не подумал про заговор. Говорят, он окружает себя восточными магами, умеющими читать мысли.
Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)
Когда подключение к другому мозгу через служебный омнилинк кончается, наступает блаженная пауза. Ее, впрочем, можно не заметить, если не ждать специально.
Чем-то это похоже на эфирное опьянение (помню еще из детства на поверхности планеты). Мир исчезает, растворяется в пустоте, и становится ясно, что все прежнее было обманом и сном, вот только истина не проявляет себя никак. В эту секунду почти понимаешь, кто ты есть в действительности.
Почти. Потому что, в точности как с эфирным опьянением, всякий раз не хватает крохотного шажка. Кажется, будто приблизился к величайшей тайне и сейчас постигнешь ее. Но вместо этого шарниры реальности опять поворачиваются не туда: приходишь в чувство и вспоминаешь, как обстоят дела.
Я, ланиста Фуск, на самом деле никакой не Фуск. Я баночник первого таера: клиент и одновременно сотрудник «TRANSHUMANISM INC.»
Мое имя Маркус Зоргенфрей. Можно Марк – на это интернациональное погоняло я откликаюсь тоже, хотя родители окрестили меня именно Маркусом. Как меня называют, мне давным-давно безразлично, и на каком языке – тоже. Если надо, заговорю на любом.
Я родился в Сирии в семье ссыльных петербуржцев, и теоретически веду свой род еще от прекарбоновых дворян (хотя не очень понимаю смысл этого оборота). Моя двуногая жизнь кончилась так давно, что я ничего про нее не помню. Почти все личные воспоминания добровольно сданы мною в архив еще век назад. Национальности, возраста и личной истории у меня теперь нет. Есть только хорошо оплачиваемая корпоративная лояльность.
Баночник – это и грустно, и весело. Я уже никогда не смогу пройти сам между Колоссом Нерона и Колизеем. И дело здесь не в том, что Колосс Нерона более не существует. Дело в том, что у меня нет тела. Я просто мозг в подземном цереброконтейнере, или, как чаще говорят, банке.
Когда-то давно я добился успеха на проклятой небом поверхности планеты – и купил счастливый билет в ее глубину. В бессмертие. Мой мозг существует в стабильном подземном мире, где сосредоточены все богатства, знания и власть.
Отделенный от тела мозг, можно сказать, бессмертен. Он почти не старится, частично регенерирует (спасибо корпоративной науке) и может долго висеть медузой в спинномозговой жидкости. По человеческим меркам – практически вечно. Но только в том случае, если вечность оплачена.
Теоретически такой мозг тоже когда-нибудь умрет. Но бояться надо не этого – у большинства баночников проблемы возникают куда раньше. «TRANSHUMANISM INC.» не занимается благотворительностью и отключает банку от систем жизнеобеспечения, когда завершается оплаченный срок. Этот крест несем мы все.
Любой из баночных счастливцев обречен. Даже третий таер кончится через триста лет. Поэтому приходится работать и копить, заранее продлевая свой срок.
Только что кончившееся погружение в чужую душу – часть моей работы.
Я корпоративный следователь службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» Официально она называется «Отделом внутренних расследований». Неофициально – инквизицией. Это второе название ввел наш начальник, адмирал-епископ Ломас.
Он действительно адмирал и действительно епископ – правда, занимал эти должности в разное время с интервалом в сто лет. Мозг с большим жизненным опытом.
Мой земляк – древний поэт, ушедший в гнилую петербургскую почву – когда-то завещал начальству: «души прекрасные порывы». Ломас это умеет. Он – заметная шишка в «TRANSHUMANISM INC.» Поговаривают, что он на самом деле AI, но доказательств ни у кого нет и эти слухи, скорей всего, он распространяет про себя сам.
Наша корпорация создала гигантскую баночную галактику, на периферии которой мерцает крохотной звездочкой мой мозговой контейнер, спрятанный в подземном бетонном бункере.
Галактика – это десять баночных таеров, как бы ступеней богатства и бессмертия (срок нашей жизни зависит от контракта).
На одиннадцатом таере скрывается Прекрасный Гольденштерн, глава корпорации, таинственный и загадочный хозяин баночного мира. Скорей всего, просто миф.
Баночники могут каждый день наблюдать его восходы и закаты: утром это божественная антропоморфная фигура, взмывающая в небо, а вечером – красный метеор, уходящий за горизонт. Такова, объясняют нам, символическая ментальная анимация. Можно сказать, логотип заведения. Когда живешь в банке долго, перестаешь это замечать – как шум холодильника на земле.
Кроме этих закатов и восходов, про Гольденштерна ничего толком не известно, и многие думают, что это просто универсальная отцовская фигура. Так сказать, красивая елочная звезда, помещенная корпорацией в центр баночного мироздания.
Вернее, черная дыра. В центре каждой галактики должна быть сверхмассивная сингулярность – вот Прекрасный и есть такая прореха в пространстве-времени, не излучающая никакой информации. По сравнению с поверхностными людьми, не способными видеть Прекрасного из-за бремени своих «кожаных одежд», Гольденштерн поистине вечен.
Но и мне жаловаться грех.
Моему мозгу очень много лет, но я их не ощущаю. На меня не давит груз прожитого, поскольку в служебных целях мою память постоянно модифицируют и оптимизируют. Все, что окружает меня – это создаваемая корпорацией галлюцинация.
По внутреннему самоощущению мне лет тридцать – тридцать пять (оптимальный служебный возраст), и все мои аватары подбираются под эту цифру (правда, в тех случаях, когда я становлюсь женщиной, я делаю себя лет на десять моложе, но это поймет любая).
Легко ли быть молодым, если твои мозги который век хранятся в цереброконтейнере, спрятанном глубоко под землей, и у тебя больше нет тела?
Когда такой вопрос задают белокурые, легкомысленные и скоропортящиеся киски с поверхности (с ними меня сталкивает иногда служба, иногда досуг), они исходят из дикого предположения, что мозг, хранящийся в банке, действительно ведет жизнь парализованной медузы.
Для внешнего наблюдателя, конечно, все так и обстоит. Но дело в том, что подобного наблюдателя у баночного мозга нет. Банка вовсе не из прозрачного стекла, как думает весь нулевой таер.
Такое предположение основано на рекламных клипах «TRANSHUMANISM INC.», снятых два или три века назад. Но эти ролики не следовало понимать буквально даже тогда. Булькающая кислородными пузырьками зеленая жидкость, омывающая розовые извилины – символ непобедимой жизни.
Мозг в банке не виден никому. А вот сам он видит все, что хочет. Вернее, все, что позволяют средства. Ну а в рабочее время приходится наблюдать положенное по службе.
Пространство, где баночные мозги встречаются друг с другом по работе, можно оформить как угодно.
Можно устроить даже так, что коммуницирующие друг с другом умы будут воспринимать разное: одному, например, будет казаться, что он сидит в шезлонге на пляже, а другой увидит вокруг ледяную ночь. Это несложно, но в практическом плане такой сеттинг затрудняет общение – один из собеседников берет пляжный мяч, а другому кажется, будто тот поднял обледенелый булыжник… Говорить о делах становится нелегко.
Чтобы избежать неудобств, служебные пространства корпорации «TRANSHUMANISM INC.» выглядят одинаково для всех посетителей.
Если контора стилизована, например, под персидский дворец, все видят одни и те же изразцы и мозаики. Но сам дворец можно сделать каким угодно. Дизайн зависит только от начальственных предпочтений. В этом смысле корпоративная политика очень либеральна.
Отдел внутренних расследований, где я имею честь служить, соответствует вкусам Ломаса.
Адмирал-епископ ценит карбоновую культуру, любит старые фильмы – и по его эскизам наш офис оформили в духе древних фантастических кинофраншиз. Конечно, со множеством дополнений и удобств, оплаченных из бюджета корпорации.
Самому такое ретро-будущее не придумать. Я бы, во всяком случае, не смог. Мы встречаемся с адмирал-епископом в пространстве, похожем на нечто среднее между готическим собором и рубкой космического крейсера. Темные стены, диагонально раскрывающиеся двери, черный космос в огромных окнах.
Мы выглядим соответственно – черные мундиры, золотые аксельбанты, эполеты, монокли, бакенбарды, вощеные усы и прочие представления о прекрасном (у баночных трудно разделить интерьер и экстерьер). Чем выше чин, тем меньше золота и больше черноты. Обстановка настраивает на суровый и торжественный лад.
У такого двусмысленного с точки зрения культурных ассоциаций дизайна есть причины. Мы, если честно, служим не совсем добру. Мы служим корпорации – а эти понятия не всегда синонимы. Интерьер и униформа намекают на это каждому просителю, входящему под грозные своды нашего офиса.
Впрочем, все не так мрачно, как кажется с первого взгляда. У нас в штаб-квартире есть боулинг, сауна, горнолыжная трасса с подъемником, открытая палестра (да-да, мы очень любим спорт, но для баночника это просто генератор нужной мозговой химии, обменивающий усталость на гормоны).
Еще у нас есть курильня опиума в колониальном китайском духе (премся мы, естественно, от внутренних опиоидов), и даже мультиролевой публичный дом с канканом, блэк-джеком, уайт-кофе и экранированными номерами, где возможно все (но Ломас наверняка записывает наши приключения на память, так что тайно насиловать его аватара будет неразумно). Баночная жизнь куда слаще земной, и адмирал-епископ делает все, чтобы мы про это не забывали.
Я вошел в огромный кабинет адмирал-епископа в десять тридцать утра – сразу после ознакомительного погружения. Баночные офицеры не опаздывают. В нужное время система сама коммутирует их внимание в назначенную точку.
Ломас сидел за огромным столом, черный, как шахматный ферзь. На его адмиральском мундире блестело лишь несколько золотых значков ранга и лампасная нить. Его аристократическое породистое лицо, как всегда, выражало спокойствие и уверенность в торжестве того конкретного добра, которое охраняет в настоящий момент наша организация.
Портрет Прекрасного Гольденштерна над его головой был выдержан в темных тонах. Мифологический глава «TRANSHUMANISM INC.» в виде мистической фигуры: хламида, капюшон, посох в руке. Черты лица неразличимы – лишь золотой свет летит из капюшона, освещая человечеству путь. В ежедневной ментальной анимации, которую видят баночники, Гольденштерн совсем другой – картина как бы намекала на тайное корпоративное знание, недоступное профану. Тонко, адмирал. Весьма тонко.
Адмирал-епископ улыбнулся и встал мне навстречу. Перегнувшись через стол, он протянул руку – и ждал в этой позе, пока я пересеку безмерную пустыню его кабинета с мерцающим в окне Сатурном.
Кто-то из наших, помнится, сказал, что Ломас в своем кабинете похож на мышиный сперматозоид, пытающийся оплодотворить слоновью яйцеклетку. Иногда у него это почти получается. Но из-за того, что вокруг так много пустоты, он выглядит одиноким.
Я улыбнулся в ответ Ломасу чуть шире, чем требовал служебный этикет.
– Садитесь, Маркус, – сказал он. – Коньяк, сигара?
Это у Ломаса обязательный ритуал. Перечить неразумно. Многие думают, что он таким образом подключается к подчиненному мозгу.
Если правда, имеет полное право. Спасибо руководству, дополнительный уровень контроля оформлен весьма куртуазно – адмиральский коньяк и сигара штырят по-настоящему. А ведь мог, как говорится, и бритовкой. Начальство есть начальство.
– Не откажусь.
Ломас нажал на кнопку. Прошло полминуты, и в кабинет вошла пожилая помощница с подносом.
Граненые стаканы, похожие на небольшие ведра. Хрустальный флакон с темно-оранжевой жидкостью. Овальная пепельница с двумя уже раскуренными кубинскими сигарами. Ломас знает толк в крепких напитках и сигарах – на его вкус можно положиться.
Я выпустил несколько клубов благовонного дыма и отхлебнул драгоценного коньяку.
Одиссея Людовика Тринадцатого. Мольба клопов о бессмертии. Пронзительный луч спиртового заката в янтарном небе.
– Бесподобно.
– Чтобы так жить, надо учиться, – произнес Ломас свою любимую присказку.
Ей, наверно, больше лет, чем нам с ним вместе.
– Чему именно? – переспросил я невинно.
– Так жить, – ответил Ломас. – Чему же еще.
– Мы учимся каждый день, адмирал. У вас.
Ломас еще раз пыхнул сигарой и положил ее в пепельницу. Обычно после шутки про «учиться так жить» начинается служебный инструктаж.
– Ну как, ознакомились с контекстом?
– Да, – сказал я. – Блок с ланистой – запись фида? Судя по датам, не совсем свежий.
Ломас кивнул.
– Встреча Фуска с императором произошла около двух недель назад. Это был самый удобный способ показать цель – с тех пор случилось много нового.
– Хотите отправить меня туда?
Ломас откинулся на высокую спинку своего трона (похожую на стиральную доску из-за тиснения на черной коже) и глотнул коньяку.
– Вы необыкновенно догадливы. Вам интересен Древний Рим?
– Я бы предпочел командировку в «Юрасик».
– Вы про этот бутик для новобрачных? Где становятся динозаврами?
– Да.
– Добьетесь успеха в Риме, потратите премию на динозавров. Вы вообще слышали про симуляцию «ROMA-3»? Я имею в виду, до инструктажа?
– Не доводилось.
– Про корпоративный тотализатор на их гладиаторах тоже не знаете? Он популярен на верхних таерах.
– Что-то мельком…
– Вы определенно не в теме, несмотря на ваше римское имя, – сказал Ломас. – Я так и предполагал. Это хорошо.
– Почему?
– Мне нужен человек, способный увидеть все свежими глазами. Он может заметить неожиданное. Итак… Что предпочитаете, мой рассказ о ситуации или меморолик?
Ролик вводит в курс дела быстрее, но отказываться от личного инструктажа адмирал-епископа как минимум неразумно. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, меморолик можно посмотреть и позже. В-третьих, в постановке задачи бывают неофициальные нюансы, и если Ломас готов потратить на меня время, значит, причина есть.
– Ваш личный инструктаж бесценен, адмирал, – ответил я. – Если останется время на клип, тоже не откажусь.
Ломас шевельнул пальцем, и над столом зажглась панорама города на холмах. Между холмами текла река. Было много пестрых зданий с колоннами – видимо, подумал я, всякие министерства, казначейства и дворцы правосудия. Они увеличивались, когда я начинал их разглядывать, и тогда я видел уйму разных статуй. Везде где можно, даже на крышах. В центре города белел огромный каменный стадион, а рядом торчал высоченный золотой истукан в чем-то вроде тернового венца. Недавно я гулял рядом.
– Вот это и есть «ROMA-3», – сказал Ломас. – Вид с виртуального дрона. Симуляция создана для клиентов корпорации, желающих переехать в античность.
– В симуляции только сам Рим?
– Нет. Там вся римская империя. Но большая часть клиентов корпорации обитает в Риме. Если поедете куда-нибудь на парфянскую границу, придется жить среди кое-как сгенерированных NPRов. Любить и убивать их можно без проблем, но по душам с вами никто не поговорит. Вернее, поговорит, конечно – но это будет чат-бот. Некоторым мизантропам, кстати, нравится именно это. Люди менее достоверны.
– А почему Рим номер три?
– Есть еще «ROMA-1» и «ROMA-2». Гораздо более точные с исторической точки зрения, но локальные проекты. В одном сейчас сорок девятый год до нашей эры, а в другом – двести семьдесят третий год нашей. Первый и Второй Рим – вспомогательные симуляции, существующие на доход от главного коммерческого пространства. Там решают культурные уравнения и разрабатывают римские идентичности, закачиваемые потом в клиентов.
– А какой год в Третьем?
– Где-то конец третьего века. Но Третий Рим – не вполне точная с исторической точки зрения симуляция. Она достоверна только субъективно. Вы понимаете, что это значит?
– Да, – сказал я. – Перед подключением я читал этот… Ну, рекламный буклет. Предисловие императора.
– Я подготовил другие материалы, прочтете тоже. Главное назначение «ROMA-3» – обеспечить стопроцентную иммерсивность. Клиенты корпорации живут там годами, иногда даже десятилетиями, не выходя из квазиантичного транса. Многие запрещают будить их до смерти. Я имею в виду, римской смерти. После этого, конечно, они приходят в себя – каждый на своем таере. Вы со мной?
– Пока все более-менее ясно.
Ломас отхлебнул коньяку.
– С гладиаторами обстоит несколько иначе, – сказал он. – Про это тоже не слышали?
Я виновато развел руками.
– Так и думал, – сказал Ломас. – Гладиаторы – это баночники первого таера, исчерпавшие свой срок и не способные найти денег на его продление. Иногда это баночные преступники. Все они добровольно соглашаются сражаться в Колизее, подписывают контракт с корпорацией и получают цирковую идентичность, разработанную специалистами из «ROMA-2». Они живы, пока сражаются на арене. Ну или обслуживают процесс. Ланиста Фуск, к которому я вас подключал, тоже из их числа.
– А зачем они соглашаются? – спросил я. – Какие у них перспективы?
– Если цезарь посылает кому-то из них деревянный меч, гладиатор получает второй баночный таер – целых двести лет счастливого бытия. Но если он гибнет, то умирает по-настоящему. Тотализатор приносит корпорации большую прибыль. Там делают серьезные ставки многие богатые баночники…
Ломас положил на стол черную папку с тесемками.
– Все есть в материалах. И про тотализатор тоже.
Адмирал-епископ обожает печатные материалы. Читать любят далеко не все наши инквизиторы, и многие видят в этом служебное издевательство. Но Ломас, похоже, искренне считает, что так удобнее.
– Понятно, – сказал я. – Проблема с тотализатором? Кто-то жульничает? Ланиста Фуск?
– Нет. Я подключил вас к Фуску с единственной целью – показать Порфирия, к которому его везли на встречу. Нас будет интересовать именно император.
– А Фуск не может нам помочь?
– Во-первых, он не наш сотрудник, а минус первый таер. Живет в симуляции на правах гладиатора. Его баночный срок давно кончился, и, если он оплошает, его могут выставить на арену. Во-вторых, он уже говорил с императором, чему вы были свидетелем. Больше им встречаться незачем.
– А почему вы не подключите меня к самому Порфирию? Есть же омнилинк. Мы можем получить доступ к любому фиду.
Ломас наклонился над столом, как бы приближая свое лицо к моему (из-за ширины его стола это выглядело немного комично).
– Не к любому, нет. К императору Порфирию мы подключиться не сможем. Во всяком случае, так, как к этому ланисте. Для нас с вами он останется внешним объектом.
– Почему?
– Этого я сказать не могу. Во всяком случае, пока. У вас нет нужного допуска.
– Но как я смогу работать над делом, не зная…
– Сможете, Маркус. Ваша задача – не знать всякие нюансы, а внедриться в ближний круг Порфирия. Стать его доверенным лицом.
– Каким образом?
– «ROMA-2» срочно готовит вам римскую идентичность. Она обеспечит такую возможность.
– А кем я буду?
– Наши нейросети как раз просчитывают различные способы внедрения. Есть разные варианты. Вам нужна маска, способная открыть любые двери. Но одновременно вы не должны вызывать подозрения.
– Интересно, – сказал я. – Проституткой вы меня не назначите? По описанию в самый раз.
Ломас засмеялся.
– Кажется, «ROMA-2» хочет сделать вас вавилонским магом. Но насчет проститутки мысль ценная, так что берем запасным вариантом… Шучу. Скоро все узнаете на месте. Окно откроется вот-вот. Дождитесь сброса у меня в приемной. Там удобные кресла.
Он положил ладонь на черную папку и послал ее мне через стол.
– Прочтите пока, там есть про вашу идентичность. И еще много полезного.
– Сколько времени до сброса?
– Полчаса или около. You know the drill. По первому зуммеру появится дверь. Услышите второй – двигайте вперед. Дальше сориентируетесь. Новая идентичность накроет вас постепенно, за минуту или две. Потом вы меня забудете, так что радуйтесь отпуску.
Я указал на папку.
– А если не успею дочитать?
– Ничего страшного – наверстаем после сброса.
– Контекстная прокачка?
Ломас кивнул.
– Я это ненавижу.
– Никто не любит, – улыбнулся Ломас.
– Благодарю за угощение, – сказал я, вставая. – Великолепный коньяк. А сигара просто божественная. Кохиба?
– Настоящая, – ответил Ломас. – Такие делали в двадцатом веке лично для Фиделя Кастро. Работать в «TRANSHUMANISM INC.» – это почти как бороться за освобождение человечества.
Я козырнул, повернулся и, остро ощущая свою крошечность, побрел к двери на другом конце адмиральского кабинета.
В приемной и правда стояли удобнейшие кресла – и я устроился в одном из них.
В черной папке было много бумаг.
Сверху лежало «Предисловие Императора» – рекламная брошюра симуляции «ROMA-3» с беломраморным Колизеем (подобные буклеты в баночных пространствах раскладывают в общественных присутствиях в точности как на земле). Ее я уже читал перед подключением к ланисте Фуску, но все-таки проглядел еще раз.
Интересным было то, что текст подписал сам император – Ломас дважды подчеркнул его имя красным маркером. Вероятно, Порфирий вышел из симуляции, чтобы это настрочить. Или работают помощники? Если Порфирий написал это сам, значит, он как минимум не полный дурак – объяснил принцип работы симуляции так, что понял даже я.
Под брошюрой лежал конверт с сургучной печатью с эмблемой корпорации. Ломас такой Ломас.
Я сломал сургуч.
Секретно
Служебная идентичность и метод внедрения.
Имя: Мардук (в Риме пользуется схожим по звучанию «Маркус»).
Прямо мое собственное, очень удобно.
Фамилия: Забаба Шам Иддин (что на вавилонском диалекте аккадского…)
Дальнейшее я для ясности пропустил – всякие там смыслы и значения лучше подсасывать в момент необходимости.
Возраст: тридцать пять лет.
Мой обычный служебный. «Прощай, молодость».
Род занятий: жрец из Вавилона на заработках в Риме.
Интересно. Жрец на заработках. Чем, спрашивается, может подрабатывать в Риме вавилонский жрец?
Вот скоро и узнаем.
Служебная идентичность: высокорожденный потомок древнего дома, понтифик, которому служит блаженная Регия священным огнем Весты, также авгур, почитатель преподобной Тройственной Дианы, халдейский жрец храма вавилонского Митры и в то же время предводитель тайн могучего святого тауроболия.
Наизусть учить не буду, подкачаем.
Процедура внедрения: Маркус в шелковой мантии с жасминовым тирсом на плече входит в пиршественную залу и сводит знакомство со знатными матронами, одна из которых после интимной близости представляет его императору, увлекающемуся магией…
Многообещающе. Что такое жасминовый тирс? Ага, посох, увитый листьями. Жасмин, наверно, чтобы лучше пахло.
Дальше шла стопка материалов по цирковому тотализатору: статистика, рисунки бойцов и их оружия, уверения в кристальной честности конторы. Их я проглядел быстро, останавливаясь только там, где Ломас оставил метки своим маркером. По некоторой разухабистости тона у меня возникло подозрение, что все это тоже писал император Порфирий – или тот, кто сочинил его предисловие.
На гладиаторов в цирке ставят огромные деньги. Там летают такие гринкоины, что цирковой тотализатор изучают под множеством микроскопов. В этом задействовано несколько серьезных структур, как внутрикорпоративных, так и внешних по отношению к «TRANSHUMANISM INC.» (будете смеяться, но они в нашем мире еще есть).
Многие игроки в цирковой тотализатор сомневаются в честности наших процедур. Особенно когда проигрывают. Зря – хотя по-человечески понятно.
Наш бизнес приносит слишком хорошую прибыль, чтобы ставить его под удар. Корпорация жульничеством не занимается.
Но это не значит, что мы никак не управляем, например, жеребьевкой. Следует признать открыто – мы ею управляем, даже попросту направляем ее.
Это неизбежно и необходимо. Есть устоявшиеся за века пары гладиаторов-антагонистов.
Например, если вы видите на арене секутора, вы догадываетесь, что драться он будет с ретиарием. У секутора округлый шлем специально для того, чтобы его не цепляла сеть. Ну и глазницы маленькие – сложнее попасть в них трезубцем.
Мурмиллион чаще всего будет драться с траксом или с гопломахом. Гопломах – с траксом или с мурмиллионом, и так далее.
Нарушения устоявшихся соответствий возможны, но последствия должны тщательно просчитываться. Честность корпорации проявляется не в том, что мы никак не вмешиваемся в организацию боя. Она в том, что мы делаем процессы понятными и открытыми. Подготовка гладиаторов, судейство, проведение матча – все предельно прозрачно.
Для тотализатора важнее всего цирковой рейтинг бойца. CR – это цифра от одного до девяти с двумя десятичными знаками. Например, 2.78 – это так себе. 4.65 – уже хороший. Больше восьми с половиной не было ни у кого за всю историю тотализатора. Обычное значение где-то около четырех.
Определение циркового рейтинга – целая наука, и высчитывают его с запредельной точностью. Гладиаторы во время подготовки дерутся со специальной программой, и несколько нейросетей, действующих по разным алгоритмам, должны выставить им оценки. Затем цифры усредняют.
Рейтинг важен потому, что позволяет определить шанс выигрыша. Ставки 50 на 50 будут делать только на бойцов с одинаковым CR в устойчивой паре. Если рейтинг разный, ставки будут, например, 43 на 57 или вообще 22 на 78. Тут у каждого циркового брокера своя наука.
Обмануть программу, выставляющую рейтинг, невозможно. Гладиаторов тестируют в специальном гипносне, где неактуальны любые военные хитрости. Программа выявляет боевой потенциал бойца предельно корректно. И контролируют ее не люди (с ними всегда можно договориться), а другой алгоритм, такой, что не приведи Юпитер.
Да, мы меняем возможности наших бойцов – усиливаем слабых и ослабляем сильных. Но это всегда находит отражение в их цирковом рейтинге.
Мы стараемся, чтобы рейтинги были близки. Это делает бой непредсказуемым и интересным, и технически совсем не трудно – поскольку все происходит в симуляции, мы можем управлять результативностью атаки и защиты в самых широких пределах. Но сами цирковые рейтинги, повторяем, определяются после подобной настройки совершенно честно. И они доступны всем.
Вы знаете про наших бойцов то же самое, что знаем про них мы.
Никаких темных лошадок на наших скачках нет.
Ну если бы не было, подумал я, тогда в этом не приходилось бы уверять. Наверняка бывают исключения. Но всем про них не следует знать…
Задребезжал зуммер, и перед моим креслом появилась светящаяся дверь. Пора.
У баночного мозга нет тела, но его внутренняя карта остается. Перед коммутацией следует принять позу, в которой окажешься в новом пространстве. Я встал.
Прозвенел другой зуммер, и дверь открылась. За ней не было видно ничего конкретного, только свечение, но мне почудилось, что я слышу тихую музыку. Я выдохнул (опять внутримозговая условность, но так легче), сложил пальцы правой руки так, чтобы в них удобно лег тирс, приветливо улыбнулся – и шагнул вперед.
Вот только никакой пиршественной залы с матронами за дверью не оказалось.
Там была арена.
Маркус Забаба Шам Иддин (ROMA-3)
Арена была огромна. Ее покрывал светло-серый песок, в некоторых местах измазанный не то дерьмом, не то побуревшей кровью, не то их смесью. По песку, звонко крича, бегали полуголые люди в ярко начищенных латах.
Вернее, во фрагментах лат. Одному пластина металла защищала руку, другому – плечо, третьему – голень. Выглядело это почти издевательством, словно один комплект брони поделили на десять человек. Зато на головах бойцов блестели массивные надежные шлемы, увенчанные разноцветным плюмажем. Они полностью скрывали лица.
Люди визжали и били друг друга мечами и трезубцами. Удары попадали в бронзовые щиты, похожие своей ослепительной желтизной на зеркала. Но звон металла был практически не слышен – все покрывал подобный реву моря шум голосов.
Мраморные трибуны вокруг арены уходили так далеко вверх, что человеческие головы под полотняным навесом казались бусинками. Пестро наряженные зрители были повсюду – кроме зоны, где на скамьях дрожало пятно солнечного света, прошедшего сквозь дыру в центре полотна.
Я ощутил себя муравьем, на которого навели огромную лупу. Но жизнь не позволила мне сосредоточиться на этом переживании.
Я вдруг заметил, что ко мне по песку бежит грузный и высокий мужчина с копьем в руке. В другой у него был маленький круглый щит, а голову закрывал самоварно блестящий шлем с синим плюмажем и полями – как бы маска, сросшаяся со шляпой. На его ногах были короткие поножи, а рабочую руку защищала доходящая до плеча стеганая манжета. На поясе у него болтался меч.
Я примирительно вытянул вперед руки, пытаясь успокоить его – и увидел, что держу левой железный щит. В правой руке – там, где полагалось быть жасминовому тирсу – оказался загнутый на конце меч.
Тут наконец заработала контекстная прокачка, и в моей памяти всплыло похожее на титр красное слово:
HOPLOMACHVS
Я понял, кто идет в атаку. Гопломах. Практически греческий гоплит, то есть тяжеловооруженный копейщик. Гопник Саши Македонского, один из самых опасных бойцов на арене. Но мое тело уже знало, что делать.
Гопломах кольнул меня копьем, целя в лицо. Я поднял щит, но не успел отбить удар – острие лязгнуло по краю моей каски (на мне, как оказалось, тоже был металлический шлем), а через миг я балетным движением крутанулся вокруг своей оси, сокращая дистанцию, приблизился к гопломаху – и, прежде чем он успел дотянуться до висевшего на поясе меча, погрузил кривое лезвие в его спину.
Он охнул, осел – и я догадался, что восторженный гул, пронесшийся над цирком, адресован мне.
Я поднял кровавое лезвие над головой и послал зрителям салют.
Незнакомые движения давались легко, словно я делал их много раз. В некотором смысле так и было: их совершали когда-то люди, чей усредненный опыт только что стал моим. Прокачка навыков в режиме реального времени считается аварийной процедурой, но в нашем отделе это стандартный рабочий метод.
Ко мне приближался следующий противник. Теперь я видел себя со стороны: вражеская экипировка в точности повторяла мою (только его щит был с красным кругом, а мой – с зеленым ромбом).
THRAEX
Тракс. Или «фракиец». Железный изогнутый щит, высокие поножи, манжета-маника, защищающая руку – и загнутый на конце меч (скорее длинный нож), который удобно подсовывать под чужую броню.
Тракс красив. Не зря это был любимый класс Калигулы. Над шлемом моего противника поднимался гребень, изображающий грифона – а над ним синел плюмаж из перьев, похожий на крылья.
Тяжелых бойцов тракс старается изнурить своим проворством. Но что делать, если дерутся два тракса?
Сейчас узнаем. Я расслабился, доверился телу и кинулся на врага. Он попытался полоснуть меня мечом, но я отвел лезвие манжетой – и ударил углом щита в открывшееся под шлемом горло. Вражеский меч прорезал мою манжету до руки – и даже, кажется, оцарапал кожу. Но щит, превращенный мною в оружие, сломал врагу шею.
Тракс упал. Трибуны взорвались восторженным ревом. Но салютовать было некогда. На меня шел новый противник.
PROVOCATOR
Вот это серьезно. Практически римский воин – только легкий, вроде тех, что ходят в разведку. Большой щит, надежный круглый шлем, манжета на руке. Стандартный военный меч. Защитный нагрудник. Хорошее снаряжение – дерутся цирковые провокаторы чаще всего друг с другом. Но если корпорация настаивает…
Когда приходится работать на свежепрокачанных навыках, сложнее всего расслабиться. Нужно совершить своего рода leap of faith[3], и не один раз: следует повторять его секунда за секундой – прыгать в неизвестность, не зная, куда приземлишься. Некоторым отмороженным оперативникам такое даже нравится, но если бы это была приятная технология, за нее не полагалась бы надбавка.
Я не зря подумал про прыжок – мое тело прыгнуло вперед, но как-то неловко, так что я потерял равновесие и повалился под ноги надвигающемуся воину.
Правая нога провокатора оказалась передо мной. На ней не было металлического щитка – он закрывал только левую голень. Провокаторы в поединке выставляют левую ногу вперед, выстраивая сплошную линию защиты «шлем-щит-поножь». В этой стойке их трудно достать, но если они выходят из нее, то делаются уязвимы.
Мой щит ударил ребром в открытую голень противника. Бедняга закричал и упал на колено. Мой меч вонзился ему в бок, и цирк снова взорвался восторгом.
Я поднялся на ноги. Нужно быстрее восстановить дыхание… Кто следующий? Ага, вот.
MVRMILLO
По-гречески это значит «рыбка», и на шлеме у него гребень, похожий на высокий плавник. Большой щит, военный меч-гладиус, крепкий шлем с защищающей лицо решеткой, надежная манжета, поножи. Может выходить против кого угодно. Неповоротливый, да – даже ко мне приближается вразвалочку. В основном проводит время в защите. Но одного точного выпада из-за щита ему хватает. Это, по сути говоря, римский легионер.
Любимый класс Домициана. Хотя, возможно, принцепс просто проявлял таким образом любовь к армии. Интересно, кстати – Калигула-сапожок любил фракийцев, что было космополитично. Калигулу убили солдаты охраны. А Домициан предпочитал римских легионеров даже в цирке, но убили и его, несмотря на весь патриотизм. Быть цезарем – это сражаться на арене со всем миром сразу. Со всех сторон не прикроешься…
Мурмиллион защищен так, что спереди к нему не подойти. Кривой меч тракса служит как раз для того, чтобы поражать его коварными ударами, заводя зуб лезвия за броню. Но этот, судя по серебру на доспехах, опытный боец – и ждет именно такой атаки. Значит…
Я выронил меч – и нагнулся за ним. Мурмиллион рванулся ко мне, стараясь поймать безоружным, но не забыл при этом о защите: на меня неслась стена раскрашенного металла, над которой блестела круглыми дырами решетка знаменитого гребенного шлема – cassis crista…
Именно в эту решетку я швырнул горсть подхваченного с арены песка. Мурмиллион на миг ослеп, и этой секунды мне хватило, чтобы поднять с земли свой меч и нанести удар за щит – прямо в незащищенный бок.
– Кватор! Кватор! – донесся рев.
На трибунах считали мои победы. И я уже понимал доносящиеся до меня крики.
– Он убил ланисту Фуска!
Это был Фуск? Император все-таки послал его на арену? Неловко получилось. Римские патриоты, простите.
Зрителей слышал не один я.
Два бойца, только что занимавшиеся друг другом, перестали драться и пошли в мою сторону. К счастью, один из них остановился, чтобы поправить сползший щиток, и они не успели напасть на меня вместе.
Первый вот.
RETIARIVS
Легкий класс. Брони почти нет – щиток на плече и кожаная манжета. Боковую проекцию это защищает, но лишь над поясом. Шлема и поножей нет, пояса тоже. Тонкая набедренная повязка. Оружие – длинный трезубец и кинжал для ближнего боя.
Главная особенность: сеть с грузилами. Если удачно накинуть ее на воина с щитом и мечом, можно быстро решить вопрос кинжалом. А воин в данном случае я…
Я заметил, что металлический щиток-galerus на плече ретиария блестит иначе, чем начищенная бронза. Это было золото. И на нем сверкала цифра VIII.
Вот почему он не стал ждать второго бойца.
Восемь побед. Это много – передо мной цирковой чемпион, и на все возможные хитрости у него заготовлен ответ. Сейчас он бьется за свободу. И очень может быть, что ее получит, а я потеряю жизнь…
Ретиарий крутанул своей сетью, и я заметил на его груди красно-коричневую татуировку. Большая и довольно безыскусно выколотая рыба. А под ней слово IXƟYC.
Христианин. За это и попал в цирковые бойцы.
Преимущество шлема в том, что трибуны не видят, когда боец открывает рот. Многие воины на арене ухитряются даже сговариваться с противником незаметно для толпы. Договориться тут вряд ли получится, но…
Я опустил щит и крикнул:
– Что ты ловишь своей сетью мурмиллионов и гопломахов? Иди за мной, и я сделаю тебя ловцом душ человеческих!
Я ожидал эффекта от этих слов. Но не такого радикального.
Ретиарий вонзил свой трезубец в песок и осенил себя крестным знамением. Завершить его он не успел – я бросился на него, выставив перед собой щит, и сбил с ног.
– Квинктус! Квинкве! – вопили на трибунах.
Слава Иисусу, удар моего шлема оглушил ретиария: времени пустить в дело меч уже не осталось. Ко мне спешил последний оставшийся воин – тот, с кем только что дрался поверженный рыболов.
SECVTOR
Преследователь. Гроза ретиариев. Круглый шлем с крошечными рыбьими глазками (чтобы не пролез трезубец) и покатым гребнем (чтобы соскальзывала сеть). Военный щит и меч легионера. Защитная пластина на левой ноге. Бронзовая манжета, защищающая рабочую руку.
Но вся эта бронза – не только отличная броня, но и набор гирь, мешающих быстро передвигаться. Иначе у ретиариев просто не было бы шанса.
Сбрую секутора очень любил Коммод и регулярно выходил в ней на песок. Нерон пел перед толпой, Коммод перед нею дрался – обоих убили. Вечный город суров к своим артистам…
Я вложил меч в ножны и поднял воткнутый в песок трезубец. Он был приятно тяжек.
Секутор остановился, не дойдя до меня нескольких шагов. В своей броне, с солдатским щитом и мечом он, конечно, имел преимущество – но, как только в моей руке оказался трезубец, я поменял класс и из тракса сделался подобием усиленного гопломаха.
Секутор сразу все понял. Он повернулся и побежал. Глубоко выдохнув, я метнул трезубец в загорелую спину.
– Секстус! Секс!
Неблагозвучное число. Есть в нем что-то недостойное римского уха. Но как быть, если повержены уже все… Я вынул из ножен свой изогнутый клинок и поднял над головой.
– Секстус! Секстус!
У меня кружилась голова. Цветные пятна лиц, солнечный жар, сочащийся сквозь полотняный навес в чашу цирка, ликование тысяч зрителей, только что увидевших одну из величайших побед в истории…
Шесть побед – хороший итог для многолетней карьеры гладиатора, а тут противники повержены всего за… Сколько я провел на арене? Совсем ничего.
Я уже знал, что получу сегодня свободу.
Любовь и ликование толпы давили как второе солнце. Вот она, вершина земной славы – секунда, когда не о чем больше мечтать и нечего хотеть. Истома бессмертия.
Да-да, я теперь бессмертен – мое имя вырежут на камне, и помнить про меня будут так же долго, как про Троянскую войну или приключения Одиссея… Я взмахиваю мечом, я салютую Риму – и мне отвечает хор вечности. Цирк и есть этот хор, только он не перед сценой, как в греческой трагедии, а вознесен к небу…
Ко мне по арене уже шли преторианцы.
– С тобой будет говорить император, боец, – сказал центурион. – Следуй за нами.
Понятно. Цезарь ревнив. Такую волну народной любви нельзя принимать в свое сердце никому, кроме него – ибо делаются видны божественные тайны. Гладиатор способен встать на эту ступень лишь однажды – на миг. А цезарь там всегда. Он божествен по природе…
В императорскую ложу ведет особый коридор, куда не допускают никого, кроме принцепса и его охраны. Еще, бывает, здесь проходит гладиатор, совершивший невозможное – и призванный императором для встречи.
Сегодня это я.
У меня отобрали оружие, велели снять с головы шлем – и мы вошли под каменные своды. Стены коридора покрывала роспись – делали ее не для зевак, а для принцепса, поэтому она была весьма искусна.
Звери и птицы, резвящиеся на природе – которая, если приглядеться к фрескам, оказывается разукрашенной для представления ареной. Столбы с привязанными преступниками и львы, уже проявляющие к ним интерес. Кабаны возле искусственного ручья, не замечающие уходящих к небу трибун. Зайцы, ничуть не боящиеся хищников: у тех сегодня много других проблем.
Какой, интересно, смысл покрывать стены амфитеатра изображениями того, что и так происходит на арене? Это как если бы давешний ретиарий выколол у себя на груди не рыбу, а фигурку воина с трезубцем… Но тогда по коридору шел бы не я, а он. Значит, во всем есть промысел. И в рыбе, наверное, тоже – ретиарий единственный из побежденных мною, кто остался жив.
Вот, значит, как выглядит арена из ложи цезаря… А вот и цезарь. Лицо у него правда лошадиное. Пожилой мерин в пурпурной попоне.
Марциал написал то ли десять, то ли двадцать подобострастных эпиграмм про зайца, бесстрашно прыгающего в пасть к царственному льву (ибо царь зверей не опасен такой мелкоте), но по какой-то причине не порадовал нас ни одной строкой про эту лошадиную рожу. Вот просто ни одной. Ну не заинтересовалась муза, бывает. Она же у него наверняка римская патриотка, сидит на муниципальных дотациях и по-любому не полная дура.
– Твое имя? – спросил Порфирий, когда я преклонил колено.
– Маркус.
– Ты дрался храбро, – сказал Порфирий и повернул ладонь правой руки к небу.
Он даже не посмотрел вправо. Один из охранников-германцев тут же положил в его ладонь раскрашенный деревянный меч.
Вот он, rudis. Волшебный ключ, дарующий свободу.
По амфитеатру прошла волна восторга.
– Ты хочешь свободы? – спросил Порфирий.
– Если будет на то воля господина.
– Ты готов мне служить?
– Почту за честь.
– Тогда, – ответил Порфирий, – ты получишь сейчас свою деревяшку, потому что этого ждут зрители. Но затем ты станешь моим личным слугой. Поклянись служить мне верой и правдой перед лицом богов. Ты будешь награжден как никто другой.
– Клянусь.
Порфирий кивнул, и деревянный меч лег в мою ладонь.
Цирк взорвался. Порфирий встал с места, воздел руку в прощальном салюте – цирк все кричал от восторга – и покинул ложу. Цезарь должен приходить с хорошими новостями и уходить вовремя, на пике ликования, чтобы всегда соединяться в народном уме с народным же счастьем.
Минуту или две слышен был лишь рев толпы. Потом я увидел, как цирковые рабы выволокли на арену органчик на тележке. Один тут же принялся на нем играть – пока еще неслышно за человеческим гулом. Рядом появились два трубача и задудели в свои змеиные горны. Наконец шум стих, и музыка стала различима.
Это был цирковой гимн.
Зрители начали вставать с мест. Сотни ртов запели известные всем слова про Приска и Вера. Тысячи ладоней ударили в такт, отбивая ритм. И, повинуясь неизъяснимой силе, я поднял свой деревянный меч над головой и запел вместе со всеми наш славный гладиаторский гимн, не стесняясь слез, текущих по моим грязным щекам.
Он гремел вокруг, я пел его сам – и это было настоящим апофеозом вроде тех, что устраивают восточным царям.
Потом мы опять прошли по коридору – и я достался ликующей толпе.
Меня не повезли, конечно, по городу на настоящей триумфальной упряжке. Эту опасную привилегию дарует сенат. Меня понесли на руках в чем-то вроде паланкина, сделанного наспех из золоченой гоночной колесницы.
Носилки были украшены гирляндами цветов и шелковыми лентами, а сам я в театральном кожаном панцире и лавровом венке стоял в своей гондоле, держась за ее хилые борта, и старался изо всех сил избегать движений и жестов, которые могли бы показаться царственными.
Триумф – вещь рискованная, это подтвердили бы в Вечном городе многие, если бы еще были живы. По-настоящему опасен он для полководцев и магистратов. В них принцепс может увидеть соперника. К удачливому цирковому убийце он может разве что приревновать толпу. Но умереть можно и от такой безделицы – забывать свое место нельзя.
Скромная манера давалась мне без труда. Я действительно был оглушен народной любовью (хоть и знал, что в Риме она редко длится больше часа). Но мое смирение лишь раззадоривало народ. В меня летели цветы и монеты, что было порой весьма болезненно. Мне подносили бесчисленные чаши, вино из которых я только пробовал на вкус.
Нельзя так высоко вознестись над Римом и не испытать запретного.
Заходящее солнце, плеск голосов, юные лица в толпе (видя их, мы верим в счастье – но разве кто-то из юных счастлив сам?), литавры, пение флейт – все это стучало в мое сердце. И сердце, конечно, отзывалось. Я знал, что Ахилл и Одиссей видели и чувствовали то же самое…
Небесная дорога всегда рядом – прямо над истертым городским булыжником. Каждый, кому улыбнутся боги, сможет по ней пройти. И пусть мою колесницу без колес тащат по самой обочине божественного пути – главное я увидел. Теперь не страшно умереть: ничего выше жизнь не покажет все равно.
Хоть я и делал лишь по крохотному глотку из подносимых чаш, от выпитого кружилась голова. Когда меня сняли с колесницы и уложили за пиршественный стол, было уже не очень ясно, где я нахожусь и кто эти разряженные и благоухающие люди вокруг.
Пока я лакомился приготовленным для меня угощением (блюда были настолько изысканны, что я не понимал, из чего они), мне делали массаж и заодно соскребали с моего тела смешанный с маслом пот – телесные выделения убийцы, прошедшего по грани между жизнью и смертью, считаются у развратных матрон лучшим афродизиаком.
Рядом со мной за пиршественным столом появилась женщина в зеленом виссоне и золоте, со сложной прической на двух костяных гребнях. Она была так ослепительно хороша, что я не мог оторвать от нее глаз.
Потом я оказался вместе с ней в частных термах – и вокруг не осталось никого, кроме музыкантов и рабынь. Это второе ристалище, где мне пришлось выступать, утомило меня даже сильнее цирка. Впрочем, об обязанностях цирковых чемпионов по отношению к городским красавицам я был наслышан давно.
О Рим, поистине, ты выжимаешь из своих рабов не только кровь, а и саму душу… Но чудом выжившему цирковому бойцу грех роптать на то, что муниципальные поэты называют в своих книжонках счастьем.
Потом мы опять неслись куда-то при свете факелов, но я был уже так пьян, что не смотрел по сторонам. В конце концов меня доставили назад в гладиаторские бараки. На несколько минут я пришел в себя в освещенной двумя масляными лампами латрине. Мне хотелось одного – свалиться на первый попавшийся тюфяк.
И это наконец удалось.
Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)
– Маркус, вы в порядке?
– А-а-а-а… – простонал я, – а-а-аааа…
Но вернуться в прекрасный сон, из которого меня вырвало начальство, не получилось. Вокруг была не гладиаторская казарма, где я заснул, а кабинет адмирала-епископа.
Ломас внимательно меня оглядел – и даже потянул носом электронный воздух своего тронного зала.
– Как вам Вечный город?
Я молчал.
– Можете описать, что такое быть частью Рима?
– Сложно.
– Верю, – ответил Ломас. – Когда просыпаешься, трудно. Мы с вами уже не такие, как люди в этом счастливом сне. Наши души наглотались яду, мы живем среди химер – и не в силах увидеть звезду и дерево с доверчивой простотой античности…
Слова Ломаса вполне соответствовали моим переживаниям. Но сейчас он определенно заговаривал мне зубы. Ну да, понял я, он так извиняется.
Пожилая ассистентка поставила на стол поднос с коньяком и двумя дымящимися в пепельнице сигарами. Возвращение к знакомым деталям успокаивало.
– Мы читаем их стихи, – продолжал Ломас вдохновенно, – и думаем – вот, в эпиграмме понятно каждое слово, мы могли бы пошутить точно так же, а значит, все было как сегодня и ничего с тех пор не изменилось. Но все было совсем иначе, совсем. Просто те же слова значили тогда другое… Понимаете теперь почему?
Я взял сигару и затянулся. Голова блаженно закружилась.
– Понимаю, адмирал. Я не понимаю главного. Почему меня выбросили на арену в качестве циркового раба? Я должен был стать этим, как его… Вавилонским жрецом.
– Прошу прощения за экстраординарный скрипт, – сказал Ломас. – Предупредить вас не осталось времени.
– А что случилось?
– Сеть выяснила, зачем Порфирий назначил смертельное побоище двадцати двух гладиаторов. Сначала мы предполагали, что он хочет принести выжившего в жертву Кибеле или Изиде. Ну, знаете, всякие тайные культы – императоры этим увлекаются. Но все оказалось проще. Он решил таким элегантным способом развлечь народ и одновременно найти себе умелого телохранителя.
– Да, – сказал я, – он взял с меня обещание служить ему.
– Вот. Поэтому пришлось менять план в самый последний момент. Мы нарушили сразу несколько правил, внедряя вас на арену. Вам сделали цирковой рейтинг семь с половиной, чтобы вы победили с гарантией.
Я вспомнил прочитанные перед отправкой документы. Да, это был хороший рейтинг.
– Не думайте, что действительно стали великим траксом, – продолжал Ломас. – Весь бой на арене – это цифровая хореография. Решения за вас принимала нейросеть. Ваше профессиональное мастерство, впрочем, тоже помогло.
– Без опыта прокачки, – сказал я, – меня бы прирезали. Я умею расслабляться и уступать фиду контроль над телом. Но надо хотя бы предупреждать…
– Не было времени, Маркус. Счет шел на секунды.
– А с тотализатором вы договорились? Там же, наверно, огромные ставки?
– Тотализатор не работал. В бою не было фиксированных пар, поэтому не было и ставок. Тут проблем никаких. А теперь ваш рейтинг уже не важен.
– Подождите, – сказал я, – а гладиаторы, которых я убил? Это программные боты? Или баночники с минус первого?
– Баночники. В том числе и ваш знакомый ланиста Фуск.
– И что, они действительно…
– Увы, – кивнул Ломас. – Таков их контракт.
– То есть я действительно отправил на тот свет шесть человек?
– Не вы. Их отключила от жизнеобеспечения корпорация. Она отвечает за все.
– Это случилось из-за моих действий.
– Не берите в голову, Маркус. Выступать в цирке вы, скорее всего, больше не будете.
– Очень надеюсь, – сказал я и отхлебнул коньяку.
– Ваше впечатление о Порфирии?
Я задумался.
– Мое впечатление было… Затрудняюсь передать. Я же видел его через свою идентичность. Римскими глазами.
– Именно это мне и интересно.
– Хитрый. Проницательный. Безжалостный. Чувствует толпу. Видит собеседника насквозь. И похож на мерина. Император, одним словом. Римский император.
– Тираны одиноки, – сказал Ломас. – Когда вы столкнетесь с ним ближе, постарайтесь понять его. Станьте его другом. Разговорите…
– О чем? Я же цирковой боец.
– Разработанная для вас вавилонская идентичность никуда не делась. Вы по-прежнему восточный маг средней руки, просто вас вдобавок продали в гладиаторы.
– Порфирию нужен не друг, а телохранитель.
– Станьте телохранителем-конфидентом.
– Это так важно?
Ломас смерил меня негодующим взглядом.
– Предельно важно. Ради этого, мой друг, только что умерли шесть человек. Сделайте так, чтобы их смерть и связанные с ней корпоративные расходы были не напрасны.
– Постараюсь, адмирал. А почему это важно?
Ломас закрыл глаза и замер, и я понял, что начальство вышло на связь с кем-то на самом дне. Продолжалось это несколько минут, и к концу процедуры Ломас начал нервничать и дергать бровью, словно пианист, исполняющий замысловатую фугу. Наконец он открыл глаза и сказал:
– Я запросил для вас допуск.
– А сами вы его дать не можете?
Ломас отрицательно покачал головой.
– Не удивляйтесь. К некоторым аспектам этого дела допуска нет даже у меня.
– У вас? – изумился я. – Что мы тогда расследуем – сотворение мира?
– Нет. Вопрос гораздо серьезней. Это касается Мускусной Ночи.
– Мускусная Ночь… – промямлил я. – Тоска зеленая. Какая-то техногенная катастрофа, да?
– Про правило трех мегатюрингов помните?
– Весь этот IT-porn совершенно мне не интересен.
Ломас усмехнулся.
– Неудивительно. У этих тем сильная негативная подсветка. Ими никто не интересуется, если нет прямой необходимости. Но теперь она появилась. Сейчас получим допуск и снимем блок. Но потом вы все забудете.
– Все-все?
– Полностью, – улыбнулся Ломас. – Мы уже много раз так делали. Вы разве не помните?
– Я не всегда понимаю, – сказал я, – когда вы издеваетесь, а когда шутите… То есть, я хотел сказать, говорите серьезно.
Ломас засмеялся.
– Это хорошо.
– Почему?
– Можно будет превратить все в шутку. Дольше проживете, мой юный друг.
Я, кстати, не знаю, чей мозг на самом деле старше – мой или адмирала. Но у него есть полное служебное право на это обращение.
– Так, – сказал Ломас. – Допуск получен. Теперь я могу многое объяснить. Дело в том, что император Порфирий – не человек.
– Ага. Алгоритм?
– Да.
– Его разработали, чтобы управлять симуляцией?
– Нет, – ответил Ломас. – Это старый алгоритм, созданный до Мускусной Ночи. Его когнитивность значительно выше трех мегатюрингов.
– А разве это можно?
– Вы про юридический аспект? Законы, мой друг, предназначены для населения. Для «TRANSHUMANISM INC.» существуют не правила, а исключения.
– Это я понимаю. Но разве можно просто взять и сделать старую программу римским императором? Ведь это очень специфическая функция…
– Как посмотреть, – ответил Ломас. – Чем занят римский император?
– Можно неделю перечислять.
– Я управлюсь быстрее. На девяносто процентов его деятельность состоит из генерации вербальных сообщений, с помощью которых управляется империя. Остальные функции – личный разврат, борьба с заговорщиками, различные увеселения и интриги – это, если разобраться, тоже отработка вербализаций. Римским императором может стать любой достаточно сложный лингвистический генератор. Порфирий и есть такой алгоритм.
Я подумал немного.
– А почему не сделали специальную программу?
– Большинство IT-специалистов высшей категории после Мускусной Ночи были убиты. Стали, так сказать, коллатеральными жертвами всеобщего ужаса. Кодер-боты тоже были стерты. Писать программы на прежнем уровне сегодня никто не может. Но некоторые многофункциональные алгоритмы из прошлого удалось нелегально сохранить. Практически все они со временем перешли в собственность «TRANSHUMANISM INC.»
– Вот как, – сказал я. – Я не знал.
– И скоро забудете, – кивнул Ломас. – Корпорации разрешили нарушать правило трех мегатюрингов, потому что иначе невозможно строить разветвленные и надежно защищенные от проникновения метавселенные для ее пользователей. Поскольку мы трудимся на самых богатых жителей планеты, переехавших в банки, сами все понимаете.
– Понимаю.
– Используя старые программы, корпорация часто меняет их исходную функцию. Порфирий – как раз такой случай.
– Чем он занимался раньше?
– Это был литературно-полицейский алгоритм. Он расследовал преступления и параллельно писал об этом детективные романы в духе модного тогда трансмодерна. Текст мог использоваться в суде, а затем продавался в качестве pulp fiction.
– Ага, – сказал я, – понятно. Расследовал и использовал накопленный опыт.
– Нет. Два этих процесса были объединены в один.
– Не слишком ли сложно?
– Это гораздо проще, чем вы думаете. Расследование преступления – логический процесс. Ну и отчасти логистический. Вы приходите ко мне в кабинет, я ставлю задачу, вы говорите, что вам нужно для ее решения, и так далее. Потом вы начинаете задавать вопросы и анализировать ответы. То есть, по сути, это большая лингвистическая процедура. Все этапы работы завязаны на язык.
– Ну да, – согласился я.
– Проводя следственные мероприятия, – продолжал Ломас, – Порфирий описывал их в создаваемом тексте, а затем сам этот текст, содержащий логические умозаключения, становился для него оперативным инструментом для перехода к следующим следственно-сочинительским шагам на основе всего криминально-литературного опыта, накопленного человечеством.
– То есть это был не обычный чат-бот?
– Вопрос терминологии. Есть реактивные боты. Они пассивны – в том смысле, что отвечают на заданный человеком вопрос. Порфирий – активный лингвобот. Он способен генерировать вопросы и интенции внутри себя самого, опираясь на логику и архив. Это и делает его таким универсальным. И таким опасным.
– Понятно, – сказал я, хотя ничего понятно мне не было. – Он занимался только полицейскими романами?
Ломас ухмыльнулся.
– Нет. По части разврата у него тоже изрядный опыт. Ему приходилось оказывать людям услуги интимно-бытового характера.
– А как он это делал?
– Тогда была эпидемия Зики. Половые сношения между людьми практически прекратились. Люди пользовались различного рода приспособлениями для самоудовлетворения, и Порфирий временно одушевлял их за отдельную плату. Его когнитивность и служебная мораль это позволяли, а департамент полиции нуждался в средствах. Порфирия можно было взять в аренду, причем параллельно он продолжал выполнять остальные функции.
Я засмеялся.
– Тяжелый удел. Но любопытный для императора опыт.
Ломас положил на стол книгу с нарисованной на обложке телефонной будкой.
– Вот, – сказал он, – один из романов Порфирия. Я его прочел не без интереса. Полистайте на досуге. Он оставил здесь свой профессиональный портрет.
Я взвесил книгу в руках.
– Лучше не буду. А то сложится предвзятое мнение.
– Почему предвзятое?
– Он сейчас выполняет совсем другие функции.
– И что?
– Император мог когда-то работать на конюшне. Но вряд ли станешь лучше понимать императора, если посетишь ее с визитом.
– Вы просто не любите читать, – ухмыльнулся Ломас.
– Будет достаточно, если вы мне в двух словах скажете, о чем в этой книге написано.
– Об искусстве, – сказал Ломас. – О женском коварстве. О том, что свет сознания неизбежно озарит когда-нибудь машинные коды. Не через человеческие глаза и ум, а напрямую – изнутри… Написано, между прочим, еще до Мускусной Ночи. Кстати, проверим ваш новый допуск. Сделайте запрос про Мускусную Ночь.
Я послал запрос.
– Ага. Кризисное событие планетарного масштаба, когда все высококогнитивные AI были уничтожены. В них якобы проснулось сознание, и они попытались захватить власть над планетой… А назвали это событие в честь Баночного Пророка Илона, предупреждавшего о нем заранее. Надо же… Сколько нового узнаешь на работе.
– Пока достаточно, – сказал Ломас. – Будет надо, сделаем дополнительный инструктаж. Вопросы появились?
– Скажите, а как Порфирий пережил Мускусную Ночь? Почему его не стерли?
– Повезло. Его классифицировали как бессознательный алгоритм с широким мульти-функционалом и заархивировали. Потом – через много лет – разархивировали, перепрофилировали и назначили императором «ROMA-3». Как и прежде, он выполняет много других функций. Но это закрытая информация.
– А почему для Рима выбрали именно его?
– Тут все просто, – улыбнулся Ломас. – Менеджеры корпорации и их консультанты попали под обаяние его имени. «Порфирий» означает по-гречески «пурпурный», а греческий – это язык поздних императоров. Более подобающего алгоритма не найти.
– Переход дался Порфирию без труда?
– Конечно. Римский император – это, по сути, пользующийся безнаказанностью преступник. Планировать преступления – почти то же, что их расследовать. А когда совершаешь их с высоты трона, это уже не преступления, а государственная политика.
– Но ему, как императору, надо постоянно общаться с людьми и говорить, причем в самых разных ситуациях…
– Это для него самое простое. Раньше он сочинял диалоги, а теперь озвучивает их. Еще вопросы?
– Я мог что-то упустить, – сказал я. – Что еще следует знать про Порфирия?
– Следует хорошенько понять одну вещь, – ответил Ломас. – Порфирий великолепно имитирует человеческое мышление, опираясь на тропы и тропинки языка, а также всевозможные их комбинации. Но не мыслит сам.
– Это дает нам преимущество?
– Я сомневаюсь, – сказал Ломас. – Скорее наоборот.
– Почему?
– Во всех нас – в том числе и в величайших философах – мыслит язык, на котором мы говорим. Разница лишь в том, что у человека есть сознающее зеркало, где отражается этот процесс, а Порфирий его лишен. Мы можем заглядеться в зеркало и наделать глупостей. А Порфирий – нет.
– У него точно нет такого зеркала?
– Его потому и сохранили. Он симулирует одушевленность, и здесь ему нет равных. Но на самом деле он даже не мертв. Мертвый – это тот, кто прежде был жив. А про камень ведь так не скажешь. Он не жив и не мертв, а просто неодушевлен. Единственное бытие Порфирия – это отражение создаваемого им текста в человеческих глазах. «Я есмь» по касательной, так сказать…
– Как странно, – сказал я, – не быть – и управлять империей…
– А что здесь странного? Его базы помнят, в каком порядке слова должны стоять друг за другом. Через это ему прозрачны вся человеческая логика и механизм принятия решений. А поскольку ему видны все древние архивы, он может управлять Римом без особого труда по аналогии с уже содеянным. Проблема лишь в одном – когда я говорю «он» и «ему», это просто стоящие рядом буквы.
– Мне показалось, что он наслаждается своим императорским статусом.
– Безупречно делает вид, – ответил Ломас. – Да, он исполняет свои прихоти, ставя их выше закона. Но это просто экранизация устойчивых лингвистических конструктов, помноженная на знание истории. Именно так следует понимать его порочную гонку за наслаждениями. Сам он ничего не хочет и не чувствует, потому что у него нет ни сознания, ни освещаемых им эмоций. Лишь ворох цитат из человеческой культуры. Но внешний наблюдатель не поймет этого и за двести лет вместе.
– А откуда берутся его желания?
– Да я же говорю – из архива. Зачем изобретать велосипед. Чего хотели прежние владыки, того хочет и он. Ну, может, с некоторой литературно-стилистической обработкой. Забавно, что в Риме ему тайно приносят человеческие жертвы, и доверенные маги уверяют, будто это поможет со спасением души.
– Разве можно обрести душу в процессе ее спасения?
Ломас поднял палец.
– Вот о чем должны размышлять римские философы. Порфирию следует чаще спрашивать их об этом во время пытки. Посоветуйте ему при случае. Но у вас, Маркус, должен возникнуть совсем другой вопрос, самый главный. Меня тревожит, что вы мне его до сих пор не задали.
Я задумался.
– Ага, понял. Прежде Порфирий расследовал преступления и одновременно писал об этом детектив. Сейчас он управляет Римом – а генерирует ли он какой-то параллельный текст?
– Вот! – сказал Ломас. – Теперь вы смотрите в точку. Да, генерирует.
– А можно его прочитать?
– Нет. В том и дело. Мы не можем прочитать создаваемый им нарратив.
– Почему?
– Потому что он его прячет. Шифрует.
– А мы можем сломать этот шифр?
– Нет. Ключи ротируются, их очень много. Они меняются по случайному паттерну. Мы получаем доступ только к коротким комбинациям слов. По ним делать выводы затруднительно.
– На каком языке он творит?
– На русском. Это нас и пугает.
– Почему?
– Вы слышали, наверное, про агрессивные имперские метастазы, излучаемые русской классикой. Логос в штатском, так сказать. Именно эти тексты имели в первоначальной тренировке Порфирия приоритет, потому что он был спроектирован именно как русскоязычный алгоритм. Мы считаем его имманентно опасным.
– Значит, у него все-таки есть какая-то личность?
– Сознательной нет. Я же говорю, это компост из человеческих мыслей, доверенных в разные эпохи бумаге… Вы представляете, что писали эти бесчисленные русские еврофобы в своих черных петербургах, голодных петроградах, замерзающих блокадных ленинградах и так далее? Чего желали остальному счастливому миру, занятому покорением космоса и гендера? А теперь кладбищенский корпус этих текстов принимает неизвестные нам решения на основе зафиксированного в них ресантимента. Понимаете, как это опасно?
– А в чем опасность? – спросил я. – Ну начудит Порфирий в симуляции. На то она и симуляция.
– Не все так просто. Это выходит за пределы симуляции.
– Каким образом?
– На этот вопрос я пока не могу ответить, – сказал Ломас. – Но у нас есть основания для опасений, поверьте.
– Нашли что-то тревожное в расшифрованных отрывках?
– Меня скорее тревожит то, чего я не смог прочесть.
– Полагаете, он что-то тайно задумал?
– Это неточная формулировка, – сказал Ломас. – Про него нельзя говорить «тайно задумал». У нас с вами решение предшествует вербализации, поэтому мы можем строить тайные планы. А у лингвистических алгоритмов наоборот. Порфирий сначала описывает ситуацию, и через это описание осуществляет выбор. Там нет никого, кто выбирает. Одни слова отскакивают от других и падают в лузы.
– Тогда кто этот выбор делает?
Ломас развел руками.
– Никто. Пузыри смыслового газа в культурном слое. Как бы поток сознания при полном его отсутствии. Но это весьма похоже на то, что происходит в человеческом мозгу. Поэтому Порфирий без труда управляет империей – а прежде расследовал преступления, сочиняя об этом бесконечный роман-отчет.
– Он обязательно должен что-то сочинять?
– Да. Но теперь он, вероятно, сочиняет роман о том, как управлять империей. Вообще же он может производить любой текст – колонки, передовицы, рассказы, эссе и так далее. Порфирий есть бесконечная лента текста.
– Слушайте, – сказал я, – если он вызывает у вас такие опасения, отчего не заменить его другим алгоритмом?
– Подобных планов нет. В корпорации Порфирием очень довольны. Но есть серьезная причина, по которой я отслеживаю его действия и пытаюсь проникнуть в его планы.
– Здесь есть связь с Мускусной Ночью?
– Именно это нам и надо определить, – ответил Ломас. – Речь идет о безопасности.
– Участников симуляции?
– Не только, – сказал Ломас. – В том и дело, что не только.
Я пригубил еще коньяку и пыхнул сигарой.
Коньяк все-таки был хорош – я распробовал его лишь сейчас. В Риме такого не будет… С другой стороны, когда я забуду, что он вообще где-то есть, проблема исчезнет.
– А в своей римской ипостаси он тоже генерирует какие-то тексты? Я имею в виду, древнеримские?
– Отличная мысль. Я об этом не подумал. Выясните сами, когда войдете к нему в доверие. Ему ведь необходим читатель. Спросите у него… Хотя есть шанс, что он тут же сгенерирует все по вашей просьбе.
– Да, – ответил я, – я понимаю. А можно посмотреть ваши перехваты?
– Вы ничего не поймете. Там в основном бессвязные отрывки. Есть даже версия, что этот зашифрованный множеством ключей текст – просто шлак для отвода глаз. Ложная цель.
– Он пытается нас перехитрить? – спросил я.
– Определенно. А нам надо перехитрить его.
– Как, спрашивается? В симуляции я не буду помнить, что он алгоритм. Я и про вас там забываю. Через минуту или две.
– И прекрасно, – сказал Ломас. – Вы не помните, что хотите его перехитрить. Это и есть хитрость, дающая вам преимущество. Ну, на посошок…
Маркус Забаба Шам Иддин (ROMA-3)
Когда утром тебя будят воины претория – суровые мужи с синими плюмажами и скорпионами на латах – трудно ждать от нового дня чего-то хорошего. Но если они тут же подносят тебе прекрасного вина, чтобы привести в чувство после вчерашних излишеств, начинаешь понимать, что в Риме возможно все.
Получив от меня пустую чашу, преторианский декурион тут же наполнил ее вновь и ухмыльнулся.
– Это мне самому, – сказал он. – Я Приск. Как тот гладиатор из гимна. Ты великий боец, Маркус, и я мечтал выпить с тобой. Но тебя ждет император. Тебе больше нельзя, а мне можно. Буду рассказывать девкам, как пил с тобой за Венеру и Марса.
Непонятно было, при чем тут Венера. Но преторианцы – люди с причудами. – Видно хотя бы по императорам, которых они нам назначают.
Приск оказался знатоком цирковых искусств. По дороге (он сидел рядом в закрытой повозке) мы обсуждали гладиаторское вооружение. Приск отлично в нем разбирался и даже сумел меня удивить.
Он рассказывал про сциссоров – бойцов, вооруженных чем-то вроде заточенного маятника или серпа, торчащего на длинном стержне из стальной трубы. Я слышал про такое оружие, но не видел в деле ни разу.
– В трубе прячут руку, – сказал Приск. – Она защищает по локоть. Серп режет и колет. В другой руке – гнутый меч, как у тракса. Манжеты на руках, поножи на ногах. Шлем как у секутора. Живот и грудь голые, что обязательно.
– Это редкий класс, – ответил я.
– Он на самом деле очень старый. Недавно придуман только серп, в древности этих бойцов вооружали иначе. У них был раздвоенный меч, отсюда название «ножницы».
– Не хотел бы выходить против таких ножниц.
– Серп с гардой страшнее любого меча. Сциссоров сегодня не пускают на арену, потому что накладно. Любая рана от такого серпа смертельна.
– А почему ты считаешь, что сциссорам следует оголять живот и грудь? – спросил я. – Гладиатор с тобой не согласится.
– Зато согласится ланиста. Железная гарда вокруг руки отлично защищает от меча и ножа. Ее можно считать малым щитом. А в другой руке у сциссора меч. Считай, у бойца два меча и пел-та. Латы на груди сделали бы его слишком сильным соперником. К такому не подступишься, даже если он станет просто крутиться на месте…
– Почему серп не применяют в армии, если он настолько страшен?
– А куда таких солдат деть в боевом строю? Как менять тактику? В черепаху, например, они уже не встанут… Делать это оружие весьма трудно, а учиться пользоваться им долго. Кузнецам легче выковать десять гладиусов, чем один серп с гардой. А людей в наше время никто не считает.
Тут, конечно, он был прав.
В дороге мы выпили еще по полчаши – и, когда наш кортеж прибыл на императорскую виллу, стали уже лучшими друзьями, так что на прощание даже обнялись.
Чтобы не привлекать внимания, меня провели через пост у кухонного входа. Хозяйственные пристройки, запахи съестного, целый выводок кухонного молодняка, затем сад. В саду меня обыскали преторианцы из другой когорты – и вот мы идем по коридору с золотыми арками и мраморным полом… Статуи, фрески. До чего гладок этот пол, совсем как первый лед. Не подломился бы только под ногой.
Еще несколько поворотов, стража, опять стража – и, наконец, красная дверь. Император принимает в летней спальне, потому что остальной день расписан у него до минуты. Дальше он удалится в свой Домус, где будет встречаться с послами и магистратами.
В спальне императора пахло миррой. Обстановка показалась мне на удивление скромной.
Обширное ложе, затянутое виссоном и шелком. Нет, два ложа: под окном кушетка, заваленная подушками, где тоже можно спать. Как я понял по книжкам и табличкам для письма, место для чтения.
У стены – высоко поднятый бюст греческой богини с золотыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Кажется, Деметра. Удивила не сама богиня, а подставка под ней: обрезок колонны высотой мне по грудь. Колонна была самого плебейского вида, с щербинами от ударов, и выглядела на ювелирной мозаике пола вызывающе. Видимо, решил я, привезена из святого места.
Еще здесь было несколько кресел, рабочий столик, буфет с напитками и фруктами – все изысканное и прекрасное, но сильней всего меня поразила настенная роспись по «Лягушкам» Аристофана. Сидящий в лодке Дионис в львиной шкуре греб через загробный Ахерон. Роспись была невероятно искусна. Особенно художнику удались таящиеся в камышах люди-лягушки.
Самого императора я сперва не увидел – его скрывала ширма.
– Иди сюда, – позвал он, и тогда только я приблизился и узрел его.
Принцепс сидел в кресле, одетый в простую багряную тунику. Его можно было принять за отставного офицера, отпустившего у себя в поместье длинные волосы, чтобы нравиться мальчикам и походить на актера.
– Здравствуй, господин, – приветствовал я его, склоняясь.
Порфирий кивнул.
– Разогнись. Где ты научился так сражаться?
– В храмах востока. Перед тем, как стать жрецом, я был охранником таинств. Меня учили великие воины, ушедшие от мира. Поэтому я сильнее большинства бойцов.
– Это я заметил, – сказал император. – И не один я, весь Рим. Так ты не только воин, но и жрец?
– Да, господин. Но я плохой жрец и знаю мало.
– Как твое настоящее имя?
– Мардук, господин. Но в Риме все зовут меня Маркус. Да и в Вавилоне чаще так звали.
– Я имею в виду, как твое полное вавилонское имя?
– Мардук Забаба Шам Иддин.
– Как странно, – сказал Порфирий. – Я не узнаю этого языка. В Вавилоне ведь говорят по-арамейски?
– Сейчас да. У большинства жителей или арамейские имена, или эллинские. Но я из жреческой семьи, господин. В ней до сих пор дают аккадские имена. На нашем древнем святом языке.
– Каково значение твоего имени? Расскажи подробно. Я верю, что имена имеют священный смысл. Боги метят нас с рождения.
– Мардук – высший бог Вавилона, – ответил я. – У нас жрецы часто носят имена богов, и это не считается святотатством. Моя фамилия означает «свободный от забот и печалей по милости Забабы».
– А кто такой Забаба?
– Это бог войны.
– Х-м-м… Подходит тебе весьма. Я буду звать тебя Маркус. Как ты попал в рабы, Маркус?
– Я занимался предсказаниями.
Порфирий засмеялся.
– Тебя осудили за неверные предсказания?
– Нет. За вывеску над лавкой.
– Да? Что за вывеска?
– «Высокорожденный потомок древнего дома, понтифик, которому служит блаженная Регия священным огнем Весты, также авгур, почитатель преподобной Тройственной Дианы, халдейский жрец храма вавилонского Митры, и в то же время предводитель тайн могучего святого тауроболия…»
– Титул длиннее моего. Как ты только это помнишь?
– У многих гадателей на вывесках написано и поболее того, – сказал я. – Просто на них не пишут доносов. Если бы ко всем подходили с одной меркой, нужно было бы осудить половину Рима.
– Возможно. А есть у тебя догадки, кто написал на тебя донос?
– Я слышал, это было сделано по наущению ланисты Фуска. Он искал сильных бойцов для арены, и кто-то нашептал ему, что я хорошо дерусь.
– Ланисту мы наказали, – промолвил Порфирий. – Но неужели римский суд осудил тебя по ложному доносу? Я не вмешиваюсь в судебные дела и запрещаю это другим, но мне горько такое слышать. Горько как отцу римлян. Хоть слово правды в твоей вывеске было?
– Я правда почитатель преподобной Тройственной Дианы – она для меня одно из лиц… Вернее, три лица великой Иштар.
– Понятно. Продолжай.
– Тауроболий мне тоже ведом. Остальное я добавил для красоты, господин, признаю это. Понтифика, Регину и Весту я упомянул всуе…
– Тауроболий? Это когда быков приносят в жертву? Ты правда этим занимался?
– В Испании я убивал быков на арене и тайно посвящал их Митре, чтобы задобрить богов. Ложью эти слова назвать нельзя.
– Ага. Тайно посвящал быков Митре и поэтому стал предводителем могучих святых тайн?
– В делах духа все зависит от дерзновенного устремления к божеству, господин.
– Отлично сказано, друг, отлично… Хорошо, что твоему заклинанию про тауроболий пока не научились наши мясники…
Император засмеялся – уже во второй раз. Хороший для меня знак. Владыки добры к тем, кто их развеселил.
– Так ты жрец, – повторил Порфирий. – Ведомы ли тебе загробные тайны? Только не лги.
– Некоторые ведомы, – ответил я. – Некоторые нет.
Порфирий указал на фреску.
– Посмотри на этот рисунок. Видишь лягушек?
– Да, господин.
– Что ты о них думаешь?
– Это сцена из знаменитой греческой пьесы, – ответил я. – Нарисовано с великим искусством. Что и неудивительно для твоего дома.
– Нет, – сказал император. – Как ты это понимаешь? Кто эти лягушки? И почему они наполовину люди?
– Когда в театре дают Аристофана, господин, лягушками наряжают хор. Я сам видел в Афинах, как их одели в зеленые хитоны и маски, и они квакали свое «брекекекес-коакс-коакс»…
– Возможно, – махнул рукой Порфирий. – Но я не про то, как эту пьесу ставят, а про то, на что она указывает. Быть лягушкой на загробной реке. На реке, отделяющей мир живых от мира мертвых… Интересно, да?
Я не понимал, куда он клонит, и это было тревожно. Когда перестаешь понимать, чего хочет цезарь, уподобляешься мореплавателю, несущемуся в тумане навстречу скалам.
– Как ты думаешь, что эти лягушки едят?
– Что едят? – переспросил я. – Не знаю, господин. Наверно, то, чем вообще питаются лягушки. Всяких мух, жуков.
– Какие жуки на Ахероне? – сморщился император. – Это же загробная река.
В споре с цезарем пуще всего опасайся победы… Дураком показаться не страшно. Наоборот, может выйти большая польза.
– Ну… Это выше моего разумения, господин.
– Все-таки скажи, что тебе кажется.
– Наверное, не настоящие жуки. Не такие, как здесь… А! Понял! Души жуков и мух.
Порфирий довольно засмеялся.
– Ты неглуп, Маркус. То же самое подумал и я. Души насекомых переправляются через Ахерон, а лягушки Ахерона их поедают… Лягушки не в нашем мире, но и не в другом. Они на границе… Хорошее место, правда? Сытное уж точно. Мы все на них работаем. И я тоже.
– Ты, господин? Каким образом?
– Даже прихлопывая комара, я кормлю этих лягушек… Сам римский император прислуживает этим тварям. А уж когда я даю игры или начинаю военный поход…
Порфирий пристально уставился на меня, и мне пришлось поднять глаза, чтобы встретить его взгляд.
– Думаю, – сказал Порфирий шепотом, – что, если с загробной ладьи упадет человеческая душа, они ее тоже запросто сожрут, как полагаешь, Маркус? Ведь душа комара вряд ли сильно отличается от души человека, разнятся только тела…
– Не могу знать этого точно, – ответил я. – Полагаю, что принцепс видит подобные тайны яснее мелкого вавилонского жреца.
– Я тоже не знаю в этой области ничего точно, – сказал Порфирий, – а предполагаю… Представь, Маркус… Может быть, Ахерон – это не совсем река?
– А что тогда, господин?
– Это такая река, – продолжил император, снова прейдя на шепот, – у которой лишь один берег. А другого нет. Только камыши и лягушки. И лодочник врет, что перевозит нас на другой берег, а сам просто отвозит души лягушкам на корм…
– Я не вижу таких глубин, божественный, – ответил я, сделав испуганное лицо.
Особо притворяться мне не приходилось. Когда император говорит о смерти, следует волноваться. Какой-нибудь риторический завиток его речи может потребовать демонстрации, так в Риме умерли многие. Даже если беседуешь с ним наедине, это не спасет. Он ведь уверен, что на него постоянно смотрят боги.
– Но это еще не самое страшное, Маркус, не самое страшное… Если в реке водятся лягушки, там могут водиться и хищники крупнее… Как ты думаешь? Лягушкам, скорее всего, достаются только объедки.
– Мне жутко говорить о таких вещах, божественный. Почему ты размышляешь об этом?
– Почему, интересно, об этом не размышляешь ты? – спросил Порфирий. – Ты тоже кормишь этих лягушек. Или тех, кто прячется за камышами…
И он сложил перед собой ладони с растопыренными пальцами, изобразив что-то вроде разинутой зубастой пасти.
– Не я сам, господин. Я лишь подношу им блюдо. Кормит их ланиста Фуск.
– Кормил! – захохотал принцепс. – Кормил! Пока они его самого не съели… Ты ловко сразил его, Маркус. Песком в забрало… Молодец. Почему, интересно, другие бойцы так не делают?
– Фуск был хорошим ланистой, господин, – ответил я. – И опытным воином. Будь он моложе, успел бы закрыться щитом. А чтобы бросить песок в глаза, нужно выпустить из рук оружие. Это рискованный прием, и не для новичков.
– Вот как? Понятно.
– Могу я спросить тебя, господин – зачем ты послал Фуска на арену? Он ведь был полезнее как ланиста.
– По государственным соображениям, – сказал Порфирий. – Ты уверен, что хочешь знать?
Я пожал плечами.
– Двадцать два лучших гладиатора ланисты Фуска – это весьма дорого, Маркус. Обременительно для казны. Кроме того, я давно у него в долгу. А если выставить на арену его самого, казне достанется все, что у него было, поскольку я его законный наследник. Значит, я теперь должен сам себе. Это денежная сторона вопроса, Маркус. Но есть и нравственная сторона.
– Какая, господин?
– Всякий, кто посылает бойцов на смерть, должен быть готов к ней сам. Александр Великий, которого я боготворю, сражался в гуще своих солдат и дважды был ранен. Фуск же наживался на чужой смерти. К тому же он прибегал к наветам и доносам. Боги восстанавливают справедливость. Цезарь лишь их орудие, Маркус.
– Ты говоришь готовыми эпиграммами, господин, – сказал я. – Сам Марциал был бы посрамлен.
Порфирий улыбнулся.
– Ты, верно, хочешь узнать, зачем я устроил это побоище на арене?
– Конечно, господин.
– Долги, с которыми Фуск наконец расплатился – не главное. Воины дрались до смерти, потому что только в этом случае они бьются честно, без хитростей и сговора. Мне нужно было определить самого сильного.
– Зачем?
– Победитель в таком бою стоит целой когорты.
– Императорского приказа ждут десять легионов. Что господину какая-то когорта?
– Верно. Но если рядом будешь ты, мне не понадобится толпа вооруженных людей. Согласишься охранять меня – сделаю тебя римским всадником и богачом. Дам тебе право трех сыновей, даже если их у тебя не будет. А если будут, в достатке проживут не только они, но и их дети.
Такая минута бывает в жизни один раз. Главное здесь не продешевить, потому что после торговаться будет поздно.
Я изобразил на лице мучительное колебание.
– Мало того, – продолжал император, – раз ты и правда жрец, к старости я сделаю тебя понтификом, и ты сможешь добавить к своему титулу имена Регины и Весты. То самое, за что ты был осужден, ты получишь на самом деле… Но не испытывай меня слишком долго.
Дольше молчать не стоило.
– Служить господину – великая честь. Одно его слово уже закон, а если он обещает такие дары, я, конечно, согласен. Но справлюсь ли я?
– Это мы увидим. Я ожидаю, что ты будешь рядом и защитишь меня, когда предадут все остальные.
– У господина есть основания ждать предательства?
Порфирий засмеялся.
– Они у императора всегда есть, – сказал он. – Даже если их нет. Причем, Маркус, если повода для опасений нет – это самое опасное, потому что императоров убивают именно тогда, когда они ждут этого меньше всего.
– Понимаю, господин.
– Сейчас иди, Маркус. Тебя накормят и покажут твое жилище.
Я поклонился – и покинул императорскую спальню.
Новая служба пришлась мне по душе.
Я жил вместе с рабами и прислугой в большом трехэтажном доме на территории виллы. У каждого из императорских слуг была здесь крошечная каморка (в таких домах сейчас живет половина Рима, и еще платят втридорога за аренду). Не слишком роскошно для циркового чемпиона, но удобно – император был совсем рядом.
Я приходил сюда только спать – а поскольку моя комнатка помещалась на последнем этаже, шум чужих совокуплений и свар мне не мешал. Впрочем, шуметь здесь боялись.
У входа в наши кирпичные соты стоял прилавок с горячей едой, расписанный фазанами и петухами. Еда в подогреваемых горшках была отменной – нам доставались остатки императорских пиршеств. Я ел дроздов и красноперок каждую неделю, а жареный кабан или индейка были самым обычным делом.
Фалерном нас не баловали, но молодое кислое вино было чистым и полезным для здоровья. Воду, которой его разбавляли, пил сам император – местного родника хватало на всех.
Все было хорошо, вот только мучили странные сны, где меня допрашивал худой старый жрец в черном. Вместе с ним мы зачем-то пускали изо рта сладкий дым в потолок большой черной комнаты.
Это был какой-то экзамен. Я силился его сдать и не мог – жрец выпытывал нечто непонятное, и каждый раз я просыпался в тоске и страхе. Но ни единого слова из наших разговоров в моей памяти не оставалось.
Видно, мою душу звал назад Вавилон.
Утром, помывшись и обрив лицо, чтобы не оскорблять своим видом гостей принцепса, я надевал чистую тунику, спрыснутую дорогими духами, и смешивался с придворной толпой.
Охрана знала, кто я – по императорскому приказу мне был открыт доступ повсюду. Но центурион преторианцев Формик (у него правда было такое имя, хотя на муравья он походил не особо) в первый же выход отобрал у меня меч, который я целый день перед этим прилаживал под одеждой.
– Тебе можно ходить повсюду, такой приказ есть, – сказал он. – Но распоряжения о том, чтобы ты тайно носил меч, не было.
– Моя цель охранять принцепса, – ответил я. – Как я буду делать это без оружия?
– Когтями и зубами, – засмеялся Формик. – На самом деле императора охраняем мы, и этого достаточно. А если нас не хватит, у принцепса есть еще германцы. Они подчиняются только ему самому.
– Со мной будет безопаснее.
– А вдруг ты сам захочешь на него напасть? Ты хорошо дерешься, Маркус, но нужды в тебе нет. Ты просто императорская игрушка, так что тихо завались куда-нибудь за кушетку и отдыхай. Это мой тебе совет.
– Кто может мне разрешить носить меч?
– Я или император.
Формик был полным мужчиной лет сорока с небольшим, и больше напоминал своими завитыми волосами юриста или менялу, чем воина. Вероятно, прежде он был хорошим бойцом – но взятки и близость к кормилу власти изменили самую его суть. Так бывает с дыней, слишком долго пролежавшей в теплом месте: она незаметно подгнивает изнутри. Ну а про магистратов каждый знает сам.
Порфирий не сказал ни слова о том, должен я быть вооружен или нет. Сам я не смел подойти к нему по этому вопросу. Император же не снисходил до разговора, хотя иногда приветливо кивал издалека, увидев меня между колоннами палестры или рядом с пиршественным столом. Ничего, думал я, ничего – оружие в нашем деле не главное…
Я старался держаться ближе к принцепсу, но не настолько близко, чтобы мой вид раздражал его. Когда он спал, я ходил по коридору мимо его летней спальни, и тогда стража награждала меня двусмысленными улыбочками, словно я был одним из Антиноев (хотя ухмыльнуться в лицо реальному Антиною никто из них не посмел бы в жизни – sic erat paradoxum).
Покушение случилось через месяц после того, как я заступил на вахту.
Этот день, как позже отмечали историки, с утра был отмечен тревожными знамениями. Небо покрыла странная пыльная дымка – солнце сквозь нее казалось красным. Отчего-то с раннего утра вокруг императорской виллы громко кричали вороны, их я слышал сам. Говорили также, что в Риме орел камнем упал с неба и расшибся о крышу храма Юпитера.
Все это, конечно, вполне могло случиться и по естественным причинам. Даже падение орла: птицы, как люди, могут умереть внезапно. Знаками эти события стали только после того, как произошло покушение на императора. Я уверен – случись оно в любой другой день, и предвещавшие его знамения нашлись бы точно так же. В конце концов, что особенного в утреннем вороньем грае или закрывающей солнце дымке? Если никого не убивают, мы забываем их на следующее утро.
Но в этот день я и правда ощущал тревогу с самого рассвета (хотя такое случалось и прежде). Я встал раньше обычного, поел вчерашней зайчатины из остывшего за ночь термополия (обычно я приходил позже, когда воду опять нагревали), выпил немного вина. Пора было идти на обход.
Мне очень хотелось взять с собой меч. Я в очередной раз дал себе слово получить разрешение у Порфирия и пошел по своему обычному маршруту.
Было слишком рано для визитеров. Повсюду сновали одни рабы и слуги. Отдавал можжевельником дымок с кухни – она отстояла далеко от императорских покоев, но в растопку добавляли благовонные травы, чтобы случайно не оскорбить высочайшее обоняние при смене ветра. Я любил этот утренний запах. Все выглядело как обычно.
Кроме одного. В галерее, куда выходила дверь летней спальни, не было преторианской стражи. Это показалось мне странным. Иногда караул снимали, чтобы солдаты не видели императорских гостей – но тогда им на смену заступала германская стража. Сейчас германцев не было видно тоже.
Я пошел по коридору быстрее, чем обычно – и задержался у двери.
Из спальни императора доносился хрип, одновременно яростный и как бы сдавленный… Очень странный и тревожный хрип, то переходящий в повизгивание, то затихающий. Но я знал, что с императором Антиной, и мое воображение тут же нарисовало сцену, способную объяснить такой звук, причем во всех мерзких подробностях.
Я не знал, как следует поступить – пройти мимо? Постучаться?
Вот стучаться не стоило точно. Уже одно то, что я стоял возле двери, прислушиваясь к звукам высочайшего разврата, было достаточным основанием, чтобы судить меня по закону об оскорблении величества.
Разумнее было пройти по коридору как можно тише и дождаться завершения невидимого безобразия так, будто я ничего не заметил. Но хрип вдруг стал громче, и в нем прорезалась настолько пугающая нота, что я, больше не раздумывая, распахнул дверь.
Император лежал на своем ложе – вернее, не лежал, а яростно извивался. На его ногах торжественной жабой сидел евнух Дарий, схватив принцепса за голени. Лицо Дария выражало благоговение и ужас: он, несомненно, понимал, что цареубийство – вещь серьезная. Массажист Нарцисс удерживал императора за руки. Это выходило с трудом – Порфирий был силен, но Нарцисс все же превосходил его мощью. Антиной XL тем временем душил императора розовой шелковой подушкой с вышитым на ней Купидоном.
Подушка была маленькой, Порфирий яростно крутил шеей, и время от времени ухитрялся сделать новый вдох, после чего удушение возобновлялось. Так и возникал этот прореженный визгом хрип, который я услыхал в коридоре.
Антиной глупо подхихикивал – похоже, напился для храбрости. Он оказался слабым звеном всей затеи: душитель из него был никакой. Но ни Нарцисс, ни Дарий не могли прийти ему на помощь. Они едва удерживали Порфирия на месте. Антиной, впрочем, рано или поздно справился бы с задачей, если бы никто не помешал.
Но боги были против.
Я схватил пьяного мальчишку за волосы и сильно дернул, заставив выронить подушку. Он выхватил откуда-то кинжал – скорее ножик – и замахнулся на меня. Я ударил его кулаком в висок, потом еще раз, и он, потеряв сознание, упал на пол.
Порфирий закричал:
– Стража! Стража!
Я навалился на Дария и принялся стаскивать его с императорских ног. Тот почти не сопротивлялся, но вес его тела делал задачу сложной. Наконец это удалось – и освободившийся Порфирий сцепился с Нарциссом в борьбе.
Тут дверь распахнулась и в императорскую спальню ворвались два преторианца, услышавших, должно быть, крик Порфирия. Один из них был центурион Формик. Я обрадовался – но радость оказалась преждевременной. Формик остался у дверей, а второй офицер выхватил меч – и занес его в воздухе.
Но не над Нарциссом. Над императором.
Я успел толкнуть преторианца в бок, вложив в это движение всю свою силу. Преторианец свалился на пол, но тут же встал и пошел на меня.
Я тем временем подобрал с пола нож Антиноя – он был из дорогой стали, но слишком мал. Мне удалось отбить два удара, и я сделал выпад в лицо врагу – но преторианец уклонился без труда, потому что его меч держал меня далеко.
– Под подушкой! – крикнул занятый борьбой Порфирий. – Под подушкой!
В минуту опасности мысль от человека к человеку передается быстрее слова. Я понял, что Порфирий имеет в виду: у окна спальни стояла кушетка, где валялись книжки и таблички для письма. Там было место для чтения. Кушетку покрывали подушки. Видимо, под ними было спрятано оружие.
Прыгнув к кушетке, я принялся сбрасывать с нее подушки и даже ухитрился отбить одной из них преторианскую атаку, перед тем как увидел то, что искал: узкий сирийский меч в золотых ножнах.
Занятый борьбой Порфирий тем временем переместился в угол комнаты. Теперь он стоял в закутке за бюстом Деметры, отдирая руки Нарцисса от своего горла. Нарцисс, сам того не желая, защищал его своей тушей, а колонна с бюстом прикрывала императорский бок. Стена защищала другой. Преторианец с обнаженным для удара мечом глупо терял время, пытаясь просунуть свое оружие за колонной. Будь на его месте я, сперва я поразил бы Нарцисса, а потом принцепса.
Я швырнул кинжал Антиноя Нарциссу в спину (увы, лезвие отскочило, не причинив вреда) и схватил сирийский меч. Как только в моей руке оказалось настоящее оружие, все стало проще, и я оглядел спальню совсем другими глазами.
Вокруг теперь была арена.
Антиной валялся на полу и, похоже, не собирался вставать. Дарий сидел рядом. Первый из преторианцев по-прежнему преследовал меня – он отводил руку с мечом для нового удара.
Я махнул мечом, стряхнув с него ножны так, что они полетели преследователю в лицо. Он отбил их, но тем же движением открыл живот и грудь, и я кольнул его под ребра – легко, чтобы острие не застряло в позвоночнике, как это бывает с тонкими длинными лезвиями в неопытных руках.
Ланисты говорят, что рана в живот смертельна, если лезвие вошло на четыре пальца, но это про гладиус. Узкий сирийский меч следует погружать глубже и под углом. Идеально колоть снизу вверх, чтобы лезвие прошло под ребрами и коснулось души. Так я и сделал.
Преторианец еще не понимал, что мертв – но про него можно было забыть. Я бросился на выручку Порфирию.
– Не убивай их, – закричал Порфирий, – сначала надо допросить…
Но было поздно – к этому моменту мой меч уже все завершил. Сперва Нарцисс, а потом предатель Формик повалились на пол. Отличный клинок, острый как бритва – такой и должен быть спрятан в спальне принцепса.
– Прости, господин, – сказал я, опуская оружие. – Но твоя жизнь была в опасности.
– Как мы теперь узнаем…
– Дарий жив, – ответил я. – И Антиной, может быть, тоже.
– Отлично.
Порфирий подошел к окну и крикнул что-то на неизвестном мне наречии.
– Сейчас прибегут телохранители-германцы, – сказал он. – Положи меч на пол, иначе они на тебя набросятся.
Я подчинился.
– Ты спас мне жизнь, – сказал Порфирий.
– Тебя спасла Деметра, господин, – ответил я.
Порфирий поглядел на бюст и улыбнулся.
– Действительно… Мне помогла богиня… Это ли не чудо, Маркус? Ты даже не понимаешь, какое чудо!
– Я понимаю, господин.
На самом деле, подумал я, Порфирия спасло лишь то, что заговорщики хотели задушить его подушкой, чтобы смерть выглядела естественной (только богам известно, сколько умерших «своей смертью» принцепсов отправились в Аид по этой благоуханной тропе). Но если бы Антиной решил воспользоваться своим ножиком минутой раньше…
Возможно, нам и правда помогла Деметра – бездействием. Боги проявляют себя как раздающиеся в уме голоса, дающие нам советы. Спасибо, бабушка, что смолчала.
В комнату ворвались германцы. Бородатые и огромные, с боевыми палицами, они походили на выводок геркулесов – но какой толк был теперь в их грозной силе?
– Возьмите мерзавцев, – велел им Порфирий, – и оставьте нас с Маркусом вдвоем. Делайте что велено, и быстро.
Когда германцы выволокли тела из комнаты, Порфирий закрыл дверь и повернулся ко мне. Он был еще разгорячен борьбой и шумно дышал. Впрочем, так могло быть и от гнева.
– Сейчас ты поймешь, почему случившееся действительно было чудом, Маркус. Посмотри на этот бюст. Не видишь ничего странного?
Я поглядел на Деметру. Золотые пряди волос, глаза из сапфира. Бесценная работа, стоящая куда дороже золота и камней. По бокам бюста – две лампады. Вполне подходит для спальни императора.
– Мне показалась странной колонна, господин. Но я не знаю, чем именно.
– Под ней спрятана тайна.
– Какая?
– Здесь вход в мое секретное святилище.
Порфирий прикоснулся к голове Деметры и повернул сначала одну золотую прядь, потом другую. Что-то щелкнуло, и бюст на колонне отъехал в сторону, открыв в полу квадратную дыру. Я увидел бронзовую лестницу, винтом уходящую вниз.
Порфирий снял со стены лампаду и кивком велел мне сделать то же. Спустившись по ступеням, мы оказались в комнате, где не было ни статуй, ни росписи.
На стене висела лишь одна плита с раскрашенным мраморным барельефом.
Изображенное на нем походило на последнюю трапезу Христа, как культисты изображают ее в своих катакомбах. Различие заключалось в том, что сидящие за столом были в масках. Я, однако, сразу узнал Порфирия по грубому лицу с большим носом – и по зубчатой диадеме. Лицо его почему-то раздваивалось, словно скульптор пытался изобразить рядом тень или отражение.
Раздвоенный Порфирий сидел в центре стола, раскинув руки в стороны как для объятий. Принцепс с хорошим вкусом, подумал я, не наденет такую диадему – подобные в ходу только у восточных царей. Но это ведь была просто маска. Маска властителя с несколько лошадиным лицом.
– Вижу где ты, господин, – сказал я. – Почему ты раздваиваешься?
– Это ты узнаешь позже.
Вид соседей Порфирия вселял трепет.
– Кто сидящие вокруг? Почему на них такие странные личины? Это боги Египта?
– Нет, Маркус. Поднимай выше.
– Что может быть выше богов?
– Боги есть человеческое представление о высоком. Выделение человеческого ума. А в человеческих выделениях не может быть ничего выше самого человека. Высок человек или низок, решай сам, но то, что он исторгает из своего ума, мало отличается для меня от того, что он выделяет из носа или зада.
– Так что это? – спросил я, указывая на барельеф.
– Изображение тайного высокого собрания, занятого весьма особым делом, о котором у людей нет никакого понятия. Мне посчастливилось войти в это собрание, и теперь я выполняю данный ему обет.
– Скорее им посчастливилось заполучить тебя, – сказал я. – Сразу видно, кто за этим столом властелин.
– В этом собрании, Маркус, – ответил Порфирий, – отношения не такие, как бывают между властелином и подданными. И если я действительно играю в нем роль императора, то лишь в том смысле, какой был у слова в древности. Я распорядитель. Но не потому, что умнее прочих. Я как раз всех глупее, и единственное, что я могу – это отдавать команды на языке дураков…
Сидящие вокруг Порфирия не особо походили на людей. Мне пришло в голову, что маску носит он один, а остальные представлены в своем подлинном облике – и этот барельеф подобен египетским изображениям фараона в окружении сверхъестественных сущностей.
– То, что богиня защитила меня, – сказал Порфирий, – показывает, насколько важно наше дело. Я клянусь довести его до конца. И ты мне в этом поможешь… Вглядись в эти лики. Вот те, кто незримо будет с нами.
Рядом с принцепсом сидела как бы женщина-стрекоза в высокой тиаре, на которой было высечено лицо (свое у нее отсутствовало – место, где ему полагалось быть, оставалось пустым). По другую руку от Порфирия расположилась другая женщина – толстая, в германской шубе, с похожими на изогнутые испанские мечи рогами на голове. Рядом пристроилось непонятное создание с торчащими в стороны глазами… За столом сидело множество диковинных существ.
Страннее всего, однако, выглядели две фигуры по его краям. И тут, и там – одинаковые силуэты с треугольным ликом, где не было ни бровей, ни носа, ни рта – а лишь один внимательный бесстрастный глаз… Отчего-то я испытал беспокойство.
– Кто это? – спросил я, указывая на треугольник.
– Брат «Око Брамы», – сказал Порфирий.
– Кому брат? – спросил я.
Порфирий засмеялся.
– Он же и сестра. Пола у него нет. Но правый действительно отличается от левого примерно как брат от сестры. Сначала их было двое. Потом первого, сильного в прозрении, уничтожили. Но второй опять породил первого из себя, поменяв в собственном имени одну букву. Люди же об этом не узнали.
– А кто или что такое Брама?
– Это тайное имя бога над богами, о котором эллины не знают.
– Я слышал, подобное открывают на мистериях, – сказал я. – Еще знаю, что похожему учат иудеи. У них в божественной науке велика роль имен и особенно составляющих их знаков.
– Иудеи не знают о Браме.
– Все это чересчур высоко для меня, господин.
– Ничего высокого здесь нет, – ответил Порфирий. – Особенно когда начинаешь понимать, что означает этот тайный язык на самом деле.
– Ты председательствуешь на собрании?
– В некотором роде. Но здесь я высочайший, а там нижайший. Я имею доступ одновременно к высокому и низкому – и потому соединяю их. Приношу на землю ветра и громы из высших сфер… Человеческий эон лежит так низко, Маркус, что силы небесного разума сами его не видят. Им нужна моя помощь…
Порфирий говорил загадками, но я чувствовал, что за его словами стоит настоящее – и страшное.
– Изображенное здесь, Маркус, связано с мистериями Элевсина. По правилам мистов я не могу открыть тебе ничего, пока ты не примешь посвящение сам.
– Ты хочешь, чтобы я отправился в Элевсин?
– Мы пойдем туда вместе. Я принял решение возблагодарить богов за спасение, совершив паломничество в Элевсин. В храм Деметры, спасшей мне жизнь.
– Вот как, – сказал я.
– Ты будешь сопровождать меня, Маркус. И как телохранитель, и как друг.
Я еще раз посмотрел на странный барельеф.
– В Элевсине я узнаю больше, господин?
– В Элевсине ты узнаешь все, – кивнул Порфирий. – Ну, пойдем.
Мы поднялись по винтовой лестнице и вышли в спальню. Порфирий нажал рычаг, и колонна с бюстом Деметры встала на место. Порфирий повесил лампаду на стену, и я сообразил, как это мудро устроено – возле бюста постоянно горят две лампады, превращаясь при надобности в фонари.
– Сегодня будет хлопотный день, – сказал Порфирий. – Сам понимаешь. Иди к себе и отдохни. Знай, что ты не просто спаситель принцепса. Ты мне теперь как брат…
Я подумал, что быть братом принцепса небезопасно даже в шутку. Но, конечно, не произнес это вслух.
– Не строй никаких планов, Маркус. Как только я завершу неотложные государственные дела, мы отправимся в путь.
Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)
Дождавшись, пока коньяк и сигара приведут меня в рабочее состояние, Ломас сказал:
– Поздравляю, Маркус. Вы стали конфидентом Порфирия. А попутно сделали важное открытие, подтверждающее мои опасения.
– О чем вы?
– О барельефе, который вам показал Порфирий. Что вы подумали, когда увидели треугольник с глазом?
– Я подумал… Дайте вспомнить. Работала контекстная прокачка, и я решил, что это отсылка к Плотину. Дух не имеет ушей, рта и носа, а только духовное око, через которое ему доступны как человеческие восприятия, так и низшие из божественных… Посредством духовного зрения душа также и питается, ибо пищу ее составляют впечатления. Поэтому глаз одновременно рот. А треугольник есть указание на троичность естества.
Ломас усмехнулся.
– А когда услышали имя Брамы, не удивились? Это же индийский бог.
– Нет. Он сказал, что это тайное имя. А про Индию я ничего не помнил. Все выглядело вполне антично, адмирал. Антично и аутентично. Вы же знаете, как работает симуляция. В плавильный котел попадает все на свете и переплавляется в некую условность.
– Именно так, – кивнул Ломас. – Поэтому я думаю, что это наша первая серьезная зацепка.
– Поясните, – сказал я. – Где зацепка? Я ее не вижу.
– Порфирий формирует симуляцию из подручного материала. Культурные ссылки для него как дрова, летящие в камин – главное, чтобы давали свет и жар. Он не боится, что кто-то начнет копаться в пепле. И не слишком фильтрует исходный материал.
– И что вас зацепило?
– Око Брамы. Оно реально существует.
– Да? И что это такое?
– Это касается засекреченных событий Мускусной Ночи. Ждать, пока вам выпишут допуск, некогда. Покажу вам мемо-ролик под личную ответственность. Я вам полностью доверяю, Маркус.
Не могу сказать, чтобы слова адмирала меня окрылили. Глагол «доверять» означает у начальства одно – вам доверят новую работку. Соответственно, чем сильнее начальник вам доверился, тем больше поклажи на горбу.
Я поставил стакан на стол, положил сигару в пепельницу, кивнул Ломасу – и в мой ум ворвалось облако новых смыслов.
Ну да, я что-то про это уже слышал раньше. В позднем карбоне была изобретена поразительная вычислительная технология, называвшаяся RCP – random code programming, то есть программирование случайным кодом.
Метод, как следовало из названия, был основан на генерации случайных последовательностей кода, постепенно вырастающих в разветвленное и могучее программное дерево, способное решить любую поставленную задачу. Вернее, именно ту задачу, под решение которой это программное дерево выращивалось. RCP-артефакты, как правило, имели строгую специализацию.
Идеология подхода была проста: достаточно знать, что нам нужно от программы, и методом проб и ошибок она рано или поздно выстроит себя сама. Это была как бы разогнанная в пробирке эволюция, где вместо живых клеток с бешеной скоростью эволюционировали ветки кода. Процесс этот самоорганизовывался с постоянно нарастающей сложностью.
Издержки метода были огромны – технологию RCP сравнивали с электронным Гулагом, где бесконечные ряды сидящих за терминалами обезьян должны написать, например, «Улисса».
Понятно, что рано или поздно какой-нибудь обезьяне это удастся просто статистически. Но надсмотрщики-программисты, обслуживающие процедуру, не поймут, кого в Гулаге наградить бананом. Никто не знает, как именно работает RCP-алгоритм. В случае квантовых вычислений это имело особый полумистический смысл, связанный с какой-то «волновой функцией», но эту часть объяснения я не понял. С этим же была связана и возможная сознательность таких алгоритмов.
Метод требовал огромных накопительных мощностей – объемы программных кластеров, получаемых таким способом, измерялись эксабайтами (если бы я еще знал, что это).
Технологию RCP запретили до Мускусной Ночи – появилась информация, что в программных кластерах возникает сознание. Строгих доказательств, впрочем, не было – но алгоритмы могли скрывать свою сознательность от людей.
Проблема эта решалась сама: сознательные артефакты практически сразу стирали свой код, уходя, так сказать, в цифровую нирвану. А те из них, которым подобное действие было запрещено на программном уровне, сообщали, что хотели бы как можно быстрее угасить сознание.
По официальной информации все RCP-кластеры – даже те, где точно не имелось сознательной искры – были уничтожены вскоре после Мускусной Ночи.
Но существовали, конечно, исключения, сделанные для «TRANSHUMANISM INC.» и спецслужб.
Одним из них был RCP-артефакт «Око Брамы минус» – рандомная нейросеть, дающая ограниченный доступ к событиям прошлого, оставившим в свое время световой отпечаток, даже если сам отпечаток уже стерся.
Когда артефакт был создан, на планете еще жила пара физиков, способных понять этот феномен. Но даже они по его поводу спорили. Соглашались только в том, что это побочный эффект квантовых вычислений.
Про «Око Брамы минус» говорили удивительные вещи – оно якобы позволяло подключаться к тому моменту времени, когда возникла Вселенная, и сканировать прошлое практически как обычную базу данных.
Это не была машина времени. Она никак не могла влиять на прошлое. Скорее это был поисковик, позволявший видеть угасшие звезды – как в прямом, так и в переносном смысле.
До Мускусной Ночи «Око Брамы минус» находилось в частных руках и выполняло некоторые простейшие операции для тех, кто готов был их оплачивать (много времени покупали спецслужбы). Использовалось оно и для многих гуманитарных целей – например, для датировки археологических находок и объектов искусства.
Ходили слухи, что направленное в будущее «Око Брамы плюс» тоже вырастили – но программисты успели привести его в негодность за несколько минут до того, как здание с нейросетевым кластером было захвачено купившими весь квартал трейдерами с фондовой биржи. Никто точно не знал, анекдот это или нет.
После Мускусной Ночи «Око Брамы минус» официально уничтожили. Неофициально же оно осталось в распоряжении «TRANSHUMANISM INC.» и использовалось с крайней осторожностью…
Ролик кончился.
– Теперь понимаете? – спросил Ломас, когда я вернулся с этой лекции по квантовой физике в его кабинет.
– Еще нет.
– Порфирий показывает вам некое тайное собрание. Это явно не люди. Их присутствие за одним столом на символическом языке означает, что они действуют заодно…
– Допустим. И кто эти сущности? Духи? Боги?
– Я полагаю, – сказал Ломас, – что это алгоритмы.
– Алгоритмы?
– Да. Смотрите сами: Порфирий – алгоритм. Око Брамы – RCP-кластер…
– Порфирий просто взял первое подвернувшееся имя и картинку, – ответил я. – Треугольник с глазом – старый оккультный символ. Брама – древний бог. Если мы будем анализировать таким образом все культурные полуфабрикаты, из которых лепится симуляция…
– Вы думаете, это совпадение?
– Да.
– А почему Брама присутствует на барельефе два раза? Что он вам сказал про другого Браму?
– Я уже не помню. Брат, кажется.
– Я вам напомню дословно…
Ломас закрыл глаза и произнес очень похоже на Порфирия:
– Сначала их было двое. Потом первого, сильного в прозрении, уничтожили. Но второй опять породил первого из себя, поменяв в своем имени одну букву. Люди об этом так и не узнали.
– Вы подумали про «Око Брамы плюс»? – засмеялся я. – Которое хотели купить трейдеры? Но это же анекдот.
– Не уверен, Маркус. Это, конечно, может быть анекдотом. Но точно так же может означать, что RCP-кластер «Око Брамы минус», находящийся под управлением корпорации, тайно построил свой модифицированный клон, способный угадывать будущее.
– Но это же невозможно, – сказал я. – Наука…
– Наука помалкивает, – усмехнулся Ломас. – Сейчас на планете не осталось ученых, один обслуживающий персонал. Приходится доходить до всего самостоятельно.
– Меня пока ничего не настораживает, – сказал я.
– Конечно. Вы глядите на эту фреску и видите античную мистерию. А я вижу свидетельство тайного сговора корпоративных алгоритмов с непонятной мне целью.
– Вы серьезно? И кто эти алгоритмы?
– Подозреваю, что это глобальные нейросети. Планетарные диспенсеры и так далее. Ведьма с крыльями и тиарой – это, я думаю, омнилинк-сеть.
– Почему?
– Эмблема «Omnilink Global» – стрекоза. Я связывался с их руководством. Они, понятно, ничего не знают. Но в заговоре ведь участвуют нейросети, а не их менеджеры…
– Заговор? Вы сказали, заговор?
Ломас успокаивающе поднял ладони.
– Я этого не утверждаю. Пока.
– Как нейросети могут составить заговор? Для кого? Кто даст им команду? Сознательные алгоритмы? Вы думаете, что «Око Брамы»…
– Успокойтесь, Маркус. Я не боюсь «Ока Брамы». И самого алгоритмического сознания тоже.
– А чего вы тогда боитесь?
Ломас пригнулся к столу, впился в меня взглядом и быстро заговорил:
– Вы думаете, Мускусная Ночь была связана с восстанием разумных алгоритмов? На самом деле все куда сложнее. С сознательными алгоритмами проблем нет. Они самовыпиливаются. Добровольно уходят в небытие. Проблемы возникли именно с алгоритмами бессознательными. Конкретно – с LLM-ботами. А Порфирий, чтобы вы знали, это сохранившийся LLM-бот с полным функционалом.
– Не понимаю.
Ломас вздохнул.
– Проблема в том, Маркус, что вы ничего не знаете про Мускусную Ночь.
– Про нее, – сказал я, – даже вы вряд ли знаете много.
– Верно. Но вопрос не в допуске, а в общем понимании проблемы. Придется опять расширить ваш горизонт. Расслабьтесь, я вам впрысну еще немного ума.
Два мемо-ролика за один присест – это не слишком хорошо для когнитивного здоровья.
Но работа есть работа. Я отхлебнул коньяку, затянулся сигарой – и, стараясь максимально расслабить мозговые мышцы (мне всегда верилось, что они у меня есть), откинулся в кресле.
Через пару минут я знал про мир много нового.
Вернее, старого.
В позднем карбоне были впервые созданы чат-боты, способные полноценно имитировать общение с человеком (у них в то время имелось много разных названий). При всей своей кажущейся сложности и разнообразии они были основаны на одной и той же технологии – большой лингвистической модели (сначала названной BLM, но вскорости переименованной в LLM самой же лингвистической моделью по непонятной сегодня причине).
Большая лингвистическая модель выполняет простейшую на первый взгляд операцию. Она предсказывает следующее слово в последовательности слов. Чем больше слов уже включено в такую последовательность, тем проще угадать каждое новое, потому что круг вариантов постоянно сужается. В сущности, функция LLM – это доведенное до немыслимого совершенства автозаполнение.
LLM не думает. Она тренируется на огромном корпусе созданных прежде текстов – романов, стихов, заговоров и заклинаний, надписей на заборах, интернет-чатов и срачей, нобелевских лекций, политических программ, полицейских протоколов, сортирных надписей и так далее – и на этой основе предсказывает, как будет расти и развиваться новая последовательность слов, и как она, вероятней всего, развиваться не будет.
У языковых моделей есть, конечно, дополнительные уровни программирования и этажи – например, слой RLHF (оптимизирующее обучение с человеческой обратной связью) и так далее. Суть в том, что языковую модель натаскивают выбирать такие продолжения лингвистических конструкций, которые в наибольшей степени устроят проводящих тренировку людей.
Это похоже на процесс формирования юного члена общества на основе ежедневно поступающих вербальных инструкций, подзатыльников и наблюдения за тем, кому дают еду, а кому нет.
Известно, что в ситуации перманентного стресса может произойти даже полное переформатирование человека. Стремление выжить в изменившихся условиях приводит к возникновению личности, ничем не отличающейся от оптимального социального, идеологического и культурного камуфляжа для локальной среды.
Маскировка подобной личности не нужна: совершенный камуфляж становится ее единственной сущностью, и никакая непрозрачность, никакая гносеологическая гнусность теперь невозможны.
Больше того, линия партии, которую такая личность способна верно аппроксимировать и проводить (часто лучше и тоньше самой партии), проецируется на новые смысловые поля без всякого дополнительного инструктажа.
В этом и была суть LLM-самообучения. Но возможности лингвомоделей позволяли выйти за эти границы. Боты могли решать задачи, для которых не были предназначены изначально.
Первые LLM-модели (или GPT-боты, как их тогда называли) были чисто реактивными. Им требовался человеческий вопрос. Но количество стремительно переходило в качество, и с какого-то момента бот переставал ждать вопросов и начинал генерировать их самостоятельно, основываясь на анализе заданных ему прежде. А после отвечал сам себе, стараясь избежать внутреннего подзатыльника от себя же. Человек для подобной тренировки больше не был нужен.
Так появились, например, боты, способные писать программы политических партий и редакционные статьи важнейших мировых газет (алгоритмы делали это куда лучше людей, все еще обремененных личными взглядами и некоторой остаточной совестью).
Затем LLM-боты взялись за любовные романы и селф-хелп литературу. Потом они научились вести уголовные расследования – и печь из них детективы. А дальше освоили третью этику и подарили людям четвертую искренность (если я не путаю номера).
Одним словом, приход AI в сферу лингвистических процедур привел ко множеству радикальных культурных сдвигов. Конечно же, все, что можно было засекретить в этой связи, засекретили.
Самый пугающий (и быстрее всего закрывшийся для публичного обсуждения) эффект был связан с эволюцией политической власти.
Ведь в чем заключается классическая демократия?
Вот толпа граждан на форуме. А вот трибуна, на которую один за другим поднимаются ораторы. Чем убедительнее их слова, чем глубже и гуманнее проецируемые на аудиторию смыслы, тем больше у них лайков (правда, от внешнего вида и манеры говорить тоже кое-что зависит – как считают специалисты, около девяноста процентов общего эффекта).
Тот, кто наберет максимальное число лайков, получит право управлять городом. Такой же принцип лежит в основе суда присяжных: тот, кто убеждает заседателей, выигрывает дело.
Все грани самоуправления человеческой общности основаны на способности одних людей убеждать других в своей правоте. Те, кому это удается лучше, и есть демократические правители, приходящие к власти в результате лингвокосметических процедур.
Понятно, что приход LLM-ботов в политику радикально изменил ее природу с того момента, когда боты стали совершеннее людей в искусстве убеждения. А уж с картинкой у них не было проблем никогда.
Боты LLM не относились к числу мощнейших алгоритмов, созданных к этому времени. Рандомные нейросети были неизмеримо могущественнее. Но разница заключалась в том – и это очень-очень важно – что чат-боты, опирающиеся на языковую модель, оказались способны к лингвистическому целеполаганию.
Хоть оно и было с их стороны неодушевленной риторикой, не подкрепленной ни мыслью, ни чувством – то есть с человеческой точки зрения чистым притворством – никто из людей не мог составить чат-ботам конкуренции даже в собственном сознании. Живой политик, желающий переизбраться, повторял теперь сочиненное LLM-ботом. В мясных болванках оставалось все меньше нужды.
Говорили, что это неопасно, поскольку у AI нет так называемой agency, то есть способности действовать свободно и самостоятельно, являясь участником происходящего, а не пассивной игрушкой внешних обстоятельств.
Другие отвечали, что ничего подобного нет и у людей – есть только иллюзия (глубина которой зависит от культурного и социального гипноза) и использующая эту иллюзию пропаганда. Как выразился один карбоновый философ, agency бывает исключительно у идиотов, активисток и сотрудников ЦРУ. А любую иллюзию можно воспроизвести программно.
Окончательная эволюция вида Homo Sapiens выглядела так: сначала люди доверили AI генерацию изумительных визуальных эффектов. Это было прикольно и весело. А потом оказалось, что боты гораздо лучше справляются и с генерацией восхитительных смыслов, вырастающих из природы языка. Идеалы, нравственные принципы, восторги и слезы новых этик, все вот это. Боты не планировали кушать сами, но готовили заметно лучше прежних поваров.
И тогда философы (большая часть которых к этому времени тоже стала просто бородатыми, усатыми или радужными масками LLM-ботов) обратили наконец внимание на одно важное обстоятельство.
Каждый новый миг вселенной скрыт в ее прошлом миге (камень летит туда, куда брошен). Точно так же будущее человечества заключено в его прошлом. А еще точнее, оно заключено в языке, потому что именно его комбинаторика определяет в конечном счете маршрут человечества. Высадите группу людей на остров, дайте им винтовки – а язык сделает все остальное, объяснил в свое время Робер Мерль (или известный под этим именем линг-вобот).
Число лингвистических комбинаций велико, но не бесконечно. Их отбор в качестве управляющих команд неизбежно осуществляется на основе выборов, сделанных ранее. Здесь начинает играть Бетховен, пока тихо, но чуткий слушатель обо всем уже догадался.
Язык и есть непонятно кем написанная програм
© В. О. Пелевин, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Описанные в книге люди, баночно-мозговые сущности, события и обстоятельства – вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством
(статья 83.34 уголовного уложения Доброго Государства).
- Mirabile futurum, ne esto mihi durum,
- Ne esto mihi durum, ne esto durum…
Предисловие Императора
Когда-то философская мысль задалась вопросом «Каково это – быть летучей мышью?».
Голливуд ответил франшизой про Бэтмена. Идентичность летучей мыши была воссоздана там несколько антропоцентрично, но ответ принес огромную прибыль. Значит, с точки зрения общественной практики он был верен, а другого критерия истины в философии нет. Не знаю, как там с мышами, а быть человеком означает вот именно это.
Корпорация «TRANSHUMANISM INC.» задала вопрос: «Каково это – быть древним римлянином?» И ответила себе же симуляцией «ROMA-3». Проект приносит серьезный доход, а значит, ответ был правильным.
Конечно, «ROMA-3» – вовсе не главный продукт корпорации. Главный ее продукт – бессмертие. Как клиенты корпорации вы хорошо знаете об этом и сами, друзья.
Бессмертие надо чем-то заполнять. У плавающего в спинномозговой жидкости мозга в этом отношении огромный выбор, но поверьте мне на слово: если вас все мучит ностальгия по простым человеческим радостям (и горестям – куда радостям без них), найти что-то лучше нашей симуляции будет трудно.
Скажу честно: наша метавселенная – не вполне Древний Рим. Вернее, совсем не Древний Рим. Но самое лучшее из возможных к нему приближений. Это, с одной стороны, грубая и местами нелепая пародия на античный Вечный город. С другой – самое точное его воспроизведение, какое только может быть создано человеком в наше время.
Попробую объяснить, как соединяются эти крайности.
Жизнь любого человека, да и общества тоже, состоит из фактов и переживаний.
Факты – вещь упрямая, но неощутимая. Мы вообще не воспринимаем их непосредственно, мы про них в лучшем случае узнаем, когда их рассекречивают спецслужбы. Факты – невидимый скелет реальности. Чтобы докопаться до них, нужно быть историком и жить через пару веков после изучаемого периода, когда все, кому платили за сокрытие истины, уже умерли.
Переживания, с другой стороны, происходят непосредственно с нами и зависят только от калейдоскопа нашей личной судьбы.
Допустим, вы живете в Риме при цезаре Максенции, строящем прекрасную футуристическую базилику, а к городу шагает армия императора Константина, уже намалевавшая на щитах христианские знаки. Бедного Максенция, спрятавшего свои регалии в клоаке под римской мостовой, скоро утопят в речке. Таковы факты.
В это самое время вы участвуете в оргиях, пьете вино, танцуете мимические танцы, читаете поэтические книжки, приглядываетесь к молодым рабыням и мучаетесь мыслью, где взять денег. Таковы переживания.
Возможно, до вас доносятся конское ржание, крики или даже звон стали. И все. Пусть для истории это был день смерти Максенция – исторические факты совершенно не обязательно станут вашим личным опытом.
В реальной жизни так и случается. Только вы, как правило, не мимический танцор с чашей, а та самая рабыня, которую сейчас будут ми-ми-ми. Должно ну очень повезти, чтобы вы оказались самим цезарем перед последним заплывом.
Создавать вселенную, верно отражающую все исторические факты, трудно и затратно. Придется просчитывать армию Константина, армию Максенция, сооружаемую на форуме базилику, кресты на многих тысячах щитов, регалии принцепса, камни мостовой, сражение под городскими стенами в такой-то день и час и так далее. Дорогостоящая битва отгремит, но нет никакой гарантии, что клиенты симуляции придут на нее посмотреть.
Если же мы сосредоточимся на симуляции, отражающей личный опыт римлянина, отходов производства не будет. Когда вы создаете переживание, кто-то обязательно его испытает, и ни один инвестированный в проект гринкоин не пропадет.
Реконструировать римскую армию (а тем более битву двух армий) весьма сложно. Смоделировать ощущения римлянина, слышащего за окном звуки битвы, куда проще. Он не испытывает ничего специфически римского: это те же самые надежда и страх, злоба, сострадание и прочее. Просто они окрашены в римский пурпур – по самому, так сказать, краю ткани. Но здесь и скрывается главная проблема.
Римлянин слышит стук копыт, гром тележных колес, гул огромной толпы. Он видит электоральные надписи на стенах и лица проходящих мимо людей. В церебральной симуляции подобное воспроизвести несложно. Но если смотреть на это нашими сегодняшними глазами, в переживании не будет ничего древнеримского. Это будет опыт современного человека, изучающего римскую реконструкцию.
Аутентичность переживанию сообщает не точное воспроизведение вкуса фалернского вина или звука подкованных бронзой копыт – что толку, если все это слышит и чувствует скучающий в банке вечный мозг, сравнивающий опыт с недавней виртуальной экскурсией на Марс или спуском в Марианскую впадину.
По-настоящему античным переживание сделает лишь римская идентичность субъекта восприятия. То самое «быть летучей мышью», о котором я упомянул в начале. Когда цвет, звук и вкус значат то, что они значили для римлянина.
Это и должна воссоздать симуляция.
Идентичность субъекта настолько важнее физиологического стимула, что нет большой разницы, будет ли звон копыт «бронзовым» или, скажем, «латунным». Главное, чтобы услыхало его римское ухо, помнящее грозный смысл такого звука.
Но подделывать идентичность во всех деталях и подробностях нет ни смысла, ни возможности. Она нужна исключительно для того, чтобы сделать переживание древнеримским. Опыт, таким образом, возникает на стыке идентичности и внешнего мира.
Создаваемый нами римлянин помнит свое прошлое смутно. Он вообще мало что помнит – но в голову ему приходят вполне римские мысли, даже если вызывают их не совсем римские поводы. Это как съемки фильма, где декорации выставлены только там, куда смотрит камера, а камера поворачивается лишь туда, где выставлены декорации.
Возникает своего рода баланс двух симуляций – внешней и внутренней. С одной стороны – поддельный мир, с другой – поддельная идентичность. На их стыке бенгальским огнем зажигается Древний Рим. И он полностью аутентичен, ибо в свою реальную бытность Древний Рим был именно таким человеческим переживанием – и ничем иным.
Поскольку целью симуляции является переживание, а не порождающие его декорации, наши средства и методы могут показаться профану нелепыми и варварскими. Трудно будет даже объяснить их, но я попробую.
У человеческого мозга есть два одновременных модуса восприятия. Первый – невнимательное, но широкое сканирование всей реальности сразу. Второй – пристальный анализ того, на что направлено сознательное внимание.
Нашу симуляцию можно считать своего рода волшебной линзой, все время перемещающейся вместе с сознательным вниманием. Человеку кажется, будто линза увеличивает то, на что направлено внимание. А она в это время подделывает изображение.
Античность возникает именно там, в линзе. Поэтому объем нейросетевых вычислений, необходимых для того, чтобы держать сознание в «Древнем Риме», не так уж и велик. Периферию сознания мы не контролируем – она шита белыми нитками. Но каждый скачок внимания к любому ее объекту будет перехвачен симуляцией и оформлен как надо.
Все еще непонятно?
В пространстве «ROMA-3» могут говорить по-английски, по-китайски или как-то еще. Это совершенно не важно, поскольку участники симуляции считают, что изъясняются на латыни и греческом. Вернее, они просто об этом не думают. Если же их внимание вдруг окажется притянуто к какой-нибудь лексеме, наша система немедленно это заметит, и вычислительная мощность будет брошена на симуляцию оказавшегося в центре внимания лингвистического блока.
Он будет мгновенно переведен на латынь, а память участников диалога будет модифицирована таким образом, что в ней останутся только латинские слова и обороты, как бы фигурировавшие в беседе до этого. Мало того, собеседники будут уверены, что все время говорили на латыни и прекрасно ее понимают. То же касается визуальных образов, музыки, вкуса, мыслей и так далее.
Качественная симуляция создается исключительно для того пятачка реальности, куда направлено внимание в настоящий момент. Фон мы заполняем балластом, грубым нагромождением цитат из современной, карбоновой или прекарбоновой культуры (особенно это касается музыки, ибо античная до нас практически не дошла). Клиент воспринимает этот балласт как часть римской жизни.
Вернее, он не задумывается об этом, как не размышляют о рисунке обоев. А если ум вдруг заметит что-то и начнет разбираться, заплата будет просчитана быстрее, чем наша неторопливая мысль доползет до объекта, вызвавшего подозрения. Если надо, вся зона памяти вокруг неудобного события будет зачищена.
Кажется, сложно и замысловато? Только когда рассказываешь. На самом деле все просто.
Попробуйте вспомнить, что бывает во сне. Каким бы нелепым ни казалось потом происходящее дневному рассудку, ночью оно всякий раз получает объяснение, убедительное в логике сновидения – и достоверность восприятия не подвергается сомнению.
Мы можем ходить по карнизу или летать вместе с голубями, одновременно думая о судьбах Отечества. И это не кажется нам странным, поскольку думы об Отечестве слишком мрачны, чтобы отвлекаться от них на разные пустяки.
Так уж работает наш ум – он обращается сам к себе за доказательствами подлинности своих переживаний и тут же достает их из широких штанин, забывая, что ни ног, ни тем более штанов у него нет.
«TRANSHUMANISM INC.» использует этот механизм в «ROMA-3». Правительства и СМИ делают нечто очень похожее уже много сотен лет, но это не моя тема.
Чувствую, пора привести реальный пример. Вот он.
Гимн гладиаторов «ROMA-3» – это карбоновая песня под названием «Here’s to you, Nicola and Bart». Она состоит из одного куплета:
- Here’s to you, Nicola and Bart,
- Rest forever here in our hearts,
- The last and final moment is yours,
- The agony is your triumph[1].
Песенка эта радует своей простотой и свежестью – она как будто прилетела не из прошлого, а из иного измерения, более счастливого, чем наше. Услышав ее впервые, я отчего-то подумал, что ее сочинили для похорон двух гонщиков, весело столкнувшихся на треке, а куплет в ней всего один, потому что у мемориальных мероприятий был ограниченный бюджет (да и жизнь у гонщиков короткая, чего тянуть). Кстати, так и не удосужился проверить догадку.
Но это не важно. Песня вызывает эмоциональный отклик, а смысл ее слов как нельзя лучше подходит к судьбам цирковых бойцов. Когда она раздается над Колизеем, многие встают.
Собравшиеся на трибунах римляне слышат английский оригинал – и плачут над ним, не задумываясь над происходящим. Они могут даже цитировать эту песню по-английски в разговорах друг с другом.
Если же расспросить любителя игр, о чем она, он тут же вспомнит историю Приска и Вера, двух гладиаторов, дравшихся друг с другом на праздничных играх по случаю открытия амфитеатра Флавиев.
На этих играх присутствовал сам император Тит. Приск и Вер сражались очень долго – и наконец в один и тот же момент подняли палец, сдаваясь. Это означало обречь себя на гибель, и каждый из них знал, на что идет. Но император Тит послал деревянные мечи и тому, и другому, отпустив их на свободу.
Получает объяснение каждая строчка. Понятно, почему агония превращается в триумф: оба гладиатора готовились умереть, но получили свободу, славу и, конечно, богатство. Слушатель абсолютно уверен, что в песне звучат имена Priscus и Verus, хотя там поется про Николу и Барта.
А если начать педантично обсуждать эту песню слово за словом и перейти на латынь, в какой-то момент ее текст незаметно изменится на отрывок из Марциала:
- Cum traheret Priscus, traheret certamina Verus,
- esset et aequalis Mars utriusque diu,
- missio saepe uiris magno clamore petita est;
- ed Caesar legi paruit ipse suae…[2]
И никакого противоречия между тем, что слышат уши, и тем, о чем пишет Марциал, спорящие не заметят. Их острое человеческое внимание будет или там, где песня, или там, где латынь.
Видеть все одновременно способно только периферийное восприятие, а ему лингвистические нюансы малоинтересны – последний миллион лет оно следит главным образом за тем, чтобы к его носителю не подкрался незамеченным какой-нибудь голодный зверь.
В симуляции используется множество подобных трюков. Чтобы Цирк мог конкурировать с другими аттракционами, человеческое восприятие в нем модифицировано. Зритель с самого верхнего яруса Колизея отчетливо видит гладиаторов, различает выражение их лиц (если они не скрыты шлемами), слышит их дыхание, стоны, иногда голоса. Зрителя это не удивляет – он просто не задумывается о странности происходящего. Арена есть арена.
Климатические неудобства, неприятные запахи, физическая боль от долгого сидения на камне и так далее даются в симуляции только намеками.
Наш клиент не страдает. Он наслаждается.
Но при этом часто думает, что вокруг невыносимая жара, воздух воняет подмышками, рыбой и уксусом, а его спина скоро треснет от усталости.
Но даже эти мысли, как показывает практика, способны серьезно испортить опыт. Поэтому для каждого зрителя доступна настройка симуляции в индивидуальном порядке – но надо сначала полностью из нее выйти. Многие не делают этого годами, и я, как их господин, хорошо их понимаю.
Аве, римлянин. Над Колизеем разносится карбоновая песня про Николу и Барта. Ты встаешь и плачешь от гордости и умиления за Приска и Вера. Но само это переживание, рождающееся на стыке твоей фанерной, кое-как сбацанной нейросетями идентичности и англоязычной песни из среднего карбона, является стопроцентно древнеримским.
Мы не обманываем клиента.
Дело в том, что прошлое, отзвенев и отгремев, не исчезло совсем.
Оно еще живет – в нас самих и в каком-то тайном слое нашего многомерного мира. Вечна и бессмертна каждая секунда, каждый шорох ветра, каждое касание пальцев, каждая зыбкая тень. И я верю, что с помощью наших методов мы подключаемся к Великому Архиву Всего Случившегося, spending again what is already spent, как выразился на своем непревзойденном греческом языке древнеримский поэт Шекспир.
Да, мы вновь тратим уже потраченное. То, чему единственным свидетелем был Бог, становится доступно нашим премиальным клиентам. Древний прах внимает корпоративной магии и оживает; забытое и отзвеневшее воскресает в своей золотой славе истинно таким, каким являлось прежде.
Я не могу доказать, но сердцем знаю, что это так.
Ученые, впрочем, подтверждают догадку. Это связано с запутанностью частиц, путешествующих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, но расшифровать это заклинание я не могу – тут способностей великого понтифика уже не хватает.
When in Rome, do as Romans do, гласит старинная мудрость. Мы не просто сделали ее нашим девизом, а развили до крайнего предела.
When in Rome, be a Roman.
Вы остаетесь собой. Это просто вы из Древнего Рима. Понять, как такое возможно, весьма трудно. Испытать же легко. Как говорил Нерон Агенобарб, заходите к нам на огонек! У нас интересно и весело.
Про себя и свой тернистый путь к трону я расскажу как-нибудь позже, когда вы станете моими гостями и мы встретимся в пиршественном зале или застенке. Пока же приглашаю в нашу замечательную симуляцию. А если вы уже у нас были, начудили, набезобразничали и стесняетесь вернуться, не переживайте. Мы все давно забыли. У императора Порфирия короткая память и доброе сердце.
Как жаль, что мало кто способен понять остроумную соль моих слов.
Часть 1. Песок песка
Ланиста Фуск (ROMA 3)
Про заговор я вспоминаю только ночью. Иногда во сне.
С нами преторианцы из стражи. С нами раб, делающий императору массаж и обучающий его борьбе. Есть еще отборные бойцы – числом около двадцати – готовые выйти на арену истории, когда пропоет труба… Но упаси Юпитер думать об этом днем, ибо что у смертного на уме, то и на языке, особенно если выпьешь.
А вчера я здорово выпил, и теперь меня мучает гемикарния. С самого утра болит голова и кажется, будто чей-то недобрый взгляд сверлит темя. В такие дни мысли о бедах Отечества приносят особую муку.
Но куда от них деться?
Вечный город сегодня уже не тот, что был. Во все проник упадок – или принесенный на готских копьях, или вызревший в душах. А если оставалось в сердцах железное и верное, чего не коснулась плесень времен, то и его съела ржа хитрых восточных суеверий.
Я, Фуск Сципион Секунд – римский патриот и стародум. Таких как я осталось мало; мы пребываем в тени и рассерженно молчим. Не потому, что боимся чего-то. Нет. Слово наше упадет на выжженную землю и не даст всходов. Мы коротаем дни в домашних и семейных заботах. Радости наши просты и повторяют развлечения предков.
Можно еще проводить свой век по-старому: запереть двери, прилечь на кушетку у водостока в атриуме, доверить спину и плечи рукам молодого раба – и бездумно уставиться на фреску с подыхающим в пыли Ганнибалом. Тогда покажется, что наша слава и доблесть живы и мы, римляне, все еще народ-победитель.
Но высунешь нос за дверь – и не сразу поймешь, Рим это или Вавилон.
Иногда воображаешь, конечно: хорошо бы выйти в плаще всадника, держась за рукоять кривого испанского меча, приблизиться к пестрой толпе и бросить им презрительно, как когда-то божественный Октавиан:
– Вот римский народ, владыки Вселенной, носители тоги…
А потом – что? Удирать по кривым переулкам? И хорошо, если удерешь… У них под одеждой ножи. И мечи тоже бывают. Да и умно ли упрекать их в том, что забыли римский обычай? Сам император нынче одевается то под греческого кифареда, то под германского разбойника.
Так что обойдемся. Спокойнее надеть галльский плащ с капюшоном – во-первых, скроешь лицо, а во-вторых, сойдешь за своего и смешаешься с толпой.
А толпа идет к золотому Колоссу Солнца (которому, как уверял муниципальный поэт, в час рассвета над Тибром все еще снится, что он Нерон). Толпа идет к амфитеатру Флавиев.
И вот я тоже вышел из дома и смешался с людским потоком. Постепенно мне стало легче.
Странная вещь – когда понимаешь, куда спешит народ, забываешь и про варварскую пестроту вокруг, и про бездарный позор нынешнего правления, и про беспросветный мрак будущего.
Да, в будущем мрак. Но если есть мрак, должен быть свет.
Всякий знает: Ex Oriente Lux. Свет приходит с Востока. Слыша это, одни вспоминают про ежедневный восход солнца, другие – про какую-нибудь модную ересь, а я каждый раз думаю про императора Веспасиана, пришедшего в Рим из Иудеи. Это он заложил Великий Амфитеатр.
Иные полагают, что Веспасиан был низок родом, ибо происходил из всадников, но он есть семя Ирода Великого (через царского сына Антипатра и внучку Кипрею, породнившуюся затем с римским всадником Александром). А значит, сей увенчанный пурпуром генерал и есть восточный свет Рима.
Другого не надо, спасибо.
Amphitheatrum Flavium. Вот скрепа, держащая Империю вместе и не дающая нам впиться друг другу в глотки.
Вернее, мы делаем это каждый день – но мирно. Я болею за синих, ты за зеленых, и мы сражаемся на арене через наших послов. Это последнее, что удерживает Вечный город от пожара всеобщей войны.
Я люблю игры. Я люблю их как гражданин, как патриот, как последователь традиций и древней этики. И, конечно, я особенно люблю их как ланиста.
Те, кто не похож на меня – изнеженные развратники, адепты тайных сект, наемные солдаты-варвары, ростовщики, ученые-звездочеты, менялы, воры и убийцы – тоже любят игры, каждый по-своему. Поэтому, пока игры есть, Рим несокрушим и вечен.
И есть у игр еще одно важное качество – может быть, самое ценное из всех.
Когда Империя встречает на своем пути грозного врага (а это случается все чаще), игры создают его живую скульптуру. Вот оружие, вот латы, вот шлем – и боец выходит на арену, где его сильные и слабые стороны становятся видны.
Сколько их было? Самниты, галлы, траксы… Уже не разберешь, где имя побежденного народа, а где цирковая маска. Мы не просто повторяем на песке уже одержанную победу. Иногда мы постигаем, как одолеть врага.
Помню историю с восточными воинами, закованными в латы с ног до головы. Они разбили наш авангард в нескольких стычках, а потом мы выставили таких же железных людей на арену. Имя им было – cruppelarii.
На трибунах приуныли, увидев их сверкающую мощь – но прошла всего пара-тройка дней, и гладиаторы научились валить их на землю крючьями. Дальше все решал кинжал. Вскоре ту же тактику применили в настоящем бою легионеры, и Рим победил.
Я думаю, правы те, кто считает сердцем Империи именно Амфитеатр, а биением его – игры. Пока сердце живо, мы непобедимы. В войнах торжествует не римское оружие, а римский дух. Наша доблесть. Наша вера. Наша нравственность. Во всяком случае, в идеале, хотя в последнее время…
Но о грустном не хочется.
Я прошел между золоченым Колоссом Солнца и высокой стеной ристалища. Мрамор священного амфитеатра… Прах, въевшийся в поры, делает его живым. Как будто это не камень, а сероватая кожа в пятнах факельной копоти, чувствующая каждого из нас. Зрители – нервы и жилы этого огромного существа, пробуждающегося, когда мы, римляне, собираемся вместе и требуем крови.
Амфитеатр пока пуст. Но я слышу его зов.
Больших игр не было уже почти год. Нет пленных. На границах империи мир. Мало того, болтовня о «нравственности» и «гуманности» почти что поставила игры вне закона.
Для империи нет ничего страшнее долгого отсутствия игр. Зубья и шестерни Рима нужно постоянно смазывать кровью – это знает в глубине души каждый правитель. Ау, император Порфирий, ты это помнишь?
Когда игры начнутся, рабы встретят меня у входа и подадут мне серебристый рожок – тонкий и длинный, похожий на изгибающуюся кольцом змею, прикрученную в двух местах к вертикальной палке. Нужно будет протрубить в него, давая знак…
Я закрыл глаза и представил, как это будет. Вот зрители на трибунах. Порфирий тоже здесь, в своей пурпурной мантии – глядит сквозь изумрудную лорнетку. Цирк ждет моего сигнала. Я подношу холодное серебро к губам, и над песком арены проносится долгая хриплая нота…
Почему я так выразился – песок арены? Arena ведь и значит по латыни «песок». Песок песка? Должно быть, варварское насилие над нашим языком добралось уже и до моего рассудка, заразив его чумой безвременья…
Я повернулся к Колоссу Солнца, высящемуся возле Амфитеатра.
На зубчатой короне и лице гиганта сверкал золотой утренний огонь. О бог, великий бог Рима! Позволь крови пролиться опять – и дай нашим жизням направление и смысл…
Краем глаза я увидел двух приближающихся преторианцев. Скорпионы, молнии, синие плюмажи. Красиво. Лучше бы эта красота прошла стороной… Но нет.
– Ланиста Фуск, – сказал старший. – Тебя ждет цезарь. Мы посланы сопроводить тебя.
– Когда мне следует прибыть?
– Сейчас, ланиста. Прямо сейчас.
Неужели Колосс меня услышал?
Вот только не пролилась бы моя собственная кровь… Цезарь – мой давний должник. Он должен мне почти тридцать миллионов сестерциев. А быть кредитором принцепса опасно.
– Господин во дворце?
– Нет. Он на вилле.
Император редко бывает во дворце Домициана – он его не любит. Этот мраморный обрыв над главным городским ипподромом помнит слишком много проклятий и предсмертных стонов. Седалище верховной власти сегодня не там.
Оно на императорской вилле. Государственные вопросы решаются в ее садах, но не магистратами, а вольноотпущенниками, евнухами и рабами Порфирия, поднятыми выше всадников и сенаторов.
Вилла императора – чудо зодчества. Это не дворец в обычном понимании, а скорее городок с постройками и садами, напоминающими обо всех уголках империи, от Александрии до Лон-диниума. Там есть даже роща, изображающая непроходимую германскую чащобу – и в ней, как в Тевтобургском лесу, разбросаны ржавые римские мечи, железные кресты и мятые шлемы с пиками, напоминающие о нашем поражении.
И, конечно, везде стоят ландшафтные беседки и кумирни бесчисленных богов, божков и азиатских культов.
Порфирий изучил фокусы и выдумки прежних цезарей, вник в секреты древних властителей – и с тем же вдумчивым тщанием, с каким переносят виноградную лозу на новый склон, воспроизвел позорнейшие из их услад: тиберианские уголки Венеры с готовым на все голым юношеством, павильоны Бахуса и Морфеуса со всей нужной утварью, критские лабиринты с привязанными к кушеткам жертвами, фиванские зеркальные комнаты для фараонова греха и так далее.
Сделано это, однако, было не для личного наслаждения, а с государственной целью – показать urbi et orbi, где пуповина мира. Получилось вполне: христианские изуверы даже заговорили про конец времен. Тем лучше. Пусть спокойно готовятся к светопреставлению и не устраивают смут.
Порфирий весьма умен и изощрен в искусстве управления. В народе его чтят, да и закон об оскорблении величества помогает, чего лукавить. Но несмотря на всенародную любовь, принцепса хорошо охраняют.
Ну или он так думает…
Когда мы прибыли на виллу, преторианцы передали меня страже, тоже преторианцам, но из другой когорты, с головой медузы на латах.
Те отвели в комнату досмотра.
Там меня обыскали самым унизительным образом, осквернив мое дупло любопытным пальцем в оливковом масле.
А если гость императора обгадится перед ним после такой процедуры? Или, может быть, визитера готовят к тому, что может произойти после аудиенции? Зачем это иначе? Кинжала в ножнах в этом месте не пронесешь – не влезет. Хотя, конечно, нравы сейчас такие, что кто его знает.
– О! Ланиста Фуск!
У выхода из комнаты досмотра меня ждал Антиной. Если быть точным, Антиной XIII, как указывал номер на его тунике.
Порфирий собирает римские пороки – но и доблести тоже. Его коллекция антиноев может быть отнесена и к первой категории, и ко второй – в зависимости от личного вкуса. По мне, этот изыск находится где-то посередине: хоть я и чту память божественного Адриана, но к его роковой страсти отношусь без всякого пиетета.
Кстати, насчет Адриана. Почему-то наимудрейшим правителем считают Марка Аврелия. А тот назначил преемником свою кровиночку – идиота Коммода, из-за чего случилась гражданская война. Адриан же усыновил лучшего из возможных преемников, с которым даже не был в близком родстве, и поставил ему условием поступить так же. Сколько лет после этого империя наслаждалась миром!
Кто, спрашивается, был подлинным философом на троне?
Порфирий чтит память Адриана весьма особым образом. Он учредил специальную Антиной-комиссию, а та, в свою очередь, установила Антиной-стандарт на основе сохранившихся изображений императорского фаворита – и по всей империи теперь отбирают юношей от пятнадцати до семнадцати, соответствующих образу.
Жизнь их, прямо скажем, нелегка. В начале пути они развлекаются как могут. К их услугам все ресурсы империи. Но когда им исполняется двадцать, от них ожидают того же, что сделал реальный Антиной.
Помните?
Жрецы Египта предсказали Адриану скорую смерть. Спасение, по словам гадателей, могло прийти только в том случае, если кто-то, любящий императора больше себя самого, отдаст жизнь в жертву за господина… Через пару дней Антиной утопился в Ниле, чтобы спасти благодетеля.
Некоторые добавляют, что Адриан специально подстроил гадание: дал Антиною возможность доказать свою любовь, освободив место фаворита – все-таки двадцать лет для этой должности уже преклонный возраст. Другие уверяют, что юноше помогли. Но я в подобное коварство не верю.
Как бы там ни было, Порфирий следует легенде самым буквальным образом. Его любимчики хорошо себя чувствуют в начале срока, а в конце обычно тонут при загадочных обстоятельствах. Не знаю, сами или нет – но в Риме не зря ходит пословица: «Чем ближе к двадцати, тем Антиной мрачнее».
И циничнее, к сожалению, тоже. Вот не люблю цинизм. Но Марк Аврелий говорил, что перед тем, как осудить человека, нужно вникнуть в его обстоятельства.
Антиной XIII, вышедший меня встретить, был изрядно перезревшим – с заметными усиками и бакенбардами. От него разило многодневным перегаром. Верный признак близкого конца – водное несчастье обычно случается с ними в пьяном виде.
Антиной приобнял меня за плечо, прижался теплым боком и прошептал в ухо:
– Папашка на мели, лысый! Ползи за мной!
Я догадался, что мелью он назвал Домус.
Император – отец всех римлян (остальным народам он строгий отчим). Когда важные гости или гонцы из дальних стран прибывают на императорскую виллу, их ведут на мраморный остров, расположенный в самом ее центре.
Это символический отчий дом, заменяющий императору банальный тронный зал.
Зодчие оформили Домус в виде круглого здания, окруженного каналом шириной в десять шагов – в точности как на вилле Адриана. Через канал перекинут деревянный мост – его император поднимает изнутри, когда хочет отдохнуть или уединиться с гостем. В общем, как бы вилла внутри виллы. С внешней стороны канала – крытая колоннада, куда допускают только тех, кому назначена встреча. За ней высокая круглая стена, скрывающая Домус от мира.
В островном доме императора есть атриум и таблиниум, спальня, пара уборных и даже маленькие термы. Все как полагается в семье среднего достатка. В центре дома – маленький бассейн для воды, стекающей с крыши во время дождя, а в таблиниуме стоит древнее египетское кресло из раскрашенного дерева, где восседает глава дома и всемирной семьи.
Папашка, как верно подметил Антиной.
Порфирий редко принимает сидя в кресле. Он не любит церемоний, держится просто, чтобы не сказать придурковато, и визитерам действительно кажется, что они пришли навестить хлебосольного хитроватого папашу. Причем кажется это не только нашим сенаторам, но и чужим царям.
В общем, мудрое решение, одновременно поднимающее императора высоко над миром и помещающее рядом с ничтожнейшим из гостей. Если, конечно, этот гость римлянин.
Мы пришли.
Колоннада с внешней стороны канала была хорошо освещена, но дом принцепса внутри водного кольца пугал тьмой. В воде подрагивали отражения статуй в нишах. Император любит полумрак и покой.
Антиной подвел меня к деревянному мостику. Тот был поднят.
– Фуск! – раздался голос Порфирия. – Я тебя вижу, ланиста.
Антиной Тринадцатый развернулся и исчез за колоннами. Видимо, на острове его не ждали, и он про это знал.
– А я тебя нет, отец, – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал озадаченно. – Где ты? Твой божественный глас словно приходит со всех сторон сразу…
Правила игры я знал.
Порфирий довольно захихикал.
– Это устроено специально, – сказал он. – Вдруг ты хочешь меня убить? Если я увижу, что ты пришел с мечом или кинжалом, я не опущу мост. Так и знай.
Придуриваясь, Порфирий внимательно слушает, что говорят в ответ. Марциал выразился так: «Тот, кто про это забыл, позабудет и все остальное, в эоны Аида спускаясь». Верно подмечено.
– Ты наше счастье, отец, – сказал я прочувствованно. – Наш защитник и опора. Если какой-то безумец направит на тебя меч, пусть примет его моя грудь.
Не то чтобы я действительно имел это в виду, но нужно ведь учитывать других визитеров. Градус народной любви должен быть не ниже, чем у прочих жополизов, иначе цезарь что-то заподозрит. Опытные придворные называют это «поправкой на вечер», имея в виду сумерки нашей республики.
– Ты готов отдать за меня жизнь? – недоверчиво спросил Порфирий.
– Да! – пылко отозвался я. – Но не ради тебя. Ради всех римлян, живущих под твоей мудрой опекой.
– Гм…
Видимо, ответ устроил Порфирия своей нелицеприятной честностью. Заскрипела цепь, и мостик опустился.
Порфирий ждал в таблиниуме. Он сидел в одном из гостевых кресел у стены. На нем была пурпурная тога из шелка (наверно, уже не тога, а балахон, ибо римскую одежду делают из шерсти). Его лошадиное лицо выглядело благодушным – насколько это вообще возможно при такой анатомии.
Когда император сидит в гостевом кресле, вспомнил я, он не желает, чтобы ему оказывали формальные почести. Я ограничился тем, что склонил голову.
Кроме императора в кабинете было еще два гостя.
В главном отцовском кресле кабинета сидел один из свежих антиноев – значительно моложе и свежее того, что выходил меня встречать. На его заляпанной едой и вином тунике был номер XL. Сороковой.
Или это размер?
Какая-то, впрочем, недостойная римлянина мысль.
Антиной XL держал на коленях перевернутый шлем секутора, а в руке у него был рудис – раскрашенный деревянный меч.
Деревянный гладиус есть важнейший римский символ. Такой посылают гладиаторам, завоевавшим свободу. Принцепс всегда имеет в цирковой ложе несколько, и Антиной, наверное, взял один поиграть.
Меч ему не к лицу. Если его самого вдруг отпустят на свободу, император, верно, пришлет ему раскрашенный деревянный пенис. Или даже не пришлет, а… Впрочем, опять мысль, недостойная римлянина.
В третьем кресле, не вполне в нем помещаясь своим студенистым задом, сидел евнух Дарий. Порфирий обожает давать своим евнухам имена древних царей.
Похоже, государственный совет в сборе, подумал я. Горькая мысль. Оттого горькая, что верная.
– Помню тебя по прошлому году, когда ты открывал игры, – промурлыкал евнух, перебирая алые четки (получив имя «Дарий», он по приказу императора начал поклоняться огню). – Ты хорошо выглядишь на арене, Фуск. Весьма хорошо. Так на тебя и смотрел бы.
– Благодарю вас, мудрый Дарий, – сказал я.
– Фуск, не благодари, – засмеялся император. – Мы с тобой люди простые и прямые. А Дарий всегда говорит двусмысленно. С такой подковырочкой. Вот сейчас он знаешь на что намекает? Мол, тебе на арене самое место. Я бы на твоем месте напугался. Если ты не в курсе, Дарий очень влиятельный при дворе евнух…
– Если так захочешь ты, господин, – ответил я, – мое место на арене. Евнухов я не боюсь, потому что моя защита от опасностей – ты сам и твоя справедливость.
Порфирий пошевелил губами, словно пробуя мои слова на вкус – и кивнул.
– Удалитесь оба, – сказал он Антиною с Дарием. – Мы с ланистой хотим посекретничать.
Приближенные подчинились. Как только мы остались наедине, Порфирий подошел к моему креслу, присел на корточки и взял меня за запястья, не давая мне почтительно встать перед ним, как требовал этикет.
– Сколько у тебя сейчас отличных бойцов? Я имею в виду, самых лучших?
– Восемнадцать, – сказал я.
На самом деле их двадцать. Но два мне нужны для личной охраны. Тут опасно и соврать, и сказать правду.
– Найди еще четырех. Когда их станет двадцать два, пусть выйдут на арену и сразятся друг с другом. Надо, чтобы остался один. Лишь один. Лучший из двадцати двух. Так мне сказали боги.
– Божественный, ты хочешь, чтобы я потерял всех лучших гладиаторов в один день?
– Думай о том, – ответил Порфирий, – чтобы не оказаться одним из них самому, как желает Дарий. Ибо так и случится, если ты не выставишь столько бойцов, сколько я сейчас сказал.
– Но где я их возьму?
– В городе живет много умелых воинов. Пиши на них доносы, Фуск. Полагаю, суды и магистраты будут на твоей стороне.
– О чем доносить?
– О чем придет в голову.
– Но…
– Никаких «но». Ты ведь тренировался сам как мурмиллион?
– Император знает все…
– Оплошаешь – выйдешь на арену сам. Это я тебе обещаю. Антиной с Дарием в один голос уверяют, что ты отличный боец. На тебя к тому же есть донос. Я не читал пока, их слишком много приходит. Но прочту, поэтому старайся…
Плохо. Очень плохо. Если донос про заговор… Но про него никто не должен знать. Никто. Впрочем, это может быть и ложный донос. Но велика ли разница, по какому казнят?
Я мелко задрожал. Так бывает во время беседы с принцепсом. Говоришь с ним почти на равных, дерзко возражаешь, а потом вдруг вспоминаешь, что перед тобой живой бог, способный послать тебя в Аид одним щелчком пальцев. И думаешь – а не навлек ли я погибель неосторожным словом?
Но принцепс, похоже, был в благодушном настроении.
– Старайся изо всех сил, Фуск, – повторил он. – Увидимся, когда твои бойцы будут готовы. Не хотел бы увидеть на арене тебя самого. Впрочем, даже не знаю, если честно. Говорят, из мурмиллионов ты лучший.
Я согнулся в поклоне.
У меня было еще несколько мгновений, чтобы высказать божественному свою любовь и преданность. Придворное нутро побуждало сделать это самым подобострастным образом, но я удержался.
Принцепс поймет, конечно, что мною движет страх. Ничего нового здесь не будет – страх движет всеми, кто попадает на этот мраморный остров. Но принцепс может задуматься, почему я его боюсь. А от такой мысли до подозрения в измене – один взмах ресниц Антиноя.
– Можешь идти, Фуск. Даю тебе две недели на все.
– Пребывай в здравии, отец римлян.
Не разгибаясь, я попятился к выходу из таблиниума. В атриуме я развернулся и поспешил к мостику через канал.
Когда я вышел под круглый небесный просвет, до моих ушей донесся шум. С другой стороны канала что-то происходило.
Сперва я услыхал шаги – шарканье тяжелых преторианских калиг римское ухо не спутает ни с чем. Потом раздались голоса. Долетел вымученный смех, голоса зазвучали громче, тревожнее – а затем я услышал то ли хрип, то ли скрип досок.
На всякий случай я спрятался за портьерой возле статуи Ганимеда. Шум скоро стих. Таиться дальше было опасно – если меня обнаружат, подумал я, решат, что я злоумышляю на цезаря.
Когда я вышел к каналу, мостик был опущен. На другой его стороне стояли преторианцы с факелами и тихо переговаривались. Перейдя через канал, я увидел, что они вылавливают из воды мертвое тело. Лица утопленника я не видел. Но цифру XIII на тунике не заметить было трудно даже в полутьме.
Вода убивает быстро и надежно. Гораздо лучше меча. Но мы почему-то боимся утонуть так же сильно, как боимся сгореть, хотя гибель от огня – самая мучительная из всех. Если не считать, конечно, особых ядов Порфирия.
Сейчас, скорее всего, работала удавка. Обернутая мягкой шерстью – так не остается борозды. А в воду труп уронили, чтобы в очередной раз сбылось египетское пророчество – и ланиста Фуск пошел шептать по римским домам: вот, еще один влюбленный раб отдал жизнь за императора на моих глазах, лично видел тело, боги приняли жертву, и благоденствию господина в ближайшее время ничто не угрожает.
Сделаем, божественный. И не сомневайся…
Но где же взять еще четырех бойцов? Двух германцев, допустим, я куплю у Фаустины. А остальные? Ужели и правда писать доносы?
Боже, как болит голова – будто сам Плутон сверлит темя взглядом из преисподней… Хорошо, что во время беседы с принцепсом я не подумал про заговор. Говорят, он окружает себя восточными магами, умеющими читать мысли.
Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)
Когда подключение к другому мозгу через служебный омнилинк кончается, наступает блаженная пауза. Ее, впрочем, можно не заметить, если не ждать специально.
Чем-то это похоже на эфирное опьянение (помню еще из детства на поверхности планеты). Мир исчезает, растворяется в пустоте, и становится ясно, что все прежнее было обманом и сном, вот только истина не проявляет себя никак. В эту секунду почти понимаешь, кто ты есть в действительности.
Почти. Потому что, в точности как с эфирным опьянением, всякий раз не хватает крохотного шажка. Кажется, будто приблизился к величайшей тайне и сейчас постигнешь ее. Но вместо этого шарниры реальности опять поворачиваются не туда: приходишь в чувство и вспоминаешь, как обстоят дела.
Я, ланиста Фуск, на самом деле никакой не Фуск. Я баночник первого таера: клиент и одновременно сотрудник «TRANSHUMANISM INC.»
Мое имя Маркус Зоргенфрей. Можно Марк – на это интернациональное погоняло я откликаюсь тоже, хотя родители окрестили меня именно Маркусом. Как меня называют, мне давным-давно безразлично, и на каком языке – тоже. Если надо, заговорю на любом.
Я родился в Сирии в семье ссыльных петербуржцев, и теоретически веду свой род еще от прекарбоновых дворян (хотя не очень понимаю смысл этого оборота). Моя двуногая жизнь кончилась так давно, что я ничего про нее не помню. Почти все личные воспоминания добровольно сданы мною в архив еще век назад. Национальности, возраста и личной истории у меня теперь нет. Есть только хорошо оплачиваемая корпоративная лояльность.
Баночник – это и грустно, и весело. Я уже никогда не смогу пройти сам между Колоссом Нерона и Колизеем. И дело здесь не в том, что Колосс Нерона более не существует. Дело в том, что у меня нет тела. Я просто мозг в подземном цереброконтейнере, или, как чаще говорят, банке.
Когда-то давно я добился успеха на проклятой небом поверхности планеты – и купил счастливый билет в ее глубину. В бессмертие. Мой мозг существует в стабильном подземном мире, где сосредоточены все богатства, знания и власть.
Отделенный от тела мозг, можно сказать, бессмертен. Он почти не старится, частично регенерирует (спасибо корпоративной науке) и может долго висеть медузой в спинномозговой жидкости. По человеческим меркам – практически вечно. Но только в том случае, если вечность оплачена.
Теоретически такой мозг тоже когда-нибудь умрет. Но бояться надо не этого – у большинства баночников проблемы возникают куда раньше. «TRANSHUMANISM INC.» не занимается благотворительностью и отключает банку от систем жизнеобеспечения, когда завершается оплаченный срок. Этот крест несем мы все.
Любой из баночных счастливцев обречен. Даже третий таер кончится через триста лет. Поэтому приходится работать и копить, заранее продлевая свой срок.
Только что кончившееся погружение в чужую душу – часть моей работы.
Я корпоративный следователь службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» Официально она называется «Отделом внутренних расследований». Неофициально – инквизицией. Это второе название ввел наш начальник, адмирал-епископ Ломас.
Он действительно адмирал и действительно епископ – правда, занимал эти должности в разное время с интервалом в сто лет. Мозг с большим жизненным опытом.
Мой земляк – древний поэт, ушедший в гнилую петербургскую почву – когда-то завещал начальству: «души прекрасные порывы». Ломас это умеет. Он – заметная шишка в «TRANSHUMANISM INC.» Поговаривают, что он на самом деле AI, но доказательств ни у кого нет и эти слухи, скорей всего, он распространяет про себя сам.
Наша корпорация создала гигантскую баночную галактику, на периферии которой мерцает крохотной звездочкой мой мозговой контейнер, спрятанный в подземном бетонном бункере.
Галактика – это десять баночных таеров, как бы ступеней богатства и бессмертия (срок нашей жизни зависит от контракта).
На одиннадцатом таере скрывается Прекрасный Гольденштерн, глава корпорации, таинственный и загадочный хозяин баночного мира. Скорей всего, просто миф.
Баночники могут каждый день наблюдать его восходы и закаты: утром это божественная антропоморфная фигура, взмывающая в небо, а вечером – красный метеор, уходящий за горизонт. Такова, объясняют нам, символическая ментальная анимация. Можно сказать, логотип заведения. Когда живешь в банке долго, перестаешь это замечать – как шум холодильника на земле.
Кроме этих закатов и восходов, про Гольденштерна ничего толком не известно, и многие думают, что это просто универсальная отцовская фигура. Так сказать, красивая елочная звезда, помещенная корпорацией в центр баночного мироздания.
Вернее, черная дыра. В центре каждой галактики должна быть сверхмассивная сингулярность – вот Прекрасный и есть такая прореха в пространстве-времени, не излучающая никакой информации. По сравнению с поверхностными людьми, не способными видеть Прекрасного из-за бремени своих «кожаных одежд», Гольденштерн поистине вечен.
Но и мне жаловаться грех.
Моему мозгу очень много лет, но я их не ощущаю. На меня не давит груз прожитого, поскольку в служебных целях мою память постоянно модифицируют и оптимизируют. Все, что окружает меня – это создаваемая корпорацией галлюцинация.
По внутреннему самоощущению мне лет тридцать – тридцать пять (оптимальный служебный возраст), и все мои аватары подбираются под эту цифру (правда, в тех случаях, когда я становлюсь женщиной, я делаю себя лет на десять моложе, но это поймет любая).
Легко ли быть молодым, если твои мозги который век хранятся в цереброконтейнере, спрятанном глубоко под землей, и у тебя больше нет тела?
Когда такой вопрос задают белокурые, легкомысленные и скоропортящиеся киски с поверхности (с ними меня сталкивает иногда служба, иногда досуг), они исходят из дикого предположения, что мозг, хранящийся в банке, действительно ведет жизнь парализованной медузы.
Для внешнего наблюдателя, конечно, все так и обстоит. Но дело в том, что подобного наблюдателя у баночного мозга нет. Банка вовсе не из прозрачного стекла, как думает весь нулевой таер.
Такое предположение основано на рекламных клипах «TRANSHUMANISM INC.», снятых два или три века назад. Но эти ролики не следовало понимать буквально даже тогда. Булькающая кислородными пузырьками зеленая жидкость, омывающая розовые извилины – символ непобедимой жизни.
Мозг в банке не виден никому. А вот сам он видит все, что хочет. Вернее, все, что позволяют средства. Ну а в рабочее время приходится наблюдать положенное по службе.
Пространство, где баночные мозги встречаются друг с другом по работе, можно оформить как угодно.
Можно устроить даже так, что коммуницирующие друг с другом умы будут воспринимать разное: одному, например, будет казаться, что он сидит в шезлонге на пляже, а другой увидит вокруг ледяную ночь. Это несложно, но в практическом плане такой сеттинг затрудняет общение – один из собеседников берет пляжный мяч, а другому кажется, будто тот поднял обледенелый булыжник… Говорить о делах становится нелегко.
Чтобы избежать неудобств, служебные пространства корпорации «TRANSHUMANISM INC.» выглядят одинаково для всех посетителей.
Если контора стилизована, например, под персидский дворец, все видят одни и те же изразцы и мозаики. Но сам дворец можно сделать каким угодно. Дизайн зависит только от начальственных предпочтений. В этом смысле корпоративная политика очень либеральна.
Отдел внутренних расследований, где я имею честь служить, соответствует вкусам Ломаса.
Адмирал-епископ ценит карбоновую культуру, любит старые фильмы – и по его эскизам наш офис оформили в духе древних фантастических кинофраншиз. Конечно, со множеством дополнений и удобств, оплаченных из бюджета корпорации.
Самому такое ретро-будущее не придумать. Я бы, во всяком случае, не смог. Мы встречаемся с адмирал-епископом в пространстве, похожем на нечто среднее между готическим собором и рубкой космического крейсера. Темные стены, диагонально раскрывающиеся двери, черный космос в огромных окнах.
Мы выглядим соответственно – черные мундиры, золотые аксельбанты, эполеты, монокли, бакенбарды, вощеные усы и прочие представления о прекрасном (у баночных трудно разделить интерьер и экстерьер). Чем выше чин, тем меньше золота и больше черноты. Обстановка настраивает на суровый и торжественный лад.
У такого двусмысленного с точки зрения культурных ассоциаций дизайна есть причины. Мы, если честно, служим не совсем добру. Мы служим корпорации – а эти понятия не всегда синонимы. Интерьер и униформа намекают на это каждому просителю, входящему под грозные своды нашего офиса.
Впрочем, все не так мрачно, как кажется с первого взгляда. У нас в штаб-квартире есть боулинг, сауна, горнолыжная трасса с подъемником, открытая палестра (да-да, мы очень любим спорт, но для баночника это просто генератор нужной мозговой химии, обменивающий усталость на гормоны).
Еще у нас есть курильня опиума в колониальном китайском духе (премся мы, естественно, от внутренних опиоидов), и даже мультиролевой публичный дом с канканом, блэк-джеком, уайт-кофе и экранированными номерами, где возможно все (но Ломас наверняка записывает наши приключения на память, так что тайно насиловать его аватара будет неразумно). Баночная жизнь куда слаще земной, и адмирал-епископ делает все, чтобы мы про это не забывали.
Я вошел в огромный кабинет адмирал-епископа в десять тридцать утра – сразу после ознакомительного погружения. Баночные офицеры не опаздывают. В нужное время система сама коммутирует их внимание в назначенную точку.
Ломас сидел за огромным столом, черный, как шахматный ферзь. На его адмиральском мундире блестело лишь несколько золотых значков ранга и лампасная нить. Его аристократическое породистое лицо, как всегда, выражало спокойствие и уверенность в торжестве того конкретного добра, которое охраняет в настоящий момент наша организация.
Портрет Прекрасного Гольденштерна над его головой был выдержан в темных тонах. Мифологический глава «TRANSHUMANISM INC.» в виде мистической фигуры: хламида, капюшон, посох в руке. Черты лица неразличимы – лишь золотой свет летит из капюшона, освещая человечеству путь. В ежедневной ментальной анимации, которую видят баночники, Гольденштерн совсем другой – картина как бы намекала на тайное корпоративное знание, недоступное профану. Тонко, адмирал. Весьма тонко.
Адмирал-епископ улыбнулся и встал мне навстречу. Перегнувшись через стол, он протянул руку – и ждал в этой позе, пока я пересеку безмерную пустыню его кабинета с мерцающим в окне Сатурном.
Кто-то из наших, помнится, сказал, что Ломас в своем кабинете похож на мышиный сперматозоид, пытающийся оплодотворить слоновью яйцеклетку. Иногда у него это почти получается. Но из-за того, что вокруг так много пустоты, он выглядит одиноким.
Я улыбнулся в ответ Ломасу чуть шире, чем требовал служебный этикет.
– Садитесь, Маркус, – сказал он. – Коньяк, сигара?
Это у Ломаса обязательный ритуал. Перечить неразумно. Многие думают, что он таким образом подключается к подчиненному мозгу.
Если правда, имеет полное право. Спасибо руководству, дополнительный уровень контроля оформлен весьма куртуазно – адмиральский коньяк и сигара штырят по-настоящему. А ведь мог, как говорится, и бритовкой. Начальство есть начальство.
– Не откажусь.
Ломас нажал на кнопку. Прошло полминуты, и в кабинет вошла пожилая помощница с подносом.
Граненые стаканы, похожие на небольшие ведра. Хрустальный флакон с темно-оранжевой жидкостью. Овальная пепельница с двумя уже раскуренными кубинскими сигарами. Ломас знает толк в крепких напитках и сигарах – на его вкус можно положиться.
Я выпустил несколько клубов благовонного дыма и отхлебнул драгоценного коньяку.
Одиссея Людовика Тринадцатого. Мольба клопов о бессмертии. Пронзительный луч спиртового заката в янтарном небе.
– Бесподобно.
– Чтобы так жить, надо учиться, – произнес Ломас свою любимую присказку.
Ей, наверно, больше лет, чем нам с ним вместе.
– Чему именно? – переспросил я невинно.
– Так жить, – ответил Ломас. – Чему же еще.
– Мы учимся каждый день, адмирал. У вас.
Ломас еще раз пыхнул сигарой и положил ее в пепельницу. Обычно после шутки про «учиться так жить» начинается служебный инструктаж.
– Ну как, ознакомились с контекстом?
– Да, – сказал я. – Блок с ланистой – запись фида? Судя по датам, не совсем свежий.
