Мастеровой. Революция бесплатное чтение
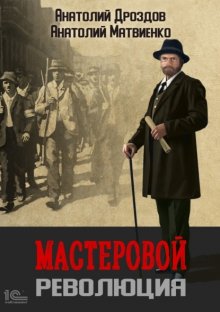
Ты шпион на холоде, проживающий во враждебной для тебя стране. Только Родина тебя сюда не отправляла. Для России ты погиб и зачислен в мертвые герои. Более того, воскреснуть нежелательно. Слишком много почестей покойнику воздали, а его наследство отошло в казну. Только это не причина отказаться от борьбы. Пока кайзер жив, а Германия грозит России, Федор с Другом не угомонятся. Мастеровой и подселенная душа выходят на тропу войны.
Глава 1
Кабачок «Три грации» в припортовом квартале Гамбурга близ Шпайхерштадт украшала афиша: «Сегодня – балшой концерт». Орфографическая ошибка породила у Федора нехорошие предчувствия. Их усилила вульгарная картинка под вывеской – три фройляйн с пышными формами. Он чуть замедлил шаг, сомневаясь в выборе. Но Отто Циммерман, работающий токарем в одном цеху с ним, уверенно направился к входу. Обернувшись, бросил:
– Ну, идем же? Угощаю. В последний раз гуляем.
– В мою бытность старались не говорить «последний». Особенно, когда речь идет об отправке на фронт, – откликнулся Друг. – Обычно заменяли на «крайний». Из суеверия.
Федор лишь пожал плечами – немцы, что с них взять? Перед погружением в атмосферу кабачка глубоко вздохнул. В Гамбурге воздух не был по-весеннему свеж, если не сказать наоборот. Дым из труб фабрик и каминов, перемешанный с сыростью, подступающей с Эльбы, оседал на лицах, на одежде и оконных стеклах. Цеховой инженер Эрихман, любивший щегольнуть белым стоячим воротничком сорочки, перетянутым узким черным галстуком, позволял себе белое лишь по праздникам. Уже к обеду воротник рубашки становился серым. Поэтому заводская «белая кость» в будние дни мало отличалась от мастеров. Разве что моноклем для интеллигентности. Да еще часами на серебряной цепочке поперек жилетки.
Федор, носивший теперь имя Клаус Вольф, по легенде о своем происхождении от немцев зарубежья (фольксдойче), одевался, как и Отто, просто: в мешковатые штаны из плотной ткани, куртку с карманами. Поверх них – короткое суконное пальто темно-серого цвета. Башмаки всегда одни и те же – для работы в цеху и для выхода в кабак. Нет других у остарбайтера. Месячной зарплаты в восемьдесят кайзермарок не хватает на второй комплект обуви с одеждой. Все из-за инфляции, наступившей после поражения Германии на Восточном фронте, Отто Циммерман получал двести марок. Но на них он содержал семью – жену и детей-двойняшек. Денег не хватало постоянно, начиная с момента ухода от прусского юнкера Дитриха, у которого работал раньше. Помещик выгнал соотечественников, заместив ляхами. Те соглашались горбатиться и за сорок кайзермарок в месяц.
Поменяв несколько мест работы, Отто перевез семью в Гамбург. Устроился, по здешним меркам, относительно неплохо. Руки у него были золотые. Токарный станок будто бы служил их продолжением. Федор порой завидовал.
И вот теперь благополучие закончилось. Относительное, к слову. Воспользовавшись ослаблением Рейха из-за поражений от России, французское правительство разорвало мирное соглашение, обвинив Берлин в нарушении его условий. Навалилось всеми силами. Корпуса рейхсвера[1], стоявшие в десятках километров от Парижа, поползли назад и остановились у бельгийской границы – наступление французов выдохлось. В Германии объявлена мобилизация: фатерлянд в опасности. Отто под нее и угодил. Федор – нет, потому что он еще не подданный империи. И вот теперь провожал на войну друга и коллегу.
Даже если Циммерман будет присылать семье денежное содержание солдата, выйдет менее ста сорока марок. Самого же Отто питанием и обмундированием обеспечит армия – ну, пока он жив. Если же убьют – вдова получит мизерное разовое пособие, и тогда хоть на панель. Фрау Циммерман взращена, исходя из представлений о роли прусской женщины – киндер, кюхе, кирхе[2]. Профессии не имеет никакой.
Именно мысли о семье занимали Отто. И поход в кабак призван отрешить от них хотя бы ненадолго. Федор посмотрел на друга. Согбенная спина, кривые, как у английского бульдога, тонкие ноги… «Да, боец…» – подумал про себя. Французская армия разбежится от одного вида новобранца.
Худшие предположения насчет «Трех граций» оправдались – внутри не продохнуть. Горше, чем на улице. Дым дешевых папирос и курительных трубок выедал глаза. Сцена, где обещался «балшой концерт», едва просматривалась. Коптили все: разнорабочие с гамбургских заводов, докеры, матросы, дешевые проститутки в выцветших платьях когда-то яркой расцветки, пара солдат и даже офицерик из Ганзейского пехотного полка, основательно набравшийся и сопровождавший не менее пьяную дамочку полусвета. На фоне этой публики двое скромных, но аккуратно одетых рабочих, представителей своего рода пролетарской аристократии, выглядели выигрышно. Подскочивший кельнер мигом проводил их за отдельный столик. Там отгородил от соседей парой ширм с китайскими драконами, удивительно красиво выписанными. Даже странно видеть эстетичное пятно в этом злачном месте.
Отто заказал обоим шнапса. А к нему – по куску окорока с тушеными овощами. Расплатился сразу: за еду и выпивку здесь принято платить вперед. Оттолкнул руку Федора, протянувшего ассигнацию в пять марок.
– Я сказал, камрад, что угощаю! Хоть разок почувствую себя как представитель эксплуататорского класса.
Федор промолчал, а вот Друг внутри него захохотал. В бытность князем Федор, пусть и ненадолго, ощутил прелести «эксплуататорской» жизни. Почему-то вспомнился обед у Юсупова-старшего. Ужас при виде батареи ножей и вилок, справиться с которыми было как бы не сложнее, чем воссоздать пистолет-пулемет Судаева. А еще полет на стуле кандидатки в невесты… И как все они чуть было не погибли от адской машины эсеровских террористов.
– Спасибо, Отто. Придет день, победит наша революция. Мы сможем позволить себе заказывать мясо каждый день. Станешь жирным, словно мастер Бергман.
Циммерман в ответ склонился к его уху. В кабаке было настолько шумно, что приходилось кричать, наклоняясь к собеседнику.
– Только это греет мою душу, Клаус. Даже если не вернусь, камрады продолжат борьбу! Я же познакомил тебя с ними. Стальные парни.
– Ты вернешься, – успокоил Федор. – Что до стальных… Все записаны во фрайкор[3], и никто не отказался.
– Ничего тут страшного! – успокоил Отто. – Пусть чуток помаршируют и научатся стрелять. Это пригодится. Поскорей бы война закончилась! Лягушатников на дух не переношу, – Отто стукнул по столу. – Как и наших толстопузых буржуа. Не смотри так на меня, камрад! Помню, наш учитель Карл Маркс говорил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот только пожалеет ли меня французский пролетарий, надевший военную форму, когда увидит в прицеле своей винтовки?
– Дружище, ты путаешь разные вещи, – покачал головой Федор. – Солдат в бою не думает о классовой солидарности и о том, что у врага дома осталась жена с двумя детьми. Там другие понятия: убей или будь убитым. Потому стреляй по французским братьям-пролетариям без малейшей жалости. Или, при удобном случае, переползи на их сторону и сдавайся в плен. Война кончится – и тебя вернут на Родину.
Они сделали паузу в крамольных речах, потому что приблизился кельнер. Он принес дымящиеся красные куски копченой свинины, разогретой в печке, графин со шнапсом и хлеб. А потом началось выступление.
Вместо троицы фройляйн с многообещающими бюстами, как изображалось на афише, сцену заняли два еврея. Старик со скрипкой присел на стул. Рядом обосновался молодой пейсатый юноша в очках, державший в руках гармонь. Они заиграли что-то ритмическое. Гармонист начал петь неожиданно приятным юношеским альтом – на идиш. Все присутствовавшие поняли большинство слов. Песня была шаловливая: о том, как некий шлимазл крупно согрешил в шаббат. Теперь оправдывается перед ребе в надежде на отпущение греха.
Непритязательная публика хлопала в ладоши. Скрипка в руках старого иудея завершила мелодию песни и вдруг выдала что-то искрометное. Смычок прямо-таки летал в его руках. Гармонь аккомпанировала.
Посетители сдвинули столы и пустились в пляс. Сапоги и башмаки грохотали по грязным доскам пола, словно град по железной крыше. Пехотный офицер со своей поддатой фрау налетел на столик Федора и Отто. Повалил одну из ширм и, не извинившись, вновь повел дрыгающуюся спутницу к центру.
– Пока нам шнапс не опрокинули и не разлили, давай выпьем за победу германского оружия и мое скорое возвращение, – прокричал мобилизованный. – Помни! В плен я не сдамся. Иначе Марта и детишки не получат денег. Камрады из партийной кассы, может быть, подкинут раз-другой, но на это не проживешь.
– За твое скорое возвращение, – дипломатично поддержал Федор.
Они выпили и приговорили по куску свинины. Мясо оказалось отличным. Разве что, не хватало каких-то особенных специй и прочих ухищрений, характерных для высокой кухни, зато свежее поросячье бедро, жаренное на вертеле, просто таяло во рту. Другого и не надо. Разве что запить его темным баварским пивом. Бархатным. Но спонсор пиршества настаивал на шнапсе.
Когда шум немного стих, Отто вдруг спросил:
– Клаус, а твои камрады из РСДРП в самом деле желали поражения русской императорской армии ради революции? Это же немыслимо… Если потерять страну, где делать революцию?
– Они ж марксисты, – хмыкнул Федор. – Потому считают: мировая пролетарская революция важнее судьбы отдельно взятой страны. Когда весь мир будет принадлежать трудящимся, национальные границы утратят значение.
– Что же они не выступили, когда царь Георгий терпел поражение на фронтах?
– Ждали окончательный капут. Когда в боях погибнут все высшие Осененные империи – так в России называют магов. Мы их ненавидим. Упразднение привилегий колдунов – главный лозунг левых партий.
– В Рейхе все иначе, – покачал головой Циммерман. – Наша империя образовалась как союз княжеств. Все князья – могучие маги, оттого власть императора ограничена. У нас есть парламент. Правда, не с такими полномочиями, как во Франции. Одна из самых больших фракций, как ты слышал, социал-демократическая.
– Так почему они не введут социализм постановлением через Рейхстаг? – насмешливо бросил Федор. Ответа не расслышал: евреи снова заиграли громко и пронзительно.
Так и скоротали вечер. Тщедушный Отто окосел с пяти рюмок шнапса. Федор проводил его в район порта, где его семья снимала комнату у другого гамбургского рабочего, сам же поспешил в казарму. Опоздание, как минимум, повлечет серьезный штраф – десять или даже двадцать марок. Очень много для человека, имеющего миллионы рублей и франков на счетах в различных банках. К сожалению, недоступных в нынешнем положении.
Казарма для фольксдойче, прибывших из России, имела лишь одно преимущество, немаловажное в нынешнем положении, – бесплатность. Постояльцам она обеспечивала условия, куда более спартанские, чем общежитие рабочих Сестрорецкого завода. Койки в три яруса напоминали скорее внутренности линейного корабля парусной эпохи, нежели нормальное жилище. В казарме душно и холодно одновременно. Из-за редкой смены белья и столь же редких походов в баню здесь смердело. Периодически амбре кубрика дополнялось запахом метилальдегида: после уборки им заливали полы здесь и в коридоре, а еще – отхожие места. Глаза от такой дезинфекции щипало несколько часов. О предельно допустимой концентрации отравы здесь никто не задумывался.
Федор прошел в туалетную комнату и разделся донага у рукомойника. Повернул рукоять массивного бронзового крана. Прямо там намылился черным дегтярным мылом, отдающим запахом кузни, смыл пену ледяной водой. Обтерся ношеной рубахой и сменил ее на свежую. Грязную постирал тем же мылом. Сушить придется на спинке кровати. Утром – спрятать, потому что стащат. Не от вороватости – от безнадежной нищеты. Остарбайтеры низкой квалификации не зарабатывали и восьмидесяти марок в месяц. Даже если переведутся на 12-часовой рабочий день вместо выторгованного профсоюзом 10-часового, столько не получат.
Относительно чистую и еще влажную сорочку он напялит поверх свежей – так она и высохнет. После спрячет в матраце. А что делать? «Все свое ношу с собой», как сказал кто-то из античных мудрецов. Имел он в виду другое: с человеком всегда его знания и опыт. Они – главное богатство. Нищему нечего оставить на месте ночлега, имущество вмещается в суму или карманы.
Ледяное омовение смахнуло остатки хмеля. Федор растянулся на койке трезвый как стекло, привычно отключившись от храпа, кашля, кряхтения, сопения и приглушенных проклятий – обычных звуков для ночного помещения с двумя сотнями усталых мужских тел. Когда-то здесь была армейская казарма. С началом войны и ожидаемым в перспективе привлечением новых рабочих из оккупированных стран (если верить имперской пропаганде – освобожденных) кайзер отдал пару квадратных километров с жилыми и складскими строениями фирме «Ганомаг»[4] для развития производства в интересах армии. Вторые и третьи этажи коек были приклепаны грубо и наспех. Пехота в свое время довольствовалась одним этажом. Количество отхожих мест и рукомойников осталось прежним, никто не стремился обеспечить фольксдойче удобствами наравне с кадровым рейхсвером.
Зато в этой дыре никто не станет искать князя Юсупова-Кошкина, если вдруг возникнет подозрение, что он выжил.
К обстановке он привык в какой-то мере. Но одновременно надоело ему здесь смертельно. Нищета, грязь, всеобщее уныние. Первый жуткий приступ тоски пришелся на Рождество. Если сравнивать с Россией, немцы просто зажимают праздник! Все бы отдал, чтобы перенестись из приморской прокопченной сырости в Тулу, на морозный воздух. И, надев костюм Деда Мороза, войти в дом к заводским друзьям, баловать их детей подарками…
Потом хандра повторялась с завидной регулярностью. Например, сегодня. Когда протрезвел, в памяти всплыл совершенно другой ресторан, а не пошлая припортовая забегаловка. Тот был лучшим в Туле. Именно туда он и привел Соколову, подготовившись при ее содействии к экзаменам за курс реального училища и сдав их с первой же попытки. Говорил: «Я хочу отблагодарить вас, сударыня». На самом деле желал большего. В ресторане спел для нее романс «Напрасные слова», начинающийся с гениального: «Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала…». Закончив, увидал отражение ее чувств в прекрасных синих глазах и понял – у него все же есть шанс!
Этот шанс украли. Когда Федор избавил Юлию от похотливого княжеского сынка, мог бы объясниться, но гордость не позволила. И Юля наверняка желала, только стыд мешал.
Одно осталось после их общения – приличный письменный русский. Когда в Гамбурге окончательно прошли последствия контузии, приналег на немецкий. Слушал, повторял за заводскими. И его язык стал практически неотличим от говора городских пролетариев. Пожалуй, звучал даже лучше, чем у Отто с его неистребимым восточно-прусским акцентом.
Но вот в деле коммунистической революции в Германии не удалось продвинуться ни на шаг.
Задержка с получением подданства вынудила избегать стачек и других форм протеста. Иначе получил бы пинок под зад. Возвращение в Россию – далеко не худший вариант, и на первый взгляд – вполне достойный. Восстал из мертвых, получил все причитающееся князю Юсупову-Кошкину… И вновь оказался бы под прицелом кайзеровских агентов. А окружать себя кольцом охраны вроде казачьей пластунской сотни Федор не хотел. Пусть не каждую ночь, но приходили во снах станичники, доверившиеся ему и погибшие под Ригой. Не попрекали ни единым словом, только вопрошали: а не зря ли принесена их жертва, и что сделал спасшийся Осененный для победы над врагом? Чтоб Вильгельм крепко сел на задницу и более не имел сил подняться на ноги, сукин он сын.
Сбежать в Россию или вообще подальше от событий – в какую-нибудь Южную Африку, например, означает трусость перед павшими товарищами: я устал от борьбы и устраняюсь. Не вариант и привлечение частной армии для охраны. По обладателю Зеркального Щита грохнут от души – так, что окружающих размажет по стенам тонким слоем… Хватит убитых ради сохранения его персоны.
Это означает, что Германии нет альтернативы на ближайшие месяцы. Федор с Другом здесь как тайные агенты. Внедрение и легализация в тылу врага прошли успешно. Можно приступить к выполнению задания, о котором российский Генштаб не подозревает и Кошкину его не давал. Причем без связи с Россией, вроде «Юстас – Алекс», как в синематографическом сериале «Семнадцать мгновений весны», о котором Друг рассказал подробно – это один из любимых фильмов его детства. В Гамбурге «агент Клаус» находился без прикрытия и поддержки. Зато совесть перед пластунами чиста. Точнее – будет очищена, если удастся добиться своего.
Задуманная акция по насаждению коммунизма в отдельно взятой стране возможна, но не силами одного человека. Где найти боевую партию вроде ленинской РСДРП (б)? Поначалу показалось, что такая есть. На эту роль годились радикальные марксисты левого крыла партии социал-демократов Германии, СДПГ.
Отто Циммерман возглавил заводскую ячейку левых на заводе «Ганомаг», получив титул Obmann – доверенное лицо рабочих. Федор не говорил своему товарищу, что означает по-русски слово «обман». Тем более, что Отто был честен.
Через него и несколько промежуточных звеньев партийной иерархии можно было выйти на Розу Люксембург, Клару Цеткин и Карла Либкнехта. Эти люди, памятные по названиям улиц в российских городах в реальности Друга, занимали руководящие должности в СДПГ.
Допустим, добился бы аудиенции, ну а дальше? Послезнание, что коммунистическое восстание 1919 года провалится, абсолютно бесполезно. Здесь история развивается по близкому, но все же отличающемуся сценарию. Рейх не отправлен в нокаут, как это случилось в Первой мировой войне. Тут глобальная война даже не началась, все ограничилось континентальной. Население не столь измучено. Значит, нет достаточного народного недовольства, которое привело бы к восстанию. Тем более, Друг, изучавший историю мирового коммунистического движения давно и не слишком усердно, плохо помнил, что конкретно у Розы Люксембург пошло не по плану.
Другое дело, любая подобная проблема решается деньгами. Если нет – то еще более крупными деньгами. Как все успешные «оранжевые» революции в постсоветских странах. У германских коммунистов тупо недостает финансов. У Федора деньги есть, но они недоступны.
Допустим, как-то решил эту проблему. Привез два миллиона российских рублей, что составляет более десяти миллионов кайзермарок – вполне достаточно для агитации, закупки оружия отрядам «сознательных» рабочих, подкупа чиновников, чтоб до поры до времени закрывали глаза на очевидное…
Ну, хорошо, деньги в Рейхе. Наличными. Но Роза с Кларой находятся под неустанным наблюдением. «Под колпаком у Мюллера», как сказал Друг, еще раз цитируя тот самый сериал. Коммунисты без опаски расходуют исключительно «чистые» бабки – на ту же агитацию через газеты, расклейку листовок, наем агитаторов. Неизвестного происхождения либо пришедшие из недружественных государств не примут. Иначе моментально получат обвинение: «продались врагу». Может, в тюрьму и не сядут, но политическая карьера рухнет.
Требуется немецкий меценат, готовый от своего имени пожертвовать коммунистам капитал Юсупова-Кошкина. Не голодранец Отто Циммерман, а настоящий эксплуататор рабочего класса или трудового крестьянства, для которого десять миллионов кайзермарок – вполне подъемная сумма.
И еще одна задача. Однажды полиция Рейха примется перетряхивать окружение коммунистической верхушки, обеспокоенная наличием у них больших денег. Не попадется ли им на карандаш безвестный остарбайтер с гамбургского завода «Ганомаг», удивительным образом способствовавший получению этих миллионов оппозицией? К тому же – чрезвычайно похожий на покойника, пару раз доставившего крупные неприятности властям империи…
Не нащупав подходов к решению этих вопросов, Федор утомился и заснул. Следующий день обещал принести немало нового.
Весна! Юлия Сергеевна Соколова по привычке радовалась ей, замечая все приметы ее победоносного шествия: все более светлые вечера, порывы теплого ветра, тающий слежавшийся снег, на прогалинах – первые зеленые травинки-разведчицы… Через несколько месяцев Юлия как классная дама принесет своим воспитанницам известие, которое уже совсем не новость: учебный год заканчивается, впереди – вакации.
Из института благородных девиц она перевелась в губернскую гимназию, патронируемую Ее Императорским Величеством. То есть предназначенную исключительно для дворянских детей с каким-либо даром. Отпрыски из купеческих и разночинных семей туда не принимались, сколько бы полновесных червонцев ни соглашались потратить родители неблагородного происхождения на обучение любимого чада.
Воспитанникам гимназии внушалось: они назначены для государевой службы. Девушки – быть образцовыми супругами для военных и чиновников империи. Либо посвятить себя занятиям, пристойным для женского пола – педагогике и врачеванию. Пример Варвары Николаевны Оболенской, первой российской дамы, возглавившей коммерческое общество, был заразителен. Барышень, правда, не обучали коммерции, как и юношей, но внушали: вам по плечу все! Если это «все» делается во славу и для процветания империи.
Пока шла война с германцами, выпуск практически в полном составе отправился бы служить. Молодые люди – в кавалерию, артиллерию, инфантерию или на флот, барышни – сестрами милосердия.
Как хорошо, что старшеклассники в мужских классах не наденут все как один армейские мундиры! Разумеется, некоторые и так мечтают о ратной, а не статской стезе. Только это большая разница: служить в армии мирного, а не военного времени! Их матери не будут вскакивать в холодном поту, представляя, как ненаглядное чадо падает на землю с пулей в сердце, и его коченеющее тело присыпает песок или снег…
У Юлии Сергеевны не сложилось личного счастья. Потому не будет сына, за которого придется волноваться, провожая на войну. Постепенно она смирилась с тем, что тихая семейная гавань – не для нее. Подведя черту, просто запретила себе думать о таком. Воспоминания о Федоре и ненавистном княжеском сынке, жизнью заплатившем за собственную подлость, Юлия заперла в темной комнате души и выбросила ключ.
Хватит! Больше из-за нее не будут драться на дуэли. Все партии «второго сорта», предлагаемые местными губернскими ухажерами, ею отвергнуты. Вроде уже годы зрелые, а осталось прежнее желание: замуж только по любви. К черту пусть идут расчеты! Пересуды о несчастной жизни одиночки – тоже к черту. Бог ей дал единственный шанс, и она его профукала, а второго не случится – Федор-то погиб.
Только прочитав о его смерти, Юлия поняла, до чего он был ей дорог. Пусть даже ушедший от нее и принадлежащий другим женщинам. Но она желала всей душой, чтоб он был счастлив, а Господь воздал ему за доброту, благородство и сердечность…
Но Господь его убил, а за что – спрашивать бесполезно. Шла война, сотнями тысяч гибли и виновные, и правые. Федор разделил их судьбу.
Месяца три Юлия провела в черной меланхолии. Осень, начало зимы. И только к весне душа оттаяла, устав быть ледышкой.
Любить можно и мертвого, коль нет достойных живых рядом.
Мертвый не отвергнет, не изменит, не обидит. Правда, и не приласкает.
Нет в жизни совершенства. В смерти – тоже.
Заслоном этим печальным мыслям должен был стать переход на новое место службы в гимназию, приятные хлопоты… Но увиденное и услышанное изрядно отличалось от ожидаемого. «Золотые» барышни губернии, шестнадцати и семнадцати лет от роду, довели предыдущую классную даму, учительницу русской словесности, до нервического расстройства. Не лучше они восприняли и новую мученицу. Шесть пар глаз юных дворянок впились в нее с чувством превосходства, жалости и зависти одновременно. Барышня из хорошей семьи, но начисто лишенная дара, считалась инвалидом, достойным сочувствия. Не вышедшая замуж к зрелости и, вдобавок, оскандаленная – неудачницей. А стройная фигура, великолепная кожа, ярко-синие глаза и бесподобные волосы пробуждали ревность: ни одна из воспитанниц не могла с ней сравниться.
– Русский язык для нас не актуален, мадемуазель Соколова, – объявила на первом же занятии Стелла Тер-Григорян, неофициальная атаманша старшеклассниц. – Мы говорим по-французски, учим английский, немецкий, латынь, древнегреческий. Русский нам излишен. Согласитесь, ма шер, Россия – культурная периферия Европы.
– Мерси за разъяснение, мадемуазель Тер-Григорян, – в тон и по-французски ответила ей Соколова, которую почему-то начала заполнять здоровая злость. В том числе от панибратского обращения «ма шер» – «моя дорогая». Так пристало общаться с подружками, но не с классной дамой. – Стало быть, начинать урок по программе я не могу – зачем же идти против вашего желания? Предлагаю провести его весело. Я даю задания, а вы выполняете или расписываетесь в собственном бессилии. Годится?
Заинтригованные девушки согласились.
– Послушайте одно четверостишие – оно мне особо дорого, не буду рассказывать, почему. Но вы запишите и переведите на французский.
Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала.
В расплавленных свечах мерцают зеркала.
«Напрасные слова», – я выдохну устало.
Уже погас очаг, ты новый не зажгла[5].
Минут на десять класс оккупировала тишина, лишь изредка прерываемая бормотанием французских слов.
– Нет… Это решительно невозможно! – первой сдалась Стелла. – Хрустальный мрак? Ténèbres cristallines? По-французски совершенно не звучит. Нет логики! Хрусталь прозрачен, внутри бокала светло! В зеркале может мерцать отражение свечи, но не в свече – зеркало! Как ни переводи, по-французски получается absurde! Образы, выраженные французскими словами, совершенно не те. Придется лучше учить французский.
– Но по-русски вы прекрасно поняли чувство, интонацию? – вкрадчиво спросила Юлия Сергеевна.
– Конечно, мадемуазель.
– Вот! На каком бы языке вы ни говорили и думали, вы – русские по образу мыслей. Даже вы, Стелла, хоть у вас угадываются армянские предки. Английский и французский языки более формальные, подчинены правилам и исключениям из них, которые тоже правила. Мы же понимаем сказанное сердцем! Англичанин на вопрос, будет ли он в пять часов пополудни, скажет «да» или, если чрезвычайно занят, то «нет». А русский ответит: «да нет, наверное». Иностранный переводчик повесится от отчаянья! – ученицы хихикнули, а Юлия Сергеевна продолжила: – Россия – в огромной степени женская страна. Пусть мужчины занимают министерские посты, и в присутственных местах – сплошь усы да бакенбарды, но только женщина поймет суть. И русский язык – наш, женский.
– Но ведь все писатели России – мужчины? – едва ли не хором воскликнули гимназистки.
– А кто их вдохновлял? Кто им нашептывал правильные слова, правильные образы? Прошу вас, девочки! Говорите хоть на японском. Но коль живете в России и хотите понимать свою страну, свой народ, наших мужчин – учите русский. А коль не хотите – воля ваша. Буду заполнять классный журнал выдумками, а мы… мы найдем, чем заняться.
Из ряда вон выходящее предложение застало врасплох. Пока девочки шушукались, одна из барышень попросила:
– Прочитайте еще что-нибудь такое… необычное, мадемуазель Жюли.
– Охотно. В книжках вы вряд ли такое найдете:
- Добро, не отвергая средства зла,
- по ним и пожинает результаты;
- в раю, где применяется смола,
- архангелы копытны и рогаты.[6] – Слышал бы батюшка Онуфрий, наставляющий нас слову Божьему, – прыснула заказавшее стихотворение ученица.
– Пусть, барышни, это останется между нами, – заговорщически шепнула Юлия Сергеевна.
А Тер-Григорян милостиво разрешила:
– Мы будем учить русский. Если вы обещаете не ограничиться заучиванием торжественной оды ко дню ангела Ее Императорского Величества и прочей скукотищи.
Конечно, с одного раза Юлия Сергеевна не сломала лед в общении с ученицами, но он покрылся трещинками. Жаль, что стихов, прочитанных Федором, едва хватит до вакаций.
А потом в тихом течении губернской педагогической системы возник новый бурлящий водоворот. Императорское министерство просвещения озаботилось укреплением патриотического духа в учебных заведениях. Оказалось, по мнению некоторых столоначальников, что гимназисты-выпускники в недостаточной мере выносят из классов преданность вере, царю и Отечеству.
В гимназии Ее Императорского Величества, в других гимназиях губернии и даже в реальных училищах появились отставные офицеры. Не менее двух учебных часов в неделю в каждом старшем классе они вещали о славных подвигах великих предков – от Рюрика до нынешних времен. О великих деяниях его сиятельства Юсупова-Кошкина, отдавшего жизнь за Родину… При этих словах Соколова вздрагивала помимо воли. Прижимала к губам белоснежный шелковый платок. И изо всех сил старалась, чтобы слезы, наполнившие глаза, не прочертили предательские мокрые дорожки по щекам.
Она заперла воспоминания в чулане памяти? Но они рвутся наружу!
Приходится обуздывать их и исполнять высочайше предписанное.
Отставной штаб-ротмистр Коновальцев, приставленный к Тамбовской Ее Императорского Величества гимназии, непременно требовал, чтоб и педагоги патриотически просвещались, вникали и сами несли положительный заряд гимназистам. Дабы на корню задушить любые ростки вольнодумства и нигилизма, для которых юные невинные души – самая питательная почва.
Юлия теперь регулярно читала газеты. Быть уличенной, что не слышала о «судьбоносном» выступлении в Думе кого-то из князей, представляющих монархическое большинство, означало неизбежность доноса Коновальцева директору. Обуреваемый самыми лучшими чувствами и горящий беспредельным ура-патриотизмом, отставной драгун гневно крутил усы, метал громы и молнии, заявляя: а не пора ли перевести такого педагога из императорского в ординарное заведение? Туда, где денежное довольствие ниже раза в полтора…
Соколова прекрасно сознавала разницу между патриотизмом истинным, до самопожертвования, как у Юсупова-Кошкина и его пластунского отряда, и пустой трескотней. Но – молчала. Любое слово поперек приведет к тому, что попечительский совет гимназии немедленно отнесет ее к вольнодумцам, а то и к потенциальным карбонариям. Сегодня она сомневается в программе гимназии, а завтра примкнет к бомбистам-эсерам – так считали деятели вроде Коновальцева, чья служба закончилось задолго до германского нашествия.
Души шести гимназисток, порученных попечению Соколовой, изнывали от патриотического изобилия, в том числе – от постоянного повторения саги о подвиге и самопожертвовании Осененного Юсупова-Кошкина. Каждая принадлежала к родовитой семье, и ни одной из них не выпало столько чести, сколько Юсуповым. Обидно!
12 марта, развернув перед уроком очередную газету, чтобы зачитать барышням наиболее патетические строки, Юлия увидела большую статью от собственного корреспондента «Петроградских ведомостей» в Рейхе. Автор возмущался, что часть подданных российского царя до сих пор насильно удерживается в Германии. Рейхсминистр иностранных дел, принявший корреспондента, заверил, что остались только добровольцы. Как пример он привел рабочих завода «Ганомаг» в Гамбурге. Там трудятся восемь бывших россиян, все получили подданство кайзера Вильгельма. Немец показал журналисту номер «Фелькише Беобахер» с фотографическим снимком рабочих. «Ведомости» перепечатали его.
Газетные листы вдруг выпали из рук, плавно опустившись на крашеные доски. Классная комната с портретом императора качнулась и поплыла, словно в тумане… Она подхватила газету с пола и впилась в фото глазами – до боли, до слез. Один из остарбайтеров был снят вполоборота, лица почти не видно. Но сердце дополнило увиденное: это – он!!!
Юлия заставила себя успокоиться. Очевидно же, что она находится в плену самообмана. Точно так, как в прошлый раз, когда едва не набросилась на бедно одетого работягу в Исаакиевском соборе. Нельзя видеть Федора в любом, кто отдаленно похож на него!
Логики и рассудка хватило надолго. Примерно на сутки.
Понимая, что делает вопиющую глупость, Соколова оформила отпуск на месяц, рискуя потерять чрезвычайно выгодное место. Жгла душу и разлука с девочками – она как-то прикипела к ним. Но зов сердца был сильнее.
Перед выездом Юлия Сергеевна забрала из банка сбережения и никому не сказала, куда и зачем едет.
Зареклась: если увиденный на фото – не он, больше никогда не допустит безумства. Коль германский фотограф запечатлел совершенно другого мужчину, что, скорее всего, так и есть, предстоит смириться. Федор мертв, и его не воскресит никакая безумная надежда.
О том, что скрываться под маской ординарного остарбайтера и хранить инкогнито Федору приходится по веской причине, барышне даже в голову не пришло.
Глава 2
Заводоуправление компании «Ганомаг» находилось в пригороде Гамбурга Линден-Лиммер. Там Федору бывать не приходилось.
Утром 15 марта мастер Бергман не позволил приступить к работе. Он осмотрел подчиненного заплывшими жиром глазками и веско произнес:
– Клаус! Тебя изволило вызвать начальство. Жди герра Эрихмана.
– Да, герр мастер, – кивнул Федор. – Но что будет с моей сменной выработкой?
– Ничего, – развел руками толстяк. – Прогул тебе не запишут. Но и выработки не будет. Вернешься – наверстаешь, что успеешь. Думаешь, мне легко? Лучших рабочих призвали в армию, но норма выработки осталась прежней. Хоть сам становись к станку.
Никакого сочувствия проблемы мастера у Федора не вызвали, а вот само приглашение встревожило. Как любой, живущий во вражеском государстве под чужой личиной, он постоянно ощущал чувство особого холода. Его не прогнать даже в горячей бане. Пусть никто тебя не засылал сюда, не давал задания, но Федор сам себе тайный агент. Он не связан с какой-либо разведгруппой и не должен слать сообщения в Центр, потому не будет засвечен и провален некомпетентным связником… Только все равно он на холоде. Любая ошибка чревата катастрофой. Провал равносилен смерти – кайзеровские власти не простят ему краха под Ригой. Перед казнью вывернут наизнанку, чтобы вытрясти каждую крупицу знаний о Зеркальном Щите.
За полгода в Рейхе Федор не отставил магию, но развивал ее в направлении контроля и сдерживания сугубо внутри себя. Играл в цеховой команде в английский футбол вратарем. Приходилось следить, чтобы Щит не отразил мяч, летевший в него с силой пушечного ядра и сбивавший с ног. Лишь один раз не удалось: мяч унесся обратно к игроку. Но Федор успел выставить кулак – будто бы отбил.
Воспоминания о спорте прервал инженер Эрихман, возглавлявший цех металлообработки. В первую очередь Федор обратил внимание на белый воротничок начальника, бывший признаком особого случая. Поверх длинного сюртука инженер набросил серый плащ-разлетайку английского покроя. Английским был и котелок. Худой, длинный и узколицый, инженер мог бы сойти за жителя Альбиона, если бы отрастил типические британские усы. Только Эрихман тщательно брился, оставляя лишь короткие бакенбарды.
– Клаус Вольф! Следуйте за мной. Заводское начальство желает вас видеть.
– Да, герр инженер, – поклонился Федор.
Покинув цех, они отправились к закрытому черному экипажу. По сравнению с довоенным Парижем Гамбург здорово проигрывал в моторизации. Прежняя война и начавшаяся новая привели к изъятию авто у частных владельцев на нужды армии. Дальновидные заводчики теперь предпочитали гужевой транспорт: не отберут. А если даже так, то не столь велик убыток.
Федор занял место на переднем сиденье, лицом к спутнику. Тот больше не проронил ни слова. Лишь на прямой вопрос – что их ждет в Линден-Лиммере – инженер ответил: не имею понятия.
– Даю стопроцентную гарантию, что нас не разоблачили, – успокоил Федора Друг. – Иначе тряслись бы не в фабричном экипаже, а в полицейском автомоторе, да еще и в наручниках.
Поездка получилась долгой. Наконец они вышли у ступеней центральной конторы фирмы – здания новомодной архитектуры без каких-либо украшений. Просто огромный серый кирпич, достигающий высоты пятиэтажного дома.
Швейцар открыл дверь, выпустив пару важных господ, и лишь затем позволил пройти Федору и Эрихману. Внутри сновали клерки в одинаковых черных сюртуках с напомаженными головами и прилизанными прическами. Очевидно, руководство «Ганомага» придавало единообразию большее значение, чем армейское командование. Токарь в просторных штанах и потертом суконном пальто, мявший в руках кепку, был здесь чуждым, как кусок свинины на иудейской кухне. Несоответствие ощущалось каждой клеточкой тела.
Ни один из встреченных его не замечал, реагируя только на Эрихмана. Поднявшись на второй этаж, они прошли в просторный кабинет. Дверь украшала табличка, сообщающая, что здесь заседает ляйтер (начальник) отдела новых разработок герр Шварц. Внутри оказалось довольно много народу. Все охотно пожали руку инженеру, а Федору никто даже не кивнул.
– Ждем вице-директора! – пояснил Шварц. – Обещал быть через минуту. Он пунктуален.
Федор огляделся. Традиционная тяжелая дубовая мебель, письменный стол, по размеру подходящий для разделки мамонтов, деревянные панели на стенах. Единственное, что напоминало о нахождении в святая святых машиностроительной компании, это коллекция металлоизделий: шестерен, шарикоподшипников, муфт, шатунов и прочих образчиков продукции «Ганомага», выставленных за стеклом огромного шкафа.
Дверь снова отворилась. Вошедший, при появлении которого Шварц привстал с кресла, а остальные присутствующие вытянулись, был внешне полной противоположностью Эрихмана: невысокий подвижный крепыш, чернявый и темноглазый. Такого скорее можно принять за итальянца, нежели германца. Лацкан пиджака английского кроя украшал значок мага-кинетика.
Вице-директора не представили – вероятно, все его знали. А рекомендовать его токарю-станочнику – так рылом не вышел, догадался Федор.
Маг кинул на стол ляйтера картонную папку с завязками и достал из нее листок. Затем остановил свой взгляд на Федоре.
– Клаус Вольф? Рад сообщить, что его императорское величество удовлетворили вашу просьбу о приеме в германское подданство.
Федор почувствовал, как наэлектризовалась атмосфера. Неужели этих важных господ собрали сюда исключительно ради токаря-остарбайтера? Недовольство сочилось из них, как смола из сосновой доски.
Федор шагнул к вице-директору, повинуясь его жесту. Получив бумаги с вензелями имперской канцелярии, не смог сдержать удивления: высочайшее соизволение датировано началом февраля! То есть полтора месяца ему начислялась мизерная зарплата иностранного рабочего вместо двухсот марок…
Заметив изумление свежеиспеченного соотечественника, вице-директор снизошел до объяснений.
– Подданство вам даровано еще в феврале. По времени оно совпало с началом французской интервенции и предписанием о мобилизации рабочих «Ганомага» в рейхсвер. Дирекция подошла к решению проблемы вдумчиво: на фронт отправились в первую очередь смутьяны, доставлявшие нам хлопоты излишним рвением в профсоюзных акциях либо чересчур близкие к марксистам из СДПГ. Согласно рекомендации мастера Бергмана, вы, Клаус, ничем не запятнали себя в течение полугода. На таких рабочих стоит «Ганомаг». Высококвалифицированных, преданных фирме и фатерлянду.
Идейная часть закончилась. Большой начальник обратился к инженерам и клеркам.
– Но теперь нам предстоит новое, сложное испытание. Правительство кайзера убеждено, что к концу года нас ждут перебои с нефтепродуктами. Австро-Венгерская империя, наш основной партнер и союзник, находится под сильнейшим давлением англичан, поддержавших французскую агрессию. Потому поставки мадьярской нефти под вопросом. Военное министерство считает, что до 1920 года самыми перспективными для буксировки артиллерийских орудий, а также перевозки солдат и грузов будут паровые грузовики – дампфвагены. Герр Эрихман! С подписанием контракта на их поставку рейхсверу ваш цех будет переоборудован для выпуска поршневых паровых машин двойного расширения. Достаточно ли станочного оборудования?
– Конечно, герр Мульдорфф.
– А квалифицированной рабочей силы?
Эрихман замялся.
– Одиннадцать токарей и фрезеровщиков убыли на фронт.
На лице чернявого крепыша мелькнуло выражение превосходства.
– Я озаботился этим заранее. Мастер Бергман уверяет, что остарбайтеры в рекордно короткие сроки освоили самые передовые станки фирмы «Крупп», имея опыт работы лишь с устаревшими русскими. Вольф! Сможете ли вы обучить новых рабочих?
– Соглашайся! – посоветовал Друг. – Строгать пулеметы для германской военщины скверно, пришлось бы саботировать. Но автомобили-паровозы давно устарели и погоды не сделают. А ты повысишь статус.
– Конечно, герр Мульдорфф, – заверил Федор. – Но как это скажется на моем жаловании?
Тот усмехнулся и на миг стал похож на Георга Егесторфа. Тот ухмылялся с портрета над головой лейтера.
– Правильно мыслите, Клаус. Мы все – патриоты Рейха. Но благополучие государства складывается из достатка каждого подданного. Для начала Бергман пересчитает вам оплату за февраль, с даты подписания императорского указа. Новые условия обговорите с ним лично. Я полагаю, оплата должна зависеть от результата – когда новички смогут вытачивать поршни и цилиндры для паровых машин без брака.
– Кадры решают все. А незаменимых людей нет, – прокомментировал Друг, когда они покинули заводоуправление.
Экипаж двигался в обратном направлении. Эрихман бесстрастно глядел в окно.
– Мульдорфф ничего похожего не говорил, – хмыкнул Федор.
– Знаю, Федя. Это слова одного мудреца из моей реальности. Кое в чем он перемудрил и отправил на Колыму слишком много кадров. Ему поклонялись, потом развенчали и проклинали, а затем частично реабилитировали… Но это не важно. Станешь незаменимым. Малый паровой двигатель для авто, думаю, куда более деликатная вещь, с мелкими деталями. Не то что паровая машина для локомотива – там один котел с водой весит несколько тонн. По сравнению с реликтовыми тракторами «Ганомаг» дампфвагену нужна более высокая скорость и запас хода хотя бы километров сорок – пятьдесят. Простор для творческого рукоблудия! Ты же в свое время тяготился положением барина? Мол, рабочим у станка привычнее.
– Так то в России, – вздохнул Федор. – Здесь… все чужое. Вроде бы порядка больше. Организованнее. Но не то, не то. Люди здесь другие. Вроде неплохие, как тот же Бергман. Приметил, дал рекомендацию на повышение. Наверное, именно с его подачи придержали бумаги на подданство, и не бросили меня под французские пули. Да вот только они в себе замкнуты. Даже когда выпьют, не раскрываются до конца. Где русский на себе рубаху порвет, эти лишь расстегнут верхнюю пуговицу жилетки.
– По-умному называются интроверты. А ты – экстраверт, Федя. Как и я, и большинство наших земляков. Осененные, правда, более скрытные. В большинстве, конечно, но не ты.
– Мне тоже приходится молчать. Не объяснять же каждому встречному: внутри меня живет разум из XXI века! Мигом в дурку спровадят.
Во время этого диалога Федор не произнес ни слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. Пребывая на холоде, он привык контролировать эмоции. Внешне был бесстрастен, подобно молчуну Эрихману. Интроверт, как выразился бы Друг.
Ровно так же сдержанно держался инженер. На обратном пути к цеху он не проронил ни слова, хотя поводов для обсуждения в заводоуправлении подкинули предостаточно. Лишь достал из портсигара дорогую сигару марки «Мария Манчини» и заполнил внутреннее пространство экипажа благородным, но слишком густым дымом. Естественно, не спросив спутника по поездке о согласии. Курение где угодно и в присутствии кого угодно считалось здесь в порядке вещей.
Федор курил редко. Здесь он мог позволить себе только самые дешевые папиросы, но от них немилосердно першило в горле. Потому предпочитал воздерживаться до лучших времен.
Он смотрел в окно. Серые кварталы Гамбурга, как ни удивительно, казались менее отталкивающими, чем несколько дней назад. Во-первых, все же весна. Даже в мрачном Рейхе она – толчок к обновлению, расцвету. Во-вторых, обретение статуса подданного и грядущее повышение жалования здорово облегчат жизнь. Более не придется спешить в казарму, опасаясь штрафа. Можно позволить себе сардельку с темным пивом раз в неделю. А главное – переехать в съемную комнату, благо таковые предлагаются во множестве. Их бывшие арендаторы отправились во Францию, нацепив шинели серо-зеленого цвета.
Глядя на прохожих: спешащих по делам клерков, уличных торговцев и разносчиков, мальчишек с газетами, старьевщиков – Федор прикинул, что ему по карману отстегивать пятьдесят – шестьдесят марок за жилье. Например, вселиться в комнату Циммермана. Все равно его жена с детьми уезжают в Восточную Пруссию, пока глава семьи не вернется с войны.
Если вернется. Правда, о таком не говорят вслух.
– Мульдорфф – еврей! – вдруг воскликнул Друг, абсолютно не в тему мыслям Федора, бывшим для него как раскрытая книга.
– И что? Ты же не юдофоб.
– При чем тут… Нам нужен человек с деньгами. От его имени будет сделано пожертвование левому крылу СДПГ. Да и у нас будет повод сказать «шолом» Розе Люксембург.
– Мульдорфф – последний, к кому стоит обращаться. Слышал? Он не скрывал, что фирма при мобилизации избавилась первым делом от революционных бузотеров.
Друга это не смутило.
– Евреи – они разные. Помнишь урода, пытавшегося взорвать дворец Юсупова? У Мульдорффа с ним не больше общего, чем с папуасом. Но все же еврейская солидарность существует. И я очень надеюсь, что кто-то из банкиров или фабрикантов из еврейского сословия подкидывает денежки для СДПГ. Но сами мы к такому Мульдорффу левых взглядов не подойдем.
– Ты что-то надумал?
– Да! Нужен пламенный марксист-революционер еврейского происхождения. Эх… Жаль, не смогу убедить его, что, если не изменить историю, в Рейхе случится «окончательное решение еврейского вопроса». Не рассказывал тебе? Это полное, поголовное истребление чистокровных евреев и выборочно – полукровок. Миллионы людей.
– Друг! В подобное даже я не поверю. Слишком дико звучит.
– На практике – еще более дико. Главный автор идеи «окончательного решения», если он рожден в этой реальности, сейчас малюет романтические живописные полотна… Клянусь, если увижу его, пусть случайно, уговорю тебя отвернуть ему башку.
– Он же ничего еще не сделал!
– Да, не справедливо. Но жизнь вся такая – несправедливая. И если бы ты знал, что натворил… или может здесь натворить Адольф Гитлер, ты бы меня понял.
В такие моменты Федору становилось чрезвычайно неуютно. Друг – умный, порядочный, великодушный человек. Таким он представлялся большую часть времени. Но изредка вдруг взрывался, и из него фонтанировала безудержная злость. Если он вспоминал Холокост, Дрезден, Хиросиму, Хатынь, Беслан, Норд-Ост (о некоторых успел рассказать, а часть этих названий для Федора была пустым звуком), Друга колотило. Как он признавался – от бессилия что-то изменить, на что-то повлиять.
И вот переселение в альтернативный мир хотя бы в какой-то степени вдруг такую возможность предоставило. По словам Друга, в Первую мировую войну в его реальности погибло свыше десяти миллионов человек. Здесь войны начала века унесли сотни тысяч. «Всего-то сотни тысяч»… Это тоже много, очень много людей!
И началась новая франко-германская война. В нее не втянуты Россия, Австро-Венгрия и Великобритания – они вмешиваются, но не воюют напрямую. Пока. Друг уверен: достаточно небольшого толчка, и Первая мировая разгорится и тут. Тогда сбудутся слова, сказанные Циммерману в табачной мгле припортового кабачка: увидел врага – стреляй. И пусть нет никакой ненависти к французу, попавшемуся на мушку. Точно так же в подобной ситуации сам Федор без малейшей паузы нажал бы на спуск, увидев в прицеле Отто. Причем лишь потому, что сам – русский, сражающийся за Россию, а противник – немец.
Вызванного в Петроград полковника Игнатьева ждал жестокий разнос. Ожидал Алексей Алексеевич совершенно противоположного. В целом его работа во Франции оценивалась как успешная. Русская разведка сыграла немалую роль в подковерных играх, подтолкнувших Французскую Республику к войне с Рейхом. Причем в довольно невыгодных внешнеполитических условиях, когда Британия и Россия не обещали прямой военной помощи.
С марта эпицентр шпионской борьбы сместился в Австро-Венгрию. Русским резидентам было предписано всячески поддержать восстание мадьяр. И полковник ждал перевода на восточный невидимый фронт, дающий перспективу роста до генерала – из-за грандиозности решаемых там задач.
Пока между Будапештом и Веной завязались нешуточные бои, остановился поток венгерской нефти в Рейх, как и румынской по Дунаю. Если удастся массовая забастовка железнодорожников Чехии, то немцы полностью лишатся нефти и нефтепродуктов из Восточной Европы. Значит, аэропланы останутся на земле, бронеавтомобили и артиллерийские тягачи – в гаражах. Правда, используются паровые вагены, но запас их хода удручающе мал. К примеру, лучшие английские грузовики, называемые стим-трак и сжигающие уголь, проезжают не более тридцати миль на одной заправке топлива и воды. Гамбургский паровой трактор «Ганомаг» – даже менее десяти километров. В эпоху, когда магия постепенно отходит на второй план, а на поле битвы преобладает война пушек и моторов, из германской пасти будет вырван самый длинный и острый клык. К тому же Австро-Венгрия развалится, ее бывшие мадьярские и славянские провинции не будут более представлять опасности для России…
Но все это произойдет без участия Игнатьева.
В свежепостроенном угловатом здании штаб-квартиры российской военной разведки (отныне именовавшейся Главным разведывательным департаментом Генштаба РИА), расположенном на шестом километре Петергофского шоссе, первую стружку с полковника снял новый глава департамента генерал-полковник Татищев. Сверкая золочеными пушками на эполетах, этот артиллерийский полководец явно получил этот пост в результате массовых перемещений по окончании германской и австрийской кампаний, когда армия сокращается, генералов девать некуда, а обижать – нельзя. Такие руководят, не вникая. Татищев выдал залп обвинений в духе: «черт знает что!», «высочайшее недовольство результатами!», «потрудитесь немедленно исправить, иначе…», свидетельствовавших о том, что пушкарь не особо в курсе, в чем состоит провинность Игнатьева.
Его заместитель Проничев, теперь прямой начальник «проштрафившегося», внес ясность. Подхватив Игнатьева, разогретого первой выволочкой, увлек полковника к себе в кабинет.
Как и у шефа департамента, его украшали два непременных портрета: императора и всероссийского героя – покойного князя Юсупова-Кошкина. Первый символизировал верность обитателя кабинета престолу, второй – единство с российским народом, герой из которого, простецкий на вид, добился высот, но не почил на лаврах, а сложил голову в борьбе за Отечество.
Выходец из жандармского корпуса – а такие крайне редко делают карьеру в императорской армии, – Проничев выглядел, как полагается полевому агенту, желающему не привлекать внимания. Он был неприметный, серолицый, с прожилками под глазами – вряд ли от винных возлияний, скорее – от болезни или нервического недосыпания. Статные красавцы вроде Игнатьева, склонные добывать сведения в постелях жен и любовниц вражеских (или даже союзных) военачальников, обычно вызывают у подобных личностей чувство ревности. Проничев ничего такого не выказал.
Сев за стол, он открыл сейф, извлек толстую кожаную папку, из нее – исписанный листок.
– Ваш рапорт, Алексей Алексеевич, о счетах Юсупова-Кошкина во Франции. Ничего не желаете добавить? Да вы садитесь.
Пододвинув кресло, Игнатьев устроился в нем. С разрешения начальника раскурил «гавану».
– Смею заметить, ваше превосходительство, французские банкиры поступают подло. Их правительство задолжало российской императорской казне более двадцати миллионов франков. В том числе, и это звучит как анекдот дурного тона, за ручные пулеметы Кошкина. Половина роялти за выпуск его пулеметов во Франции оседает на счету покойного, и эти же франки банк ссужает правительству под проценты.
– Именно, полковник. Полгода прошло. Старший князь Юсупов назначен единственным наследником и душеприказчиком приемного сына. Вам отправили его доверенность с приказом: снять все франки со счета Кошкина и передать российской казне!
– Да, я получил доверенность, – Игнатьев пыхнул сигарой. – Но ничего не смог добиться. При оформлении счета Кошкин оставил запись, что распоряжаться финансами может он лично или третье лицо, сообщившее кодовый набор цифр. Банк уперся: по закону он вынужден ждать не менее десяти лет. Вдруг придет кто-то, владеющий шифром.
– Я вас понимаю, полковник. Но знайте, что казна пуста. Ассигнований не хватает. Снабжение мятежников в Венгрии обходится нашей империи чрезвычайно дорого. А еще восстановление белорусских и прибалтийских губерний, где похозяйничали германцы… Это десятки миллионов рублей! В то время как наш законный капитал застрял у французов и нам не доступен.
– Что прикажете делать?
– Добыть деньги Кошкина и вернуть в Россию. Любой ценой. Справитесь – получите повышение. В случае неудачи я даже боюсь представить последствия.
Оставив Проничева, Игнатьев спустился в холл. Надел в гардеробе шинель и фуражку, поправил шашку, глянув в высокое зеркало. За годы службы в Париже малость поотвык от ношения формы, хотя она ему нравилась – придавала мужественность и законченность облику.
У входа ожидал извозчик, нанятый в Питере.
Возвращаясь в столицу, полковник напряженно думал: с какой стороны приступить к решению задачи, казавшейся неприступной. Может, набрать банду и совершить налет на банк CDC, где хранится вклад усопшего?
Он усмехнулся в усы. В сторону глупые фантазии. Нужно думать о деле. Тем более, есть один человек, которому Федор доверял. Пусть – не безгранично, но больше, чем кому-либо другому в Париже. Подруга и, скорее всего, любовница князя.
Перед тем, как нанести ей визит, Игнатьев собрал кое-какие сведения и был разочарован. Варвара Николаевна Оболенская объявила об окончании траура по князю Юсупову-Кошкину, затем – о помолвке со сделавшим головокружительный взлет по служебной лестнице инженером-полковником Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем.
Если бы эта цепкая сударыня имела хоть какие-то шансы добраться до счета Федора в CDC, она бы землю рыла в Париже.
Не вариант.
Удрученный, Игнатьев купил билет до Гельсингфорса, чтобы оттуда отправиться во Францию на судне под шведским флагом. В смутное время, когда немцы очень нервно реагировали на проход британских и российских судов по Балтике и Северному морю, это был единственный безопасный путь к месту службы.
Глава 3
Неужели теплая вода каждый день – привилегия для избранных?
Теперь Федор угодил в их число. Он вселился в комнату, прежде занимаемую семьей Отто Циммермана. Переезд из съемного жилья в княжеские хоромы в Туле не принес Федору столько радости, как возможность покинуть опостылевшую казарму в Гамбурге.
Фрау Марта его обрадовала: ванной может пользоваться, когда захочет. Но за уголь для водогрейного котла нужно доплачивать сверх тех шестидесяти марок, что он вносит в месяц. На фоне нового жалованья это мелочь…
В первый же вечер Федор израсходовал целых два ведра угля. Наполнил чугунную ванну и блаженно в ней улегся, предоставив воде смывать копоть и усталость. Отмокнув, поднялся и намылил камышовое мочало дегтярным мылом. Наметил присмотреть какое-то получше, чтоб с приятным запахом. Это оставить как хозяйственное.
Для бодрости окатил себя прохладной водой. В мыльной прополоскал исподнее. Больше не придется сушить его прямо на теле. Можно развесить в комнате на высоких спинках железной кровати, на которой раньше спали Циммерманы.
Сложно представить, как умещалась на ней целая семья. Отто с супругой коротали ночи на ложе шириной около метра. Хозяева добавили второй ярус, и дети спали там валетом. Еще в комнату втиснулись платяной шкаф, стол и единственный стул. Свободного места – не развернуться и не разминуться.
Единственным украшением спальни служили холщовые занавески на окне. Федор их сразу задернул. За окном – глухая кирпичная стена метрах в шести от стекла.
Как дань передовой германской цивилизации, с потолка свисала электролампочка без абажура. Пятнадцать свечей! Собственно – все.
Вернувшись в комнату после ванной, Федор почувствовал себя лучше, чем когда-либо за все время пребывания в Германии. Конечно, главное – сделать дело, ради которого приходится здесь болтаться. Бытовые удобства не столь важны, но до чего же хочется жить по-человечески, даже во вражеской стране!
Раздался стук в дверь.
– Войдите!
– Герр Клаус, согласитесь ли вы столоваться с нами? – фрау Марта нерешительно вытерла руки о серый передник, надетый поверх коричневого платья. Руки, покрасневшие и грубые, соответствовали облику рано постаревшей женщины из припортового квартала. – Фрау Циммерман предпочитала сама готовить и покупать продукты. Считала, что так ей дешевле.
Федор лишь на миг задумался.
– Боюсь, не найду времени заниматься готовкой. Буду рад разделить с вами ужин. Ну, а вы расскажете, сколько мне придется платить, – порывшись в карманах, Федор достал два купленных на улице леденца. – Это вашим ребятишкам.
– Данке, герр Клаус! – улыбнулась Марта. – Они скучают по сорванцам Циммерманов.
Поданная каша с овощами и чай, конечно же, мало соответствовали представлению о немецкой кухне, почерпнутому из книг. Вместо чая с сухарем зажиточные германцы предпочитали сопровождать поглощение напитков массой разнообразных десертов. Одних только пудингов существовали десятки видов. В Петрограде Федору как-то довелось отведать баварский плеттен-пудинг – многослойное изделие из орехов, ягод, бисквитного теста и заварного крема. Детвору баловали забавным пылающим плум-пудингом. Но, конечно же, не детей с рабочих окраин большого промышленного города.
– Доброго вечера! – за стол присел запоздавший Гюнтер Штаубе, супруг фрау Марты. – Как вам стряпня моей женушки?
– Вполне… – начал было Федор, но Гюнтер, весь день таскавший ящики, мешки и бочонки на пристани, бы намерен говорить, а не слушать постояльца.
– Знаю-знаю. В России со жратвой лучше? Мы, как война началась – еще первая, с французами – каждый месяц чувствуем, что не можем позволить себе того, что считалось обычным ранее. А сейчас стало еще хуже. По весне уголь обычно дешевел. Теперь – наоборот, каждый мешок дороже на две марки! Дорожает все. Старшему в школу осенью. Все лето копить – не скопить, чтобы собрать. Хорошо, что младший за старшим одежду с обувью донашивает. Только если это будет продолжаться, не доучится Михаэль. Пойдет разносчиком газет, чистильщиком обуви, подмастерьем. Хоть немного марок принесет.
– Может, станет лучше с окончанием войны?
– Сомневаюсь, – замотал головой Гюнтер – Пока нами правят проклятые князья-маги, а деньгу гребут заводчики и евреи-банкиры, нам, рабочим, будет только хуже.
– Ты один такой в доках? – спросил Федор.
– Точно так или почти так думают все наши, – заверил Гюнтер. – Но боятся своих крох лишиться. К тому же нам обещают новые законы военного времени. Стачки запретить, митинги – само собой, закрыть рабочие газеты. Шайзе! Скоро и дышать нам запретят.
«Наверняка Отто Циммерман отлично находил общий язык с Гюнтером, – подумал Федор. – Оба – левые по взглядам, но совсем не революционеры. В их глазах восстать – означает развалить орднунг (порядок). С другой стороны, если поднимется вся Германия, докеры и заводчане их поддержат. Хочется, чтоб было так».
– А ты, Клаус? Каково тебе на «Ганомаге»? – вдруг проявил любопытство хозяин.
– Сейчас сложно, – не стал кривить душой Федор. – Таких, как Отто, отправили во Францию. Его камрады-социалисты маршируют во фрайкоре вместо того, чтобы стоять у станков. Три дня назад ко мне приставили дюжину бывших сельских кузнецов из восточных земель, поручив научить их точить поршни для паровых машин… Если не сделаю из них приличных токарей, потеряю в жаловании. Несправедливость везде, Гюнтер! «Ганомаг» – не исключение. Если уж менять – то все.
– Как? – заинтересовался докер.
– Не могу сказать пока. Как узнаю, буду действовать. Может, более умные люди подскажут. Что в газетах, кстати, пишут?
Гюнтер достал из ящика стола несколько свежих номеров «Форвертс», газеты социал-демократов. Более ранние фрау Марта пустила на растопку печи и котла.
– На, читай! Только там сплошное словоблудие: обсудим, вынесем в Рейхстаг проект резолюции. Или: заявим протест по поводу увеличения военных ассигнований… А чтобы сделать французам предложение вывести рейхсвер из Бельгии и Франции и затем подписать прочный мир вместо перемирия – кишка тонка. Знаешь, почему? Среди социалистов множество евреев. Каждый – сионист. Вот пусть и валят в Палестину. Германия – для германцев, камрад!
– Это уже не социализм, а национал-социализм. Готовая фан-группа для художника Адольфа, – заметил Друг. – Бери газеты, почитаем.
В спальне Федор взобрался на верхний, «детский» ярус кровати, ближе к тусклой электролампочке. Масляная или керосиновая лампа, особенно если поднести ее ближе к газете, дала бы больше света. Но лампы не имелось. Через несколько минут Федор убедился в правоте нациста-докера. Основное содержание статей «Форвертс», касающихся политической борьбы в Рейхе, представляло собой переливание из пустого в порожнее.
Куда интереснее были международные сообщения.
Во-первых, удалось толком разобраться в ходе франко-германской кампании. Вспоминая события прошлой войны, Федор обратил внимание: если в России воевали почти на всей линии соприкосновения с рейхсвером и австрийцами, здесь бои сконцентрировались на севере Франции и в Бельгии. Южнее – тишина. Можно дать руку на отсечение, что ни у одной из сторон там не хватит сил, чтобы держать сплошную линию обороны. Во-вторых, французы полностью использовали фактор неожиданности, напав зимой и без крупного сосредоточения войск. Теперь каждый километр им давался кровью, и блицкриг перешел в войну на истощение. Французский флот практически парализовал снабжение Германии по морю. Морских баталий не случилось: за спиной французов маячит Грандфлит, способный пустить кайзеровский Флот открытого моря на дно в одном генеральном сражении. Союзники Франции, Британская и Российская Империя, гораздо сильнее Австро-Венгрии, к тому же раздираемой изнутри.
– Федя! Время играет нам на руку. Через несколько месяцев германской экономике придет капут, – оживился Друг. – Ну, почти. Положение трудяг, вроде Отто или Гюнтера, станет невыносимым. Какое-то время их удержат полицейскими методами, но не бесконечно.
– Нам ничего не надо делать? Немцы сами постараются?
– При нормальном развитии событий у Германии есть шанс скинуть кайзера и княжескую шушеру. Рыночная экономика в мирное время, да при дисциплинированном трудолюбивом народе, сама восстановит положение в Рейхе.
– Это хорошо или плохо для России?
– Трудно предсказать. Мощная промышленная Германия может быть более опасной, чем со своими боевыми магами. Нужно подложить стране свинью под названием «диктатура пролетариата». Но на самом деле – диктатуру негодяев, называющих себя пролетарскими вождями. Страна, больная коммунизмом, словно сифилисом, не погибнет, но будет развиваться хуже, отставать, пока ее не победят более успешные государства.
– Неужели коммунизм фатален? Это же гуманистическое учение! Забота о правах трудящихся, запрет угнетения и эксплуатации… Разве в твоем мире нет примеров, чтобы коммунизм привел к процветанию?
– Есть один. Под чутким руководством Коммунистической партии Китая, единственной в стране. Оппозицию они истребили поголовно и под корень. Там построен образцовый государственный империализм с множеством частных компаний. В том числе – с привлечением иностранного капитала. Естественно, во главе китайских фирм стоят только самые преданные, пламенные коммунисты. Они же – главные эксплуататоры рабочего класса.
– Перестань… Голова лопнет. Давай читать дальше.
За военными пошли новости международного рабочего движения. Друг отметил, что здесь живы и достаточно активны многие деятели, памятные ему по курсу научного коммунизма и истории КПСС. Что делали и о чем писали эти люди, Друг, естественно, не учил. Их фамилии звучали преимущественно как примеры ревизионистов, соглашателей и прочих предателей интересов рабочего класса, которых разоблачил товарищ Ленин.
– Может, нам и нужен этот Ленин? – предположил Федор.
– На каком-то этапе может пригодиться. Только Ленин не еврей – в смысле, он чужой для сионистов. Ищем дальше… Вот! Подходящий типус.
С газетной полосы на Федора пялился чернявый человечек с длинным, слегка свернутым набок носом – несомненно, семитским. На носу сидели маленькие круглые очки, хотя места хватило бы и на крупные. Даже – на бинокль.
– Антид Ото, – прочитал Федор. – Кто это?
– Псевдоним значения не имеет, большевики-ленинцы меняют их чаще, чем носки. Если это он…
– Не томи. Он, он… Заладил! Кто?
– В моем детстве любили говорить, что «пиз#ит как Троцкий». В смысле – много, складно, нагло врет. Ленин его называл «иудушка» и «политическая проститутка».
– Ты уверен? Проститутка-мужик подойдет для содомского греха, но не для политики.
– Он в политическом отношении проститутка. Плохо помню, но писали: Ленин Троцкому завидовал. Летом 1917 года картавый Вовка организовал рабочее выступление в Петрограде. Но бездарно так, что полиция разогнала рабочих без труда. Многих плюс к тому арестовала. «Пролетарский вождь» сдриснул и устроил себе отпуск на природе в шалаше. Новое восстание готовил Троцкий, и оно окончилось победой! Ленин не мешал, но, явившись на готовенькое, потратил много лет, чтобы оттереть Троцкого в сторонку. Может быть, что-то упрощаю и что-то путаю, но важно другое. Все они – мерзавцы, и России принесли много зла. Пусть теперь несут его Германии. Мне ее совсем не жалко. А тебе?
– Жаль отдельно взятых немцев – Отто, Марту, Гюнтера, даже мастера Бергмана. А вот кайзеровский Рейх – нисколько.
– Вот на том и порешим. Остается разузнать, где сейчас Троцкий и как к нему попасть. Вот обучишь прусских кузнецов токарному делу и возьмешь заслуженный отпуск, пока их не запретили из-за военного времени.
4-й полк зуавов полковника Анри Нисселя без боя захватил мост через Рейн в районе Баден-Бадена и двинулся к Штутгарту. Сопротивления практически не встретили. Заслон из фрайкора передовой батальон расстрелял из русских бомбометов. Затем забросал позиции германцев ручными гранатами с клеймом Sestroretsk. Уцелевшие ополченцы разбежались.
На ночь стали лагерем. Полковник велел созвать совещание, пригласив заместителей и командиров батальонов, а также российских казаков-вольноопределяющихся.
Самым приметным среди союзников был интеллигентный темноволосый мужчина. Из соотечественников он выделялся аккуратно подстриженными усиками и чисто выбритой остальной частью лица, тогда как остальные казаки щеголяли бородами. Зуавы звали его «месье Андрэ», не зная ни фамилии, ни казачьего звания союзника. Французского военного чина вольноопределяющиеся не получили. На шинель зуава Андрэ собственноручно нашил патронные кармашки-газыри, сделав ее похожей на казачий бешмет. Французскую шапку носил, сдвинув на затылок столь далеко, что казалось – вот-вот потеряет.
Расселись полукругом. Батальонные доложились. Затем Ниссель спросил Андрэ: похожи ли действия полка в германском тылу на то, что творили в тылу у австрийцев русские казаки.
– Ничуть, месье полковник, – покачал головой русский. – Условия совершенно иные. Там были леса и предгорья Карпат. Здесь – сами видите. Ходили мы обычно казачьей сотней. Меньше – слишком мало для серьезного боя, больше – хуже маневренность. Пушки с собой не брали, о броневиках и речи не было.
– С князем Юсуповым-Кошкиным довелось повоевать? Что бы он посоветовал?
– Врать не буду, господа. Не привелось. Знаком был – да. Сам привез его к пластунам в наш Хоперский полк. Там он совсем другую тактику применял. Вместо кавалерийского наскока в тыл врага пробирались медленно и тихо. Даже на велосипедах, чтоб не выдать себя топотом копыт. А еще он был могучий Осененный! Мог стопку водки силой взгляда поднять, в рот опрокинуть и на место вернуть, не расплескав! Такой человек был. Благодаря ему наши пулеметы – лучше германских. Вы их называете «митральеза де кат»[7]. Кошкин, расставаясь, мне один подарил на память. Он и сейчас со мной. А еще князь дал России гранаты, пистолеты-пулеметы, радиотелеграфическую станцию… Если б не погиб под Ригой, вызвав на себя огонь морских пушек, столько еще славного сделал бы для Отечества, для всех нас, господа!
Опустилась тишина. Конечно – идет война. Погибают многие. Но не все потери столь болезненны…
Ниссель кликнул денщика. В походе не принято, но повод был уважительный. Офицеры встали, обнажили головы. Выпили не чокаясь. Потом, обсудив задачи на завтра, разошлись.
Полковник, вняв советам казака, рискнул рассредоточиться. Каждый батальон получил отдельную задачу, выполнив которую, зуавы должны самостоятельно вернуться за Рейн.
Отряд, с которым Андрэ двинул к Штутгарту, должен был ворваться на машиностроительный завод, заложить взрывчатку и подорвать главное станочное оборудование. Никто не рассчитывал, что зуавы удержат город. Французский генштаб надеялся: этот удар вынудит кайзеровское командование отправить сюда часть резервов, тем самым облегчив наступление в Бельгии.
Поначалу замысел удался. Батальон отступил из Штутгарта, оставив за спиной дымы пожарищ на месте взорванных цехов. Увозил всего пяток раненых от перестрелок с фрайкором.
План не учитывал одного: у германцев имелось оружие, которое можно применить быстро. Раздался плотный гул аэропланных двигателей. Четверка «Фоккеров» спикировала на колонну. Затрещали пулеметные очереди. Нападение застало зуавов врасплох.
Месье Андрэ, ехавший в броневике, выскочил наружу. Вскинул «митральезу Кошкина» и выпустил диск одной очередью. И как прорвало! Вверх взметнулись стволы пистолетов-пулеметов, винтовок. Батальонный командир даже пытался попасть в «Фоккер» из револьвера. В летательные аппараты понеслись тысячи пуль! Один биплан клюнул носом и врезался в землю, к непередаваемой радости алжирских бойцов. Трое оставшихся легли на обратный курс, причем последний из троицы пустил серый дым, изрядно отставая и теряя высоту.
Собрали убитых и раненых, добили подстреленных лошадей. Командир батальона закрыл глаза месье Андрэ, безмятежно смотревшие в небо Европы так далеко от России. Велел не забирать его пулемет – так и похоронить с оружием. Это – честь для воина, павшего в бою.
Призывов к митингу было немного. Но к цехам завода «Ганомаг» шли тысячи людей. Возможно – более десятка тысяч. С других предприятий города, из порта. Большинство все же составили рабочие и мастера завода, отработавшие первую смену.
К проходной свезли тела погибших во Франции заводчан, призванных в последний месяц.
Они лежали в закрытых гробах, с накинутыми сверху имперскими флагами. Поднять крышку не позволили: с момента гибели солдат прошло четыре-пять дней. Началось разложение – вблизи гробов чувствовался запах. К нему не хотели привлекать внимания, как и к тому, из-за чего началась война. Почему крепкие молодые мужчины, чьи-то сыновья, мужья, отцы отправились на фронт, где отдали молодые жизни… За что? За удержание оттяпанных у Франции и Бельгии территорий? Сохранение награбленного – не Бог весть какое благородное дело.
Отставной унтер-инвалид с помощью таких же товарищей-ветеранов вскарабкался на импровизированную трибуну из ящиков. Завел унылую речь с монотонно повторяющимся призывом «все как один, во славу кайзера и фатерлянда»…
Место митинга окружила полиция. Кольцом довольно редким – из двух десятков человек. Мероприятие задумано с благою целью, на пользу империи. Но таким оно оставалось лишь несколько минут с начала речи унтера.
К нему на ящики вскарабкался фрезеровщик из соседнего с Федором цеха, председатель профсоюзной ячейки. С силой толкнул унтера в грудь. Тот упал и разбился бы насмерть, но ветерана заботливо подхватили товарищи станочника.
– Камрады! – закричал профсоюзный лидер. – На «Ганомаг» прибыла очередная разнарядка – отправить во Францию еще сотню рабочих. Зачем? Гибнуть самим и убивать таких же пролетариев, но во французской форме? Разве нам нужна французская земля, камрады? Хотим ли мы новых смертей? Не хотим! Нет – войне! Нет продажному правительству! Даешь новые выборы в Рейхстаг! Рот фронт!
Полицейские бобики, опешившие поначалу, ринулись задерживать оратора, но натолкнулись на стену рабочих. У некоторых из заводчан в руках были тяжелые гаечные ключи и обрезки водопроводных труб. Началась нешуточная драка.
Полицейских оттеснили. Один из них, отбежав шагов на десять, не нашел ничего лучшего, чем шмальнуть в толпу из револьвера.
Рабочие взревели. Толпа накрыла и подмяла полицейских. Стрелок бросился бежать, но упал от брошенного в голову булыжника. Через миг он скрылся из виду: его окружили разъяренные люди в заводских робах. Над их головами поднимались и резко опускались обрезки арматуры.
Федор не стал дожидаться развязки и протиснулся к гробам. Здесь увидел Марту с Гюнтером. Мужчина мял картуз, женщина рыдала. На одном из гробов виднелась надпись с краской: «Отто Циммерман».
– Твою ма-а-ать… – выругался Друг, прибавив еще несколько сочных оборотов. – Ведь трех недель не прошло, как угощал нас шнапсом в кабачке!
А Федор вспоминал бутерброд с лярдом, который он получил от Отто – первую приличную еду с момента пленения. Его вдова и сироты, надо надеяться, уведомлены, но не смогли успеть из Пруссии к прощанию и похоронам.
Хотя… Назвать это прощанием? Нет никакой уверенности, что в ящике именно Циммерман. Не рвать же гвозди из крышки гроба. Если по позиции ударили гаубицы Шнейдера калибра 155 мм, там внутри – гниющее месиво из мяса, костей и лоскутов униформы. Возможно, после боя просто распределили фарш по деревянным ящикам. Затем, согласно спискам, написали: тут Отто, там Ганс, а дальше будет Фриц… Смерть уравняла всех.
Со всеми стоит прощаться навсегда, когда они, выбритые и стриженые, садятся в вагоны, чтоб спешить на фронт. Не каждому повезет, как инвалиду-унтеру, вопившему про войну во славу кайзера и фатерлянда.
А еще возмутил цинизм фотокорреспондента, лихорадочно менявшего фотопластины в камере. Наверно, он думал лишь о том, как выгоднее продать снимки газетам – с изображением оратора на ящиках, рыдающих вдов над гробами и толпой, линчующей полицейских.
Имеет право – здесь свобода прессы, чтоб ее…
Глава 4
Молодой постовой полицейский, явно из свежего пополнения, щелкнул каблуками и отдал честь. Военная косточка заметна невооруженным глазом, несмотря на нестроевую хромоту. Начальник отдела криминалполицай южного округа Гамбурга Хайнц Айзенманн вынужденно оторвался от бумаг и недовольно посмотрел на визитера.
Выглядел тот измотанным, со следами недосыпания на худом сероватом лице. Собственно говоря, похожий вид приобрела большая часть полиции Гамбурга. Работали на износ с того дня, как в городе начались стихийные волнения пролетариата. Полицейский-идиот застрелил рабочего на митинге памяти героев, павших за фатерлянд в войне против французских агрессоров – с этого началось. Ситуацию накалили непрерывные депеши из Берлина с требованием изобличить и арестовать бунтовщиков, забивших до смерти полицейских после того злосчастного выстрела. Задержания социалистов и профсоюзных активистов привели к массовой стачке. Прекратил работу порт, встали судоверфь, сталелитейный и все машиностроительные заводы. К забастовке грозили присоединиться железнодорожники. Рвение отдельных полицейских чинов нанесло больший урон, чем любая французская акция.
Людей не хватало, чтобы, как минимум, пресечь мародерство и грабежи на улицах. Уголовники, шпана и просто доведенные до нищеты пролетарии принялись бить витрины магазинов и выносить все подряд. Поскольку рейхсвер вычесывал призывников частой гребенкой, полиции оставался второй сорт. Например, признанные негодными к военной службе ветераны кампании в России.
Именно к таким и принадлежал визитер. Его китель над клапаном нагрудного кармана был отмечен нашивкой – черный крест на белом поле. Следовательно, ранен и освобожден от призыва в рейхсвер.
– Унтервахмистр Генрих Мюллер! – представился вошедший. – Герр инспектор! Имею важную информацию относительно одного подозрительного остарбайтера из «Ганомага».
– Он зачинщик беспорядков? Распространяет листовки? Выступает на митингах? Если нет – свободны.
– Герр инспектор! Дело более серьезное. Смею предположить, что он – считающийся покойным русский князь Юсупов-Кошкин.
Офицер снял пенсне с мясистого носа, пригладил усы… и заржал, как лошадь.
– Вы переутомились, унтервахмистр? Русский князь, миллионер и национальный герой, будет работать на «Ганомаге» как простой пролетарий?!
– Да, герр инспектор.
– Скажите, как вы были ранены? Не в голову ли? Не контужены?
– Никак нет. Я – пилот Люфтваффе. Был сбит в бою русским аэропланом во время боя при отступлении от Риги. Посадил свой «Альбатрос» за русскими окопами, но сломал ногу.
– Может, над вами в лагере издевались? – кинул другую догадку шеф криминалполиции.
– В лагере голодали. Набилось больше четырех тысяч пленных. Русские не успевали подвозить продукты. Их расхватывали самые сильные. Меня спас русский госпиталь. Там мне залечили ногу, откормили. Бегать или управлять аэропланом я больше не способен, но память у меня прекрасная. Я хорошо запомнил этого человека.
– Князь Юсупов-Кошкин носил в госпиталь апельсины?
Бывший летчик сделал вид, что не заметил издевательского тона.
– После его гибели русские всюду развесили плакаты: «Воевать и не жалеть жизни, как Юсупов-Кошкин». Там был его портрет – в инженерной форме. Я проверял. Остарбайтера, о котором я докладываю, зовут Клаус Вольф. Подобран без сознания под Ригой. Ровно в тот же день, когда объявили погибшим Юсупова-Кошкина. В деле административного надзора за Вольфом значится: заявил о принадлежности к германской нации, получил подданство Рейха как фольксдойче. Проверка его происхождения была поверхностной.
Настырность Мюллера начала уже не смешить, а раздражать. Вместо патрулирования улиц нахал полез в архив!
– Это ничего не значит, унтервахмистр. У вас все?
– Нет, герр инспектор, – упрямо повторил Мюллер. – Извольте глянуть на эти фото.
Их было два. На одном обведенный карандашом человек стоял у гробов на митинге у проходной «Ганомага». Второй представлял собой фотокопию газеты с плакатом и надписью на русском языке. Сходство налицо! Пусть не абсолютное, но…
– Вы не ответили на главный вопрос. Допустим, на газетном фото и в самом деле русский князь. Какого дьявола он болтается в Гамбурге?
– У меня только одно объяснение. Был контужен, попал в плен в беспамятстве. Потом сочинил легенду. Не исключаю, что он не помнит об истинной личности. Поверьте, господин инспектор. В лагере я видел подобных во множестве. Русский морской снаряд, упавший далеко и не оторвавший голову, отшибал память.
При других обстоятельствах инспектор послал бы Мюллера подальше. Например, в задницу. Или в Россию, что, по его мнению, было равноценно. Но ушлый малый запросто мог настучать, что криминалполицай-шеф оставил без внимания и не проверил важные сведения. Разобраться следовало как можно скорее. И забыть.
Айзенманн придвинул к себе телефонный аппарат.
– Фройляйн? Соедините меня с заводоуправлением «Ганомага».
Через четверть часа, по мнению инспектора – потраченных абсолютно зря, он узнал, что подозреваемый в княжеской принадлежности образцово трудится в токарном цеху – за двести сорок кайзермарок в месяц. Отвечает за подготовку молодых станочников, на хорошем счету у мастера Бергмана и ни в чем предосудительном не замешан. Во время забастовки приходит в цех и сидит около станка – не работающего, потому что стачком как-то умудрился обесточить здание.
А может – не зря звонил? У Айнземанна шевельнулись первые подозрения. Сыщик с десятилетним стажем, он просто не верил в существование идеально добропорядочных людей. Встречаются только не изобличенные. Пусть Вольф – не Юсупов-Кошкин, это очевидно, зато он запросто может быть «серым кардиналом» бунтовщиков, оставаясь вне подозрений. Или даже русским агентом, засланным в Рейх для подрывной работы, что многое объяснило бы в происходящих событиях.
– Если у него и правда Зеркальный Щит, как говорили в России, нам следует быть чрезвычайно осторожными, герр инспектор, – напомнил Мюллер.
– Как предлагаешь его изобличить?
– Выстрелить в него. Если он – действительно Юсупов-Кошкин, магическая защита отразит пулю. Если же заурядный фольксдойче… Тогда на одного рабочего у «Ганомага» станет меньше. Все равно забрали бы по призыву.
Молодой полицейский умел удивить. Айзенманн вернул стеклышки на нос и насмешливо произнес:
– Сам возьмешься стрелять? Допустим, у того остарбайтера действительно имеется Зеркальный Щит. Пуля отлетит назад. В тебя.
– Нужен «Браунинг 1906» и кирасирский панцирь. Погода еще прохладная, спрячу панцирь под плащ.
Айзенманн ушам не поверил. Пацан решил выйти против предполагаемого боевого мага с дамским пистолетиком и железякой на пузе? Не зря говорят, что в истребительные эскадры люфтваффе набирают полных отморозков…
Особенно смешно, что Мюллер одновременно призывает к «чрезвычайной осторожности».
В Гамбурге Юлия Сергеевна поняла: если бы она искала самый неподходящий для пребывания молодой барышни город в Рейхе, то она его нашла. По улицам ходили самые настоящие банды. Молодчики даже не скрывали, что у них есть оружие. Большинство магазинов было закрыто. Витрины с острыми зубами разбитых стекол смотрели на улицу пустыми полками. Либо вместо стекла виднелись толстые доски, а на двери – амбарный замок.
Пробираясь в портовую часть, где находился искомый цех «Ганомага», Соколова сначала обнаружила по запаху, а потом и воочию увидела лежащий поперек мостовой лошадиный труп.
Потом повезло.
– Вам опасно находиться здесь, фройляйн!
Четверо крепких рабочих парней с красными повязками на рукаве и винтовками «Маузер» за плечом обступили ее, испугав. Оказалось – без враждебных намерений.
– Я понимаю, господа… Но мне чрезвычайно важно найти одного человека. Родственника.
Догадавшись, насколько опасно будет в лоб обозначить цель поисков, Юлия Сергеевна наскоро слепила легенду.
– Кого, фройляйн? – спросил высокий белобрысый парень в мятой кепке.
Когда-то она ворчала про себя, что Федор ниже ее ростом. Да и вообще чисто внешне отнюдь не идеал мужской красоты. А вот этот голубоглазый рабочий с удивительно тонкими чертами лица, не ниже метра восьмидесяти и широкоплечий… Его бы приодеть, научить манерам – смотрелся бы вполне достойной партией. Но при этом все равно оставил бы ее равнодушной. Тем более что она сюда приехала не знакомства заводить, хотя не связана с Федором никакими клятвами.
– Мой кузен. Он – русский фольксдойче. Пропал без вести в сотне верст южнее Риги. Я вдруг увидела газету, а там написано: некоторые фольксдойче отказались вернуться в Россию – им и здесь хорошо. Слышала, что их держали в отдельном лагере. Несколько этих парней работают на «Ганомаге». Я хотела спросить их: не знают ли они чего-нибудь про моего Ганса? Как мне найти остарбайтеров «Ганомага»?
Она раскрыла сумочку и протянула потертую вырезку. Кроме этой вырезки и двадцати кайзермарок мелочью в сумке не лежало ничего ценного.
– Не знаю, фройляйн. Мы с судоремонтного, – белобрысый на минуту задумался. – Предлагаю вот что. Вечереет, для фройляйн здесь находиться опасно. Идемте, познакомлю вас с мамой и сестрами. Переночуете. Завтра с утра постараюсь связаться с камрадами из «Ганомага».
Ее провожали все четверо. Действительно, с наступлением сумерек город наполнился странной публикой. Некоторых Юрген, так представился главный в рабочем патруле, приветствовал словами «Рот фронт» и поднятым кулаком. Раз парни сдернули с плеч винтовки и клацнули затворами: помогло. Ватага гопников решила не связываться и удалилась.
Конный отряд полиции предпочел не заметить вооруженных штатских, люди Юргена ответили тем же. Все они поддерживали хоть какой-то «орднунг» в городе, пусть разными методами. Фактически в Гамбурге наступило двоевластие. Верные кайзеру, князю и губернатору полицейские силы охраняли центр и редко заходили в припортовую часть. Организации социалистов и профсоюзов пытались удержать рабочие окраины. Но все более заявляла о себе третья сила – необузданная стихия. Военная пора принесла в Гамбург массу переселенцев с Востока, в том числе из сельской местности и даже – из негерманских земель. Ляхи, мадьяры, румыны, по словам Юргена, ни во что не ставили традиционный городской уклад и сложившийся порядок.
– Самое страшное случится, если против рабочих бросят армию, – осторожно заметила Юлия Сергеевна. – Как у нас в 1905-м году. Тогда казаки и Осененные уничтожили больше тысячи рабочих, протестовавших в Питере.
– У «вас»… Мне сложно поверить, фройляйн, что вы из России. Одеты как настоящая британская леди, говорите по-немецки с легким восточным акцентом. У многих пруссаков он хуже, – сделал комплимент белобрысый.
– Данке! В России я работаю учителем русского языка в гимназии, преподаю и другие языки: немецкий, французский, знаю латынь. Не смотрите так на меня, Юрген! Ничего особенного. Это – моя специальность. Кроме нее, увы, я ни на что не годна. Остальное… Как у вас говорят? Киндер, кюхе, кирхе. Причем с киндерами ничего пока не вышло – не нашла им достойного отца.
– В Гамбурге вряд ли найдете, покачал головой Юрген. – У нас нехорошо.
Несмотря на кажущуюся простоту, парень оказался умнее, чем воспринимался на первый взгляд. Явно понял, что за поисками «кузена» стоит нечто иное.
Стемнело окончательно. Мало того, что не зажегся ни один фонарь, улицы почти не освещались окнами и витринами. В большинстве своем они остались темными. Изредка попадались костры из ящиков и обломков мебели, вокруг них собирались какие-то люди. Юрген обходил их стороной.
– Электричества нет, фройляйн. Мои благодарят Бога, что сохранили обычные лампы, а на чердаке нашелся керосин.
Его запах почувствовался с порога.
Семья занимала обширную мансарду. Было прохладно, хотя наступил апрель. Камин стоял не растопленный, угольный ящик – пуст.
Соколова представилась на европейский лад – Джулия. Быстро познакомилась с родными Юргена, который, наскоро перекусив, исчез.
Отец семейства, Пауль Грюн, тоже с судоремонтного, убыл на фронт в феврале. Слава Богу, не в пехоту и не в окопы – в тыловой батальон. Там обслуживал паровые артиллерийские тягачи. Тем не менее, уже месяц от него нет писем, и под скошенной мансардной крышей поселилась тревога.
Фрау Магда осталась с сыном и тремя дочерьми. Вроде бы единственного сына у матери на фронт не забирают, но кто знает…
Что примечательно, фрау и фройляйн Грюн отнюдь не ограничивались тремя женскими занятиями. К удивлению Юлии, представлявшей, и не без оснований, Гамбург исключительно как город крупной промышленности, члены семьи Грюн занимались домашним ткачеством. Виртуозно!
Отказавшись от ужина, будто бы не голодна (еще как голодна, но не хотелось обременять этих славных людей), барышня присела около ткацкого станка – большого, около двух метров в длину. Принялась наблюдать за удивительным процессом набивания ткани вручную.
Руки немецкой девушки, вооруженные челноком, так и порхали, гремели деревянные рамы с натянутыми нитями, приводимые в движение педалью, нажимаемой ножкой в крепком башмачке. Голову Розы, старшей дочери фрау Магды, туго обтягивал чепец, чтоб ни один локон случайно не был затянут в полотно.
Наконец, она утомилась и откинулась на табурете.
– Нравится?
– О да! – воскликнула Юлия. – Я выросла в офицерской семье и никогда не видела, как работает ткацкий станок. Отец приносил всегда готовую штуку ткани. Что-то шили сами, а форму он заказывал у портного…
– Мама шьет на заказ из фабричных тканей, – объяснила Роза. – Вручную делаем гобелены, полосы материала для платьев с прусским орнаментом. Сейчас выполняю заказ для одного гамбургского мага с электрическим даром – с вытканными молниями. Он совсем недавно получил амулет и страшно горд. Пожелал украсить молниями скатерть, занавески, даже полотенца. Мама взяла задаток, – она вздохнула. – Но что можно купить на эти марки, когда все лавки закрылись, хлебопекарни не работают, а зеленщик сбежал…
– Роза! Мне неловко было предлагать твоей маме… Вы так выручили меня, совершенно незнакомого человека… Возьми десять марок, потом купишь что-нибудь сладкое сестренке!
– Это совсем не обязательно, фройляйн Джулия. Но если вы от чистого сердца – грех отказываться. Понимаете… Мы – лютеране, вы – православные. Ваши мужчины воевали против наших, убивали друг друга. Но ведь все это неправильно перед ликом Господа! Мы – дети его: и русские, и германцы, и даже, простите меня, евреи. Господь велел любить друг друга. И ближнего, и дальнего. Дай Бог – все уляжется.
Столько искренности и теплоты было в словах этой простой и довольно молодой гамбургской барышни, что Юлия не сдержалась и обняла ее, а та ответила. Несколько секунд они не разжимали объятий… А потом Магда учила гостью работать на ткацком станке.
Оказалось – не до такой степени сложно, как казалось на первый взгляд. Скорее – кропотливо.
Сначала пришлось закрепить множество нитей на двух рамках, установленных под углом. Потом Магда аккуратно протянула между ними челнок – катушку вытянутой формы с намотанной на нее поперечной нитью.
– Смотри! Она легла неровно. Нужно прижать к началу.
Она взялась за частый гребень, названный странным словом «бердо», и резко потянула его на себя. Нитка уложилась в идеально ровную линию.
– Понятно? Теперь давим на педаль.
Рамки, удерживающие горизонтальные нити, переместились. Нижняя ушла вверх, а вторая, наоборот, опустилась.
– Теперь возвращаем челнок? – промолвила Юлия.
– Правильно, девочка!
Еще один удар гребнем, вторая нитка вытянулась строго параллельно первой. Фрау Грюн отпустила педаль, рамки заняли прежнее положение. Она повторила манипуляции с десяток раз, потом уступила место русской.
Получилось с первого раза! Пусть и не так быстро, как у Магды и ее дочери.
– Я уяснила… Если нужна полоса другого цвета, то на челноке придется заменить нитку. Но, фрау Грюн, как выткать сложный узор?
– То, что я показала, деточка, это арифметика. Алгеброй тебе заниматься рано. Лучше расскажи… Как вам живется, в России?
Юлия отложила челнок.
Что рассказать? Россия – она очень разная.
– У меня в классе шесть барышень. Все они из богатых семей. Поначалу сложно было. Но теперь они добры ко мне. Девочки умные, смышленые. Просят большего, чем в программе. Мы учим не только заданное губернским управлением просвещения. Часто собираемся, я открываю книжку, читаю им любимые стихи.
– А мне почитаешь?
– Но я же не смогу перевести их на немецкий, фрау Магда! Нужно быть настоящим поэтом, чтобы подобрать рифму, размер, не потерять дух…
– Ты по-русски прочти.
Это было так неожиданно… и приятно.
– Хорошо! Слушайте.
Юлия Сергеевна заметила, что к станку приблизилась Роза, держащая за руку младшую сестренку. Второй рукой маленькая девочка сжимала тряпичную куклу с очень выразительно вышитым лицом. Несложно догадаться: сделана кукла на этой мансарде, умелыми и нежными руками мастериц. А лукавая улыбка на тряпичном личике – как отражение души Магды или Розы – той, кто вышивал ротик, носик, глазки…
Для них Юлия и постаралась:
- Я вас любил: любовь еще, быть может,
- В душе моей угасла не совсем;
- Но пусть она вас больше не тревожит;
- Я не хочу печалить вас ничем.
- Я вас любил безмолвно, безнадежно,
- То робостью, то ревностью томим;
- Я вас любил так искренно, так нежно,
- Как дай вам Бог любимой быть другим.
Она коротко пересказала смысл пушкинских слов по-немецки.
– Хоть бы наш Юрген в кого-нибудь влюбился! – вздохнула Магда. – Парню восемнадцать скоро, вымахал как фонарный столб, а девушек сторонится, стесняется.
– Не заметила в нем застенчивости, – улыбнулась Юлия. – Скорее – наоборот. Уверен в себе. В нем чувствуется сила.
– Наверно, это вы его вдохновили, фройляйн Джулия! – засмеялась Роза. – Он на вас так таращился!
– Да что вы говорите! Я для него – древняя старуха. Найдет себе моложе и красивее.
Немки наперебой принялись увещевать, что «старуха» – самое неподходящее слово для прекрасной русской. А потом маленькая София, после маминых уговоров, тоже выступила. Спела песенку, правда – не по сезону, новогоднюю. Немецкую народную, про елочку с зелеными иголочками:
- O Tannenbaum, o Tannenbaum,
- Wie grün sind deine Blätter!
Потом Юлию отправили спать. Темно, керосин нужно экономить, лампы придется тушить.
Несмотря на усталость и избыток впечатлений минувшего дня, она долго не могла уснуть.
Конечно, немцы – очень разные. Не все такие, как семья Грюн. Разнузданные бандиты на улицах Гамбурга им не чета, хотя они – еще не главное зло. Были и те, кто посылал громадные полчища захватывать российские и французские города, убивать… Но ведь в серых солдатских шинелях на передовой – такие же простые люди, как отец Юргена, Розы и Софии. Наверняка – достойный человек, коль вырастил таких детей.
И именно такие становятся первыми жертвами любой войны.
Найти бы Федора… И чтобы он был жив. Пусть главный мужчина в жизни Юлии Сергеевны изобретал смертоубийственное оружие, именно он мог предотвратить новую войну. Просто доказав кайзеру, что тот ее не выиграет.
Тогда Пауль Грюн вернется домой и больше не будет призван на фронт.
Над Гамбургом не появятся аэропланы с французскими бомбами.
Война – первопричина хаоса, творящегося сейчас на улицах Гамбурга. Прекратить ее, и немецкие рабочие сами постепенно наведут порядок.
Утром ее разбудил стук в дверь. Юлия натянула одеяло на подбородок.
– Да?
Вошел Юрген, вернул газетную вырезку.
– У меня неважные новости, фройляйн Джулия. Почти все бывшие остарбайтеры «Ганомага», получившие германское подданство, убыли по мобилизации – в рейхсвер или на учения фрайхора. Мне сообщили, что в Гамбурге остался только один из этих фольксдойче, некто Клаус Вольф, – он ткнул ногтем в фотографию мужчины, безумно похожего на Федора, и сердце Юлии Сергевны забилось подстреленной птицей. Но потом камнем ухнуло в пропасть. – Он ранен и лежит в госпитале Святого Мартина. Не уверен, пропустят ли к нему.
Сдержав бурю эмоций, Юлия спросила только:
– Но ведь можно спросить, узнать?
– Можно. Мой завод все равно закрыт из-за забастовки. А я не штрейкбрехер, – Юрген вдруг нагнулся, его глаза оказались на одном уровне с глазами барышни и очень близко. – На фотографии в газете – тот, кого вы искали?
– Не знаю… Очень хочу надеяться. И чтоб он поправился!
– Из-за него вы приехали в объятый мятежом Гамбург? Хотелось бы, чтобы когда-нибудь нашлась женщина, готовая ради меня на такой поступок. Я выйду, вы оденетесь. Выпьем чаю и пойдем в госпиталь, – в дверях он добавил: – Я искренне завидую этому Вольфу. Хоть зачем-то при первой встрече вы назвали его Гансом.
Глава 5
Полицаи всех стран и народов в чем-то похожи. Этот представился шефом криминалполицай южного округа Гамбурга Хайнцом Айзенманном. Он отличался, по мнению Федора, наглостью, чрезмерной даже для фараона. Наглым был даже его бесформенный мясистый нос с вывернутыми ноздрями, смотревшими на собеседника как еще одна пара глаз, когда Айзенманн откидывал голову назад.
– Вижу, разговор у нас не получается, герр Вольф, – прогнусавил полицай. – Я вынужден повторить вопрос. С какой целью вы прибыли в Рейх?
– Точно – не с целью быть подстреленным на темной улице Гамбурга. Как там дела с розыском напавшего на меня преступника?
Они разговаривали в прозекторской. Госпиталь был переполнен пострадавшими в уличных беспорядках. Федор как легкораненый получил матрац на полу в коридоре – койки для него не нашлось. Ранение действительно было не тяжелым. Пуля задела бок, пройдя между локтем и ребрами. Но пока патруль помог добраться в больницу, вытекло много крови. Перевязки ждал еще часа четыре! Лекари с ног сбивались, толком даже не сортировали прибывших. Если бы обработали рану быстро, удалив волокна ткани и продезинфицировав, госпиталь стоило бы покинуть сразу, как наложили швы. А так к потере крови прибавилось воспаление.
На следующий день прибыл ушлый Айзенман и, добившись уединения с Федором, принялся выворачивать из него душу. О поисках стрелка носатый даже не помышлял.
– Бросьте, Вольф! Под описанные вами приметы – худой, невысокого роста, темноволосый, с хромотой на правую ногу – подойдет половина мужчин Гамбурга. Тем более, лица не запомнили. Вас не убили – радуйтесь! А пока давайте еще раз пройдемся по вашей истории.
Когда Федор повторил, чтобы отцепиться, и дошел до момента покушения, Айзенман уточнил:
– Вы говорили, что человек с пистолетом что-то вам сказал?
– Не говорил. Но, похоже, вы осведомлены лучше меня. В том числе, что у преступника был пистолет, а не револьвер.
– Тут я ни в чем не могу быть уверен, – парировал инспектор. – Пуля прошла навылет – не определить, из какого оружия стреляли. Что же касается слов, то редко кого убивают просто так, словно собаку. Говорят «жизнь или кошелек». А если кто-то хотел прикончить именно вас, непременно скажет: умри, Клаус!
– Он назвал другое имя.
– Какое же?
Федор мог прервать диалог в любой миг, сославшись на слабость и температуру. Но полицейский наверняка знал что-то важное. Пришлось продолжить неприятную и опасную игру.
– Он назвал русскую фамилию «Кошкин». Так, будто бы окликнул меня.
– Он принял вас за Кошкина?
– Я не знаю. И тем более, не знаю, кто этот Кошкин.
Айзенманн изобразил веселье.
– Ну же, Клаус! Кошкин – главный герой войны с Рейхом у русских. Не придуривайтесь. Каждый нужник в Петрограде был обклеен плакатами после его героической гибели. Князь, Осененный!
– Ничем не могу помочь, герр инспектор. В день моего первого и последнего вылета на аэроплане ничего подобного в русских сортирах я не замечал.
– Возможно. Потому что он объявлен погибшим под Ригой ровно в тот день, когда наши отступающие войска подобрали вас точно в том же месте, – Айзенманн приблизился вплотную и положил пятерню на плечо допрашиваемого. – Я не верю в совпадение! Признайтесь, наконец. Вы – Кошкин?
– Да! Признаюсь. А теперь быстро принесите русскому князю коньяку и сигару. Не то проткну ледяной иглой. Или какие там таланты у вашего Кошкина?
Федор стряхнул его руку с плеча.
Полицейский зашипел как кобра, распустившая капюшон. Решился бы он ударить раненого – неизвестно, потому что открылась дверь, и санитар с мятым лицом потребовал срочно освободить прозекторскую.
– Мы еще вернемся к этому разговору, Вольф!
– Добавляйте тогда «ваша светлость». Или «ваше сиятельство». Не знаю, как у русских, – бросил Федор вслед.
– Потрясающе! – оценил Друг. – Знаешь, я тобой горжусь. Нет, правда. Когда познакомились, ты едва пару слов мог связать. Перед начальством робел. А сейчас отбрил хама-фараона так, что я аплодирую.
– Не верит он, что я – князь. Но полон каких-то других подозрений. Откуда этот гад на мою голову взялся? Теперь под наблюдением…
– Работаем с тем, что есть. Предъявить ему тебе нечего. Но то, что выстрел был провокацией – практически уже нет сомнений.
– Если он не соврал, и моя физиономия действительно массово расклеена в России, запросто мог кто-то опознать.
– Не унывай! – успокоил Друг. – Такое, наверно, рано или поздно должно было случиться. Доберемся до денег – подрихтуем физиономию. Клаус Вольф исчезнет. Выше нос, ежик резиновый с дырочкой в правом боку!
– Кто-о-о?!
– Песенка такая была в моей реальности. Забей. Лучше иди, приляг, а то на наш матрац кого-то другого поселят.
Федор двинул по коридору. Естественно, на нем не было ни больничной пижамы, ни шлепанцев. Пальто с дырками от пули он скрутил и сунул под матрац, к голове, чтоб выше лежалось: продавленная подушка для этого не годилась. Так и остался в башмаках, рабочей блузе, штанах, пропитанных запахом жженого металла. Совсем не пара элегантной фройляйн, прошествовавшей вперед в сопровождении светловолосого парня кавалергардского телосложения.
– Куда прешь! – донеслось снизу.
От неожиданности увиденного Федор едва не наступил на матрац другого больного, а может быть – и на самого пациента. Впереди шагала и крутила головой Соколова! Его бывшая и единственная любовь, сбежавшая с блестящим питерским офицером-подонком.
Того офицера, вздумавшего разорить, совратить и бросить девушку, Федор убил на дуэли. Ну, а дальше? Разбитый кувшин не склеить…
Но что забыла здесь Юлия Сергеевна? Среди запаха крови, карболки и разложения? В охваченном восстанием городе?
С ним у нее нет и не может быть ничего общего, это ясно. Значит – просто невероятное, дикое совпадение.
Чтобы не создавать нелепую ситуацию наподобие той, что возникла в Исаакиевском соборе, он развернулся, намереваясь удрать в дальний конец больничного коридора, но услышал молодой мужской голос:
– Герр Вольф! Мы вас разыскиваем.
Федор обернулся. Повернулась и девушка. Да, это была она – Юлия Сергеевна Соколова. И судя по тому, как округлились, а потом наполнились слезами ее глаза, он понял – бывшая невеста приехала именно к нему. В этот ад.
Осталось порадоваться тому, что скотина Айзенманн уже свалил и не был свидетелем их встречи. Хоть она и не предполагала сердечных объятий.
– Слушаю вас? Чем могу быть полезен?
Высокий учтиво спросил:
– Вы ранены, герр Вольф? Как себя чувствуете?
– Да. Подстрелил один мизерабль. Рана неглубока, но воспалилась. Ожидать здесь соответствующего ухода не могу. Госпиталь переполнен.
При слове «мизерабль» у Юлии дрогнули ресницы, длинные и пушистые. «Мизераблями» Федор назвал напавших на нее негодяев в глухом тульском переулке… Это он!
Слезы на ее глазах моментально высохли.
– Вам нельзя более тут оставаться, герр Клаус! – выпалила Юлия. – Я увезу вас и оплачу лечение у хорошего врача.
– Буду весьма признателен, фройляйн, – согласился Федор. – Я снимаю комнату неподалеку. Но без помощи туда не дойду.
Блондин решил проблему непритязательно и кардинально: угнал инвалидное кресло от подъезда госпиталя. Усадив Федора на брезентовое сиденье, покатил по мостовой. На булыжниках трясло. Толчки отдавались болью в боку, и Друг, чувствовавший то же самое, больше не шутил про резинового ежика. Только спросил:
– Может, ну ее, гребаную конспирацию? Включай магию и лечись!
– Мы не знаем, что за перец с Соколовой. Вдруг это продолжение провокации Айзенманна? Терпим, пока терпится.
Когда раненый был сдан на руки фрау Марте, молодой человек – его звали Юрген – замешкался.
– Фройляйн… Герр Клаус! Хороший лекарь стоит дорого. Не менее пятидесяти марок за визит. А еще корпия, бинты, лекарства.
– Заплачу больше, – уверила Соколова. – С вашего позволения, фрау Марта, я останусь до прихода врача. Юрген! Право… Мне так неловко просить вас еще об одной услуге. Вы же наверняка знаете медиков, которым можно доверять.
– В квартале отсюда находится частный кабинет доктора Иссака Голдмана, – подсказала Марта. – Еврея.
– Я без предрассудков, – вмешался Федор. – Лишь бы понимал в своем деле. Юрген! Буду помнить ваши доброту и участие.
– Знаю Голдмана, – хмыкнул юноша. – Жулик еще тот – пациентов обдирает догола. Правда, лечит хорошо. Ладно, позову.
Он хлопнул дверью. Башмаки загремели по лестнице. Марта тоже вышла, Юлия осталась с Федором наедине.
Он лежал на нижней койке и улыбался бледными губами, откровенно любуясь барышней. Несмотря на усталость от долгого пути в Германию и пережитые волнения, выглядела она потрясающе. Юлия сняла шляпку с шелковой лентой – синей, под цвет глаз. Из прически выбился шаловливый темно-русый локон. Затем, не сказав ни слова, начала раздеваться. Расстегнула платье, приспустив его с плеч, потом начала расшнуровывать корсет.
– Фройляйн Юлия! Боюсь, я не в состоянии оценить ваш жест.
А у самого дыхание перехватило… Нос, всего час назад угнетаемый больничной дезинфекцией, вдруг ощутил запах свежего женского тела!
Она ответила по-русски, шепотом.
– Федя… Тише. У меня деньги под исподним. Не могла же носить их в сумке. А ты что подумал?
Смеяться было больно. Тем более – он понимал. Юля могла попросить отвернуться или вышла бы в уборную. Но она не захотела. Упрекать ее за эту интимную пантомиму? Нет!
Она извлекла из недр белья три сотенные бумажки. Застегнулась. Одну вложила в карман Федора.
– Не надо, – попытался отказаться Кошкин-Вольф. – Я скопил немного.
– Перестань! – фыркнула она. – У меня с собой двадцать тысяч марок. Поменяла сбережения в Петербурге. Хватит нам на первое время. Нужно уезжать отсюда – в тебя начали стрелять. Кстати, почему попали? Твой Зеркальный Щит не действует?
Вместо ответа он вытащил из кармана подаренную купюру. Она взлетела с ладони и закружилась по комнате, выписывая затейливые виражи. Потом вернулась.
– Я не мог раскрыться. Тот тип перегородил мне дорогу. Окликнул по-русски с акцентом: Кошкин! Потом неторопливо достал маленький «Браунинг», прицелился и выстрелил.
– А ты?
Они разговаривали как близкие люди, расставшиеся буквально вчера. Говорить «вы», «не соизволите ли, сударыня» и тому подобное обоим казалось нарочитым и совершенно неуместным.
– Что я? Зеркальный Щит его убил бы, а меня раскрыл. Я лишь чуток поправил ему ствол: скотина целилась в живот.
– И он ушел?
– Когда я упал, он наклонился надо мной. Поглазел и удалился. Если бы решил стрелять вторично, даже Щит бы не включал – отшвырнул кинетикой.
– Кто он? Ты его не знаешь?
– Видел в первый раз. Не части так, Юлия! Мучаешь меня вопросами, словно полицай, ушедший прямо перед вашим появлением. Лучше расскажи, как жила в эти годы?
Соколова уютно расположилась на краешке кровати.
– Спокойно, упорядоченно, скучно, – начала, вздохнув. – Преподавала в институте благородных девиц, потом – в гимназии для особо благородных. Один только раз выехала в Петербург, и в Исаакиевском…
– Я там чуть бегом не ускакал.
– Я тебя так напугала? Чем же?
– Я тогда скрывался от агентов Рейха. Внешность изменил, оделся победнее. Не хотел привлечь к тебе внимание. С этих мизераблей стало бы схватить тебя, пытать. Этого мне только не хватало!
– Выглядел забавно, – улыбнулась Юлия. – Я едва узнала.
– Но зато сейчас – как император, – хмыкнул Федор. – Эти маскарады жутко надоели. Было время… – он вздохнул. – Много дал бы, чтоб вернуть былое в Туле, когда я работал на заводе.
– Не получится, – вздохнула Юлия. – Ты сейчас герой России. Про твой подвиг рассказывают детям в школах и гимназиях. Патриарх готовится начать процесс канонизации князя Кошкина-Юсупова. Так что будешь ты святой.
– Посмотрел бы на свою икону, – улыбнулся Федор. – Хотя мне лучше оставаться Вольфом. Стоит объявиться князю – и германская разведка сядет на закорки.
– Знаю, что им интересно, – согласилась Юлия. – Пулеметы и гранаты, а еще радиотелеграфические станции – все, что изобрел. Ничего не упустила?
– Есть такое. Например, морские пушки на железнодорожных платформах. Моторы для аэропланов. Бомбометы. И еще по мелочи.
– Вот! – она порывисто склонилась к собеседнику. – После вести о твоей гибели Дума с императором провозгласили князя Юсупова-Кошкина национальным героем России. На каждой тумбе с афишами висела листовка с твоим портретом и перечислением заслуг перед Отечеством.
– Полицай не соврал, – шепнул Друг.
– Теперь ясно, кто в меня стрелял, – догадался Федор. – Немец, попавший в плен под Ригой, видевший листовку с моей физиономией, вздумал отомстить. Я не прав: выдавать себя за Клауса Вольфа далее опасно. Узнала ты, узнал и стрелок… Кто следующий?
Она нежно провела пальцем по его запястью.
– Что намерен предпринять?
– До сего момента я не знал, что в Гамбурге появишься ты, да еще с двадцатью тысячами.
– Считай, что даю их взаймы, – улыбнулась Юлия. – Получишь причитающееся тебе в России и во Франции – вернешь с процентами. Тебя перевяжет доктор, и мы отправимся в Берлин к русскому консулу.
– Нет.
– Почему?
– Да по той же причине, по которой вынужден был таиться в Питере. Если германская разведка вдруг узнает, что я жив, мне придется вновь скрываться.
– Ты уверен, что нужен им до сих пор? У нас, вроде, перемирие.
– А вот мир не заключили. Полагаю, немцы не отстанут от меня, но причины я не знаю. Что им нужно от Юсупова? Образцы вооружений? Что ж, возможно, хотя, думаю, не только. Здесь в почете магия, а у меня есть Зеркальный Щит. Но его я приобрел случайно, дар не передать… Нет, не знаю, – повторил он. – Пока я жил в Германии, придумал лишь единственный способ остановить Вильгельма. Только ты не удивляйся. Изнутри разрушить кайзеровскую империю.
Юлия прикрыла ротик пальцами. И в ее глазах читалось: не последствия ли это горячки от ранения? Ничего более безумного она не слышала!
Их разговор прервали. Доктор Голдман ввалился в комнату без стука, но зато с громким сопением. И немедленно принялся командовать.
– Так-с. Хозяйка! Мне нужен таз горячей воды. Кипятка. Вас, фройляйн, прошу покинуть комнату больного.
– Может, чем могу помочь?
– Таки я вас умоляю! Не делайте мне нервы – удалитесь.
Друг развеселился.
– Знаешь, Федя, я слыхал подобные слова лишь от одесситов, да еще по-русски… Колоритный малый. Но хоть что-то знает про гигиену, коль потребовал горячую воду.
Следующие слова в одесском духе Голдман выдал, когда снял повязку и осмотрел простреленный бок.
– Ой вей! Таки ви сами себе зашивали дырки? Или нашли какого-то шлимазла?
Друг больше не смеялся. Стало очень больно.
– В госпитале Святого Мартина, – подал голос Юрген из коридора.
– Таки все ясно. Я бы не доверил им врачевать мою домашнюю моль. Слушайте! Раневой канал чистый. Слава Богу, пусть бы вашему, тряпки хоть достали. Но я вижу заражение, хоть оно невелико. Заложу лекарство, завтра вновь приду, проверю. Только при условии, что за каждый мой визит вы дадите доктору сто двадцать марок. У вас есть такие деньги или обидите бедного еврея?
– Получающего за один визит половину зарплаты квалифицированного станочника? – Федор приподнялся с постели. – Вот, возьмите сотню марок. Остальное – в следующий визит. Приходите.
На какое-то время раненого оставили в одиночестве. Паровозное сопение эскулапа и стук сапог Юргена стихли за входной дверью. Молодой человек вызвался вернуть инвалидную коляску к больнице – наверняка, там она нужна.
– Фрау Марта? – прошелестел женский голос в дальней части квартиры. – Нет ли у вас еще одной свободной комнаты? Или хотя бы койки? Плачу восемьдесят марок в месяц.
– Восемьдесят?! Оставайтесь, фройляйн! Я вам уступлю свою спальню, переберусь к мальчикам. Все поместимся, будьте покойны.
Наверно, Варвара Оболенская в данной ситуации была бы полезнее, думал Федор. Она – еще более деловая, хваткая. Завод по выпуску вакуумных аудионов, если верить газетам, стал самым крупным и успешным в мире – благодаря ей и Бонч-Бруевичу. Но поехала бы она в революционный Гамбург без уверенности, что получит желаемое? Положа руку на сердце или простреленный бок – там биение сердца ощущалось сильнее, чем в грудной клетке, – Федор сказал бы: присутствие Юлии ему приятнее. Пусть они и расстались скверно.
– Анекдот вспомнил. В моей реальности в декабре 1825 года была попытка революции в России. Царь пострелял бунтовщиков, часть отправил в ссылку и на каторгу в Сибирь. Жены декабристов поскучали в Петербурге и решили ехать за мужьями. За компанию.
– Ну, и в чем же анекдот?
– Да сидят как-то двое ссыльных во глубине сибирских руд, играют в картишки, винишко потягивают, местных блядушек щупают, и маркиз говорит графу: вот, ваше сиятельство, приедут жены и испортят нам всю каторгу.
– Смешно. Но не очень.
– Зато у нас аналогичная ситуация. Соколова нашла нас без спросу. Плохо? Или нет? Колись, Федя – рад, что она приехала? Я не про двадцать тысяч.
– Ты же сам чувствуешь!
– Ну что же… в одну реку можно войти бессчетное число раз. Если вода теплая и без пиявок.
Генрих Мюллер был удручен. Так выглядит пес, которому хозяин обещал мясную косточку за послушание, но обманул в последний момент.
– Клаус Вольф покинул больницу восемь дней назад. Позавчера съехал со съемной квартиры. В цеху не появлялся. Квартирная хозяйка говорит: к нему приехала нарядная стройная фройляйн из России. Они скрылись вместе.
– До того, как фрайхор и пехота перекрыли выезды из Гамбурга. Успели… Шайзе!
– Появление русской укрепляет версию, что Вольф – засланный агент, герр инспектор.
Айземанн кивнул. Оба стояли в оцеплении около Рипербан, где собирался очередной митинг левых. В город, пользуясь мандатом депутата Рейхстага, проскользнула Клара Цеткин. Полиция получила приказ быть готовой митинг разогнать, да вот только вряд ли выйдет, если соберется тысяч десять. Сил не хватит. Патрулирование улиц, постоянная переброска на усиление из района в район в попытке заткнуть десятки дыр одной затычкой – все это мешало вести нормальную полицейскую работу.
Налетел не по-весеннему холодный ветер, затем хлынул дождь. Социалисты имели возможность отсрочить или вообще перенести митинг. Полицейские же стояли словно истуканы, выполняя приказ. Они ощущали, как струи воды, стекающие по каске и падающие на плечи, пропитали влагой шинель. Промокли ноги. О приказе поколотить левых мечтали вслух – чтоб подвигаться и согреться.
– Объявите Вольфа в розыск, герр инспектор? – спросил Мюллер, удерживая зубы, чтоб не колотились – он основательно промерз.
– Основание? Подтверждений, что Вольф – русский агент, не получили. Есть одни догадки. Заявить, что мы держали в руках ожившего Юсупова-Кошкина, внедрившегося в повстанческое движение, а после упустили… Это – крах карьеры, Генрих. У вас – даже не начавшейся. Тем более что у Вольфа нет Зеркального Щита.
– Полностью согласен, герр инспектор.
– Но вот если он еще появится в Гамбурге… Хватаем по любому поводу или без оного. Бьем до посинения, пока он не расколется.
Несмотря на бодрый тон, Айзенманн чувствовал себя обведенным вокруг пальца. Только почему – не мог сказать.
Глава 6
Они взяли билеты в двухместное купе до Берна.
Пока Федор выздоравливал, Юлия купила ему приличную одежду. Магда помогла подогнать ее по фигуре.
Переодетый бывший пролетарий приобрел вполне респектабельный вид. Но все портила недельная щетина. На российских плакатах о герое-князе Федор красовался с бритым лицом. Естественно, имело смысл отпустить заросли. Пока они не обретут достаточную длину, Федор походил на бродягу, укравшего костюм бюргера.
Для пущей конспирации нос украсило пенсне на веревочке. Разумеется – с плоскими стеклами. Зрение Федора не подводило, в отличие от Соколовой. Та несколько смущалась, что плохо видит вывески вдали. Потому достала из сумки очки. В них она чрезвычайно соответствовала строгому облику классной дамы, заодно стала выглядеть внушительно.
Юрген Грюн провожал их. Федор видел: здоровенный немецкий парень, в душе еще юноша, тайно и по-детски влюблен в Соколову. Ревнует и старается не выдавать свои чувства, заметные, наверное, даже кондукторам.
– Переживет! – прокомментировала Юлия, когда они устроились в вагоне. – Поверишь ли, гимназисты из мужских классов не реже чем раз в три-четыре месяца, хотя бы один, слали мне признания и клялись «вот вырасту…». Я почему-то пользуюсь успехом у юнцов.
Федор сразу лег. Рана больше не дергала, воспаление улеглось, но при движении давала себя знать. Оставалось только благодарить еврейского врача, действительно доку в своем деле – разумеется, с учетом уровня развития медицины минус сто лет от известной Другу. Сам Федор тоже кое-что умел, в поезде наверстает… Пока же с любопытством спросил:
– Кавалеры постарше куда смотрели?
– Ах, брось. Губернские звезды… Веришь ли, история с княжеским сынком расстроила мою личную жизнь. Каждого встреченного мужчину я подозревала в низких мыслях. А когда еще сравнивала с тобой, у бедняг не оставалось шансов. Но какие люди сватались! Товарищ губернского обер-полицмейстера, затем инспектор губернских реальных училищ. Целый коллежский асессор, это тебе не шутки! – она глянула в зеркало и поправила локон, чуть сместившийся с положенного места при снятии шляпки с вуалеткой. – Купцы, как водится, намекали – иди ко мне в содержанки. Репутация-то порченая, с княжеским сыном путалась. Хоть ты справку от врача предъявляй о непорочности. И ведь не поверят – скажут, что купила. Таковы губернские нравы, – она повернулась к Федору. – Зато ты времени не терял даром. Нет-нет, ни в чем не упрекаю. Ты – свободный мужчина. Во Франции был с Варварой Оболенской. Что хихикаешь?
– Потому что громко смеяться больно. Мужчине сложно предъявить справку, даже если купить ее у врача. Не касался я Оболенской – ни пальцем, ни другим… гм… пальцем. Не скрою, что возможность была. Только ты пойми: она – дочь московского князя, Осененного. Тронул – женись. Что до бурного французского разврата, то разочарую. Это, может быть, в России баре шалят без страха и без удержу: поймал крестьянку и задрал подол. Дал потом ей рупь, чтоб не обижалась. Здесь у каждой второй – сифилис. Болезнь страшная, подлая, разрушает организм и легко передается в постели. Так что, как бы ни свербело, лучше избегать случайных связей.
Федор не лукавил. Дар самоисцеления у него имелся, только очень слабый. Справится ли с инфекцией – под большим вопросом. Лучше не испытывать судьбу. Эпизод со спасенной авиаторшей и ее бурным выражением благодарности Федор предпочел не афишировать. Хоть по поводу болезни волновался и тщательно осматривал себя несколько недель. Бог миловал.
– Я переживу это разочарование, – милостиво согласилась Соколова. – Федя! Давай мы объяснимся и не будем больше к этому возвращаться. Я поступила дурно, глупо. Помогла тебе сейчас, потому что обязана. Но ты волен поступать, как знаешь. Только если…
Просвистел свисток, заглушив ее слова. Лязгнула сцепка, вагон тронулся. За окном мелькнули клубы пара, наполовину скрывшие мрачный гамбургский вокзал. Поезд начал ускоряться.
– Многое зависит от того, насколько ты готова участвовать в моих дальнейших авантюрах, – ответил Юлии Федор. – Но они опасны. Не уверен, что имею право вовлекать тебя. Сам же отказаться не могу, я не волен в этом – у меня есть обязательства перед павшими станичниками. Увели врагов от схрона, где я находился, и погибли все до единого. Не придешь же к ним, не скажешь: дескать, передумал. Не попросишь: вы снимите долг с души. Хотя я считаю, что они нас видят и, возможно, одобряют то, что я задумал. Жизнь сложней, чем представляется, в том числе загробная.
– Что мне нужно сделать?
Ее голос был спокоен. Деловит. И опасность, как казалось, Юлию не испугала.
– Ничего не нужно. Ты мне не должна. Если выполнишь мою просьбу, то по доброй воле.
Юлия качнула головой.
– Мастеровым ты был проще и словами не играл. Что за просьба?
– В Берне мы расстанемся. Ты отправишься в Париж. Там найдешь российского военного агента и французского начальника полиции безопасности – жандармерии по-нашему. Передашь им письма от меня. Далее по инструкции.
– Расстаемся ненадолго?
– Полагаю, да. Обязательно увидимся и, возможно, даже скоро. Способ связи оговорим. Мы – агенты пролетарской революции, и должны вести себя как шпионы.
– Федя! Ты несносен со своими шутками. Ну какой шпион ходит к начальнику жандармерии?
– Нетривиальная задача решается необычными методами.
– Например?
– Вспомни фрау Марту, Магду и подумай о мужьях приличных женщин. Юргене, который нам помог. Они все хорошие, достойные люди и заслуживают лучшей участи. Но им придется плохо, если пустить события на самотек. России – тоже. Вильгельм не остановится, начнет реванш. Французов в Бельгии германцы потеснили. Добьют – возьмутся за Россию. В Германии нет артели мощных магов, их цвет погиб под Ригой. Но развивается военная промышленность. Пушки, бронепоезда, бронеавтомобили и аэропланы. Их выпускают много! Немцы дисциплинированны и трудолюбивы. Социалистов, профсоюзных деятелей империя прижмет. Юргену и ему подобным скажут: Франция начала боевые действия, а русские жестоко нас побили. Кровь требует отмщения! Германия – превыше всего! Начнется новая война – против всей Европы. Кайзер и его приспешники сидят в Берлине. А Юргена с товарищами отправят убивать и умирать.
Она попыталась представить нарисованную картину и упрямо тряхнула головой.
– Твои предположения страшны… но неправдоподобны. Германия и ее союзники хлебнули полной мерой. Вильгельм оставит Бельгию, тем все и кончится.
– Ты ошибаешься. Я знаю точно.
– Откуда?!
– Я же говорил. Мир сложней, чем кажется. Порою знания из будущего проникают сквозь столетие. Как смог простой мастеровой, не занимавшийся оружием, без образования, вдруг взять и сделать пулемет намного лучше, чем у германцев, французов, англичан и американцев?
– Ты меня разыгрываешь!
– Поиграем дальше. Автомат под пистолетный патрон, не имеющий аналогов. Ручная граната. Железнодорожный эшелон с 305-миллиметровыми морскими пушками на платформах. Сестрорецкому заводу подарил идею автоматической скорострельной винтовки под японский патрон «Арисака». Бомбомет. Хватит? Сама же перечислила мои, так скажем, подвиги, достойные для возведения в святые. По-твоему, я – самый гениальный изобретатель в истории человечества?
– Аудионы тоже взял из будущего?
– Не буду врать. Их здесь изобрели, но сочли нестоящей забавой. Я лишь помог оценить и применить новинку. Поскольку знаю, что на них построят связь, которая будет использоваться десятилетиями.
– С ума сойти…
– Помнишь встречу в Питере? Тогда я дорабатывал мотор с аэроплана, пригнанного из Франции. Этот двигатель сочли неперспективным… Не буду утомлять тебя деталями. Просто знай: подобные моторы будут актуальны и спустя полвека, даже век – на аэропланах и в авто. Я лишь доделал систему смазки газораспределительного механизма.
Юлия прижала пальцы к вискам.
– Ничего не понимаю в газораспределительных механизмах… Это все ужасно странно! Ты вправду видишь будущее?
– Прямо как тебя сейчас – не вижу. Ко мне приходят озарения – я получаю сведения о том, что здесь пока не известно. И в том числе – о страшной перспективе будущей войны.
– Если бы я не знала, что у тебя больше нет температуры, то решила, что ты бредишь…
– Вот именно. В бреду узнаю технические секреты, на полвека опережающие современность. Хороший бред, тебе не кажется?
Соколова замолчала, переваривая услышанное. Потом поднялась и пересела на полку к Федору. Через ткань одежды он почувствовал теплоту ее бедра.
– Скажи… Про нас с тобой ты тоже знаешь?
– Только то, что наше будущее мы построим сами, – он будто невзначай положил пальцы на кисть ее руки. – Каждый наш поступок, каждый жест его меняет. И я хочу построить лучший мир. А в нем, глядишь, и нам найдется место.
Она не убрала руку, сказала:
– В Париж поеду.
Потом поправила очки и присовокупила:
– Заодно куплю себе что-нибудь модное.
Коридоры дворца Юсуповых в Москве разносили гулкое эхо. К высочайшему визиту лейб-гвардия удалила посторонних из здания. У постели князя остался лишь лекарь со значком Осененного-целителя, лакей, да еще несколько человек ждали сигнала на кухне: вдруг хозяин или его венценосный гость изволят приказать что-либо принести.
