Геометрия скорби. Размышления о математике, об утрате близких и о жизни бесплатное чтение
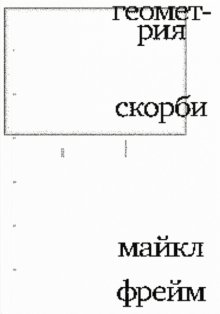
Майкл Фрейм
Геометрия скорби. Размышления о математике, об утрате близких и о жизни
Michael Frame
Geometry of Grief
Reflections on Mathematics, Loss, and Life
The University of Chicago Press
Издательство выражает благодарность Вадиму Шурыгину и Эдуарду Лернеру за помощь в подготовке настоящего издания.
Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
© 2021 by Michael Frame. All rights reserved.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Пролог
Папа, это так страшно.
– Видишь самую яркую звездочку на небе?
– За деревом, посредине? Вон ту, Рути?
– Точно. Это Венера. Планета, огромный мир, почти как наша Земля. Она всегда окутана облаками. Никто еще не видел поверхности Венеры.
– Если там всегда облачно, значит, на Венере холодно.
– Не обязательно. Венера ближе к Солнцу, чем Земля. Возможно, облака удерживают тепло, и там очень жарко.
– Понятно. Сегодня небо ясное, так что нам прохладнее, чем в пасмурную погоду.
– Верно, Майки. Ну что, пойдем в дом?
– А другие планеты видно на небе?
– Сегодня не видно.
– А можно нам еще немного посмотреть на светлячков?
– Конечно.
Это был один из вечеров на исходе лета 1958 года. В багрянце неба, плавно переходящем в густо-синий, проглядывали редкие звезды, и среди них выделялась яркой точкой Венера. Мы ужинали вместе с моей бабушкой и тетей Рути, папиной сестрой, в их доме в Саут-Чарлстоне, штат Западная Виргиния. Мне было семь, моей сестре Линде – четыре, а брату Стиву – два. На задний двор вышли только мы с Рути. Остальные, как это называла мама, «вели светскую беседу» на крыльце. Мы жили в Сент-Олбансе, в каких-то восьми милях отсюда, и часто навещали бабушку и тетю Рути. Я не понимал, зачем взрослым вести светские беседы. Что там можно обсуждать? Они просто сплетничали о соседях и родственниках.
Мы с Рути были не такими. В тот день после полудня мы сидели в огороде и завороженно наблюдали за целеустремленным движением муравьев и беспорядочными прыжками кузнечиков. Пытаясь объяснить их поведение, я выдумывал замысловатые истории из мира природы; Рути предлагала гораздо более простые альтернативы моим рассказам. Она никогда не упоминала «бритву Оккама», но именно Рути впервые показала мне красоту простых решений. А также действенность принципа экономии: машина Голдберга – сложный агрегат, занимающий целую комнату и выполняющий какую-нибудь простую задачу вроде разбивания яйца, – слишком хитроумно устроена и часто допускает ошибки. Мои запутанные измышления, вероятно, были неплохим упражнением для ума, но неужели я думал, будто природа настолько глупа? Многие годы спустя я понял, что именно Рути наставила меня на путь науки. Любопытство, как она считала, – важнейшее свойство разума, а детское любопытство, толкающее на логические ухищрения маленького человека, который только открывает для себя этот огромный мир в его разнообразных аспектах и динамике, и есть самое прекрасное, что может увидеть взрослый. Родители, бабушки, дедушки, другие дяди и тети тоже поощряли мое любопытство, но Рути по-настоящему взращивала его, добавляя толику скептицизма, и всегда подыскивала какую-нибудь книгу по интересующей меня теме. Именно Рути вывела меня на тот путь, что спустя шестьдесят лет приведет к написанию этой истории.
Когда в начальной школе меня спрашивали, кем я хочу быть, то, в отличие от своих одноклассников, желавших стать полицейскими, пожарными или лесничими (профессии астронавта в ту пору еще не существовало – да, я такой старый), я говорил, что стану физиком, математиком или астрономом. На самом деле, в этом возрасте каждый ребенок – натуралист. Летним утром окрестные леса таили бездну удивительных открытий. Мое детское воодушевление не знало границ. Хотя родители были небогаты, их финансов хватало на детские творческие исследования. Чтобы измерять мощность термопары (это медный и стальной провода, скрученные вместе и преобразующие тепло в слабый электрический ток), отец моего одноклассника купил дорогой вольтамперметр. Я сделал гальванометр: две намагниченные иглы, воткнутые в прямоугольник из картона, подвешенный на нитке внутри проволочного кольца. Кто из нас радовался больше, когда его прибор показывал слабый ток?
Рути не помогала мне придумывать опыты – это делал папа, он разрешил мне устроить небольшую лабораторию в углу своей мастерской, – но именно Рути помогла мне осознать, что я могу ставить опыты и сам находить ответы на некоторые из своих вопросов.
Незадолго до моего одиннадцатилетия Рути заболела. У нее обнаружили лимфому Ходжкина – болезнь, излечимую в наши дни, но не в начале 1960-х. Ей прописали химиотерапию, кажется, мустаргеном, но она лишь промучилась на несколько месяцев дольше и умерла, когда мне не исполнилось и двенадцати. Я навещал Рути во время болезни, но почти ничем не мог ей помочь. Я стоял у ее кровати, положив свою маленькую ладонь на предплечье Рути, и пытался разговаривать с ней. И никак не мог найти нужные слова. После этих посещений, уже дома, мама обнимала меня и гладила по голове. Я понимал, что должен был больше разговаривать с Рути. Она столько сделала для меня, и сейчас я должен был отплатить ей тем же. Рути нуждалась в том, чтобы я говорил с ней, ведь я был ее любимчиком. Впоследствии я понял, что мама пыталась справиться с собственным горем. Она знала положение вещей гораздо лучше, чем я, она знала, что болезнь победит, а Рути проиграет это сражение. Папа сам заговорил со мной о болезни своей сестры. Он прямо так и сказал: Рути скоро умрет. Я был благодарен ему за честность. В том, что Рути уйдет или, что еще хуже, отправится к ангелам на небеса[1][2], не было ничего сверхъестественного. Ее жизнь должна закончиться, и совсем скоро.
– Это несправедливо. У нас с Рути еще столько дел впереди. Она обещала, что мы купим телескоп, будем смотреть на планеты. Я уже полгода откладываю карманные деньги. Это просто несправедливо.
– Сынок, жизнь несправедлива. Рути заболела не потому, что сделала что-то плохое. Она просто заболела. Иногда случается что-то хорошее, иногда – что-то плохое. Мы можем лишь постараться делать так, чтобы случалось больше хорошего и меньше плохого. Но происходящее очень часто от нас никак не зависит.
– Папа, это так страшно.
– Да, сын, страшно.
Той ночью я придумал план. Я буду много, много трудиться. Только учеба – никаких больше пряток-догонялок или глупых сказок для малышей. Я досрочно закончу школу, поступлю в колледж, потом в магистратуру, отучусь на медицинском факультете, стану ученым, найду лекарство от лимфомы Ходжкина, дам его Рути и спасу ее. В одной из версий моей фантазии я летел на вертолете из своей научной лаборатории в больницу к Рути. Мне страшно нравился придуманный план. Я расписал его маме и сказал, что попрошу Рути не волноваться и спасу ее. Я думал, мама обрадуется, но она очень расстроилась и сказала, что мне нельзя говорить об этом Рути.
– Но почему? Ты не хочешь, чтобы она знала, что всё будет хорошо?
– Майки, я не хочу, чтобы ты будил в ней надежду, – ложь, но приятная, сладкая ложь. – Как бы ты ни старался, ты не сможешь спасти Рути.
Умом я понял, что мама права. Я пошел в городскую библиотеку, нашел книгу по онкологии (до этого я спросил у мамы, как называется наука, изучающая рак) и отыскал в ней показатели выживаемости при лимфоме Ходжкина. Цифры оказались неутешительными. Но я не мог представить себе мир без Рути. Ведь впереди у нас были долгие годы, полные научных открытий. Да и как могла Рути оставить свою дорогую маму, Луверну Фрейм, добрейшую и милейшую из всех взрослых, которых я знал? Существует же какой-нибудь выход, и я обязательно его найду.
Но Рути скончалась. Папа был с ней в больнице и держал ее за руку, пока она умирала. Когда он вернулся домой, я всё прочел по его лицу. Он рассказал об этом маме, Линде и Стиву. Они заплакали, а я нет. Наконец мама сказала, что Рути была смертельно больна, что она не могла поправиться и что, к счастью, она уже отмучилась.
– Рути мучилась? – простонала Линда.
А потом они со Стивом начали бегать кругами с дикими воплями. Наконец они успокоились, продолжая тихо всхлипывать. Я и раньше знал, что Рути мучилась. Ожидая в больничном коридоре за дверью ее палаты, пока папа спросит, можно ли мне войти, я иногда слышал ее стоны. Она страдала, а теперь – нет. Неужели покой небытия лучше, чем почти непрекращающаяся боль? Неразрешимый вопрос для двенадцатилетнего человека. Неразрешимый и сейчас…
Папа не захотел, чтобы мы, дети, пошли на похороны. Мама с папой поехали туда, а мы остались с мамиными родителями, Берлом и Лидией Эрроувуд. В дедушкиной мастерской я нашел мешок с воздушными шариками. Дедушка был ювелиром и ремонтировал разные часы. Для изготовления некоторых сплавов дедушка пользовался газовой горелкой, поэтому в мастерской стоял баллон с газом. Я наполнил шарик газом, завязал его, вышел во двор перед домом, подальше от деревьев и выпустил свой шар в небо. Это был печальный символический жест: он являл собой все те опыты, которые мы планировали провести с Рути и которые теперь навсегда остались неосуществленными. Словно закрылась некая дверь.
И сам я закрылся от мира. Я уже ничем не мог помочь Рути, но, возможно, в будущем принесу пользу другим людям. Я весь ушел в книги и научные исследования. Родители уговаривали меня выйти и порезвиться на улице. Они говорили, что Линда со Стивом соскучились по мне, но вряд ли это было так. Всё лето они проводили на улице: просыпались на заре под пение соек и дроздов и целый день играли то в догонялки, то в прятки, пока в сумерках не зажигались блуждающие огоньки светлячков. Нет, я им был не нужен.
Теперь у меня появилась цель: я ничем не мог помочь Рути, но мог придумывать лекарства от болезней и спасать других людей. В двенадцатилетнем возрасте серьезно настроенный мальчик может проявлять недюжинную решимость, и я был готов идти до конца.
В том же году в учебнике алгебры мне попалась одна дополнительная задача. Чуть ли не все выходные я пробовал разные изощренные способы ее решения. Наконец у меня получилось, но как-то неуклюже, механистически, неизящно. Ответ сошелся, но я понимал, что автор имел в виду нечто другое. В понедельник после урока математики я подошел к учительнице. Она улыбнулась и сказала, что рада моей попытке решить задачу, а потом показала простое и красивое решение.
В тот момент весь мир для меня словно схлопнулся, исчез, и я почувствовал некий новый привкус печальной горечи. В решении использовались только известные мне способы, но мне даже не пришло в голову применить их таким образом. С того дня я начал подозревать, что недостаточно умен и не смогу стать хорошим ученым. Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию я вполне мог войти в ученую среду, но удовлетворит ли меня жизнь на вторых ролях? Выбор такой карьеры вполне мог привести к тому, что в конце своего жизненного пути (где я сейчас и нахожусь), оглядываясь назад, я увижу лишь долгие годы кропотливой работы с весьма редкими вкраплениями скромных озарений. Несомненно, это были бы восхитительные мгновения. Наслаждение от того, что ты хоть немного проник в архитектуру идей, само по себе щедрая награда. Но мне хотелось чего-то большего.
Была ли моя жизнь так уж непохожа на жизнь других людей? Бывает так, что возможности и интересы человека совпадают, его полностью устраивает его жизнь безо всяких сожалений и сомнений – такому можно лишь позавидовать. Но многих из нас одолевают мысли об упущенных возможностях. Некоторые решения приводят нас туда, откуда нет пути назад. Даже если мы сейчас изменим траекторию, остаток жизни пройдет не так, как если бы много лет назад мы сделали иной выбор. Нам больше недоступно то, что могло бы произойти, и мы испытываем горечь утраты.
Путь, который выбрал я, – то есть исследование некоторых математических структур, – открыл для меня новые горизонты скорби. Мне кажется, переживание утраты имеет сходные черты с занятием математикой; мы увидим, как одно перекликается с другим. Когда я бился над какой-либо математической задачей, это помогало мне разобраться со своей болью. Об этом моя книга.
В своем «Альманахе для сомневающихся» Этан Канин[3] пишет:
Вызывает ли смерть ту же горечь, что и мысль о страданиях, которые ждут ребенка в будущем? А грусть, которую навевает музыка? Это та же грусть, что приходит к нам в летних сумерках?.. И то и другое мы зовем скорбью…
Но как утолить боль, которую я испытываю о моем отце в последние несколько дней? Мы думаем, будто наша скорбь, подобно всем плоскостям, известным нам в этом мире, имеет границы. Но так ли это?[4]
Поскольку геометрия, с моей точки зрения, самая красивая часть математики и та часть, которую я знаю лучше всего, я в основном буду говорить о геометрии – о геометрии скорби. Она столь же отличается от «скорби геометрии» (это когда вы испытываете томительное желание вырваться с последнего урока, где учитель дотошно разбирает на доске в две колонки доказательство «по двум сторонам и углу между ними»), как слова известного блюза «If it weren’t for bad luck, I’d have no luck at all»[5] от арии «Nessun dorma» Пуччини. В этой книге мы рассмотрим, каким образом геометрия и скорбь раскрывают некоторые аспекты друг друга.
Мой проект был уже почти полностью оформлен еще до того, как я решил поинтересоваться, что на данную тему писали другие. В этой книге часто повторяется такая мысль: идея никогда не возникает на пустом месте. Если бы я воспринял чужие идеи прежде, чем обдумал собственный опыт переживания скорби, возможно, я не смог бы осмыслить свой опыт достаточно глубоко. Только после того, как я набросал общий план книги, я прочел основные работы по этой теме. Особенно полезными оказались эволюционные исследования психолога Джона Арчера «Природа скорби», антрополога Барбары Кинг «Как животные скорбят», а также врача и биолога-эволюциониста Рэндольфа Несси «Эволюционные основы для понимания скорби»[6]. Некоторые из моих идей схожи с научно доказанными, некоторые – отличаются, и порой существенно. На них я сконцентрируюсь отдельно.
Можно ли считать проявлением эгоизма то, что я отдал предпочтение собственным размышлениям, а не рассуждениям ученых, посвятивших исследованиям скорби многие годы? Вы можете не согласиться, но я отвечу «нет». В темные часы от полуночи до рассвета мы оказываемся наедине со своими мыслями. Именно в это время мы наиболее полно ощущаем нашу внутреннюю скорбь. Сперва надо разобраться в собственном опыте, и лишь затем сравнить его с уже существующими трудами. Чтобы моя книга была вам понятна, вам надо прежде заглянуть внутрь собственной скорби.
* * *
Несмотря на всё мое восхищение работами Арчера, Кинг, Несси и других ученых, я полагаю, что литература, кино и музыка позволяют более непосредственно и живо погрузиться во внутренний мир скорби. Эту идею разделяю не только я. Когда Александр Шенд[7] писал «Основы характера», где впервые систематически исследовал психологию скорби, у него было мало экспериментальных данных, так что примеры он брал из поэзии и литературы, из произведений писателей, которые внимательно и тонко относились к наблюдению за человеческой природой[8]. Арчер прибегает к литературным произведениям, чтобы, используя их мощь, ярче выразить эмоциональную остроту чувства, а также исследует, как скорбь проявляется в искусстве[9].
Жизненные истории дают нам более непосредственную, более подробную и развернутую картину. О взглядах Сартра на экзистенциализм я узнал гораздо больше из его трилогии «Дороги свободы», чем из серьезного философского труда «Бытие и ничто»[10]. В дальнейших главах я буду рассказывать много личных историй.
Чтобы понять, каким образом искусство интуитивно передает глубину таких переживаний, как любовь и скорбь, вспомните слова песни «My Skin» Натали Мерчант или ее проникновенный голос в «Beloved Wife». Вспомните печальные, но полные надежды слова «Dante’s Prayer» Лорины Маккеннитт. Вспомните захватывающий финал «Сочленения № 5» из оперы «Эйнштейн на пляже» Филипа Гласса. С музыкальной точки зрения другие части произведений Гласса более интересны, но у меня захватывает дух от наслаивающихся голосов инструментов и прозаичного монолога на их фоне. Музыка способна напрямую донести до нас всю глубину чувств[11].
Если вы смотрели прекрасный фильм Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», вспомните, как Ли Мубай умирает на руках Юй Шулень. Перед смертью он говорит ей такие слова: «Я и так напрасно потратил всю свою жизнь. И на пороге смерти я должен тебе сказать… Я всегда тебя любил. Я лучше буду призраком, бродящим рядом с тобой… как неприкаянная душа… чем поднимусь на небо без тебя. Благодаря твоей любви… я никогда не буду одинок».
Или вспомните концовку. Цзень прибывает в храм на горе Удан. Вместе со своим возлюбленным, разбойником Ло, она стоит на мосту над облаками и спрашивает его: «Ты помнишь легенду о юноше?» Когда-то Ло рассказал ей:
У нас есть легенда: Бог выполнит желание человека, осмелившегося прыгнуть с горы. Некогда родители одного юноши заболели, и он прыгнул. Он не умер. Он даже не пострадал. Он улетел далеко-далеко и не вернулся. Он знал, что его желание сбылось. Если веришь, сбудется. Старики говорят: «Сердце верит – желание сбудется».
Ло: «Сердце верит – желание сбудется». Цзень: «Загадай желание, Ло». Ло: «Вместе вернуться в пустыню». Цзень прыгает с моста и исчезает в облаках. Под прощальные звуки виолончели Йо Йо Ма[12] она летит сквозь облака. И становится понятно, что это не фильм про боевые искусства, а история о любви, утрате и скорби[13].
А может быть, вы смотрели «Клиент всегда мертв» – сериал из пяти сезонов о жизни семьи владельцев похоронного бюро в Лос-Анджелесе. Конечно, вы можете возразить, что я выбрал слишком очевидный пример: те, кто занимаются похоронным бизнесом, сталкиваются со скорбью ежедневно на работе. Однако в каждом эпизоде смерть и скорбь рассматриваются с определенной философской или психологической точки зрения. Меня особенно интересует финальный эпизод, где звучит песня «Breathe me» в исполнении Сии[14]. На наших глазах проходит жизнь и смерть главных героев, мы видим весь их жизненный путь, раскрываются разные грани скорби, она представляется как отзвук любви. Я хотел бы упомянуть и забавную (хотя на самом деле грустную) отсылку к данному эпизоду в «Симпсонах», в последней серии двадцать девятого сезона под названием «Лестница Фландерса».
Вспомните смерть Евгения Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети» и неизбывную скорбь его старых родителей, горюющих над могилой сына[15]. Евгений мог бы избежать смерти. Секундный промах – и в мире романа его смерть стала реальной, неотвратимой. В конце произведения Тургенев так описывает его могилу, расположенную на небольшом деревенском кладбище:
К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын…
Душераздирающая картина родительского горя. Но, зная весь контекст романа, мы еще глубже понимаем их отчаяние. Иногда мне кажется, что ощущение этой раздавленности в сочетании с простотой и обыденностью тургеневского стиля раскрывают самую суть великой красоты, таящейся в глубине скорби.
Истории из жизни не могут передать чувства другого человека, но они помогают нам представить, как бы мы чувствовали себя на его месте. Здесь, как мне кажется, кроется суть сопереживания. Только так мы можем что-то понять о природе скорби.
Многое из того, о чем мы будем здесь говорить, выросло из моих собственных интроспективных размышлений, моего опыта переживания скорби и раздумий о геометрии. В основном я буду рассказывать о них на примере личных историй, а не в виде абстрактных рассуждений, поскольку считаю, что жизненные примеры гораздо нагляднее отражают идеи, для понимания которых важны чувства. Абстрактные рассуждения дают определенную основу, а истории из жизни показывают предмет во всей его непосредственности и злободневности.
Возможно, мой опыт напомнит вам свой собственный. А может быть, у вас были совершенно другие переживания. Приводит ли различный опыт к различному пониманию скорби? Я не знаю. Природа дает простор для множества вариантов. А сколько их еще живет в нашем воображении?
* * *
В этой книге мы познакомимся с несколькими идеями, большинство из которых будут изложены несколько раз в различных контекстах и подкреплены примерами из жизни. Вот краткое описание основных моментов, которые мы будем исследовать.
Скорбь – это реакция на невосполнимую утрату. Следовательно, нельзя испытать скорбь заранее[16]. Чтобы возникла скорбь, а не просто грусть, утрата должна нести большую эмоциональную нагрузку и приоткрывать завесу трансцендентной стороны мироздания. Разгонять туман, заслоняющий от нас средоточие ослепительного света. Мы сфокусируемся на трех аспектах скорби: необратимости, эмоциональной значимости и трансцендентности. Они свойственны не только опыту скорби. У меня самого нет детей, но, по моим представлениям, родительство является не менее глубоким переживанием: та же необратимость, эмоциональная наполненность, трансцендентность. Однако скорбь вдобавок – это реакция на утрату
Скорбь возникла в процессе эволюции. Мы рассмотрим доводы в пользу этой теории, а также доказательства того, что животные тоже скорбят. Кроме того, мы увидим, что литература и музыка порой являются для нас весьма полезными проводниками в мир скорби. Одновременно они помогают справиться с ней.
Момент озарения, когда всё вдруг становится ясно, бывает лишь раз. Но если то, что мы поняли, очень важно для нас, если оно затрагивает тайные глубины души, мы порой скорбим об утрате этого мига: будучи единожды пережитым, он уже никогда не случится вновь. Красота, увиденная в зеркале, отражает скорбь. Именно она, по моему мнению, связывает скорбь с геометрией.
Взгляд на жизнь как на траекторию внутри пространства повествования, который мы вводим в четвертой главе, открывает путь к возможности проецировать свою скорбь на что-либо и тем самым облегчить ее. Пространство повествования – наш основной инструмент, поэтому здесь я перечислю главные тезисы, связанные с ним:
• Каждый момент нашей жизни обладает множеством – возможно, бесконечным множеством – переменных, которые мы способны регистрировать (обнаруживать, осознавать).
• Мы можем представлять себе наши жизни как траектории, пролегающие сквозь пространство повествования, параметризованные временем.
• Мы никогда не можем охватить взором (осознать, зарегистрировать) все возможные переменные; более того, мы фокусируемся только на нескольких переменных, ограничивая свое внимание подпространством малой размерности в пространстве повествования.
• Траектория нашего движения сквозь эти подпространства – то, что мы рассказываем о своей жизни самим себе, то, как мы представляем себе смысл нашей жизни, но в этом рассказе всегда недостает каких-то элементов нашего опыта.
• Необратимая утрата проявляется как разрыв, скачок через пространство повествования (или в пространстве повествования).
• Фокусируясь на определенных подпространствах, проектируя в них наши траектории, мы можем снизить видимую величину скачков и, следовательно, каким-то образом противостоять эмоциональной утрате, а может быть, и уменьшить ее воздействие. В дальнейшем мы проиллюстрируем данный тезис парой примеров.
Более того, скорбь самоподобна: скорбь утраты близкого человека содержит в себе множество более «мелких скорбей». Вы больше никогда не будете беседовать, делиться друг с другом воспоминаниями о плохом и хорошем, не прогуляетесь молча вдвоем. Каждая из этих «скорбей» – уменьшенная версия вашей реакции на утрату близкого, маленькая копия, которая может стать лабораторией для поиска полезных проекций. Спроецированная вовне, скорбь способна указать на те действия, которые помогут другим людям. Мне представляется, что при наилучшем раскладе в данное русло можно перенаправить часть этой энергии скорби. Пусть это будут не большие шаги, а маленькие, но все же шаги вперед.
Моя книга – гимн любви к покойным родным, друзьям, которых нет с нами, и котам, которых мы потеряли. А еще это гимн любви к геометрии, ярчайшей точке моих размышлений. В старости мое понимание геометрии с каждым годом всё больше стирается, добавляя разбитому сердцу еще больше разветвленных трещин.
Представленные здесь примеры из геометрии являются не просто инструкцией о том, как справиться со своей скорбью, они рисуют план действий, который помог мне. Возможно, эти вехи укажут путь, чтобы вы, с помощью моего подхода, смогли сами умерить свою боль. И, возможно, они помогут вам увидеть геометрию в своей жизни там, где раньше вы ее не замечали.
1. Геометрия
Жаль, что уже не увижу деревья, какими видел их раньше.
Представьте, что сейчас ранняя весна, вечерние сумерки, и вы сидите в каком-то малознакомом парке. Что вы увидите, подняв глаза от страницы этой книги? Вероятно, замысловатый узор из светлых и темных силуэтов, вливающихся в шероховатые столбы – стволы деревьев; толстые ветви, ветки потоньше, мелкие прутья; потрепанные обрывки плоскостей – листьев. А еще цветы и траву. Геометрические формы позволяют нам узнавать или, по крайней мере, называть то, что нас окружает.
Мы видим, как зрительно меняются формы, распознаём их движение – наблюдаем, например, как листья и ветки покачиваются от легкого ветерка.
Листья на вершине высокого дерева всё еще освещены солнцем, хотя ствол погружен в темноту. Мы обычно говорим, что тьма спускается, но здесь она как будто поднимается (а если мы придем в парк утром, то увидим, как по стволу дерева спускается рассвет). Геометрия солнца и земли являет во всей простоте то, чего мы раньше не замечали в этом мире.
На протяжении веков художники великолепно чувствовали геометрию. Приведу лишь несколько примеров. А если вы немного покопаетесь в «Гугле», то найдете еще больше.
Построенный в IX, а затем воссозданный в XIII веке дворец Альгамбра в испанской Гранаде – прекрасный образец исламского искусства и архитектуры. Множество декоративных мозаик, включая ту, что приведена ниже, являются замощениями плоскости правильными многоугольниками.

Это фигуры, которыми можно покрыть всю поверхность без наложений и пропусков, поскольку все они соприкасаются друг с другом лишь краями (частично или полностью). Клетки шахматной доски или шестиугольные пчелиные соты – наиболее известные из таких фигур, но есть и другие.
В книге Бранко Грюнбаума[17] и Джоффри Шепарда[18]«Плитки и паттерны» (этот семисотстраничный труд вполне заслуживает эпитета «всеобъемлющий») приводится огромное количество примеров не столько из области искусства, сколько из области математики[19]. Вообще существует семнадцать различных паттернов, обладающих красноречивым названием «группы орнамента». То, что таких паттернов всего семнадцать, было доказано в конце XIX века, но исламские художники знали об этих способах мощения за сотни лет до того, как русский кристаллограф и математик Евграф Фёдоров представил свое доказательство данного тезиса[20]. Иногда художники интуитивно делают открытия, которые математики проверяют и доказывают лишь многие годы спустя.


Взаимодействие геометрии и искусства отражают также подобные треугольники. Из школьных уроков геометрии мы знаем, что два треугольника подобны, если они имеют одинаковую форму, даже если у них разные размеры. Фигура называется самоподобной, если она состоит из элементов, каждый из которых подобен целой фигуре. На верхнем рисунке слева приведена фигура, состоящая из треугольников, расположенных внутри других треугольников, – это треугольник Серпинского, одна из самых известных самоподобных фигур. Чтобы увидеть ее самоподобие, обратите внимание на то, что она состоит из трех частей – нижней левой, нижней правой и центральной верхней, – каждая из которых подобна целому треугольнику. Об этом треугольнике мы поговорим подробнее в третьей главе.
Фракталы (класс фигур, впервые описанных математиком Бенуа Мандельбротом) – фигуры, построенные из частей, среди которых каждая так или иначе подобна целому. Кусочек береговой линии, если его рассматривать вблизи, выглядит так же, как ее большой отрезок с большого расстояния; листочек папоротника выглядит как сам папоротник в миниатюре; двухметровая нить ДНК сворачивается внутри клеточного ядра диаметром примерно в одну миллионную часть ее длины, повторяя один и тот же способ сложения каждый раз в меньшем масштабе. Это фракталы, которые мы наблюдаем в природе. Простейшие фракталы – самоподобные фигуры вроде треугольника Серпинского.
Круглый узор под треугольником на рисунке слева – это плиточный орнамент XIII века в одном из итальянских соборов, представляющий собой шесть фигур, напоминающих изогнутые треугольники Серпинского, окруженные кольцом треугольников поменьше[21]. (Делая данный набросок, я измерил и зарисовал основные элементы, а остальное заполнил на глаз. Это заняло немало времени. Но оригинал вырезался вручную, элемент за элементом, а потом они складывались вместе. Когда я об этом думаю, тот час, что я провел над рисунком, уже не кажется таким долгим.)

Художники размышляли над самоподобием многие века. Почему? Потому что оно часто встречается в природе, а художники внимательно присматриваются к ней.
Более свежим примером использования самоподобия является картина Дали «Лицо войны» (1940), изображающая бесчисленные ужасы гражданской войны в Испании. На картине мы видим лицо, в глазницах которого и во рту заключены другие лица, в чьих глазницах и ртах снова заключены лица, и так далее еще на несколько уровней вглубь. Паттерн очень напоминает треугольник Серпинского – повторение фигур, выстроенных в треугольник, только в данном случае располагающихся наверху слева и справа и внизу посредине. Картина Дали гораздо страшнее, чем мой набросок: по обеим сторонам головы без тела вьются клубки змей[22].
На предварительном эскизе картины только рот заключал в себе другое лицо. В одной из глазниц располагались кольца древесного ствола, а в другом – пчелиные соты. Дали обнаружил, что повторяемость самоподобия – наглядный способ показать бесконечность.

Чтобы показать скрытую бесконечность, Дали придумал своего рода замощение. За пять веков до него итальянский архитектор Филиппо Брунеллески открыл геометрический способ изображения того, как мы видим объекты. В 1415 году, создавая рисунок флорентийского Баптистерия, он с помощью остроумного приспособления из зеркала и крохотного отверстия, возможно, первым в эпоху Ренессанса открыл (заново) перспективную геометрию[23]. Некоторые историки-искусствоведы полагают, что древнегреческие и римские художники понимали законы перспективы; другие считают, что их представления о перспективе были примитивными. В средневековом искусстве размер фигур часто соответствовал их религиозной или политической значимости и никак не соотносился с взаимным расположением данных фигур. Идея Брунеллески состояла в том, что живопись должна изображать объекты такими, какими мы их видим. И ключом к этому является перспективная геометрия.

Но в отличие от нее четырехмерная геометрия, казалось бы, не укоренена в нашем опыте, поэтому часто она считается сложной для понимания. Прекрасным введением в этот предмет может стать книга математика Томаса Банхоффа «По ту сторону третьего измерения: геометрия, компьютерная графика и высокая размерность»[24]. Среди множества способов представления четырехмерного куба (или гиперкуба) Банхофф описывает метод развертки. Куб (то есть его поверхность, а не внутренняя сторона) имеет развертку в виде шести квадратов, что и продемонстрировано на рисунке слева. Гиперкуб, как показывает Банхофф, разворачивается в виде восьми кубов, что видно на рисунке справа. Но почему граница гиперкуба состоит из восьми кубов? Объяснение будет дано в приложении, но, возможно, вас удовлетворит такая последовательность: граница (двумерного) квадрата состоит из четырех (одномерных) отрезков, а граница (трехмерного) куба – из шести квадратов, так что границей (четырехмерного) гиперкуба являются восемь кубов.
Известно, что Дали увлекался наукой и математикой; Банхофф лично и посредством переписки обсуждал с ним вопросы четырехмерной геометрии. Искусство и геометрия – хорошие союзники. На картине Дали «Распятие» (1954), набросок с которой приведен на следующей странице, крест представлен в виде развертки гиперкуба[25].

Чем не повод начать изучать геометрию? Вы можете даже пообщаться с Дали. Ладно, пусть не с самим Дали – он умер в 1989 году, – а с какой-нибудь другой знаменитостью. Я часто тусовался за кулисами «Шуберт Театра» в Нью-Хэйвене с актером Деметри Мартином, известным своим участием в программе «Дэйли Шоу», потому что он учился у меня фрактальной геометрии.
* * *
Ради последнего примера мы перенесемся где-то на 2300 лет назад, в Александрию, на родину греческого математика Евклида. Поскольку именно он заложил основы геометрии.

Наука, которую мы изучаем в школе, называется «евклидова геометрия». Все ее разделы – построения, масса теорем о треугольниках и всё остальное – вытекают из пяти аксиоматических предпосылок, так называемых евклидовых постулатов. Первые четыре просты и очевидны: любую пару точек можно соединить прямой линией, отрезок линии можно бесконечно продлевать по прямой, любой отрезок прямой является радиусом окружности, все прямые углы равны между собой.
Пятый, называемый «аксиомой параллельности», – постулат иного рода. Он гласит: для любой точки P, не лежащей на линии L, существует только одна линия M, проходящая через P, которая не соприкасается с линией L. Мы говорим, что M параллельна L. Это логично: если хоть немного наклонить линию M в том или ином направлении, в конце концов она пересечется с линией L.
Постулат параллельности отличается от четырех других евклидовых постулатов, он более сложен. В XIX веке некоторые математики попытались доказать, что пятый постулат вытекает из первых четырех. Их попытки были обречены на провал, поскольку существуют системы геометрии – так называемая неевклидова геометрия, – для которых аксиома параллельности является ложной[26].
При создании ксилографии «Предел – круг III» (1959) М. К. Эшер использовал неевклидову геометрию[27]. Долгое время художник экспериментировал, пытаясь разными способами представить бесконечность в конечном пространстве. Шахматная мозаика подразумевает бесконечное повторение паттерна, однако в работе Эшера бесконечность не просто подразумевается.

Художник нашел решение благодаря «диску Пуанкаре», придуманному блестящим французским математиком Анри Пуанкаре. Внутри такого диска заключена вся бесконечность плоскости: по мере приближения к его краю (если говорить о приближении в смысле привычной нам евклидовой геометрии) линейка сжимается. Расстояние от центра диска до его края, измеренное линейкой Пуанкаре, будет фактически бесконечным. А площадь диска Пуанкаре также бесконечна. И это не единственное отличие от геометрии Евклида. В диске Пуанкаре прямые линии представлены двумя формами: в виде прямых линий, проходящих через центр диска, и в виде дуг окружностей, которые пересекают его границу под прямыми углами.
Погодите, но как дуги могут быть прямыми линиями? Перед нами пример одного из главных методов развития математики: взять идею из какого-либо контекста – скажем, прямые линии на плоскости – и придумать, как перенести ее в другой контекст. Какое свойство прямых линий мы можем считать общим? В евклидовой геометрии прямая линия – кратчайшее расстояние между двумя точками. Давайте это используем. Вероятно, вы уже знакомы с этим общим свойством, если летали на большие расстояния. Дугой большого круга сферы является любая окружность, центр которой совпадает с центром данной сферы. Все меридианы – дуги большого круга, тогда как единственная параллель, являющаяся такой дугой, – экватор. На поверхности сферы кратчайшее расстояние между двумя точками – дуга большого круга, проходящая через эти две точки. Натяните резинку между двумя точками на мяче: это будет кратчайший путь на поверхности сферы между этими двумя точками. И такой кратчайший путь является дугой большого круга.
Для сокращения времени полета и расхода топлива траектории дальних перелетов пролегают по дугам большого круга. Например, Лос-Анджелес находится на 34,1° с. ш., Москва на 55,8° с. ш., однако полет между этими городами пролегает через север Гренландии, около 70° с. ш.
Но вернемся к диску Пуанкаре. Если измерять расстояния линейкой Пуанкаре, кратчайший путь между двумя точками является либо отрезком диаметра диска, либо дугой окружности, перпендикулярной границе диска. С точки зрения диска Пункаре такие линии будут прямыми.
Почему это неевклидова геометрия? Мы видим, что на диске Пуанкаре для любой точки P, не лежащей на заданной линии L, существует множество – на самом деле, бесконечное множество – линий, проходящих через точку P и параллельных линии L (другими словами, не пересекающихся с линией L). Примерами таких линий являются показанные ниже линии M и M'.

Возможно, из школьного курса геометрии вы знаете несколько теорем (помните: две стороны и угол между ними?), которые доказывают, что два треугольника равны, то есть одинаковы по форме (подобны) и по размеру. На диске Пуанкаре всё немного проще: подобные треугольники всегда равны. Следовательно, если посмотреть на рисунок Эшера, рыбки, которые становятся всё меньше по мере приближения к краю диска, при измерении линейкой Пуанкаре оказываются одинакового размера.
Эшер увидел изображение диска Пуанкаре в одной из работ математика Гарольда Коксетера[28], а затем в письмах они вместе обсуждали неевклидову геометрию. Хотя в работе «Предел – круг III» Эшер допустил некоторую художественную вольность (как указал Коксетер, кривые, изображенные Эшером, не совсем неевклидовы), в ней прослеживается математическая идея.
Пару слов о моем наброске. У Эшера рисунок с рыбками продолжается до самого края, хоть и не беспредельно, поскольку тогда ему потребовалось бы изобразить бесконечное количество рыбок. Однако у Эшера рисунок гораздо более скрупулезный, нежели у меня. И я должен напомнить, что он работал в технике, не прощающей никаких ошибок. Я уже говорил, какой кропотливой работы потребовало создание мозаики с треугольниками Серпинского в соборе Альгамбры. И всё же, если какая-то плитка была вырезана неправильно, мастер в любой момент мог вырезать другую при условии, что у него было достаточно камня. Однако Эшер работал в технике резьбы по дереву, каждую рыбку он вырезал из одного куска древесины. Одна ошибка могла испортить всю работу, а не какую-то крохотную деталь. Подумайте об этом, когда вам нужно будет набраться терпения.
* * *
Геометрия – способ структурирования наших представлений о мире, о его формах и динамике. Но нет ли во всем этом большой доли случайности, шаткой неопределенности? Могли ли у нас сложиться совсем иные представления о мире? Если бы фрактальная геометрия Мандельброта была открыта раньше, чем геометрия Евклида, производили бы мы то, что производим сейчас? Думаете, это вопрос из области фантастики? Тогда посмотрите, как повторяются разветвления нашей легочной, кровяной и нервной систем, как складываются нити ДНК, подумайте, как огромные по площади ткани легких или кишечника умещаются в небольших объемах человеческого тела. Фрактальная геометрия придумана эволюцией и используется ею. Если бы вместо того, чтобы пытаться достичь «небесного совершенства», навязанного церковным истолкованием работ Евклида и Аристотеля, люди внимательнее присмотрелись к геометрии природы, наши творения ныне были бы абсолютно иными.
Можно ли сказать, что в совершенно несхожих космологических представлениях различных культур отразились разные восприятия, разные геометрии? Или это просто альтернативные пути, обусловленные историческими нарративами? Но если не существует одной-единственной геометрии, одной-единственной истории – если мир не един, – наши представления о нем должны определяться разными наборами категорий.
Именно здесь находится ключевая точка нашего рассуждения. Действительно ли мир такой, каким мы его представляем, или он другой? Должен ли мир быть лишь чем-то одним, или он являет собой множество? Если у нас уже есть определенное представление о мире, оно навсегда отсекает возможности увидеть его другими способами? В квантово-механической модели множественности миров, наглядно описанной в прекрасной книге Шона Кэрролла[29] «Квантовые миры и возникновение пространства-времени», любое наблюдение за любой из частиц расщепляет Вселенную на ответвления, у каждого из которых будет свой результат измерения, и эти ветви не могут между собой сообщаться[30]. Таким образом, в физике мы имеем модель, где каждый выбор отсекает от нас все другие. Но действует ли данное разделение в мире людей, в мире облаков, в кошачьем мире? В дальнейшем мы об этом поразмышляем.
Это возвращает нас к теме скорби, реакции на безвозвратную утрату. Неужели вдумчивое изучение геометрии необратимым образом накладывает печать на наши представления о формах мироздания? В математике фантазия гораздо сильнее приближена к исследованию, чем в естественных науках. Здесь, как и в любой науке, необходимо приобрести базовые навыки. Однако математика избавляет от необходимости придумывать эксперименты, монтировать оборудование, проходить этическую экспертизу тех, кто намерен ставить опыты на живых объектах, подвергаться проверкам на безопасность и затем проводить эксперимент, собирать данные, и расшифровывать его результаты. В математике вы просто начинаете размышлять. Ну хорошо, в наше время порой вам приходится писать код, запускать процесс моделирования, но это тоже умственный процесс, а не физический, если не считать набора кода на клавиатуре компьютера. Мы изучаем миры, находящиеся у нас в голове. Исследуя какой-то один мир, мы отсекаем все остальные потенциальные миры, и эта утрата становится источником скорби при изучении математики. Это, конечно, не такая большая скорбь, какую мы ощущаем, потеряв близкого человека или питомца, но, тем не менее, тоже горькое чувство.
Вы можете подумать: как это глупо. Да и что такое – утрата? Разве мы не можем изменить направление своих мыслей в любой момент? В какой-то степени да, но стоит нам посмотреть на мир новым взглядом, и мы уже не можем избавиться от собственного ви́дения. Для наглядности приведу пример из фрактальной геометрии. Если вы не фанат геометрии, можете заменить ее любой другой столь же сложной и утонченной сферой деятельности по вашему вкусу.
Пока что не обращайте внимания на линии решетки, расчерчивающие рисунок на следующей странице. По-вашему, это простая или сложная фигура? Если она кажется вам простой, значит, вы можете точно объяснить, как ее нарисовать. Готовы?
А теперь посмотрите на решетку. Обратите внимание, что пять квадратов пусты. Оказывается, это почти всё, что нам требуется знать: стоит присмотреться к этим пустым квадратам, и мы сможем дорисовать всю фигуру. Это совсем несложно.

Начнем с решетки четыре на четыре квадрата. Сначала оставим пять пустых квадратов и полностью закрасим остальные одиннадцать. Получим картинку, изображенную на следующей странице первой в верхнем ряду. Затем уменьшим ее вдвое, скопируем и разместим одну копию слева, а две другие над первыми двумя. Результат представлен на картинке в центре первого ряда. Наконец из данной картинки вырежем пять больших квадратов, как это сделано на первой картинке. Получилась картинка справа.


Повторяем второй и третий шаги, каждый раз изменяя только что созданную картинку: берем последнее полученное изображение; уменьшаем его в два раза; копируем и размещаем одну копию слева, а две другие над первыми двумя и, наконец, вырезаем пять квадратов, как это было на самой первой картинке. На предыдущей странице вы видите, как начальное изображение изменяется на протяжении первых пяти повторений данного процесса. С каждым повторением фигура приближается к той, которую я показал вам в самом начале. Можно заметить, что малые элементы фигуры похожи на всю фигуру в целом. Если вы решили, что перед вами фрактал, так и есть[31].
Можно это представить как «фрактальную скуль-птуру». Говорят, Микеланджело утверждал, будто внутри каждого камня заключена скульптура. Мы только что продемонстрировали – для создания данного фрактала нужен лишь набор пустых квадратов и ряд повторяющихся действий. Получившаяся фигура может казаться сложной, но с этой точки зрения она проста. Не стоит удивляться, что то, насколько сложным выглядит объект, зависит от инструментов, с помощью которых мы его анализируем.
Стоит научиться распознавать фрактальные элементы объектов, и ваше восприятие поменяется навсегда. За многие годы я получил десятки мейлов от приятелей моих студентов с вариациями одной и той же жалобы: «Каждый раз, когда мы идем на занятия, мой сосед по комнате замечает какой-нибудь папоротник, или облако, или трещину на дорожке, и наш разговор прерывается восклицанием: „Это фрактал! Это фрактал!“ Прекратите уже рассказывать об этих фракталах! Сколько хороших бесед вы разрушили». Меня обвиняют в том, что я засоряю умы гуманитариев геометрией.
* * *
Я твердо полагаю, что фракталы невозможно игнорировать, как только вы их увидели. Они навсегда меняют картину мира, которая разворачивается в нашем сознании, навсегда меняют вид тех моделей, что мы выстраиваем.
Впервые я по-настоящему понял это на уроке геометрии в старших классах школы. Некоторое время мы занимались построениями с помощью циркуля и линейки: такие головоломки очень любили древние греки. Мы научились делить отрезки на две, три, четыре и любое количество равных частей. Затем наш учитель, мистер (Ральф) Гриффит, рассказал, что древние греки придумали три задачи, которые они не смогли решить: трисекцию угла (построение угла величиной в одну треть от заданного), квадратуру круга (построение квадрата той же площади, что и заданный круг) и удвоение куба (построение куба с объемом в два раза больше, чем у заданного).
Пока я ломал голову над этими задачами, у меня появилась идея. Возьмем угол AOB: проведем прямую линию от A до O и затем прямую до точки B (см. рисунок на следующей странице). Чтобы разделить угол AOB на три равных угла, подумал я, надо просто разделить на три части отрезок AB – отрезок прямой, соединяющий точки A и B. То есть найти на этом отрезке такие точки C и D, чтобы длина BC совпадала с длиной CD и длиной DA. Ведь мы как раз научились это делать. Тогда, предполагал я, углы AOD, DOC и COB будут равны, а следовательно, угол AOD будет равен одной трети от угла AOB. То, что эта простая идея – на самом деле, первое, что приходит в голову любому, – каким-то образом оставалась незамеченной на протяжении двух десятков веков, не показалось мне чем-то странным и неправдоподобным. У меня даже не закралось никаких сомнений. На мгновение в моем мозгу промелькнул газетный заголовок: «Ученик школы решил задачу, над которой две тысячи лет бились математики».

Я показал свои построения мистеру Гриффиту. У меня был крохотный рисунок, сделанный дешевым циркулем. Мой транспортир показывал практически равные углы. Мистер Гриффит с помощью более точного циркуля сделал рисунок крупнее. Его транспортир показал, что углы были неравны. Учитель не сказал: «Если б это было так просто, неужели ты думаешь, что за две тысячи лет никто не догадался так сделать?» Он был рад, что я попытался.
Я предположил, что геометры просто не смогли найти правильный метод. «Нет, – сказал мистер Гриффит, – просто есть такие задачи, которые не имеют решения, и мы можем это доказать». Что? У какой задачи нет решения? Но, что еще поразительнее, как мы можем знать, что у этой задачи нет решения? Никакого. Три года я не мог принять тот головокружительный факт, что существует доказательство неразрешимости некоторых теорем[32]. Лишь через много лет я всё же понял, почему упомянутые геометрические построения невозможны[33]. Для доказательства требуется очень сложная математика – неудивительно, что древние греки до него не додумались.
Но в школе я этого еще не знал. А вот о том, что в физическом мире есть невозможные вещи, я знал с пеленок. Я не могу взмахнуть руками и полететь на луну. Да и менее глупые вещи мне порой недоступны: я неуклюжий, напрочь лишен ловкости или хотя бы умелости. Но геометрия… то, что в ней есть нечто невозможное, ставило меня в тупик. Как может быть так, чтобы геометрическая задача не решалась при должном усердии? Если это правда, значит, с нашей вселенной что-то явно не в порядке.
Я спросил мистера Гриффита, как вообще доказать невозможность какой-либо математической конструкции. Он не стал объяснять мне доказательство трисекции угла. Вместо этого учитель рассказал, что квадратный корень из двух нельзя записать в виде соотношения целых чисел (еще один вывод, потрясший основы греческой геометрии). Само доказательство простое, ясное и изящное. (Оно включает в себя немного алгебры; вы найдете его в приложении.) Я был несказанно счастлив, когда мистер Гриффит любезно мне всё объяснил шаг за шагом.
В тот вечер, раздумывая над этим изящным решением, я понял, что у геометрии тоже есть границы. Я расстроился минут на десять. А затем осознал, что эти границы делают геометрию еще интереснее. Насколько именно интереснее, я не представлял себе еще многие годы и до сих пор не до конца понимаю. Оказывается, то, что я считал схематическим изображением целого мира, описывало лишь его крохотный уголок.
На следующий день по дороге в школу я прокручивал в голове этапы доказательства. Все части по-прежнему прекрасно сочетались друг с другом, но первый восторг узнавания куда-то исчез – тот самый, который некоторые называют моментом озарения. Миг, когда наблюдения или идеи сами по себе вдруг складываются в новую картину, кристально очевидную, но невидимую ранее. Эта новая идейная конструкция остается с вами навсегда, а момент озарения – нет. Для каждой идеи может быть лишь один момент озарения.
Когда я преподавал фрактальную геометрию, вторая лекция содержала самый мощный момент озарения за весь семестр. Суть озарения заключалась в серии картинок, показывающих, как силуэт кота превращается в треугольник Серпинского[34]. Несколько недель спустя, когда мы изучали другие темы, порой весьма сложные, студенты жаловались на то, что им хотелось бы видеть побольше сюрпризов наподобие того, что я показал на второй лекции.
С другой стороны, вернуться к прежней модели устройства мира, игнорируя новую (фракталы), бывает весьма затруднительно. Мне сотни раз приходилось слышать сетования вроде: «Жаль, что я больше не смогу, глядя на деревья, просто любоваться их красотой. Теперь я невольно ищу трансформации, в результате которых возникает форма дерева». Как хорошо, говорят эти студенты, что Джон Мьюр[35] (или Рейчел Карсон[36], или Эдвард Эбби[37]) не знали о фракталах. После столь сильного удара по сознанию вы какое-то время будете неспособны забыть эту новую идею.
Мартин Гарднер[38], который практически каждый месяц с января 1957-го по июнь 1986 года вел колонку «Математические игры» в журнале «Сайентифик америкэн», составил сборник математических задач под названием «Есть идея!»[39]. Его задачи остроумные, требующие нестандартных решений и занимательные – для тех, кто любит математические головоломки. Но эти крохотные озарения не вносят необратимых изменений в наше видение мира.
Или всё же вносят? Возможно, они не меняют представления о мире в целом, зато позволяют нашему воображению избавиться от очевидных, но слишком громоздких подходов к решению проблем. На этот счет я приведу в пример так называемую задачу о шмеле.
Представьте: с востока на запад проложена совершенно прямая железная дорога длиной 50 миль. С ее западного конца на восток отправится локомотив, который будет ехать со скоростью 30 миль в час; с восточного конца ему навстречу поедет локомотив со скоростью 20 миль в час. Оба локомотива отправляются ровно в полдень. Также ровно в полдень с передней части локомотива, движущегося на восток, слетает шмель и летит вдоль железной дороги со скоростью 70 миль в час. Долетев до локомотива, идущего на запад, он разворачивается и летит в западном направлении, пока не встретится с локомотивом, идущим на восток, затем снова разворачивается, летит на восток, встречается с локомотивом, идущим на запад, и так далее (см. рисунок на следующей странице). Оба локомотива движутся без остановок. Вопрос: какое расстояние пролетит шмель, прежде чем локомотивы столкнутся и раздавят его?

С задачей о шмеле я познакомился, когда учился в седьмом классе. В тот год к нам приехали два инженера из НАСА. Полагаю, они искали учеников, склонных к науке и математике. Во время обеденного перерыва ко мне подошел учитель естествознания и попросил побеседовать с этими инженерами перед их дневной презентацией. Один из них рассказал мне условие задачи о шмеле и спросил, могу ли я ее решить.
Ладно, когда шмель летит навстречу локомотиву, идущему на запад, относительная скорость шмеля и локомотива составляет 70 + 20 = 90 миль в час. Им обоим предстоит проделать расстояние в 50 миль, то есть шмель встретится с локомотивом, идущим на запад, через 50/90 часов, то есть через 331/3 минуты. Я знаю скорость шмеля и время полета, значит, могу найти расстояние, которое он пролетел: расстояние = скорость × время.
Кроме того, я могу вычислить, какое расстояние проехал каждый из локомотивов за это время. Сложив эти расстояния, я могу вычесть эту сумму из изначальных 50 миль и получить расстояние, проделанное шмелем и локомотивом, идущим на запад, до того как они встретятся. Я уже был знаком с бесконечной геометрической прогрессией, когда складываются фиксированные кратные предыдущего числа. Например, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + … – это бесконечная геометрическая прогрессия, где фиксированное кратное равно 1/2. Если удастся увидеть закономерность и найти это фиксированное кратное, то благодаря несложной формуле можно получить сумму. Однако в задаче о шмеле найти фиксированное кратное совсем не просто. Будь у меня бумага и карандаш, я, возможно, справился бы с этим за час. Таким образом, я понимал, как решить задачу, но это был полный бардак.
Однако у меня не было бумаги и карандаша, а инженер просто спросил, могу ли я решить задачу. Он не сказал: «Не спеши, подумай». Похоже, он ждал ответа прямо сейчас. Что же я упустил? А что если не обращать внимания на шмеля и сосредоточиться на локомотивах? Им надо проехать 50 миль, скорость их сближения составляет 50 миль в час, значит, они встретятся через час. Постойте. Шмель летит со скоростью 70 миль в час, значит, за час он пролетит 70 миль. Так вот что требовала от меня эта задача. Вовсе не решение сложных геометрических прогрессий. И я ответил: «Семьдесят миль». Оба инженера улыбнулись. Один сказал, чтобы я связался с ними, когда окончу колледж. Я с ними так и не связался. Где бы я сейчас был, если б сделал это?
За несколько лет до меня эту же задачу о шмеле задали гениальному математику Джону фон Нейману. Нейман участвовал в Манхэттенском проекте в Лос-Аламосе, работал с Эйнштейном в Институте перспективных исследований в Принстоне и был одним из главных создателей современных компьютеров. Бенуа Мандельброт, создавший фрактальную геометрию, был последним постдок-сотрудником Неймана в Принстоне. Еще с детства Нейман мог в уме перемножать восьмизначные числа. Когда ему предложили задачу о шмеле, он задумался на пару секунд, глядя в пространство, а затем дал правильный ответ. «Значит, вы поняли, в чем подвох», – сказал собеседник. «Какой подвох? – ответил Нейман. – Я нашел сумму прогрессии». В данном случае гениальные вычислительные способности Неймана не позволили ему увидеть более простое решение.
Возвращаясь из школы домой, я думал обо всём, что произошло: теперь я понимал – некоторые задачи можно решить разными способами, и первое решение, приходящее на ум, может оказаться излишне сложным.
Когда я увидел подвох и нашел верное решение, это было маленькое озарение, которое по-научному можно назвать локальным озарением. А большим, или глобальным, озарением стал момент, когда я понял – очевидный подход к задаче не всегда ведет туда, куда нужно. Раньше, едва увидев стратегию решения, я тут же бросался в работу. И даже теперь, сорок пять лет спустя, найдя первый вариант стратегии, я чувствую, что могу перевести дух и позволить фантазии поиграть с задачей: вдруг найдется иной способ? Когда на занятиях мы приступали к какой-то трудной задаче, а затем находили первое решение, я всегда просил студентов поискать другое. «Зачем?» – удивлялись некоторые. Чтобы, возможно, найти более простое и, сравнив эти два решения, увидеть то, чего мы раньше не замечали в задаче. Стоит свернуть за угол, и обратной дороги не будет. Я думаю – надеюсь, – что некоторые из моих студентов это поняли, хотя большинство, похоже, так и не осознали, зачем тратить время на поиски иного решения. Многие отказывались его искать.
Но разве наша приверженность привычному образу мысли означает, что мы не должны узнавать новое? Конечно же, узнавать новое надо. Старые способы ви́дения мира отбрасываются за ненадобностью, потому что перед нами открываются новые. Только так мы постигаем мир. Однако неизбежное закрытие некоторых дверей не должно побуждать нас к отказу от альтернативных решений и толкований. И хотя наша жизнь априори подразумевает многочисленные утраты, невосполнимая утрата всегда невыносима.
Вас может несколько удивить, что геометрия способна дать представление о том, как мы понимаем природу. Однако цель данной книги в другом, во всяком случае, это не главная ее тема. Я хочу показать, что геометрия способна помочь нам осознать собственное ощущение утраты. Но прежде мы покажем, как с помощью геометрии можно неожиданным образом истолковать литературное произведение.
Рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Круги руин» (1940) занимает в авторском сборнике «Лабиринты» чуть больше пяти страниц[40]. Это удивительная фантазия о человеке, который хочет из своих снов создать другого человека во плоти. Если вы еще не читали это произведение, обязательно прочитайте.
Известно, что Борхес хорошо знал математику[41]. Его увлекали парадоксы и головоломки, особенно те, что связаны с бесконечностью[42]. В изобразительном искусстве проявления геометрии видны гораздо отчетливее, нежели в литературе. И это неудивительно: изобразительное искусство оперирует формами – видимыми и невидимыми нашему глазу, находящимися в центре и на периферии композиции. Мы можем увидеть всю картину в целом, а можем обратить внимание на какой-либо отдельный фрагмент. А вот литература, как и музыка, воспринимается последовательно. Если у нас нет столь глубокого, досконального понимания всего произведения, чтобы удержать его в голове целиком, мы воспринимаем его по кусочкам, один фрагмент за другим. Чтобы увидеть более крупные паттерны, необходимы память и дедукция. Остановимся пока на литературе. Мы вынуждены делать выводы, располагая весьма ограниченным количеством информации – совокупностью слов рассказа, возможно, корпусом текстов автора и некоторыми сведениями о его жизни. Мы не можем спросить Борхеса, правильно ли понимаем его текст. Нам остается лишь анализировать собственные домыслы и искать подтверждения своим догадкам.
«Круги руин» – это рассказ о человеке, который покидает свой дом в одной из бесчисленных деревушек, разбросанных по крутым горным склонам, и спускается по реке к руинам круглого храма. Его цель – заснув, увидеть человека во всех подробностях и ввести его в реальный мир. Первая попытка – когда он представил во сне группу учеников, а затем выбрал из них одного подающего надежды, – провалилась. Зато вторая – когда он целый год скрупулезно, орган за органом анатомически выстраивал человека – удалась. Божество храма – лошадь, тигр, бык, роза и гроза в одном лице (отличный пример того, как раскрывается фантазия Борхеса: простой перечень слов вдруг приобретает неожиданное значение, и мы застываем в удивлении), называемое – Огонь, – оживило созданного в сновидениях человека. Лишь Огонь и сновидец знали, что он призрак. Два года сновидец учил свое создание, а затем заставил его забыть о времени учения и отослал вверх по реке к другому разрушенному храму, тоже посвященному Огню. Через некоторое время он услыхал о кудеснике, который жил в том храме и которого не обжигал огонь. А вдруг его ученик поймет, что он всего лишь сновидение? Тогда Огонь окружил храм сновидца, но пламя его не сожгло. И сновидец понял, что он тоже лишь призрак, который видится кому-то во сне.
* * *
Давайте разберемся в истории, где создатель своего сновидения сам является чьим-то сновидением. Способна ли геометрия помочь нам увидеть в данном рассказе нечто новое, нечто спрятанное? То, что сновидец является сновидением, геометрически можно представить как:
1 Единичное явление. Сновидец и его сновидение составляют единую историю. Нет ничего иного.
2 Бесконечную череду сновидцев. Сновидец и его сновидение являются частью бесконечной череды сновидцев, видящих во сне других сновидцев.
3 Цикличность. Сновидец и сновидение – одно и то же, время идет циклично, но на каждом круге возникают некоторые отклонения, вариации.
4 Замкнутость в виде ленты Мёбиуса. Сновидец видит во сне сновидение, а сновидение видит во сне сновидца.
Рассмотрим все варианты по очереди. Не забывайте, что мы делаем выводы лишь о том, как, по нашему мнению, каждое из геометрических представлений коррелирует с фантазией Борхеса. Кто-то из читателей может прийти к другим умозаключениям.
Единичное явление. Существует некий протосновидец, который видит во сне главного персонажа рассказа. То есть протосновидец видит во сне сновидца, который, в свою очередь, видит человека, созданного им во снах. А как же этот человек, неужели он никого не видит во сне? Для сюжета, порожденного фантазией Борхеса, это слишком грубая, неизящная, асимметричная структура. Вряд ли можно поверить, что столь искусный рассказчик станет тратить свой прекрасный слог на столь банальную идею.
Бесконечная череда сновидцев. Есть старый анекдот про одного ученого (этот анекдот рассказывали и про Бертрана Рассела, и про Карла Сагана, и про многих других), которому после лекции по астрономии один из слушателей сказал, что вообще-то земля покоится на четырех слонах, стоящих на спине гигантской черепахи. Вежливо улыбнувшись, ученый спросил: «А на чем стоит черепаха?» – «Вы очень умны, но черепаха стоит на другой черепахе и так до бесконечности», – ответили ему.
Мы не знаем, слышал ли Борхес этот анекдот, но такой сюжет в разных формах бытовал по меньшей мере с середины XIX века. И Борхес, несомненно, был знаком с основами арифметики бесконечных чисел[43]. Но мы обнаруживаем две причины, по которым данная модель вряд ли легла в основу борхесовского сюжета.
Первая – то, что мы называем у Борхеса ощущением честной игры. Если существует бесконечное количество сновидцев и порожденных ими сновидений, мог ли он рассказать нам лишь об этих двух и не упомянуть остальных? Не дать никакого намека на их судьбы, на связь между ними – ничего. Какой смысл рассказывать о двух персонажах, если бесконечное число других навсегда скрыто, даже принципиально непознаваемо? Конечно, Борхес был знаком с «бритвой Оккама» – принципом, который обычно выражается так: «Самое простое объяснение является наиболее вероятным». Однако по-настоящему утверждение Уильяма Оккамского звучало (в переводе с латыни) так: «Не следует умножать сущности сверх необходимого». Это в точности соответствует нашему случаю: бесконечный сонм лишних персонажей бесконечно удаляет нас от структуры, согласующейся с принципом «бритвы Оккама»[44].
Вторая – проблема времени. Сновидец из рассказа «Круги руин» пребывает в иллюзии своей реальности дольше, чем тот, кого он видит во снах. Если двигаться по цепочке дальше, это время будет становиться всё короче и в конце концов станет невозможно кратким. А если двигаться в обратную сторону, оно будет бесконечно растягиваться, что тоже проблематично.
Цикличность. Возможно ли, чтобы сновидец и его сновидение были одним и тем же? Получился бы замкнутый круг[45]. Борхес знал об идее цикличности времени. Одно из его эссе так и называется: «Циклическое время»[46]. В нем он ставит под вопрос фундаментальную идею «подобных, но не тождественных циклов». Каждый новый цикл демонстрирует небольшие отклонения от предыдущего цикла. Но насколько эти отклонения невелики? Сновидец и человек, увиденный им во снах, приходят каждый в свой разрушенный храм, имея за плечами разный опыт, – это отклонение невелико. О сновидце сказано: «Когда бы кто-нибудь спросил, как он зовется, чем занимался раньше, он не нашелся бы с ответом»[47]. А про человека, созданного в его снах: «Маг [сновидец] побудил его [сновидение] забыть о времени учения». Никто из них не знает, что с ним было до того, как он вошел в храм, так что эта разница несущественна в отношении их судеб.
С другой стороны, у сновидца и у человека, созданного в его снах, были существенно разные периоды, когда каждый из них думал, что он реален. Эта разница могла наложить заметный отпечаток на их судьбы – а как иначе? – то есть, с нашей точки зрения, это важное отличие. Сновидец и его сновидение не могут быть одним и тем же. Значит, рассказ Борхеса строится не на круговой цикличности.

Замкнутость в виде ленты Мёбиуса. До сих пор мы предполагали, что существует только два различных персонажа – сновидец и человек, созданный в его снах.
В первом сценарии мы подняли вопрос о симметрии, а именно: почему человек, созданный в сновидении, не создает своего человека из сновидений. Чтобы не допустить бесконечной череды сновидцев и не столкнуться с проблемами, упомянутыми в разборе второго сценария, очевидным решением является петля: сновидец видит во сне человека, а тот человек видит во сне сновидца. На моем рисунке схематически представлена геометрическая фигура, называемая лентой Мёбиуса, у которой имеется всего один край и всего одна сторона. (Возможно, вы помните ленту Мёбиуса по урокам математики или ИЗО в начальных классах: надо взять длинную и неширокую полоску бумаги, свернуть один ее конец на 180 градусов и склеить концы). Спроецировав каждую точку ленты Мёбиуса на координаты времени, мы получим круг: таким образом, оба персонажа могут видеть во сне друг друга. Как мы уже сказали в третьем сценарии, Борхес был знаком с понятием циклического времени. Нам не потребуется вся лента Мёбиуса: над каждой заданной точкой круга (то есть в заданный момент времени) нам надо знать лишь две точки: одна будет обозначать сновидца в заданный момент времени, а другая его сновидение в тот же момент. Геометрически сюжет можно представить в виде контура ленты Мёбиуса. Конечно, пока сновидец в первый раз пытался создать во сне реального человека, этот человек был скорее потенциальным сновидением, нежели настоящим. Мы считаем это небольшим отклонением, учитывая, что найти геометрическое соответствие литературным структурам можно лишь весьма приблизительно.
Вот, к чему мы пришли благодаря нашим геометрическим построениям. И хотя рассказ подводит нас к финальной фразе: «И с облегчением, с болью унижения, с ужасом он понял, что он сам тоже только призрак, который видится во сне кому-то», – эти слова, сперва поражающие нас, не являются концом истории. У нее вообще нет конца: это автономная вселенная, самовоспроизводящаяся, замкнутая в едином цикле, несмотря на возможные в ней незначительные вариации событий. О циклической природе конечных миров Борхес рассуждает в своем эссе «Доктрина циклов», где представляет даже некоторые расчеты. Благодаря геометрии мы смогли прийти к выводу, что в рассказе «Круги руин» отражено это вечное повторение.
Завершая главу, мы скажем, что вечное повторение учит нас не бросаться словом «бесконечность» направо и налево. Если пространство имеет бесконечную протяженность, лучше говорить не о повторяемости во времени, а о вариативных копиях нас самих в пространстве. Мы видим лишь крохотную часть бесконечного космоса: наблюдаемая Вселенная – это то, что нам видно с Земли. С момента Большого взрыва прошло около четырнадцати миллиардов лет. Добавьте к этому результат ранней космической инфляции и получите диаметр наблюдаемой Вселенной примерно девяносто три миллиарда световых лет. (Почему не двадцать восемь миллиардов световых лет? Потому что именно здесь вступает в дело инфляция.)
Если пространство имеет бесконечную протяженность, значит, оно наполнено множеством – на самом деле, бесконечным множеством – параллельных вселенных, которые, вероятно, можно наблюдать с удаленных, но ненаблюдаемых для нас планет. Совокупность всех этих вселенных называется Мультивселенной. Еще одно допущение гласит, что, в очень больших масштабах (гораздо бо́льших, чем скопления галактик, например), материя приблизительно равномерно распределена в пространстве. На это указывают измерения в пределах наблюдаемой Вселенной. Как объясняет Макс Тегмарк[48] в статье «Параллельные миры», опубликованной в «Сайентифик америкэн», а также – гораздо подробнее – в своей книге «Наша математическая вселенная», исходя из этих двух предположений (о бесконечности пространства и о равномерном распределении материи), на расстоянии примерно в 1010118 метров (это очень большое число[49]) от нас находится другая параллельная Вселенная, идентичная нашей[50]. Идентичная во всём – все ее квантовые состояния такие же, как в нашей наблюдаемой Вселенной. И в ней существует ваша полная копия: человек с той же структурой мозга, теми же нейронными связями, воспоминаниями – он идентичен вам. Более того, существует бесконечное число копий этой идентичной Вселенной, бесконечное число ваших копий. Но я бы хотел обратить внимание на другое.
Во-первых, одно замечание относительно того, из чего, по мнению некоторых космологов (включая Тегмарка), состоят эти параллельные вселенные. Флуктуации энергии вскоре после Большого взрыва, вероятно, привели к определенной степени случайности в начальных условиях, поэтому, если мы заглянем достаточно далеко, то увидим все возможные варианты расположения, не нарушающие законы физики.
Если пространство действительно бесконечно, то на огромных расстояниях существуют параллельные вселенные, идентичные нашей наблюдаемой Вселенной, за одним исключением… Во время лекции я брал кусочек мела, протягивал руку над столом и спрашивал: «Я уроню этот мел или нет?» В какие-то годы я его ронял, в какие-то нет. Но независимо от этого я каждый раз говорил: «Невероятно далеко отсюда существует копия, идентичная нашей наблюдаемой Вселенной, за исключением того, что в ней я совершаю с мелом противоположное действие».
Но дело не просто во мне и дурацком кусочке мела. Представьте любую из возможных вариаций какого-либо вашего действия. Для любого мельчайшего изменения существует параллельная Вселенная, где всё точно так же, за исключением данного изменения и его последствий. И это касается не только вашей жизни, но жизни каждого. И не только одного изменения, а сочетания всех изменений. Причем не только изменений в нашей жизни, но и каждой травинки, каждой песчинки, всего-всего на каждой из планет, каждого завихрения плазмы на каждой из звезд, каждого вращения галактик, рассыпанных в черных безвоздушных глубинах.
Подумайте и еще об одном. Хотя мы умеем манипулировать бесконечными числами, можно ли считать, будто мы понимаем, что есть бесконечность? С тем же успехом я мог бы преподавать полевые уравнения Эйнштейна моей кошке. «Ну что, Биппети, вот тебе определение ковариантной производной». Ничего не получится.
Сделаем напоследок три замечания, прежде чем перейти дальше. В книге Тегмарка «Наша математическая вселенная» продвигается мысль не о том, что математика хорошо описывает Вселенную, а о том, что Вселенная и есть математика. Не всё научное сообщество согласилось с этой точкой зрения, и хотя я тоже пока не могу сказать, что принял ее, идея кажется мне заманчивой.
В этом танце мы можем менять партнеров, заменять бесконечность пространства на бесконечность времени и обратно. Единственной загвоздкой представляется второй закон термодинамики, который гласит, что в изолированной системе энтропия (мера хаоса в системе) либо увеличивается, либо остается неизменной. Загвоздка вот в чем: увеличение энтропии подразумевает, что до этого ее уровень был ниже, а в момент Большого взрыва – намного, намного ниже. Конфигурации с низкой энтропией встречаются реже, чем с высокой энтропией, поскольку существует гораздо больше способов внести в систему беспорядок, чем способов упорядочить ее. Например, существует лишь один способ сохранить вашу кофейную чашку в целости (высокая упорядоченность, низкий уровень неупорядоченности, низкая энтропия) и огромное количество способов разбить ее (высокая неупорядоченность, высокая энтропия). Так почему же, или как так вышло, что в момент Большого взрыва энтропия была настолько низкой? Людвиг Больцман – создатель математического определения энтропии, сформулировавший статистическо-механическую версию второго закона термодинамики, основанную на количественном подсчете состояний в данной энтропии, – нашел смелый подход к этой проблеме. Хоть и не совсем к этой проблеме, поскольку Больцман умер в 1906 году, задолго до того, как Георгий Гамов и Ральф Альфер опубликовали расчеты своей модели Большого взрыва[51]. Подход Больцмана состоит в следующем: Вселенная почти всегда находится в состоянии высокой энтропии, в состоянии холодного, диффузного, приблизительно равномерного распределения теплового излучения. Но, если время бесконечно, в итоге из случайных флуктуаций возникнут очаги с низкой энтропией. Каким бы невероятным это ни казалось, одна из таких флуктуаций будет сгустком с очень низким уровнем энтропии, подобным предшествовавшему нам Большому взрыву. Как вы, возможно, догадываетесь, таких флуктуаций возникает не одна, а бесчисленное множество во всевозможных вариациях.
Подход Больцмана описан в книге Шона Кэрролла «Вечность. В поисках окончательной теории времени»[52]. Меня поразили его рассуждения, хотя далее Кэрролл высказывает некоторые возражения против подхода Больцмана. (Найдите в книге Кэрролла главу «Мозг Больцмана» и посмотрите, как красиво он формулирует свои возражения.)
Кроме того, Кэрролл предлагает собственное объяснение, правда до сих пор не принятое всеми космологами. С точки зрения квантовой гравитации (тоже далеко не до конца изученной) само пространство-время подвержено флуктуациям. Некоторые из этих флуктуаций могут являться зародышами новых вселенных, вырастающих из уже существующей: они возникают из состояния низкой энтропии и, расширяясь, превращаются в новые вселенные. Благодаря случайному характеру флуктуаций, порождающих новые вселенные, может возникать бесчисленное множество начальных условий, так что… (продолжить вы уже можете сами).
Вам может показаться, что мы слишком далеко отошли от наших размышлений о скорби, но это не так. В мгновения дикой паники от осознания необратимой утраты любимого существа меня немного утешала мысль, что в какой-то параллельной вселенной или в каком-то далеком будущем существует версия меня, которая нашла способ укротить пламя скорби[53]. Как бы я хотел поговорить с тем парнем, но, разумеется, не могу. Но, возможно, когда-нибудь я сам стану тем парнем, а возможно, им станете вы. И тогда у нас состоится весьма полезный разговор.
2. Скорбь
Так мы мягко превращаем тех, кого потеряли, в прозрачные тени.
Питер Хеллер
Некоторые думают, что скорбь – всего лишь «прокачанная» грусть. Но я считаю, что скорбь отличается от грусти с точки зрения и психологии, и философии. Мне грустно, если в тот день, когда я планировал пойти на прогулку в парк и провести там приятный часок с романом Мураками, с утра и до самого вечера не прекращаясь льет дождь. Это вызывает досаду, разочарование, но не означает, что прогулка в принципе невозможна: будут и другие дни, и (надеюсь) новые романы Мураками.
Другое дело, когда я стоял у гроба своей матери и знал – знал, – что ее больше нет. Она никогда не поговорит со мной, не заключит в свои материнские объятия – такие уютные и надежные, сопровождавшие меня с раннего детства и до нашего последнего прощания, всего за несколько недель до того, как инсульт внезапно оборвал ее жизнь. Это скорбь, и она необратима.
Вскоре после смерти моей матери одна из студенток попросила меня написать несколько строк о гравитации, чтобы вставить их в свой учебный проект. «В общем, напишите, что пожелаете, главное, чтобы там было слово «гравитация». И я написал о гравитации и о своей маме:
Гравитация удерживает меня на земле. Благодаря гравитации Земля вращается вокруг Солнца, Солнце кружится внутри Галактики, а Галактика движется в Местной группе галактик и так далее.
Благодаря гравитации с неба идет дождь. И снег. Падают осенние листья. И слезы из моих глаз, когда я думаю о том, что тебя действительно больше нет. Куда ты исчезла? Почему я больше не вижу тебя? Почему не могу вспомнить твое лицо?
Кто свободен от гравитации? Точно не птицы. Просто им лучше удается преодолевать ее, чем нам. Зато рыбы свободны от гравитации. Представьте, если б у вас был плавательный пузырь. Чуть втянули живот, и вот вы уже парите в облаках, пронзаете тучи. Касаетесь вершины горы и взмываете в небо.
Вот так понимаешь, что расстояние между «здесь» и «там» – это ответ на неверный вопрос. А какой же вопрос верный? Давайте подумаем.
Я полагал, что гравитация тянет мои мысли в прошлое, запутывает в воспоминаниях. Но теперь я знаю, что воспоминаниям доверять нельзя. Некоторые из них вымышлены, другие – подправлены. Целая паутина памяти, составляющая мою личность – всё, что я видел и делал, все приобретенные мной умения, – всё это лишь туман.
Гравитация влечет меня в будущее, и на этом пути отпадают какие-то части меня. Все мы исчезаем в тумане возможного. В нашем представлении время – оборотная сторона гравитации.
Увижу ли я тебя вновь в последний миг перед тем, как исчезнуть? Мне хватит лишь мгновения, всего одного взгляда. Это всё, что мне нужно. Моя память дряхлеет, так неужели я больше никогда не увижу тебя, не коснусь твоего лица, не возьму тебя за руку, не увижу себя в отражении твоих глаз? Отчего я, не переставая, плачу? Отчего не могу вздохнуть полной грудью? Всё стало таким мелким и мрачным. Надеюсь, что увижу тебя прежде, чем закончу писать эт…
Я совершенно не знал, что мама больна. Мы с моей женой Джин навестили маму с папой за несколько недель до этого. Утром того дня, когда она умерла, я переписывался с мамой по электронной почте. Вечером, когда они с папой смотрели местные новости, мама попыталась встать с дивана. И не смогла. Попробовала снова и опять не смогла. Папа взял ее за левую руку, но она не сжала его ладонь в ответ. Левая сторона ее лица начала обвисать. Папа сказал: «Я вызову „скорую“». Мама сказала: «Нет, позвони Стиву». – «Какой номер у Стива?» – «Один, два, три, четыре», – и ее не стало. Поздно вечером мне позвонил Стив. Убитые горем, мы поехали в Западную Виргинию на похороны.
Мы не были готовы. В последние десять лет жизни мама почти не менялась. Ее волосы поседели, движения стали медленнее, теперь она лишь сотнями пекла рождественские печенья, чтобы в основном раздать их соседям и родным. Но всё равно она оставалась мамой, милой и умной, и самым большим счастьем для мамы были дни, когда вся семья собиралась у нее дома. И вдруг она исчезла. И папа остался один. Та женщина, с которой он прожил больше шестидесяти лет, больше не будет сидеть напротив него во время обеда, никогда не устроится на диване с газетой, пока он, покачиваясь в своем кресле, смотрит ковбойский фильм. Я больше не увижу мамино имя в ящике электронной почты, не услышу по телефону ее голос, никогда не засижусь допоздна у нее на кухне, то и дело удивляясь ее прозорливости, которой сам я лишен. Всего этого больше нет. Я не был к этому готов, и удар оказался ошеломляющим. Ее нет вот уже десять лет, а рана до сих пор не заживает. И это совсем не то, что простая грусть.
Чтобы еще ярче увидеть разницу между такой скорбью и грустью, одолевающей в дождливый день, давайте на мгновение представим, какими утратами может обернуться дождь, помешавший прогулке. Разумеется, если я не пойду в парк, то буду жалеть обо всём, что связано с этой прогулкой. Позже, когда буду гулять, я увижу другие цветы, иную густоту листвы на деревьях, в парке будут играть другие собаки, другие птицы будут летать в небе. Я буду читать другие страницы или даже другую книгу. За прошедшие дни я получу новый опыт по сравнению с тем, что был бы у меня тогда, пойди я на прогулку. Этот опыт изменил бы мою картину мира и контекст понимания того, что я читаю, того, что я вижу в парке. Но обычно такие изменения малозначительны, и они не сопровождаются чувством утраты. Здесь нет ощущения навсегда закрывшейся двери, а лишь небольшого сдвига в восприятии. И, насколько я могу судить, этот сдвиг не имеет заметных последствий.
Если вы слушали лекции по так называемой теории хаоса, вас, возможно, удивит, что небольшой сдвиг может не иметь заметных последствий. Впервые основополагающие идеи теории хаоса были разработаны Анри Пуанкаре еще в конце XIX века, а затем забыты и несколько раз открыты заново уже в XX веке, пока, наконец, благодаря работе Роберта Мэя по биологии популяций (1976) и книге Джеймса Глика «Хаос. Создание новой науки» (1987) эта тема не вошла в массовую культуру[54]. Насколько массовую? Она заняла центральное место в новелле «Время и наказание» из эпизода «Маленький домик ужасов на дереве 5» в «Симпсонах». А «Симпсоны» являются важным – быть может, самым главным – барометром современной культуры.
Одна из характеристик хаоса состоит в том, что небольшие изменения могут иметь гигантские последствия, как говорит Абрахам Симпсон: «Если вы путешествуете в прошлое, не наступите там ни на что, ибо даже крохотное изменение может повлиять на будущее так, как вы и представить себе не можете». В математике и точных науках это называется «чувствительностью к начальным условиям». На лекции я начинал с более классического определения, а затем уже давал такую формулировку. Потом я показывал новеллу «Время и наказание». Насколько я мог судить, большинство студентов полагали, что сценаристы «Симпсонов» использовали мое определение чувствительности к начальным условиям, тогда как на самом деле всё было наоборот.
Чувствительность к начальным условиям еще называют «эффектом бабочки». Иногда его объясняют так: «Бабочка взмахивает крыльями в Бостоне, вызывая торнадо в Техасе» (города и страны можете выбрать на свой вкус). Однако чувствительность к начальным условиям означает совсем иное. Мой коллега Дэйв Пик подчеркивает, что крохотной энергии крыла бабочки недостаточно, чтобы самостоятельно вызвать столь мощное явление, как торнадо. На самом деле, об этом говорится в изначальной формулировке Пуанкаре:
Мы видим, что большие пертурбации бывают обыкновенно в тех местах, где атмосфера находится в состоянии неустойчивого равновесия. Метеорологи часто хорошо видят, что равновесие неустойчиво, что образуется циклон, но где именно, они не в состоянии сказать. Лишняя десятая градуса в какой-либо точке – и циклон разражается здесь, а не там; он бушует над странами, которые были бы пощажены, если бы не эта десятая. Если бы мы могли знать эту десятую градуса, то мы могли бы это предсказать; но сеть наблюдений недостаточно густа и сами наблюдения недостаточно точны, а именно поэтому нам и кажется, что всё обусловлено случаем[55].
Хотя небольшие изменения и не являются причиной больших смещений, однако эти изменения – незаметные в силу нашей неспособности их точно измерить – мешают нам предугадывать, где и когда могут возникнуть большие смещения и могут ли они возникнуть в принципе. Хаос возникает, когда мы не способны предсказать что-либо на сколько-нибудь долгий срок.
Вот почему хаос не может выявить различия между грустью и скорбью. Скорбь не связана с предвосхищением будущего; предвидение (как правило) не предполагает необратимости, поэтому оно (как правило) не является скорбью. В 2002 году моему брату Стиву поставили диагноз ХЛЛ (хронический лимфоцитарный лейкоз). С тех пор он наблюдался в Онкологической больнице им. Артура Джеймса в Колумбусе, штат Огайо. В январе 2010 года Стив упал в обморок – к счастью, тогда он как раз приехал в больницу на томографию. Количество лейкоцитов в его крови в шестьдесят раз превысило допустимую норму, гемоглобин упал на четверть ниже минимального значения, и у него отказали почки. Стива срочно отправили в приемный покой, затем – в реанимацию, где врачи начали делать ему гемодиализ и подключили к аппарату ИВЛ. Пока в «Красном кресте» искали подходящую кровь для переливаний, его кровь выкачивали, пропускали через центрифугу, чтобы очистить от большей части лейкоцитов, восстанавливали с помощью плазмы и возвращали в организм. Стив начал метаться, его движения расходовали кислород, без которого он не мог обойтись, и тогда врачи обездвижили его лекарствами. Они сказали его жене Ким и моей сестре Линде, уже приехавшей в больницу, приготовиться и сделать необходимые звонки. Мы не надеялись, что он доживет до утра.
Всю ночь у меня свербело под кожей. Воспоминания о годах, проведенных со Стивом и Линдой, теснились в моем мозгу так, что до сих пор у меня в голове остались лишь разрозненные, перепутанные и склеенные наугад цепочки, не связанные с тем, как всё было в действительности. Тревога прогнала сон. Всю ночь мы ждали, что позвонит врач и мрачным голосом сообщит – Стив умер. Этот страх причинял боль. Невыносимую боль. И всё же оставалась возможность того, что он выправится и начнет получать какую-нибудь экспериментальную терапию. Та ночь была ужасна, но, насколько мы знали, всё еще было поправимо. И, несмотря на наши опасения, Стив пережил эту ночь, следующий день и еще несколько дней. Примерно через десять дней он вернулся домой. Стив стал участником клинических испытаний, и вот, спустя десять лет, он по-прежнему жив.
В ту ужасную ночь мы не испытывали скорби. Тревогу и страх, граничащий с отчаянием, – да, но не скорбь.
Одним из самых известных повествований о скорби является книга Клайва С. Льюиса «Исследуя скорбь»[56]. То, что Льюис рассматривает скорбь сквозь призму своей внутренней религиозности, по моему мнению, размывает и одновременно затуманивает впечатление от его реакции на происходящее, поэтому я не стану обсуждать его работу. Вы, конечно, можете придерживаться иного мнения.
Я скажу несколько слов о книгах Джоан Дидион, в которых она подробно излагает свой опыт переживания скорби[57]. «Год магического мышления» – тонкий и умный рассказ о том, как писательница заново открывала для себя мир, необратимо изменившийся после смерти мужа, Джона Грегори Данна. Дидион сосредотачивается на событиях повседневной жизни, заметно осложнившейся смертельной болезнью ее дочери Кинтаны. Первым делом мне бросилась в глаза сложность задач, которые она ставит перед собой в конце второй главы:
Разумеется, я знала, что Джон мертв. <…> Но сама я вовсе не была готова принять это событие как окончательное. На некоем уровне я верила, что оно обратимо. <…>
Я должна была остаться одна, чтобы он мог вернуться.
Так начался для меня год магического мышления[58].
В семнадцатой главе Дидион открыто высказывает те идеи, которые весь этот год кипели в ее голове:
Скорбь, оказывается, для любого человека место неведомое, пока туда не попадешь. <…> Мы можем ожидать, что будем потрясены, безутешны, обезумеем от утраты. Мы не ожидаем, что безумие будет вполне буквальным – что «крепкий орешек» будет надеяться на возвращение мужа и беречь его обувь[59].
Далее она говорит о предвосхищении скорби:
Не можем мы знать заранее (и в этом суть разницы между скорбью, каковой мы ее себе представляем, и скорбью, какова она на самом деле) бесконечного отсутствия, которое наступит потом, пустоты, антисмысла, беспощадной последовательности моментов, когда нам предстоит столкнуться с опытом бессмыслицы – Бессмыслицы с большой буквы[60].
Поскольку Дидион подробно останавливается на всех деталях своей жизни и рассуждений, замысловатость и глубина ее анализа вызывала во мне медленно закипающее раздражение. Всё, что она рассказывает, казалось мне по большей части банальным, до тех пор, пока мне не перестало так казаться.
Ее книгу «Синие ночи» можно читать как продолжение «Года магического мышления». Это размышления Дидион о смерти дочери, которая ушла через полтора года после смерти мужа. Ее глубокие и трогательные рассуждения об утрате близких и скорби открыли для меня неожиданные стороны восприятия горя.
В качестве беспощадного примера скорби я приведу несколько отрывков из романа Питера Хеллера «Звезды пса»[61]. Герой-рассказчик Хиг и его пес Джаспер живут в мире, где бо́льшая часть населения вымерла из-за новой респираторной инфекции. (Я начал писать эту главу еще до пандемии COVID-19. Надеюсь, роман Хеллера так и останется фантастикой, однако сейчас, в конце 2020 года, я опасаюсь, что политика американского правительства, противоречащая рекомендациям ученых, может отчасти воплотить эту антиутопию в реальность.) В одну из ночей Джаспер умер. Вот как Хеллер описывает скорбь, охватившую Хига:
Утром я проснулся в окоченении. Спальный мешок и Джаспер были покрыты инеем. Моя шерстяная шапка – тоже.
Ты, наверно, замерз, парень. Иди ко мне. Я натянул стеганое одеяльце с Гринчами, чтобы укрыть его получше. Он был тяжел и бездвижен.
Давай, приятель, всё будет хорошо. Сейчас разведу огонь. Давай.
Он не откликнулся. Я вытащил одеяльце, положил на него пса и слегка коснулся его уха. Моя рука замерла. Его ухо было ледяным. Я провел рукой по его морде, потер ему глаза.
Джаспер, что с тобой? Я тер и растирал. Тер и тормошил его за загривок.
Я подтащил пса, свернувшегося калачиком и окоченевшего, к себе поближе, накрыл его одеяльцем и откинулся на спину. Лежал и дышал. Я должен был заметить. Как тяжело ему было, когда он шел. Слезы, которых не было вчера, хлынули из глаз. Они хлынули, словно прорвав плотину.
Джаспер. Братишка мой. Сердце мое…
Я был опустошен. До предела. Расставание с псом далось мне с огромным трудом. Я пролетел над ним и, казалось, это происходит в какой-то другой жизни. Казалось, что и аэропорт привиделся мне во сне. Но если аэропорт – это сон, значит, и Джаспер – всего лишь сон по ту сторону сна, а до него, еще раньше, был какой-то другой сон. И дальше, и дальше. Все это сны. Так мы мягко превращаем тех, кого потеряли, в прозрачные тени.
Последняя фраза: «Так мы мягко превращаем тех, кого потеряли, в прозрачные тени» – вызывает у меня трепет. Картина скорби погружает нас в жизнь Хига после смерти Джаспера. Это не просто грусть. Утрата останется навсегда, боль неизбывна, хотя в конце цитаты Хеллер замечает, что скорбь может становиться прозрачной. Наконец она превращается в фон нашего повседневного бытия, еще одну ниточку воображаемого полотна жизни.
Если вы думаете, что смерть домашнего животного не способна погрузить вас в пучину скорби, вы, по-видимому, никогда не теряли питомца. Я не стану описывать чувства, которые испытывали мы с моей женой, когда у нас умирала кошка, или чувства моего брата и его жены, когда у них умирала собака. Это описание могло бы занять всю книгу. И все мои слова были бы бесполезны. Я никогда не смогу узнать хоть сколько-нибудь достоверно, что думаете вы, как и вы не сможете узнать, что думаю я. Сопереживание состоит не в том, чтобы знать, что чувствует другой человек, а чтобы представлять, что вы сами почувствовали бы, оказавшись на его месте. Лучшего нам не дано.
Приведу пример. Когда мне было десять, а моему брату Стиву – пять, однажды жарким летним днем папа и дядя Билл взяли нас с собой на песчаный пляж у Нижних Порогов (Лоуэр Фолс) на реке Коул, неподалеку от городка Сент-Олбанс в Западной Виргинии. В то утро на пляже было множество других семейств. Мы со Стивом немного поплавали, держась за надувную камеру от автомобильного колеса. Потом вылезли на берег и стали искать у водопада интересные камешки. Папа и Билл плавали. По воде бродили два брата примерно того же возраста, что мы со Стивом. Но у реки было бурное течение, и младший братишка вдруг исчез под водой. Старший стал звать на помощь. Дядя Билл кинул надувную камеру туда, где исчез мальчуган. Из воды показалась рука, попыталась ухватиться за камеру, но соскользнула и пропала в воде. Взрослые, включая моего отца и дядю, поплыли к тому месту, где исчез ребенок, и стали нырять на дно реки. Мать мальчиков выла и рыдала. Кто-то из взрослых забрался по отвесному берегу наверх, отыскал какой-то дом и вызвал полицию.
Мы со Стивом сидели на песке. Но солнце теперь казалось нам холодным. Старший брат сидел на берегу невдалеке от нас, подтянув колени к груди, обхватив худыми мальчишескими руками худые мальчишеские ноги и уронив на колени голову.
Наконец прибыл патрульный катер полиции. Полицейские начали забрасывать страшные огромные крюки и прочесывать реку. Папа решил, что нам пора уходить.
Я плохо помню, о чем говорили со мной вечером папа и мама, но их слова были тихими, разумными и честными. Это была первая смерть, которую я видел так близко. Смерть тети Рути наступит лишь через два года. В тот раз я впервые увидел нестерпимую скорбь от потери ребенка, от потери брата. Я не мог представить себе, что чувствовал старший брат. Да и как я мог понять? Для этого надо знать так много всего об их жизни. Были ли они друзьями или, наоборот, часто ссорились? Заботился ли старший брат о младшем? Добавлял ли младший в жизнь старшего брата толику милой глупости? Чтобы узнать, что чувствовал старший брат, мне надо было знать ответы на эти и тысячи других вопросов.
Всё, что я мог, – поразмышлять о том, что почувствовал бы сам, если бы умер Стив. Если бы те пять лет, что мы провели вместе, навсегда остались единственным, что между нами было. Если бы Стив стал воспоминанием. Эпизодом прошлого. И ничем больше. Навсегда. Десятилетние мальчики не должны думать об этом темными часами от полуночи до рассвета, а я – думал. Не знаю, что ощущал брат того утонувшего мальчика, но я пытался представить, что чувствовал бы я, если б в тот день утонул Стив. И это был невыносимый, ужасный кошмар.
Нам не дано войти в персональный ад другого, но мы можем представить наш собственный ад, окажись мы в такой ситуации. Только благодаря этому мы можем подумать, сказать и написать что-то путное о скорби. Если нет сопереживания, скорбь остается в нашей голове, как в ловушке. Вернее, у некоторых из нас, чья жизнь – сплошная череда утрат, голова застревает в ловушке скорби.
Итак, скорбь необратима: невозможно скорбеть о том, что обладает некоторой вероятностью, скорбь нельзя испытать заранее. И как бы нам ни было трудно постичь скорбь другого человека, мы понимаем ее сквозь призму сопереживания.
Насчет скорби заранее я бы сделал всё же некоторые исключения. Можно скорбеть о друге, находящемся в терминальной стадии заболевания, или о человеке, который, например, пропал без вести при крушении корабля в море или на войне. Необязательно стоять у гроба, чтобы понять – человек умер или вскоре умрет. И хотя, по-моему, всегда есть шанс, что какое-то новое экспериментальное лекарство совершит чудо или что посреди океана вдруг найдут выжившего, вцепившегося в обломок судна, это всё слишком невероятно, и было бы чересчур жестоко не признавать страдание скорбью, требуя безусловной необратимости факта[62].
Почему это так, объясню на личном примере. Отец моей жены Джин, Мартин Маатта, умер в 1985 году; ее мать, Банни (Бернис) Маатта, – в 2012-м. Мы приезжали на недельку-две к Банни почти каждое лето (поскольку зима не лучшее время для посещения городка Ишпеминг в штате Мичиган). Лет десять после смерти Мартина мы ездили к Банни и видели ее в полном здравии. Мы целыми днями колесили по Верхнему полуострову, навещали родню. По вечерам Джин раскладывала банковские выписки и счета на полу в гостиной, проверяла, нет ли у Банни просроченных долгов, всё ли сходится. А мы с тещей тем временем засиживались допоздна на кухне, рассказывая друг другу истории из жизни и анекдоты. Например, еще будучи школьницей, Банни подрабатывала в кафе-мороженом «Чоколейт Шоп». В 1930-е годы во многих городах Среднего Запада были бейсбольные команды, которые летом ездили по окрестностям и играли вечерние матчи. Банни рассказывала мне, что в те дни, когда в городе проходил матч, она всегда работала в вечернюю смену. После игры некоторые из спортсменов заходили в «Чоколейт Шоп» попить газировки и съесть мороженое. «Эти парни были потные, мускулистые и красивые», – говорила она. Джин не припомнит этой истории; полагаю, некоторые вещи легче рассказать зятю, чем дочери. Мы с Банни удивительно понимали друг друга. Проводить с ней время было настоящим удовольствием.
Но в какой-то момент мы поняли – с Банни что-то не так. Она стала часто заговариваться, всё время повторять одно и то же, из ее разговоров исчезла какая-то искорка. Джин наняла местных сиделок, чтобы они присматривали за Банни, готовили, убирали, стирали, но главное – чтобы ее не оставляли одну. Это были чудесные женщины; даже теперь, по прошествии стольких лет после смерти Банни, мы навещаем их каждый раз, когда приезжаем в Ишпеминг. Однако в конце концов Банни стала настолько немощна, что этим женщинам было уже не справиться, и Джин отвезла маму в интернат. Там она прожила еще десять лет. Каждое утро она садилась в инвалидное кресло и каталась туда-сюда по длинным коридорам. К тому времени Банни почти не узнавала ни нас, ни других людей, но в целом она была счастлива. Сотрудники интерната любили ее. Вскоре после того, как Банни переехала в интернат, в один из наших приездов Джин решила сфотографировать ее в кресле-каталке. Мы с женой отступили назад, чтобы сделать фото, но Банни смотрела на нас непонимающим взглядом. Несколько сотрудников присоединились к нам и стали махать Банни, чтобы она улыбнулась. Джин попросила меня подойти сбоку и помахать Банни. Я так и сделал. Она посмотрела на меня, оскалилась в язвительной улыбке и показала мне нос. Джин никогда не видела, чтобы Банни так делала. Никогда. Мы все рассмеялись, и Банни тоже, а Джин получила желаемый снимок.
Однако с каждым годом от Банни оставалось всё меньше и меньше. Мы с Джин уже оплакивали то, что, как мы считали, было исчезновением самой «сущности Банни». Доктора говорили, что ее разум угас, а вскоре так же угаснет и ее тело. Мы были раздавлены невыносимым и трансцендентным ощущением утраты, и эта утрата была необратима. То есть это мы так думали.
Когда я навещал Банни, как оказалось, в последний раз, она была очень спокойна, безмятежна. В последний день нашего визита я отвез ее кресло на террасу. Всё это время Банни не выпускала моей руки. Мы втроем смотрели на пруд с рыбками и невысокие деревья, вокруг порхали птицы. Джин стояла слева от Банни, я – справа, и она по-прежнему держала меня за руку. Она никак не реагировала на наши слова. Вдруг Банни повернулась ко мне, нахмурилась, а затем расплылась в прекрасной улыбке и сказала: «Майк». А затем снова пропала. Какая-то ее часть по-прежнему была здесь, рядом. Может, нам надо было чаще разговаривать с ней? Мы не знали. Но ясно было одно: несмотря на то что наступило время глубокой печали, еще не наступило время для скорби.
Очевидной причиной скорби становится смерть. Другие обстоятельства – например, серьезная болезнь или деменция – не столь очевидны. Чем больше мы уверены в том, что утрата необратима, тем ближе мы подходим к тому, что я называю скорбью. В такой момент земля уходит из-под ног. Вам придется самостоятельно заново обрести опору, если вы решите применить описанный мной метод.
* * *
А теперь в нескольких словах расскажу об истории исследования скорби, взяв в качестве основного источника книгу психолога Джона Арчера «Природа скорби» (1999)[63].
В 1970-х годах психолог Джон Боулби утверждал, что скорбь, как неадекватная адаптация, является реакцией на разлуку[64]. Как правило, реакции на разлуку бывают адаптивно адекватными, то есть они заставляют нас искать любимого человека, с которым нас разлучили. Обстоятельств, когда подобная реакция приносит пользу, несравнимо больше, чем обстоятельств, когда она бывает во вред, поэтому эволюция не препятствовала развитию данной реакции. Однако скорбь – это реакция на разлуку, возникающая в ситуации, когда воссоединение невозможно.
Психиатр Колин Паркс предположил, что скорбь является неизбежным следствием формирования наших привязанностей[65]. Боулби и Паркс объясняли, что тревога как реакция на разлуку генетически выработалась в отношении всего, что критически связано с выживанием индивида (маленький ребенок зависит от родителей, которые его защищают и кормят), и с передачей генетического материала потомству (в этом смысле родители зависят от ребенка). Арчер высказывает предположение о том, что с точки зрения эволюции человек лишь недавно научился распознавать смерть, и у нас было недостаточно времени, чтобы выработать разные реакции на разлуку, где воссоединение возможно, и на разлуку необратимую, например смерть.
Арчер описывает исследования, целью которых было свести всё разнообразие реакций скорби к одной переменной. (Вы серьезно? И кому такое могло прийти в голову?) С помощью статистического метода под названием «факторный анализ» (весьма занимательный инструмент, нечто из разряда магии; если вас не пугает статистика и немного математики, поинтересуйтесь этой темой) ученые попытались собрать воедино разнообразные проявления скорби. Результаты оказались не слишком убедительны. Из этого я сделал вывод, что скорбь по сути является высокоразмерным феноменом.
В своем мозгу мы создаем сложные модели тех, кого любим, и эти модели встраиваются в нашу собственную модель, модель самих себя, становясь ее частью. Когда из внешней среды поступают сигналы, что что-то не так – например, что тот, кого мы любим, куда-то пропал, – включается страх разлуки. Мы пытаемся найти соответствие между внешними сигналами и сконструированными ожиданиями. И когда это не получается, нам приходится корректировать свою собственную модель. Это требует времени и определенных усилий.
Первое подробное исследование психологии скорби содержится в «законах горя» Александра Шенда[66]. За неимением экспериментальных данных, Шенд, для иллюстрации своих идей, обратился к поэзии и литературе. Но даже при наличии экспериментальных данных искусство предоставляет нам примеры живых эмоций более непосредственно, чем любые психологические исследования.
Принято считать, что скорбь имеет несколько стадий или фаз[67]. Правда, Арчер пишет: «Фазовому подходу очевидно не хватает опытного подтверждения», тем не менее он «представляет собой попытку передать динамический характер процесса скорби». Одно из перечислений этих стадий содержится в одиннадцатом эпизоде второго сезона «Симпсонов» под названием «Одна рыба, две рыбы, рыба-собака, голубая рыба». В японском ресторане Гомер съел суши с ядом рыбы-фугу. В больнице доктор Хибберт осматривает Гомера и заявляет, что тот умрет в течение дня:
Хибберт: По-видимому, вы пройдете через пять стадий. Первая – отрицание.
Гомер: Я вовсе не умираю.
Хибберт: Вторая – злость.
Гомер: Проклятие!
Хибберт: И потом – страх.
Гомер: А что, что после страха?
Хиббберт: Торг.
Гомер: Док, спасите меня, я хорошо заплачу.
Хибберт: И наконец, принятие.
Гомер: Мы все когда-нибудь умрем.
Хибберт: Мистер Симпсон, ваш прогресс удивляет меня.
На самом деле, эти стадии совсем не отражают те чувства, которые испытывает большинство людей. Но, надеюсь, вы согласитесь, что диалог забавный.
Скрытый смысл может придавать словам новые значения. «Исцеление» от скорби подразумевает возвращение к тому, что было до утраты, а это невозможно. Почивший человек по-прежнему мертв. «Перенастройка» означает подгонку нашей модели мира, чтобы включить в нее это отсутствие; при этом мы изменяем все аспекты модели, касающейся того человека, которого больше нет. Жизнь продолжается, но она не станет и не может стать такой же, как прежде. Я не могу смотреть на печенье, не вспоминая при этом маму, которая пекла его по особым случаям к завтраку. Тепло кухни, наполненной ароматом печенья, выбор варенья, процесс накрывания на стол – эти воспоминания вызывали боль на протяжении примерно года после смерти мамы. Теперь те же самые воспоминания вызывают грусть, нежность, и еще более глубокое понимание того, насколько мне повезло быть ребенком Мэри Эрроувуд. Сладкое печенье для меня то же, что для Марселя Пруста пирожное «мадлен». Я не исцелился, но перенастроился.
Один из традиционных методов справиться с тяжелой утратой, так называемая работа горя, состоит из четырех компонентов: принятия того, что утрата реальна; работы над тем, чтобы уменьшить боль утраты; изменения себя, чтобы приспособиться к утрате; и эмоционального отделения себя от человека, который умер. Хотя некоторое время назад гипотеза работы горя была весьма популярна, теперь она встречает определенное сопротивление[68].
Модель двойного процесса (МДП), созданная Маргарет Штрёбе[69] и Хенком Шатом[70], говорит о существовании двух процессов: ориентированного на потерю, когда человек борется со своей скорбью, и ориентированного на восстановление, когда человек раскрывает для себя другие стороны жизни[71]. Перенастройка подразумевает «колебание» между этими двумя процессами. Это помогает пересмотреть нашу модель мира и модель самих себя. Например, завязывание новых отношений взамен тех, что разрушены смертью близкого, согласно гипотезе работы горя не помогает избавиться от скорби, а согласно модели двойного процесса – помогает. Поможет ли вдове или вдовцу новый брак?
Является ли скорбь результатом эволюции? В книге «Природа скорби» Арчер пишет, что скорбь – это следствие нашей потребности в установлении связей, главной из которых является связь между родителем и ребенком, хотя у социальных животных (в том числе у людей) формируются и другие значимые привязанности. Многие из этих привязанностей важны для выживания, поэтому разрушение связей может представлять угрозу для жизни. Если ребенок разлучен со своими родителями, он оказывается в опасности, поскольку лишен их защиты, кроме того, это ставит под угрозу усилия родителей по передаче своего генетического материала потомству. Важным шагом в развитии теории привязанности является понятие «родственного отбора», предложенное биологом-эволюционистом Уильямом Дональдом Гамильтоном (не путать с математиком Уильямом Роуэном Гамильтоном). Родственный отбор – это эволюционный процесс, благоприятствующий репродуктивному успеху близких сородичей, пусть даже порой в ущерб репродуктивному успеху самой особи[72]. Гамильтон выводит формулу родственной связи, при которой родственный отбор является эффективным:
степень родства, помноженная на пользу, получаемую родственником, должна превышать ущерб, нанесенный конкретной особи.
Таким образом, привязанность и разлука обладают определенной взаимной симметрией. Гормоны стресса, побуждающие человека к тому, чтобы избегать разлуки и связанных с ней рисков, возникли в результате мутаций, а затем усилились благодаря естественному отбору.
Это справедливо не только в отношении людей: животные тоже могут испытывать страх разлуки и скорбь. У нас во дворе живет уличная кошка, которую мы назвали Пэтч[73] за серое пятно вокруг правого глаза. Несколько лет назад она родила четырех котят на стройке неподалеку от нашего дома. Рабочие принесли нам котят в коробке, а мы отвезли их в соседний городок, в приют, где животных не усыпляют. Насколько нам известно, привезенных нами котят разобрали по домам четверо работников приюта. Котята были необычайно милые. Всю следующую неделю Пэтч бродила по двору и звала своих детей. В ее криках явно сквозило отчаяние; она почти ничего не ела и только искала котят. Похоже, это был наглядный пример скорби как реакции на разлуку. В конце концов она перестала искать и начала есть более регулярно.
Пэтч часто проводит время в компании Слинки[74], уличного кота, прозванного так за то, что он крадучись смывается, когда кто-то к нему подходит, а не за его манеру спускаться с лестницы, как предположил мой брат. Мы считаем, что Слинки и Пэтч – брат и сестра из одного помета. Мы с Джин поймали их – сначала одного, потом другого, – чтобы стерилизовать и сделать прививки. Когда один оказывался пойман, другой бродил по клетке и плакал. Едва мы приносили пленника от ветеринара и выпускали его, другой тут же подходил к нему. Они терлись друг о друга головами и уходили парой. Даже теперь, много лет спустя, они неразлучны. По правде говоря, в тот самый момент, когда я пишу эти строки, из окна кабинета мне видно, как они, свернувшись рядом калачиком, лежат у нас во дворе.
Интересно, в тот день, когда Слинки исчез, боялась ли Пэтч, что он не вернется? С моей точки зрения, она вела себя как безумная, совсем как тогда, когда потеряла котят, но я не знаю точно, что творится в голове у кошки. Мне казалось, что оба, Слинки и Пэтч, испытывали скорбь. Но способна ли кошка понимать необратимость? Применимы ли мои критерии скорби ко всем животным?
И всё же вернемся к эволюционной гипотезе возникновения скорби. Разлука активирует гормоны стресса. Сам по себе стресс не обеспечивает выживание, но усилия, направленные на снижение стресса – на то, чтобы найти утраченного партнера, – в случае успеха способствуют выживанию. Однако в ситуации, когда партнер умер, а значит, его нельзя найти, скорбь при всех ее негативных последствиях, похоже, никак не способствует выживанию. Арчер утверждает – дело не в том, что скорбь каким-то образом способствует выживанию, а в том, что это побочный продукт нашей способности чувствовать привязанность, то есть вторичное следствие отбора, в результате которого возник механизм привязанности.
Таким образом, с точки зрения эволюции скорбь – это гормоны стресса от разлуки вкупе с пониманием того, что человек, которого нет, никогда, никогда, НИКОГДА больше не вернется. Очень трудно писать об этом. Время словно сжимается, и множество призраков роится в моей голове. Родители, дедушки, бабушки, тети и дяди, близкие друзья, ученики. (Как ученик может умереть раньше учителя? Когда такое происходит, что-то серьезно ломается в этом мире. Адам, у нас впереди было столько проектов. Какого черта ты курил сигареты? Интересно, что еще нам удалось бы открыть с помощью твоего программирования и моей математики?)А сколько кошек мы потеряли. Никогда больше мой милый маленький Боппер не свернется над моей головой на подушке и не убаюкает своим мурлыканьем.

Мы можем продвинуться дальше в этом направлении, познакомившись с книгой Барбары Кинг «Как животные скорбят», хотя, надо сказать, мне было трудно ее читать[75]. Для людей, которые любят животных, это эмоционально тяжелая тема. Кинг – талантливый и мощный автор, бо́льшую часть своего материала она подает в виде историй конкретных животных. Такой подход помогает нам понять, что животные способны любить, они способны испытывать скорбь.
Нас ведь не удивляет, что шимпанзе или слоны испытывают скорбь; в конце концов, и те и другие могут пользоваться орудиями и включаться в игру, демонстрируя тем самым достаточно высокий уровень сложности сознания. А по опыту общения со своими питомцами – собаками и кошками – мы много раз убеждались в том, что они способны чувствовать скорбь. А как же дельфины и киты? Черепахи? Курицы, кролики, свиньи, утки, гуси, обезьяны, аисты, воро́ны и во́роны, лошади, козлы, быки? И они все – тоже.
Скорбь у животных основана на чувстве любви. Опираясь на работы Джейн Гудолл[76], Синтии Мосс[77], Марка Бекоффа[78], Питера Фэшинга и других, а также на собственные полевые исследования в Кении, Кинг предлагает такое описание любви у животных:
Когда животное чувствует любовь к другому животному, оно будет из кожи вон лезть, чтобы быть рядом и позитивно взаимодействовать с любимым по причинам, которые не только включают, но и выходят за рамки целей выживания, таких как добыча пищи, защита от хищников, спаривание и размножение.
И:
Если животные не могут больше проводить время вместе (одной из возможных причин этому является смерть одного из партнеров), животное, которое любит, будет открыто выражать признаки страдания. Оно может отказываться от пищи, терять в весе, заболеть, вести себя импульсивно, стать вялым или всем своим видом показывать грусть или подавленность.
То есть Кинг считает способность испытывать скорбь одним из компонентов любви. На самом деле, она называет это достаточным условием для любви. А как же необратимость, которая, по моему мнению, является основным компонентом скорби? Кинг пишет, что «скорбь у животных не обусловлена сознательным представлением о смерти». С каждым примером автор подкрепляет идею о том, будто животные интуитивно чувствуют, что утрата вследствие смерти является окончательной.
Кинг приводит множество случаев, когда после исчезновения брата, сестры или партнера кошки бродят в поисках пропавшего. Часто их поиски сопровождаются жалобным воем, пронзительными криками, причитаниями. Трудно представить, что это еще может так проявляться, кроме скорби.
Известно, что люди скорбят по-разному, иногда другие этого даже не видят. Памятуя об этом, Кинг призывает шире смотреть на то, что мы наблюдаем: «Не стоит требовать от каждой собаки реакции скорби, чтобы поверить в то, что некоторые собаки способны скорбеть».
Животные также скорбят по-разному. Кони водят «лошадиный хоровод» вокруг павшего члена табуна. Подобное же поведение наблюдается и у коров. Что касается слонов, то к умершему члену стада подходят и явным образом оплакивают его не только кровные родичи, но и слоны из других семей.
Издавна существует мнение, что животные, в отличие от людей, живут только в настоящем времени, то есть у них нет понятия ни о прошлом, ни о будущем, а потому чувство необратимости им недоступно. Однако растут свидетельства того, что многие животные обладают эпизодической памятью (особыми воспоминаниями о каком-либо событии, присущими только данному индивиду) и, возможно, автобиографической памятью (воспоминаниями об истории собственной личности)[79]. Кроме того Кинг описывает шимпанзе Брута, который во время охоты демонстрировал двойное предвидение: он угадывал не только передвижение добычи, но и передвижения остальных шимпанзе в охотничьей стае[80]. Кинг сделала вывод, что Брут «мог анализировать психическое состояние других шимпанзе», что у него была модель психического состояния сородича.
Идея о том, что человеческому сознанию доступен широкий спектр возможностей восприятия, недоступный животным, по-видимому, подпитывается не столько фактами, сколько людской гордыней. Возможно, нам не стоит безоглядно полагать, что предвидение будущего является исключительно человеческой чертой. Равно как и чувство необратимости, хотя я пока не до конца уверен, к чему в нашем рассуждении следует отнести описанный Кинг феномен, когда некоторые самки обезьян по нескольку дней носят своих умерших детенышей[81]. Может быть, матери надеются, что их малыши вернутся к жизни? Или они так выражают свою скорбь? У нас гораздо больше вопросов, чем ответов.
Животные могут реагировать на смерть самыми разнообразными способами. Книга Барбары Кинг «Как животные скорбят» откроет вам много нового, только запаситесь носовыми платочками, когда будете ее читать.
А вот другая великолепная книга – «„Я“ значит „ястреб“»[82] – Хелен Макдональд ставит в центр внимания не скорбь, а ви́дение мира глазами представителя другого вида, ястреба-тетеревятника по имени Мэйбл. Особенно меня очаровали описания того, как Хелен и Мэйбл играют. Играют собаки и кошки, я видел что-то похожее на игру у белок, но не знал, что птицы тоже могут играть. А если это так, то я бы скорее приписал подобное умение воробьям, крапивникам или вьюркам, чем кровавым хищникам. Для меня это стало открытием.
Должно быть, нам даже проще увидеть мир глазами представителя другого вида, нежели глазами другого человека. То, что видит другой человек, всегда проходит через фильтр нашего собственного видения, попадает в контекст наших собственных представлений. Чтобы увидеть мир глазами ястреба, нам надо всё это отбросить. Начать с чистого листа и путем долгого, пристального наблюдения (а это самое трудное, это сотни или даже тысячи часов, проведенных вместе с птицей, часов наблюдений за ее реакциями, совместных занятий) выстроить частичку мира, которая не видна большинству из нас. Прочтите, например:
…я одновременно и ястреб на кустах, и охотник под ними. Такое странное раздвоение заставляет меня чувствовать себя человеком, идущим под самим собой, а иногда и от самого себя. Затем на мгновение всё превращается в пунктирные линии – и я, и фазан, и ястреб. Мы становимся данными в задачке по тригонометрии, где каждый обозначен своей буквой, выписанной изящным курсивом[83].
«„Я“ значит „ястреб“» – личная история писательницы о том, как жить с ястребом и как его тренировать; но это также история ее скорби об умершем отце. Неудивительно, что она подходит к ней с иной точки зрения.
С тех пор как умер папа, у меня не раз случались такие приступы дереализации, то есть расстройства восприятия окружающего, странные состояния, когда перестаешь узнавать мир[84].
(В четвертой главе я буду говорить о примерно таком же опыте, который мы испытали с братом. Там было ключевое слово «собака».)
Археология печали всегда в беспорядке. Ты копаешь землю, и лопата вдруг поднимает на поверхность давно забытые вещи. На свет божий извлекается нечто удивительное: не просто воспоминания, но образ мыслей, эмоции, твой прежний взгляд на мир[85]
Если вы еще не читали эту книгу, прочитайте ее как можно скорее. Что-то вам покажется печальным, что-то – прекрасным.
Врач и ученый Рэндольф Несси опубликовал проникновенное исследование «Эволюционная теория как основа для понимания скорби»[86]. А совместно с эволюционным биологом Джорджем Уильямсом он написал блестящую книгу «Отчего мы болеем: эволюционная медицина как новая наука»[87]. Авторы рассматривают болезнь с точки зрения эволюции; их выводы раскрывают нам глаза. Вот краткий пример: обычно немного повышенная температура не причиняет вреда организму, не считая того, что она сжигает немного больше ресурсов. Однако повышение температуры тела даже на пару градусов может существенно замедлить рост патогенов и дает адаптивной иммунной системе время, чтобы идентифицировать атакующие клетки и увеличить выработку соответствующих антител. Сбивать небольшую температуру аспирином крайне вредно. Прочтите эту захватывающую работу тоже. Как видите, я неудержим в своих книжных рекомендациях.
Подход Несси идеальным образом позволяет ему провести тонкий анализ скорби с точки зрения эволюции. Его исследование сосредоточено на следующем вопросе: «Как естественный отбор сформировал механизмы сознания, приводящие к возникновению чувства скорби?» В результате естественного отбора появились процессы, производящие эмоции путем физиологической регуляции. Например, когда наши предки в эпоху плейстоцена замечали вдалеке хищника, они начинали тревожиться, и эта тревожность помогала им ускользнуть от хищника. Отрицательные эмоции могут быть весьма разрушительны, поэтому, если они не способствуют выживанию, то в репродуктивном периоде не выдерживают естественного отбора. Грусть возникает после утраты близкого, и она вызывает у нас несколько ответных реакций: попытаться вернуть утраченное, попытаться предотвратить утраты в будущем, предупредить других о грозящей опасности. Когда утрата необратима и грусть плавно переходит в скорбь, эта разрушительная эмоция может мешать воспроизводству. Однако поступки, совершаемые нами, чтобы подобное не повторилось, способны повысить вероятность выживания потомства.
Не могу не упомянуть вопрос, поставленный Несси: «Является ли скорбь особой разновидностью грусти, предназначенной для того, чтобы справляться с трудностями привыкания к утрате родственника или возлюбленного?» Автор считает, что реальность это доказывает. Однако его подход в основном опровергает эпифеноменологическое толкование, предложенное Арчером. У Несси понятие «грусти» кажется шире, нежели мое.
То, как люди переживают и выражают скорбь, как они подстраиваются, чтобы справиться с утратой, является одной из самых интимных сторон человеческой жизни. В этом нет ничего удивительного: скорбь связана с любовью, а любовь – самое интимное из переживаний. Следовательно, после утраты близкого разные люди ведут себя по-разному.
Моя приятельница, драматург Андреа Слоан Пинк, описала несколько ситуаций, которые случились с ней после смерти матери. Каждый переживает утрату и скорбь у себя внутри. Мы слышим слова скорбящего человека, пытаемся понять его душевную боль, но нам это не удается. Дайте ему высказаться, но не надо утешать. Если можете, предложите ему помощь с повседневными делами. Так друзья часто приносят еду семье, потерявшей близкого человека. В остальном, выслушать – это лучшее, что мы можем. Выслушайте, что говорит Андреа:
Онемение и жгучая боль. Два долгих физических ощущения, вызванные смертью матери, пылали у меня под кожей, а внутри горел нестерпимо яркий свет, более мучительный, чем фонарик офтальмолога. Наконец, эти странные неврологические симптомы ослабли, но я не совсем уверена, что это хорошо. Я не хочу, чтобы кто-то уговаривал меня жить как прежде, снова «радоваться» тому, что не доставляет никакой радости.
Одной из мыслей, поразивших меня после смерти матери, была идея о невероятной расточительности мироздания. Как Вселенная может позволить, чтобы ум, владеющий пятью языками, вдруг в одночасье исчез? Вся накопленная польза, все усилия пускаются на ветер.
Скорбь ослепительным светом озарила всю мою жизнь, высветив ее несуразности. В ней оказалось так много неправильного. Теперь этот свет потускнел, но я помню кое-что из тех уроков, которые бросились мне в глаза.
3. Красота
Украшения в васильковых тонах.
Красота – мостик между скорбью и геометрией. Но чтобы показать это, придется потрудиться.
Барбара Кинг представляет доказательство того, что скорбь связана с любовью. Она сформулировала его для животных:
Скорбь расцветает, потому что два животных привязаны друг к другу, они заботятся друг о друге, может, даже любят друг друга – потому что в душе они уверены, что присутствие другого необходимо, как воздух[88].
То, что это применимо и к человеку, не требует иных доказательств помимо нашего жизненного опыта. В этой главе мы свяжем скорбь с другим сильным чувством – нашим откликом на красоту.
Выше мы уже связывали геометрию с красотой: некоторые разделы геометрии настолько прекрасны, что у меня захватывает дух. Теперь же я утверждаю, что красота и скорбь – ближайшие соседи, а может даже, скорбь есть мрачное отражение красоты.
В одном это утверждение кажется очевидным: и красота, и скорбь заставляют наши дыхательные пути сжиматься, парализуют диафрагму. Однако от любых сильных переживаний у человека может перехватывать дыхание, так что само по себе удушье не служит связующим звеном между скорбью и красотой. Для этого нам надо заглянуть немного глубже.
О скорби мы уже поговорили и нашли некоторые ее характерные черты, теперь, чтобы обнаружить связь между красотой и скорбью, нам следует раскрыть некоторые свойства красоты. Так же, как мы провели грань между скорбью и грустью, мы должны отделить красоту от красивости. Я начну с воспоминания из своего детства и надеюсь, оно позволит вам провести собственные памятные параллели.
Бывало, что вечерами незадолго до Рождества мы все забирались в машину, и папа вез нас через окрестные села в Сент-Олбанс посмотреть на праздничные украшения. Множество деревьев были обвиты разноцветными гирляндами, вспыхивавшими красными, зелеными, синими и желтыми огнями. Их мама называла «красивенькими». А некоторые были украшены одноцветными – только синими или только белыми огоньками, – их мама называла «красивыми». Я был любопытным ребенком и, конечно, просил маму объяснить, чем отличается «красивое» от «красивенького». К сожалению, я не помню ее ответ, что, впрочем, неудивительно, поскольку дело было в конце 1950-х годов. Мама уже давно умерла, так что теперь у нее не спросишь; но я попытаюсь представить, что она могла мне сказать.
В западной философии учение о прекрасном уходит корнями в Древнюю Грецию и даже глубже[89]. Наше нехитрое исследование не нуждается во всеобъемлющей теории эстетики. В качестве ориентира я лучше назову трех авторов: Дэниел Берлин, Денис Даттон и Ричард Прам.
В своей книге «Эстетика и психобиология» экспериментальный психолог Дэниел Берлин пишет, что для получения эстетического удовольствия (причем это касается не только красоты, но и красивости) требуются две характеристики: новизна и узнаваемость[90]. Новизна придает элемент неожиданности. Когда кто-то раз за разом играет гаммы, это не несет новизны; слушать гаммы неинтересно, они не доставляют эстетического наслаждения. С другой стороны, узнаваемость нужна для того, чтобы был некий контекст: если не путь к пониманию композиторского замысла, то хотя бы ориентир, помогающий вместить пьесу в рамки нашего опыта. Радиопомехи не дают эстетического наслаждения, поскольку не обладают распознаваемой формой, в них нет знакомых звуков. Поэтому и красота, и красивость должны проявляться не только как нечто новое, но и как нечто знакомое.
Эта тема впервые появляется в работе Берлина «Теория человеческого любопытства», основанной на его докторской диссертации, которую он защитил в Йельском университете. Берлин заключает, что наибольшее любопытство вызывают объекты со средним уровнем узнаваемости. В основе его исследования лежит представление о конфликте возможных реакций, когда степень любопытства коррелирует со степенью данного конфликта. Слишком незнакомые объекты не дают той реакции, которая способна породить сильный конфликт, тогда как слишком знакомые объекты не порождают конфликт вовсе, поскольку объект ожидаем. Любопытство сильнее всего возникает в наиболее благоприятной зоне между новизной и узнаваемостью.
Теорию Берлина о балансе между новизной и узнаваемостью можно рассматривать как продолжение теории Джорджа Сантаяны о том, что переживание прекрасного вытекает из тонкого баланса между чистотой и разнообразием[91]. Эта мысль высказана Сантаяной в работе о чувстве прекрасного, посвященной звуку, но он утверждает, что его исследование – «наглядный пример принципиального конфликта, который проявляется повсюду в эстетике». Вот как баланс Берлина описан у Сантаяны:
Поскольку ноту мы слышим лишь тогда, когда в хаосе звука можно различить набор регулярных колебаний, получается, что восприятие и ценность этого эстетического элемента зависит от всех элементов, которые не подчиняются простому закону. Это можно назвать принципом чистоты. Но если бы работал только этот принцип, то самой прекрасной музыкой был бы звук камертона. <…> Принцип чистоты должен сочетаться с другим принципом, который можно назвать принципом интереса. Объект должен обладать достаточной степенью разнообразия и выразительности, чтобы удержать наше внимание и широко взбудоражить нашу натуру.
Сантаяна не упоминается в книге Берлина «Эстетика и психобиология». Это говорит о том, что понятие новизны и узнаваемости (или чистоты и разнообразия) как необходимого условия эстетического восприятия было уже общепринятым, когда Берлин писал свою книгу. Оно просто «витало в воздухе».
Позднее в книге «Инстинкт искусства: красота, удовольствие и эволюция человека» философ Денис Даттон представил теорию эволюционного происхождения понятия о красоте[92]. Даттон выступает против общепринятой теории о том, что эстетическое чувство культурно обусловлено. Даже минутное размышление показывает, что чувство прекрасного не сводится к нашей культуре. Как, по-вашему, воздушные битвы среди бамбуковых зарослей в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли – это красиво?[93] Накал и изящество танца Ли Мубая и Цзень Юй; медленно разлетающийся бамбук и молниеносные удары мечей; далекие раскаты грома и виолончель Йо Йо Ма.
Разве на последних страницах романа Жозе Сарамаго «Перебои в смерти» у вас не захватывает дух?[94] У Сарамаго суть книги никогда не кроется в ее сюжете; главное – фантазия, чувства и особенно язык автора. Роман начинается с фразы: «На следующий день никто не умер». Такое отсутствие смертей продолжается некоторое время, и, хотя вам может показаться, что это благодать, всё оказывается наоборот. Люди по-прежнему болеют и получают увечья; только они не умирают. Возникает множество проблем. Наконец, смерть снова принимается за работу, но теперь люди, привыкшие к отсутствию смерти, жалуются, что не успевают к ней подготовиться. Тогда смерть начинает рассылать в лиловых конвертах письма, где сообщается, что человек умрет ровно через семь дней. Но людям и это не нравится. Однажды одно из писем возвращается обратно. Смерть посылает его вновь и вновь, но оно снова возвращается. Тогда она принимает человеческое обличье и находит того, чьи письма возвращаются ей. Он оказывается виолончелистом. Познакомившись с ним, смерть в конце концов влюбляется, и они спят вместе в его квартире.
Он заснул, а она – нет. И она, смерть, поднялась, открыла сумку, оставленную в гостиной, вытащила письмо в лиловом конверте. Оглянулась по сторонам, будто прикидывая, куда бы его положить – на рояль, между струнами виолончели или же вернуться в спальню и сунуть под подушку, на которой покоилась голова мужчины. Не положила никуда. Вышла на кухню, чиркнула спичкой – это она-то, способная одним взглядом испепелить эту бумажку, обратить ее в неосязаемый прах, воспламенить одним прикосновением пальцев, – и вот обыкновенная спичка, заурядная, жалкая, повседневная спичка подожгла письмо смерти, которое лишь сама смерть и могла уничтожить. И пепла не осталось. Смерть вернулась в постель, обняла спящего и, не понимая, что происходит, ибо смерть не спит никогда, – почувствовала вдруг, как сон мягко смыкает ей веки. На следующий день никто не умер[95].
В первый раз, когда я читал этот отрывок, меня поразило повторяющееся описание спички, не играющее никакой сюжетной роли. И, хотя, перечитывая этот пассаж позже, я уже не испытывал такого накала, мне открылась вся гениальность замысла Сарамаго. И если вы мне скажете, что этот роман – лишь продолжение одного из эпизодов сериала «Сумеречная зона» начала 1960-х, я пожалею вас за отсутствие воображения.
А как насчет расписных лубочных тканей племен мбути, или анималистической скульптуры инуитов, или наскальных рисунков в пещере Ласко, или мозаик Мескиты (см. наброски на следующей странице)?[96] Таких примеров множество. Искусство любой культуры может восприниматься людьми любой культуры, так что, если даже восприятие искусства культурно обусловлено, эта обусловленность является незначительной.
Мой отец не был человеком образованным. Он бросил школу и устроился работать на верфях в Ньюпорт-Ньюс, а во время Второй мировой войны, в семнадцать лет, пошел служить на флот. Он был умелым плотником и слесарем, но не очень понимал искусство. Когда на телевизионном экране мелькало изображение какой-нибудь модернистской картины, отец обычно говорил: «Пятилетний ребенок и то мог бы нарисовать лучше». Как-то я показал ему репродукции из книги о Пауле Клее[97]. Какое-то время он молча их разглядывал, а затем, присвистнув, сказал: «Ну, пожалуй, пятилетний ребенок так бы не нарисовал». И потом он задал вопрос, который несет в себе ключевую проблему понимания красоты: «Как картина может быть такой прекрасной и при этом ничего не изображать?» Перед ним было изображение не какого-либо узнаваемого предмета или знакомой сцены, и всё же оно его зацепило. Отец вырос в Роздейле, в Западной Виргинии, во времена Великой депрессии. Он не любил школу, хотя говорил мне, что ему нравилась математика. Наверное, чтобы меня не обидеть. Во время Второй мировой он служил на Тихом океане. После войны устроился в компанию «Юнион Карбайд» – сначала разнорабочим, затем рабочим силовой станции, потом насосной и, наконец, слесарем в механическом цехе, о чем всегда мечтал. За эти годы он женился на моей маме, и они вырастили троих детей. Сомневаюсь, что он когда-либо переступал порог музея искусств или картинной галереи. И всё же картины Клее вызвали в нем
Michael Frame
Geometry of Grief
Reflections on Mathematics, Loss, and Life
The University of Chicago Press
Издательство выражает благодарность Вадиму Шурыгину и Эдуарду Лернеру за помощь в подготовке настоящего издания.
Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
© 2021 by Michael Frame. All rights reserved.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
Пролог
Папа, это так страшно.
– Видишь самую яркую звездочку на небе?
– За деревом, посредине? Вон ту, Рути?
– Точно. Это Венера. Планета, огромный мир, почти как наша Земля. Она всегда окутана облаками. Никто еще не видел поверхности Венеры.
– Если там всегда облачно, значит, на Венере холодно.
– Не обязательно. Венера ближе к Солнцу, чем Земля. Возможно, облака удерживают тепло, и там очень жарко.
– Понятно. Сегодня небо ясное, так что нам прохладнее, чем в пасмурную погоду.
– Верно, Майки. Ну что, пойдем в дом?
– А другие планеты видно на небе?
– Сегодня не видно.
– А можно нам еще немного посмотреть на светлячков?
– Конечно.
Это был один из вечеров на исходе лета 1958 года. В багрянце неба, плавно переходящем в густо-синий, проглядывали редкие звезды, и среди них выделялась яркой точкой Венера. Мы ужинали вместе с моей бабушкой и тетей Рути, папиной сестрой, в их доме в Саут-Чарлстоне, штат Западная Виргиния. Мне было семь, моей сестре Линде – четыре, а брату Стиву – два. На задний двор вышли только мы с Рути. Остальные, как это называла мама, «вели светскую беседу» на крыльце. Мы жили в Сент-Олбансе, в каких-то восьми милях отсюда, и часто навещали бабушку и тетю Рути. Я не понимал, зачем взрослым вести светские беседы. Что там можно обсуждать? Они просто сплетничали о соседях и родственниках.
Мы с Рути были не такими. В тот день после полудня мы сидели в огороде и завороженно наблюдали за целеустремленным движением муравьев и беспорядочными прыжками кузнечиков. Пытаясь объяснить их поведение, я выдумывал замысловатые истории из мира природы; Рути предлагала гораздо более простые альтернативы моим рассказам. Она никогда не упоминала «бритву Оккама», но именно Рути впервые показала мне красоту простых решений. А также действенность принципа экономии: машина Голдберга – сложный агрегат, занимающий целую комнату и выполняющий какую-нибудь простую задачу вроде разбивания яйца, – слишком хитроумно устроена и часто допускает ошибки. Мои запутанные измышления, вероятно, были неплохим упражнением для ума, но неужели я думал, будто природа настолько глупа? Многие годы спустя я понял, что именно Рути наставила меня на путь науки. Любопытство, как она считала, – важнейшее свойство разума, а детское любопытство, толкающее на логические ухищрения маленького человека, который только открывает для себя этот огромный мир в его разнообразных аспектах и динамике, и есть самое прекрасное, что может увидеть взрослый. Родители, бабушки, дедушки, другие дяди и тети тоже поощряли мое любопытство, но Рути по-настоящему взращивала его, добавляя толику скептицизма, и всегда подыскивала какую-нибудь книгу по интересующей меня теме. Именно Рути вывела меня на тот путь, что спустя шестьдесят лет приведет к написанию этой истории.
Когда в начальной школе меня спрашивали, кем я хочу быть, то, в отличие от своих одноклассников, желавших стать полицейскими, пожарными или лесничими (профессии астронавта в ту пору еще не существовало – да, я такой старый), я говорил, что стану физиком, математиком или астрономом. На самом деле, в этом возрасте каждый ребенок – натуралист. Летним утром окрестные леса таили бездну удивительных открытий. Мое детское воодушевление не знало границ. Хотя родители были небогаты, их финансов хватало на детские творческие исследования. Чтобы измерять мощность термопары (это медный и стальной провода, скрученные вместе и преобразующие тепло в слабый электрический ток), отец моего одноклассника купил дорогой вольтамперметр. Я сделал гальванометр: две намагниченные иглы, воткнутые в прямоугольник из картона, подвешенный на нитке внутри проволочного кольца. Кто из нас радовался больше, когда его прибор показывал слабый ток?
Рути не помогала мне придумывать опыты – это делал папа, он разрешил мне устроить небольшую лабораторию в углу своей мастерской, – но именно Рути помогла мне осознать, что я могу ставить опыты и сам находить ответы на некоторые из своих вопросов.
Незадолго до моего одиннадцатилетия Рути заболела. У нее обнаружили лимфому Ходжкина – болезнь, излечимую в наши дни, но не в начале 1960-х. Ей прописали химиотерапию, кажется, мустаргеном, но она лишь промучилась на несколько месяцев дольше и умерла, когда мне не исполнилось и двенадцати. Я навещал Рути во время болезни, но почти ничем не мог ей помочь. Я стоял у ее кровати, положив свою маленькую ладонь на предплечье Рути, и пытался разговаривать с ней. И никак не мог найти нужные слова. После этих посещений, уже дома, мама обнимала меня и гладила по голове. Я понимал, что должен был больше разговаривать с Рути. Она столько сделала для меня, и сейчас я должен был отплатить ей тем же. Рути нуждалась в том, чтобы я говорил с ней, ведь я был ее любимчиком. Впоследствии я понял, что мама пыталась справиться с собственным горем. Она знала положение вещей гораздо лучше, чем я, она знала, что болезнь победит, а Рути проиграет это сражение. Папа сам заговорил со мной о болезни своей сестры. Он прямо так и сказал: Рути скоро умрет. Я был благодарен ему за честность. В том, что Рути уйдет или, что еще хуже, отправится к ангелам на небеса[1][2], не было ничего сверхъестественного. Ее жизнь должна закончиться, и совсем скоро.
– Это несправедливо. У нас с Рути еще столько дел впереди. Она обещала, что мы купим телескоп, будем смотреть на планеты. Я уже полгода откладываю карманные деньги. Это просто несправедливо.
– Сынок, жизнь несправедлива. Рути заболела не потому, что сделала что-то плохое. Она просто заболела. Иногда случается что-то хорошее, иногда – что-то плохое. Мы можем лишь постараться делать так, чтобы случалось больше хорошего и меньше плохого. Но происходящее очень часто от нас никак не зависит.
– Папа, это так страшно.
– Да, сын, страшно.
Той ночью я придумал план. Я буду много, много трудиться. Только учеба – никаких больше пряток-догонялок или глупых сказок для малышей. Я досрочно закончу школу, поступлю в колледж, потом в магистратуру, отучусь на медицинском факультете, стану ученым, найду лекарство от лимфомы Ходжкина, дам его Рути и спасу ее. В одной из версий моей фантазии я летел на вертолете из своей научной лаборатории в больницу к Рути. Мне страшно нравился придуманный план. Я расписал его маме и сказал, что попрошу Рути не волноваться и спасу ее. Я думал, мама обрадуется, но она очень расстроилась и сказала, что мне нельзя говорить об этом Рути.
– Но почему? Ты не хочешь, чтобы она знала, что всё будет хорошо?
– Майки, я не хочу, чтобы ты будил в ней надежду, – ложь, но приятная, сладкая ложь. – Как бы ты ни старался, ты не сможешь спасти Рути.
Умом я понял, что мама права. Я пошел в городскую библиотеку, нашел книгу по онкологии (до этого я спросил у мамы, как называется наука, изучающая рак) и отыскал в ней показатели выживаемости при лимфоме Ходжкина. Цифры оказались неутешительными. Но я не мог представить себе мир без Рути. Ведь впереди у нас были долгие годы, полные научных открытий. Да и как могла Рути оставить свою дорогую маму, Луверну Фрейм, добрейшую и милейшую из всех взрослых, которых я знал? Существует же какой-нибудь выход, и я обязательно его найду.
Но Рути скончалась. Папа был с ней в больнице и держал ее за руку, пока она умирала. Когда он вернулся домой, я всё прочел по его лицу. Он рассказал об этом маме, Линде и Стиву. Они заплакали, а я нет. Наконец мама сказала, что Рути была смертельно больна, что она не могла поправиться и что, к счастью, она уже отмучилась.
– Рути мучилась? – простонала Линда.
А потом они со Стивом начали бегать кругами с дикими воплями. Наконец они успокоились, продолжая тихо всхлипывать. Я и раньше знал, что Рути мучилась. Ожидая в больничном коридоре за дверью ее палаты, пока папа спросит, можно ли мне войти, я иногда слышал ее стоны. Она страдала, а теперь – нет. Неужели покой небытия лучше, чем почти непрекращающаяся боль? Неразрешимый вопрос для двенадцатилетнего человека. Неразрешимый и сейчас…
Папа не захотел, чтобы мы, дети, пошли на похороны. Мама с папой поехали туда, а мы остались с мамиными родителями, Берлом и Лидией Эрроувуд. В дедушкиной мастерской я нашел мешок с воздушными шариками. Дедушка был ювелиром и ремонтировал разные часы. Для изготовления некоторых сплавов дедушка пользовался газовой горелкой, поэтому в мастерской стоял баллон с газом. Я наполнил шарик газом, завязал его, вышел во двор перед домом, подальше от деревьев и выпустил свой шар в небо. Это был печальный символический жест: он являл собой все те опыты, которые мы планировали провести с Рути и которые теперь навсегда остались неосуществленными. Словно закрылась некая дверь.
И сам я закрылся от мира. Я уже ничем не мог помочь Рути, но, возможно, в будущем принесу пользу другим людям. Я весь ушел в книги и научные исследования. Родители уговаривали меня выйти и порезвиться на улице. Они говорили, что Линда со Стивом соскучились по мне, но вряд ли это было так. Всё лето они проводили на улице: просыпались на заре под пение соек и дроздов и целый день играли то в догонялки, то в прятки, пока в сумерках не зажигались блуждающие огоньки светлячков. Нет, я им был не нужен.
Теперь у меня появилась цель: я ничем не мог помочь Рути, но мог придумывать лекарства от болезней и спасать других людей. В двенадцатилетнем возрасте серьезно настроенный мальчик может проявлять недюжинную решимость, и я был готов идти до конца.
В том же году в учебнике алгебры мне попалась одна дополнительная задача. Чуть ли не все выходные я пробовал разные изощренные способы ее решения. Наконец у меня получилось, но как-то неуклюже, механистически, неизящно. Ответ сошелся, но я понимал, что автор имел в виду нечто другое. В понедельник после урока математики я подошел к учительнице. Она улыбнулась и сказала, что рада моей попытке решить задачу, а потом показала простое и красивое решение.
В тот момент весь мир для меня словно схлопнулся, исчез, и я почувствовал некий новый привкус печальной горечи. В решении использовались только известные мне способы, но мне даже не пришло в голову применить их таким образом. С того дня я начал подозревать, что недостаточно умен и не смогу стать хорошим ученым. Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию я вполне мог войти в ученую среду, но удовлетворит ли меня жизнь на вторых ролях? Выбор такой карьеры вполне мог привести к тому, что в конце своего жизненного пути (где я сейчас и нахожусь), оглядываясь назад, я увижу лишь долгие годы кропотливой работы с весьма редкими вкраплениями скромных озарений. Несомненно, это были бы восхитительные мгновения. Наслаждение от того, что ты хоть немного проник в архитектуру идей, само по себе щедрая награда. Но мне хотелось чего-то большего.
Была ли моя жизнь так уж непохожа на жизнь других людей? Бывает так, что возможности и интересы человека совпадают, его полностью устраивает его жизнь безо всяких сожалений и сомнений – такому можно лишь позавидовать. Но многих из нас одолевают мысли об упущенных возможностях. Некоторые решения приводят нас туда, откуда нет пути назад. Даже если мы сейчас изменим траекторию, остаток жизни пройдет не так, как если бы много лет назад мы сделали иной выбор. Нам больше недоступно то, что могло бы произойти, и мы испытываем горечь утраты.
Путь, который выбрал я, – то есть исследование некоторых математических структур, – открыл для меня новые горизонты скорби. Мне кажется, переживание утраты имеет сходные черты с занятием математикой; мы увидим, как одно перекликается с другим. Когда я бился над какой-либо математической задачей, это помогало мне разобраться со своей болью. Об этом моя книга.
В своем «Альманахе для сомневающихся» Этан Канин[3] пишет:
Вызывает ли смерть ту же горечь, что и мысль о страданиях, которые ждут ребенка в будущем? А грусть, которую навевает музыка? Это та же грусть, что приходит к нам в летних сумерках?.. И то и другое мы зовем скорбью…
Но как утолить боль, которую я испытываю о моем отце в последние несколько дней? Мы думаем, будто наша скорбь, подобно всем плоскостям, известным нам в этом мире, имеет границы. Но так ли это?[4]
Поскольку геометрия, с моей точки зрения, самая красивая часть математики и та часть, которую я знаю лучше всего, я в основном буду говорить о геометрии – о геометрии скорби. Она столь же отличается от «скорби геометрии» (это когда вы испытываете томительное желание вырваться с последнего урока, где учитель дотошно разбирает на доске в две колонки доказательство «по двум сторонам и углу между ними»), как слова известного блюза «If it weren’t for bad luck, I’d have no luck at all»[5] от арии «Nessun dorma» Пуччини. В этой книге мы рассмотрим, каким образом геометрия и скорбь раскрывают некоторые аспекты друг друга.
Мой проект был уже почти полностью оформлен еще до того, как я решил поинтересоваться, что на данную тему писали другие. В этой книге часто повторяется такая мысль: идея никогда не возникает на пустом месте. Если бы я воспринял чужие идеи прежде, чем обдумал собственный опыт переживания скорби, возможно, я не смог бы осмыслить свой опыт достаточно глубоко. Только после того, как я набросал общий план книги, я прочел основные работы по этой теме. Особенно полезными оказались эволюционные исследования психолога Джона Арчера «Природа скорби», антрополога Барбары Кинг «Как животные скорбят», а также врача и биолога-эволюциониста Рэндольфа Несси «Эволюционные основы для понимания скорби»[6]. Некоторые из моих идей схожи с научно доказанными, некоторые – отличаются, и порой существенно. На них я сконцентрируюсь отдельно.
Можно ли считать проявлением эгоизма то, что я отдал предпочтение собственным размышлениям, а не рассуждениям ученых, посвятивших исследованиям скорби многие годы? Вы можете не согласиться, но я отвечу «нет». В темные часы от полуночи до рассвета мы оказываемся наедине со своими мыслями. Именно в это время мы наиболее полно ощущаем нашу внутреннюю скорбь. Сперва надо разобраться в собственном опыте, и лишь затем сравнить его с уже существующими трудами. Чтобы моя книга была вам понятна, вам надо прежде заглянуть внутрь собственной скорби.
Несмотря на всё мое восхищение работами Арчера, Кинг, Несси и других ученых, я полагаю, что литература, кино и музыка позволяют более непосредственно и живо погрузиться во внутренний мир скорби. Эту идею разделяю не только я. Когда Александр Шенд[7] писал «Основы характера», где впервые систематически исследовал психологию скорби, у него было мало экспериментальных данных, так что примеры он брал из поэзии и литературы, из произведений писателей, которые внимательно и тонко относились к наблюдению за человеческой природой[8]. Арчер прибегает к литературным произведениям, чтобы, используя их мощь, ярче выразить эмоциональную остроту чувства, а также исследует, как скорбь проявляется в искусстве[9].
Жизненные истории дают нам более непосредственную, более подробную и развернутую картину. О взглядах Сартра на экзистенциализм я узнал гораздо больше из его трилогии «Дороги свободы», чем из серьезного философского труда «Бытие и ничто»[10]. В дальнейших главах я буду рассказывать много личных историй.
Чтобы понять, каким образом искусство интуитивно передает глубину таких переживаний, как любовь и скорбь, вспомните слова песни «My Skin» Натали Мерчант или ее проникновенный голос в «Beloved Wife». Вспомните печальные, но полные надежды слова «Dante’s Prayer» Лорины Маккеннитт. Вспомните захватывающий финал «Сочленения № 5» из оперы «Эйнштейн на пляже» Филипа Гласса. С музыкальной точки зрения другие части произведений Гласса более интересны, но у меня захватывает дух от наслаивающихся голосов инструментов и прозаичного монолога на их фоне. Музыка способна напрямую донести до нас всю глубину чувств[11].
Если вы смотрели прекрасный фильм Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», вспомните, как Ли Мубай умирает на руках Юй Шулень. Перед смертью он говорит ей такие слова: «Я и так напрасно потратил всю свою жизнь. И на пороге смерти я должен тебе сказать… Я всегда тебя любил. Я лучше буду призраком, бродящим рядом с тобой… как неприкаянная душа… чем поднимусь на небо без тебя. Благодаря твоей любви… я никогда не буду одинок».
Или вспомните концовку. Цзень прибывает в храм на горе Удан. Вместе со своим возлюбленным, разбойником Ло, она стоит на мосту над облаками и спрашивает его: «Ты помнишь легенду о юноше?» Когда-то Ло рассказал ей:
У нас есть легенда: Бог выполнит желание человека, осмелившегося прыгнуть с горы. Некогда родители одного юноши заболели, и он прыгнул. Он не умер. Он даже не пострадал. Он улетел далеко-далеко и не вернулся. Он знал, что его желание сбылось. Если веришь, сбудется. Старики говорят: «Сердце верит – желание сбудется».
Ло: «Сердце верит – желание сбудется». Цзень: «Загадай желание, Ло». Ло: «Вместе вернуться в пустыню». Цзень прыгает с моста и исчезает в облаках. Под прощальные звуки виолончели Йо Йо Ма[12] она летит сквозь облака. И становится понятно, что это не фильм про боевые искусства, а история о любви, утрате и скорби[13].
А может быть, вы смотрели «Клиент всегда мертв» – сериал из пяти сезонов о жизни семьи владельцев похоронного бюро в Лос-Анджелесе. Конечно, вы можете возразить, что я выбрал слишком очевидный пример: те, кто занимаются похоронным бизнесом, сталкиваются со скорбью ежедневно на работе. Однако в каждом эпизоде смерть и скорбь рассматриваются с определенной философской или психологической точки зрения. Меня особенно интересует финальный эпизод, где звучит песня «Breathe me» в исполнении Сии[14]. На наших глазах проходит жизнь и смерть главных героев, мы видим весь их жизненный путь, раскрываются разные грани скорби, она представляется как отзвук любви. Я хотел бы упомянуть и забавную (хотя на самом деле грустную) отсылку к данному эпизоду в «Симпсонах», в последней серии двадцать девятого сезона под названием «Лестница Фландерса».
Вспомните смерть Евгения Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети» и неизбывную скорбь его старых родителей, горюющих над могилой сына[15]. Евгений мог бы избежать смерти. Секундный промах – и в мире романа его смерть стала реальной, неотвратимой. В конце произведения Тургенев так описывает его могилу, расположенную на небольшом деревенском кладбище:
К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын…
Душераздирающая картина родительского горя. Но, зная весь контекст романа, мы еще глубже понимаем их отчаяние. Иногда мне кажется, что ощущение этой раздавленности в сочетании с простотой и обыденностью тургеневского стиля раскрывают самую суть великой красоты, таящейся в глубине скорби.
Истории из жизни не могут передать чувства другого человека, но они помогают нам представить, как бы мы чувствовали себя на его месте. Здесь, как мне кажется, кроется суть сопереживания. Только так мы можем что-то понять о природе скорби.
Многое из того, о чем мы будем здесь говорить, выросло из моих собственных интроспективных размышлений, моего опыта переживания скорби и раздумий о геометрии. В основном я буду рассказывать о них на примере личных историй, а не в виде абстрактных рассуждений, поскольку считаю, что жизненные примеры гораздо нагляднее отражают идеи, для понимания которых важны чувства. Абстрактные рассуждения дают определенную основу, а истории из жизни показывают предмет во всей его непосредственности и злободневности.
Возможно, мой опыт напомнит вам свой собственный. А может быть, у вас были совершенно другие переживания. Приводит ли различный опыт к различному пониманию скорби? Я не знаю. Природа дает простор для множества вариантов. А сколько их еще живет в нашем воображении?
В этой книге мы познакомимся с несколькими идеями, большинство из которых будут изложены несколько раз в различных контекстах и подкреплены примерами из жизни. Вот краткое описание основных моментов, которые мы будем исследовать.
Скорбь – это реакция на невосполнимую утрату. Следовательно, нельзя испытать скорбь заранее[16]. Чтобы возникла скорбь, а не просто грусть, утрата должна нести большую эмоциональную нагрузку и приоткрывать завесу трансцендентной стороны мироздания. Разгонять туман, заслоняющий от нас средоточие ослепительного света. Мы сфокусируемся на трех аспектах скорби: необратимости, эмоциональной значимости и трансцендентности. Они свойственны не только опыту скорби. У меня самого нет детей, но, по моим представлениям, родительство является не менее глубоким переживанием: та же необратимость, эмоциональная наполненность, трансцендентность. Однако скорбь вдобавок – это реакция на утрату
Скорбь возникла в процессе эволюции. Мы рассмотрим доводы в пользу этой теории, а также доказательства того, что животные тоже скорбят. Кроме того, мы увидим, что литература и музыка порой являются для нас весьма полезными проводниками в мир скорби. Одновременно они помогают справиться с ней.
Момент озарения, когда всё вдруг становится ясно, бывает лишь раз. Но если то, что мы поняли, очень важно для нас, если оно затрагивает тайные глубины души, мы порой скорбим об утрате этого мига: будучи единожды пережитым, он уже никогда не случится вновь. Красота, увиденная в зеркале, отражает скорбь. Именно она, по моему мнению, связывает скорбь с геометрией.
Взгляд на жизнь как на траекторию внутри пространства повествования, который мы вводим в четвертой главе, открывает путь к возможности проецировать свою скорбь на что-либо и тем самым облегчить ее. Пространство повествования – наш основной инструмент, поэтому здесь я перечислю главные тезисы, связанные с ним:
• Каждый момент нашей жизни обладает множеством – возможно, бесконечным множеством – переменных, которые мы способны регистрировать (обнаруживать, осознавать).
• Мы можем представлять себе наши жизни как траектории, пролегающие сквозь пространство повествования, параметризованные временем.
• Мы никогда не можем охватить взором (осознать, зарегистрировать) все возможные переменные; более того, мы фокусируемся только на нескольких переменных, ограничивая свое внимание подпространством малой размерности в пространстве повествования.
• Траектория нашего движения сквозь эти подпространства – то, что мы рассказываем о своей жизни самим себе, то, как мы представляем себе смысл нашей жизни, но в этом рассказе всегда недостает каких-то элементов нашего опыта.
• Необратимая утрата проявляется как разрыв, скачок через пространство повествования (или в пространстве повествования).
• Фокусируясь на определенных подпространствах, проектируя в них наши траектории, мы можем снизить видимую величину скачков и, следовательно, каким-то образом противостоять эмоциональной утрате, а может быть, и уменьшить ее воздействие. В дальнейшем мы проиллюстрируем данный тезис парой примеров.
Более того, скорбь самоподобна: скорбь утраты близкого человека содержит в себе множество более «мелких скорбей». Вы больше никогда не будете беседовать, делиться друг с другом воспоминаниями о плохом и хорошем, не прогуляетесь молча вдвоем. Каждая из этих «скорбей» – уменьшенная версия вашей реакции на утрату близкого, маленькая копия, которая может стать лабораторией для поиска полезных проекций. Спроецированная вовне, скорбь способна указать на те действия, которые помогут другим людям. Мне представляется, что при наилучшем раскладе в данное русло можно перенаправить часть этой энергии скорби. Пусть это будут не большие шаги, а маленькие, но все же шаги вперед.
Моя книга – гимн любви к покойным родным, друзьям, которых нет с нами, и котам, которых мы потеряли. А еще это гимн любви к геометрии, ярчайшей точке моих размышлений. В старости мое понимание геометрии с каждым годом всё больше стирается, добавляя разбитому сердцу еще больше разветвленных трещин.
Представленные здесь примеры из геометрии являются не просто инструкцией о том, как справиться со своей скорбью, они рисуют план действий, который помог мне. Возможно, эти вехи укажут путь, чтобы вы, с помощью моего подхода, смогли сами умерить свою боль. И, возможно, они помогут вам увидеть геометрию в своей жизни там, где раньше вы ее не замечали.
1. Геометрия
Жаль, что уже не увижу деревья, какими видел их раньше.
Представьте, что сейчас ранняя весна, вечерние сумерки, и вы сидите в каком-то малознакомом парке. Что вы увидите, подняв глаза от страницы этой книги? Вероятно, замысловатый узор из светлых и темных силуэтов, вливающихся в шероховатые столбы – стволы деревьев; толстые ветви, ветки потоньше, мелкие прутья; потрепанные обрывки плоскостей – листьев. А еще цветы и траву. Геометрические формы позволяют нам узнавать или, по крайней мере, называть то, что нас окружает.
Мы видим, как зрительно меняются формы, распознаём их движение – наблюдаем, например, как листья и ветки покачиваются от легкого ветерка.
Листья на вершине высокого дерева всё еще освещены солнцем, хотя ствол погружен в темноту. Мы обычно говорим, что тьма спускается, но здесь она как будто поднимается (а если мы придем в парк утром, то увидим, как по стволу дерева спускается рассвет). Геометрия солнца и земли являет во всей простоте то, чего мы раньше не замечали в этом мире.
На протяжении веков художники великолепно чувствовали геометрию. Приведу лишь несколько примеров. А если вы немного покопаетесь в «Гугле», то найдете еще больше.
Построенный в IX, а затем воссозданный в XIII веке дворец Альгамбра в испанской Гранаде – прекрасный образец исламского искусства и архитектуры. Множество декоративных мозаик, включая ту, что приведена ниже, являются замощениями плоскости правильными многоугольниками.
Это фигуры, которыми можно покрыть всю поверхность без наложений и пропусков, поскольку все они соприкасаются друг с другом лишь краями (частично или полностью). Клетки шахматной доски или шестиугольные пчелиные соты – наиболее известные из таких фигур, но есть и другие.
В книге Бранко Грюнбаума[17] и Джоффри Шепарда[18]«Плитки и паттерны» (этот семисотстраничный труд вполне заслуживает эпитета «всеобъемлющий») приводится огромное количество примеров не столько из области искусства, сколько из области математики[19]. Вообще существует семнадцать различных паттернов, обладающих красноречивым названием «группы орнамента». То, что таких паттернов всего семнадцать, было доказано в конце XIX века, но исламские художники знали об этих способах мощения за сотни лет до того, как русский кристаллограф и математик Евграф Фёдоров представил свое доказательство данного тезиса[20]. Иногда художники интуитивно делают открытия, которые математики проверяют и доказывают лишь многие годы спустя.
Взаимодействие геометрии и искусства отражают также подобные треугольники. Из школьных уроков геометрии мы знаем, что два треугольника подобны, если они имеют одинаковую форму, даже если у них разные размеры. Фигура называется самоподобной, если она состоит из элементов, каждый из которых подобен целой фигуре. На верхнем рисунке слева приведена фигура, состоящая из треугольников, расположенных внутри других треугольников, – это треугольник Серпинского, одна из самых известных самоподобных фигур. Чтобы увидеть ее самоподобие, обратите внимание на то, что она состоит из трех частей – нижней левой, нижней правой и центральной верхней, – каждая из которых подобна целому треугольнику. Об этом треугольнике мы поговорим подробнее в третьей главе.
Фракталы (класс фигур, впервые описанных математиком Бенуа Мандельбротом) – фигуры, построенные из частей, среди которых каждая так или иначе подобна целому. Кусочек береговой линии, если его рассматривать вблизи, выглядит так же, как ее большой отрезок с большого расстояния; листочек папоротника выглядит как сам папоротник в миниатюре; двухметровая нить ДНК сворачивается внутри клеточного ядра диаметром примерно в одну миллионную часть ее длины, повторяя один и тот же способ сложения каждый раз в меньшем масштабе. Это фракталы, которые мы наблюдаем в природе. Простейшие фракталы – самоподобные фигуры вроде треугольника Серпинского.
Круглый узор под треугольником на рисунке слева – это плиточный орнамент XIII века в одном из итальянских соборов, представляющий собой шесть фигур, напоминающих изогнутые треугольники Серпинского, окруженные кольцом треугольников поменьше[21]. (Делая данный набросок, я измерил и зарисовал основные элементы, а остальное заполнил на глаз. Это заняло немало времени. Но оригинал вырезался вручную, элемент за элементом, а потом они складывались вместе. Когда я об этом думаю, тот час, что я провел над рисунком, уже не кажется таким долгим.)
Художники размышляли над самоподобием многие века. Почему? Потому что оно часто встречается в природе, а художники внимательно присматриваются к ней.
Более свежим примером использования самоподобия является картина Дали «Лицо войны» (1940), изображающая бесчисленные ужасы гражданской войны в Испании. На картине мы видим лицо, в глазницах которого и во рту заключены другие лица, в чьих глазницах и ртах снова заключены лица, и так далее еще на несколько уровней вглубь. Паттерн очень напоминает треугольник Серпинского – повторение фигур, выстроенных в треугольник, только в данном случае располагающихся наверху слева и справа и внизу посредине. Картина Дали гораздо страшнее, чем мой набросок: по обеим сторонам головы без тела вьются клубки змей[22]
