О хождении во льдах бесплатное чтение
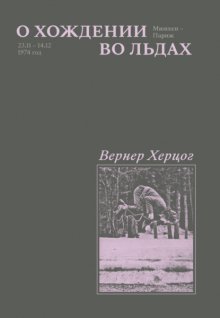
© 1978 Carl Hanser Verlag
GmbH & Co. KG, München
© ООО «Индивидуум Принт», 2023
Предуведомление
В конце ноября 1974 года мне позвонил из Парижа один друг и сказал, что Лотте Айснер тяжело заболела и, вероятно, умрет. Я сказал, что этого не может быть, не сейчас, немецкое кино не может сейчас без нее никак обойтись, мы не можем допустить, чтобы она умерла. Я взял куртку, компас и вещмешок с самым необходимым. Башмаки у меня были такие прочные и новые, что я вполне мог на них положиться. Я отправился самой прямой дорогой в Париж, твердо веря в то, что она останется жить, если я приду к ней пешком. Кроме того, мне хотелось побыть наедине с собой.
То, что я записывал в пути, не предназначалось для читателя. Теперь, почти четыре года спустя, когда я снова взял в руки свой старый блокнотик, написанное странным образом глубоко тронуло меня и желание показать текст другим, незнакомым людям перевесило робость от того, что придется так широко распахнуть дверь перед посторонними взглядами. Только некоторые, глубоко личные подробности я опустил.
В. Х., Делфт, Голландия, 24 мая 1978 года
Суббота, 23.11
Пройдя метров пятьсот, я сделал первую остановку возле больницы в Пазинге, оттуда собирался повернуть на запад. По компасу определил направление на Париж – теперь я знал, куда мне двигаться. Ахтернбуш[1] выпрыгнул на полном ходу из автобуса марки «фольксваген», и ничего, тогда он выпрыгнул еще раз и сломал себе ногу, теперь лежит в пятом отделении.
Перебраться через Лех будет большой проблемой, сказал я ему, потому что очень мало мостов. Может быть, кто-нибудь из местных возьмется переправить меня на лодке? Герберт разложил гадальные карты мне на дорогу, крошечные, не больше ногтя, но теперь не знает, как прочитать все это, потому что не может найти бумажку с «ключом». Тут есть “The Devil”[2], а во втором ряду – “The Hanged Man”[3], нарисованный вверх ногами.
Солнце, как будто на дворе весна, неожиданность. Как выбраться из Мюнхена? Что волнует людей? «Караваны», разбитые машины, выставленные на продажу, автомойка? Размышления о себе самом заканчиваются выводом: окружающий мир вполне рифмуется со мною.
Единственная всепоглощающая мысль: прочь отсюда. Люди нагоняют на меня страх. Айснерша не имеет права умереть, она не умрет, я не позволю. Она не умрет, нет. Не теперь, сейчас нельзя. Нет, сейчас она не умрет, потому что не умрет. Я иду твердым шагом. Земля дрожит предо мной. Моя поступь – поступь бизона, на привалах я как гора. Поберегись! Она не имеет права. Она не умрет. Когда я доберусь до Парижа, она будет жива. По-другому не будет, потому что иначе нельзя. Ей нельзя умереть. Потом, наверное, когда-нибудь, когда мы разрешим.
На каком-то поле, залитом дождем, мужчина ловит женщину. Трава прибита и вся грязная.
Правая нога, в районе икры, доставит мне, наверное, проблемы, левый башмак, у пальцев, вероятно, тоже. Когда идешь, в голове крутится всякое разное, мозг неистовствует. Чуть дальше едва не произошла авария. Географические карты – моя страсть. Скоро начнутся футбольные матчи, на раздолбанных площадках прочерчивают центральную линию. Баварские флаги у станции метро «Аубинг» («Гермеринг»?). За поездом тянется шлейф взвихренных бумажек, он тянется и тянется, потом поезд исчезает из виду. В руке я чувствую еще ладошку моего маленького сына, эту удивительную ручонку, большой палец которой так ловко ложится мне на запястье. Я смотрю на бумажный вихрь, и сердце готово разорваться на части. Время медленно приближается к двум.
Гермеринг, кафе, у детей первое причастие; духовой оркестр, официантка разносит торт, здешние завсегдатаи пытаются разжиться кусочком. Древнеримские дороги, кельтские оборонительные сооружения, есть где разгуляться фантазии. Суббота, после полудня, мамаши с детишками. Детские игры, как они выглядят в действительности? Не так, как в кино. Чтобы разглядеть, нужна подзорная труба.
Все это мне в новинку, невиданная часть жизни. До того я стоял на мосту, подо мной – часть автобана в сторону Аугсбурга. Прежде я, проезжая тут на машине, не раз видел людей на этом мосту, смотрящих вниз, теперь я один из них. Второе пиво, оно пошло не впрок – ноги как ватные. Молодой человек натянул веревку с висящей на ней картонкой-объявлением между двумя столами и закрепил концы скотчем. Завсегдатаи требуют перевесить загородку, вас забыли спросить, говорит официантка, снова заиграла громкая музыка. Завсегдатаям хотелось бы подловить момент, когда молодой человек залезет официантке под юбку, но он на такое не решается.
Только если бы это был фильм, я бы воспринял все как реальность.
Где я буду спать, меня не заботит. Мужчина в блестящих кожаных штанах шагает на восток.
– Катарина! – кричит официантка, держа поднос с пудингом на уровне бедра.
Она кричит в южном направлении, за этим я слежу.
– Валенте![4] – отзывается один из завсегдатаев на радость собутыльникам.
Сидящий по соседству мужчина в зеленом фартуке, которого я поначалу принял за крестьянина, оказался при ближайшем рассмотрении трактирщиком. Постепенно хмель ударяет мне в голову. Рядом со мной столик, который все больше сбивает меня с толку, поскольку он весь заставлен кофейными чашками, тарелками с тортом, но за ним решительно никого нет. Почему за ним никто не сидит? Крупная соль на бретцеле приводит меня в такой восторг, что я не могу его даже выразить словами. Вдруг ни с того ни с сего все посетители стали смотреть в одну сторону, хотя там ничего такого не было. Пройдя эти несколько жалких километров, я знаю, что с головой у меня не в порядке, знание пришло от ног. У кого не горит во рту, у того земля горит под ногами. Перед заведением, вспомнилось мне, был худой мужчина, сидевший в инвалидной коляске, но не потому что он был парализован, а потому что он был кретин, толкала же коляску женщина, которая выпала у меня из памяти. На хомуте для быков развешаны лампочки. За Сан-Бернардино, под снегом, я чуть не столкнулся лоб в лоб с оленем, кто бы мог подумать, что тут можно встретить дикого зверя, да еще такого гиганта? В горных ущельях мне то и дело попадаются форели. Отряд, хочется сказать, рядами продвигается вперед, отряд изрядно устал, отряд уморился от прошедшего дня. Трактирщик в зеленом фартуке, судя по тому, как близко к глазам он держит меню, почти слепой. Он не может быть крестьянином, потому что почти слепой. Он просто трактирщик, и все. Внутри заведения зажегся свет, значит, снаружи день подходит к концу. Ребенок в курточке, невероятно грустный, пьет колу, зажатый между двумя взрослыми, раздаются аплодисменты – знак благодарности оркестру.
– Напоили всех овец, тут и делу конец, – сказал трактирщик среди всеобщей тишины.
На улице, на холоде, первые коровы, трогательное зрелище. Вокруг навозной кучи, над которой поднимается пар, забетонированная площадка, там катаются две девочки на роликовых коньках. Чернющая кошка. Два итальянца катят на пару велосипед. Этот сильный запах от полей! Вороны летят на восток. Солнце за ними совсем низко. Поля, тяжелые и влажные, леса, много людей, идущих пешком. Овчарка, у которой из пасти идет пар. До Аллинга пять километров. Впервые в жизни страх перед машинами. На пашне кто-то сжег журналы с картинками. Звуки, напоминающие звон колоколов на башне. Туман опускается ниже, мглистая дымка. Я останавливаюсь среди полей. С треском проносятся мимо мопеды с молодыми крестьянскими парнями. Дорога, уходящая вправо, почти до самого горизонта забита машинами – футбольный матч еще в полном разгаре. Я слышу ворон, но во мне поднимается внутреннее сопротивление. Ни за что не смотреть наверх! Ни за что, нет! Пусть они летят себе, куда хотят, эти вороны! Не буду туда смотреть! На поле валяется набрякшая от дождя перчатка, а в бороздах, нарезанных трактором, стоит холодная вода. Подростки на своих мопедах синхронно летят навстречу смерти. Я вдруг подумал о неубранной репе, но могу поклясться, никакой неубранной репы тут нет и в помине. Трактор, огромный и страшный, катит прямо на меня, он точно нацелился на меня, он хочет меня смять в лепешку, но я не сдаюсь. Куски упаковки из пенопласта помогают мне удержаться на позиции. Через вспаханное поле до меня долетают далекие разговоры. Чернеет замерший лес. Прозрачная половина луны слева от меня – стало быть, там юг. Повсюду еще одномоторные самолеты, которые пользуются вечерним временем, пока не явился Темногон. Десять шагов: Темногон является на день Святого Никогдая. Там, где я стою, валяется придорожный столбик, раскрашенный в черный и оранжевый цвета, и показывает, судя по макушке, на северо-восток. У границы леса очень мирные фигуры с собаками. В этих местах, по которым я иду, среди диких зверей распространено бешенство. Если бы я сидел сейчас в бесшумном самолете, пролетающем прямо у меня над головой, я уже через полтора часа был бы в Париже. Кто-то рубит дрова? Это бой часов на башне? Однако пора двигаться дальше.
Насколько мы сами превратились в машины, в которых сидим, видно по лицам. Отряд расположился передохнуть, уйдя левым флангом в подгнившие листья. Ко мне прицепился терновник, не буквально, а в виде слова: «терновник». Вместо него на земле лежит брошенный обод от велосипеда, без резиновой шины, разукрашенный по всей длине красными сердечками. На этом повороте я вижу по следам от колес, что машины сюда заворачивали по ошибке. Мимо проплывает лесная гостиница, огромная как казарма. Там – собака, монстр, теленок. Я понимаю, что сейчас он набросится на меня, но, к счастью, распахивается дверь и теленок заходит внутрь. В поле зрения попадает щебенка, потом она уже под ногами, до того глаз уловил движение земли. Несовершеннолетние девочки в мини-юбках собираются рассесться по мопедам других несовершеннолетних. Я пропускаю вперед какое-то семейство, дочь зовут Эстер. Кукурузное поле, неубранное, пепельно-серое, оно шуршит, хотя ветра нет. Это поле, то есть смерть. Я нашел обрывок плотной белой бумаги ручной выделки, напитанный влагой, лежавший на мокром поле лицевой стороной, и, подняв его, перевернул – в надежде, что смогу хоть что-нибудь прочитать. Да, там могло бы быть написано ЭТО. Но теперь я вижу: лист пуст, – и никакого разочарования.
Под Дёртельбауером все всё позапирали. Ящик с пустыми бутылками из-под пива стоит на обочине и ждет, чтобы его забрали. Если бы овчарка, да что я говорю – волк! – не жаждала так очевидно моей крови, я бы вполне мог удовлетвориться собачьей будкой, чтобы провести в ней ночь: по крайней мере, она выстлана соломой. Показался велосипед, при каждом полном повороте колеса педаль ударяется о щиток, закрывающий цепь. Рядом со мной и надо мной проволока под током. Вокруг меня потрескивание от напряжения. Этот холм никого никуда не манит. Прямо передо мной, внизу, деревня, озаренная собственным светом. Где-то далеко справа, почти бесшумная, должна проходить оживленная трасса. Снопы света и никакого звука.
Как я испугался, когда, не доходя Аллинга, завернул в часовню, думая там заночевать, и обнаружил там женщину с бернардинцем, которая молилась. Два кипариса перед часовней смягчили мой ужас, который через ноги ушел под землю и растворился в бездонном пространстве. В Аллинге ни одного открытого заведения, я побрел мимо темного кладбища, потом мимо футбольного поля, дальше мимо какой-то новостройки, окна которой были наглухо зачехлены пленкой. Кто-то заметил меня. За Аллингом – болото, подозреваю, что тут будут сараи торфодобытчиков. Проходя возле живой изгороди, я вспугнул дроздов, огромная переполошенная стая улетела куда-то в темноту передо мной. Любопытство привело меня к правильному месту: летний домик, сад закрыт, мостик через пруд перегорожен. Не церемонясь, я действую так, как меня научил Йоши. Сначала взломать ставни, потом разбить окно, и вот ты уже внутри. Там обнаруживается лавка у стены, идущая углом, толстые декоративные свечи, горящие при этом; кровати нет, зато есть ковер, две подушки и непочатая бутылка пива. Красная восковая печать в углу. Скатерть с современным узором начала 1950-х. На ней кроссворд, с трудом разгаданный максимум на одну десятую. Каракули на полях свидетельствуют о том, что имеющийся запас слов был исчерпан. Разгадано: головной убор – шляпа, пенящийся напиток – шампанское, устройство для связи – телефон. Я заполняю кроссворд до конца и оставляю на память на столе. Чудесное местечко, вдали от всего. Ах да, там еще было «заостренная палка»? – по вертикали, три буквы, заканчивается на «л» от телефона, идущего по горизонтали; само слово не найдено, но первая клеточка многократно обведена шариковой ручкой. Я все вспоминаю женщину с кувшином молока, которая повстречалась мне на ночной деревенской дороге. Ноги в порядке. А может быть, там в пруду водится форель?
Воскресенье, 24.11
На улице туман, такой пронзительно холодный, что у меня нет слов. Пруд подернулся ледяной коркой. Проснулись птицы, звуки. Мои шаги по тропинке отдают пустотой. Лицо я вытер полотенцем, которое висело в домике; от него так жутко несло потом, что этот запах будет преследовать меня, наверное, целый день. Все та же проблема с башмаками, главное, чтобы они не жали, они совсем еще новенькие. Я подкладываю немного поролона и при каждом движении соблюдаю осторожность, как какой-нибудь зверь, у меня и мысли теперь, как мне кажется, звериные. Возле дверей, внутри, висит связка колокольчиков с язычком посередине, к которому прилажена кисточка, чтобы тянуть. Из еды только две горошины; может быть, сегодня я доберусь до Леха. Множество ворон сопровождают меня в тумане. Следы от трактора глубоко врезались в землю. Посередине одного двора гигантская плоская куча сырой и грязной сахарной свеклы. Ангерхоф: я заплутал. Из нескольких деревень одновременно доносятся воскресные колокола, похоже, начинается служба. Вороны всё еще тут, 9 утра.
