Стефан Цвейг бесплатное чтение
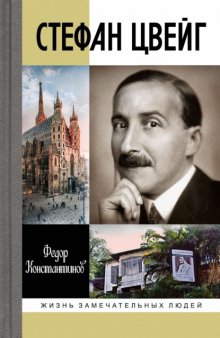
Жизнь замечательных людей
© Константинов Ф. Ю., 2022
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022
Ирония судьбы Стефана Цвейга
Перед вами, читатель, первая документальная биография великого Стефана Цвейга, которая выходит на русском языке, хотя потребность в такой книге назрела еще лет пятьдесят, а то и больше назад. То, что она появилась только сейчас, – это всего лишь запоздалое восстановление справедливости, ставшее возможным благодаря упорству и подлинной одержимости творчеством Цвейга талантливого российского литературоведа Федора Константинова.
Стефан Цвейг был, вне сомнения, одним из самых читаемых на русском языке европейских писателей ХХ века, да и сегодня сохраняет свою популярность. Его романом «Нетерпение сердца», новеллами «Амок», «Письмо незнакомки», «Смятение чувств» продолжают зачитываться читатели всех возрастов. На книге его очерков «Звездные часы человечества» училось тому, что такое мужество и благородство, не одно поколение читателей. Его биографии Марии Стюарт, Эразма Роттердамского, Оноре де Бальзака и многих других стали классикой жанра. Его книги выходили огромными тиражами во всех республиках бывшего СССР, его произведения многократно экранизировались. Но когда широкий русскоязычный читатель хотел узнать побольше о личной жизни великого мастера слова, о том, что подтолкнуло его к созданию того или иного произведения, кто был прототипом их героев и т. д., ему остается довольствоваться самыми обрывочными сведениями. По сути, он натыкается на стену молчания.
Именно в этом молчании видится мне горькая ирония судьбы Стефана Цвейга: много лет оставаясь необычайно любимым читателями, он почему-то был не особенно любим работающими на русском языке историками литературы и литературоведами, и этому есть целый ряд объяснений.
Во-первых, Стефан Цвейг был плотью от плоти австрийской литературы, которая традиционно рассматривалась российскими специалистами по зарубежной литературе как некое малозначительное ответвление от столбовой дороги великой немецкой литературы, которой и надо заниматься. Разумеется, это далеко не так, и с каждым годом мы всё яснее понимаем, что австрийская литература самобытна и самоценна сама по себе; в ней работало немало выдающихся поэтов и прозаиков, не говоря уже о таких гениях, как Кафка, Майринк и тот же Цвейг.
Во-вторых, при всей популярности его творчества в бывшем СССР Стефан Цвейг всегда считался писателем если не враждебным, то чуждым коммунистическим идеалам, носителем буржуазных ценностей и морали. Что, кстати, является правдой, но отнюдь не умаляет значения его творчества и не делает его менее увлекательным.
Наконец, в-третьих, в нашем литературоведении многие годы почему-то было распространено несколько высокомерное отношение к творчеству Цвейга. Его книги было принято относить к предназначенной для легкого чтения беллетристике, а никак не к серьезной литературе, и это диктовало отношение к нему авторов учебников по истории зарубежной литературы и литературоведов на протяжении многих десятилетий.
Книга Федора Константинова замечательна уже тем, что разбивает ту самую стену молчания, о которой было сказано выше. Или, если угодно, приподнимает занавес над личной жизнью писателя, в которой, как и в жизни его героев, были свой триумф, своя трагедия и свой, совсем не счастливый финал. Впервые русскоязычный читатель получает возможность узнать о том, как сформировалось мировоззрение Цвейга, кого он считал своими учителями в литературе, где черпал сюжеты для своих произведений, какую роль играли в его жизни женщины и многое другое, включая и неизвестные ранее факты его биографии, и неожиданные трактовки его произведений.
С этой точки зрения книга Константинова – это несомненный прорыв, и думаю, что не ошибусь, если скажу, что она будет интересна не только русскоязычным любителям творчества Стефана Цвейга, но и его поклонникам, говорящим на самых различных языках.
Одним из главных достоинств книги лично мне видится то, что она восстанавливает не только перипетии жизни самого Цвейга, но и то время, в котором ему довелось жить. В результате начинаешь лучше понимать его роль в мировом литературном процессе и общественной жизни своей эпохи, секрет его поистине мировой славы. И, конечно, немало места в книге уделено связям писателя с Россией и русской культурой, его преклонению перед гением Толстого и Достоевского, его дружбе с Максимом Горьким и другими русскими и советскими писателями.
Словом, речь идет о книге, которая будет интересна не только узкой группе «ботаников», любящих тяжеловесные научные биографии и литературоведческие изыски, но и самому широкому читателю.
И все же безумно жаль, что первая популярная биография Стефана Цвейга выходит только сейчас. Хотя, наверное, и в самом деле лучше поздно, чем никогда.
Петр Люкимсон
Вместо предисловия
В августе 1933 года в Берлине в условиях строжайшей секретности Стефан Цвейг приобрел за тысячу рейхсмарок тринадцатистраничную рукопись речи Адольфа Гитлера, произнесенной лидером НСДАП в 1928 году в «саду удовольствий». В том самом излюбленном месте германских политиков, берлинском парке Люстгартен, где в период Веймарской республики нередко проводились пышные военные смотры, парады, митинги, демонстрации. О своем необычном приобретении австрийский писатель никому не сообщил, а книготорговца, организовавшего покупку в антикварном книжном магазине «Hellmut Meyer & Ernst» на Лютцовштрассе, 29, за внушительный чек заставил подтвердить распиской, что он, а вовсе не Цвейг является законным владельцем рукописи. Несомненно, Цвейг давно хотел составить психологический портрет фюрера через «царапающий бумагу» почерк. «Ему нужен был почерк людей, их словесные поправки и искания слова – в этом тоже был ключ для разгадки их личности»1.
Надо пояснить, что к роковому 1933 году Цвейг являлся обладателем одной из самых крупных в Европе коллекций автографов и рукописей, предметов искусства и личных вещей величайших гениев прошлого. Свою коллекцию с присущей писателю одержимостью, вооружившись «единственным научным аппаратом – пытливой любознательностью», он начал собирать еще в юности, когда волею судеб однажды в Вене был представлен композитору Иоганнесу Брамсу, превосходному знатоку и ценителю нотных рукописей Баха, Генделя, Глюка, Бетховена, Моцарта, Вольфа, Шумана, Листа. «Благодаря опыту, достатку и все возраставшему увлечению затея пятнадцатилетнего дилетанта превратилась за эти годы из обыкновенного собрания в органичное целое, смею даже сказать – в истинное произведение искусства»2, – с торжественным тоном гордости писал Цвейг на закате жизни в мемуарах.
«А поскольку случай всегда на стороне настоящего коллекционера»3, то в зальцбургском доме писателя в железном сундуке, защищенном асбестом от порчи, бережно хранились и регулярно пополнялись бесчисленные шедевры. Стихотворения французского поэта Артюра Рембо – Цвейг собрал у себя почти все существующие в мире рукописи этого «разбойника инстинкта». Записная книжка молодого Бетховена, долгие годы считавшаяся утраченной. Первый вариант трактата Ницше «Рождение трагедии», посвященного возлюбленной мыслителя – жене Рихарда Вагнера Козиме. Лист из тетради Леонардо да Винчи с зашифрованными через зеркальное отражение примечаниями к рисункам; оригинал литографии австрийского художника Йозефа Дангаузера «Бетховен на смертном одре»; набросок речи Наполеона Бонапарта к его солдатам под Риволи – «четыре страницы, исписанные в бешеной спешке почти неразборчивым почерком»4.
Имелся там и исписанный с обеих сторон лист из второй части «Фауста» Гёте, о котором Стефан выпалил когда-то в сердцах издателю Антону Киппенбергу (Anton Kippenberg,1874–1950), крупнейшему в Германии коллекционеру предметов, связанных с именем Гёте (его многотысячное собрание хранится сегодня в Дюссельдорфе), что только смерть заставит его, Цвейга, расстаться с этой реликвией. Неудивительно, что свое собрание раритетных рукописей в несколько тысяч экспонатов, как и уникальную коллекцию «всех когда-либо написанных книг об автографах», насчитывавшую четыре тысячи изданий, австрийский новеллист считал более достойным внимания и бессмертия, чем собственные произведения!
Излюбленной теме антиквариата, феноменальной памяти коллекционеров и судьбам знатоков редких книг и картин писатель посвятил как минимум две прославленные новеллы. В одной – «Незримая коллекция» – рассказана судьба слепого старика, ветерана Франко-прусской войны, собиравшего на протяжении долгой жизни гравюры и эстампы Дюрера и Рембрандта, бесценную коллекцию которого супруга и родная дочь вынуждены были, не сообщив обладателю, распродать в трудные времена за гроши. Другая новелла, «Мендель-букинист», повествует о трагической судьбе еврейского книжника Якоба Менделя, наделенного поразительной способностью запоминать титульные листы тысяч различных изданий, некогда «красы и гордости кафе Глюк»5, утратившего свой дар после интернирования в концлагерь и возвращения в Вену. После самоубийства Цвейга в его записных книжках был обнаружен набросок еще одной задуманной им «повести о музыкальных рукописях». К сожалению, найденный фрагмент, как и множество других его неоконченных произведений, не обрели своей персональной судьбы в напечатанном виде.
Благодаря своему увлечению Цвейг стал прекрасным экспертом-графологом, крупным авторитетом в этой области. Его невозможно было обвести вокруг пальца ни на аукционах, ни в сомнительных антикварных лавках, куда он неуклонно заглядывал в любых портовых городах во время путешествий. С годами он научился безошибочно отличать подлинник от подделки и с первого взгляда с уверенным знанием дела «мог сказать, где находится, кому принадлежит и каким образом попал к своему владельцу любой сколько-нибудь ценный автограф»6.
Но даже такой специалист, как Цвейг, восхищаясь, отступал в неуверенности перед непревзойденным фальсификатором и коллекционером, каким являлся французский дипломат и барон Фейе де Конш. Не случайно в послесловии к «Марии-Антуанетте» он подробно остановится на его темной деятельности: «Этот трудолюбивый и достойный признательности человек был одержим страстью, а страсть всегда опасна: он собирал автографы, собирал увлеченно, считался непогрешимым авторитетом в этой области… Но истинно художественными произведениями являются его поддельные письма Марии-Антуанетты. Здесь, как никто другой на свете, знал он содержание, почерк и все сопутствующие обстоятельства. Так, к семи настоящим письмам графине Полиньяк, подлинность которых им первым и была установлена, ему не стоило большого труда добавить столько же фальшивых собственного изготовления, сделать записочки королевы к тем ее родственникам, о которых он знал, что они были близки ей. Обладая поразительным знанием почерка королевы и ее стилистики, способный, как никто другой, выполнить эти удивительные фальсификации, он, к сожалению, решился осуществить подделки, совершенство которых действительно сбивает с толку – так точно повторен в них почерк, с таким проникновением в сущность характера корреспондента воспроизводится стиль, с таким знанием истории продумана каждая деталь. При всем желании – в этом приходится честно сознаться, – исследуя отдельные письма, сегодня вообще невозможно определить, подлинны они или придуманы и исполнены бароном Фейе де Коншем»7.
Двадцать четвертого июня 1935 года в Лондоне на книжной выставке газеты «Sundy Times» в рамках своего доклада «Sense and Beauty of Autographs» («Смысл и красота рукописей») писатель сказал: «Рукописи, уступая картинам и книгам по внешней красоте и привлекательности, все же имеют перед ними одно несравнимое преимущество: они правдивы. Человек может солгать, притвориться, отречься; портрет может его изменить и сделать красивее, может лгать книга, письмо. Но в одном все же человек неотделим от своей истинной сущности – в почерке. Почерк выдаст человека, хочет он этого или нет. Почерк неповторим, как и сам человек, и иной раз проговаривается о том, о чем человек умалчивает»8.
И вот, «подобно тому как охотник по малейшим следам находит зверя»9, после углубленного изучения почерка Гитлера Цвейгу к концу 1933 года стало понятно все. Уже 14 февраля 1934 года он сообщит в письме Ромену Роллану: «Через 10 дней я покидаю Зальцбург на несколько месяцев, а может быть – навсегда. <…> Я предвижу, что Франции предстоит через несколько лет крупное столкновение с Гитлером, оно неотвратимо, и наш идеал гуманизации мира похоронен на десятилетия».
В те же дни, предчувствуя апокалипсис, он начинает тайно переправлять в Еврейскую национальную и университетскую библиотеку10 важные письма, полученные за долгие годы от Эмиля Верхарна, Ромена Роллана, Зигмунда Фрейда, Максима Горького, Вальтера Ратенау, Томаса и Генриха Маннов… Самое интересно, что в Иерусалим внушительные пачки корреспонденции отправлялись на вполне определенных условиях – документы должны были оставаться «под замком» на протяжении десяти лет после смерти Цвейга.
На страницах этой книги мы в дальнейшем коснемся всех малоизвестных сторон биографии и творчества великого австрийского писателя и коллекционера. Ответим на вопрос, почему он, будучи обеспеченным, здоровым, энергичным, жизнерадостным человеком – «выделялся не только своим дарованием, но и жизнелюбием»11, – подозрительно часто строил сюжеты своих произведений на душераздирающих сценах мучительной смерти, суицида, предательства, одиночества, безответной и неразделенной любви. С особым энтузиазмом и тщательностью он описывал сцены насилия над душой и телом несчастной жертвы, брошенной «из неожиданного богатства в нищету окраинной улички».
Что двигало Цвейгом, когда он, заканчивая очередное произведение, вместе с последней страницей завершал и жизнь главного героя – несчастным случаем, добровольным уходом, насильственной кончиной, покушением? С какой целью он наделял своих выдуманных персонажей новелл и рассказов неустойчивым психическим состоянием, бременем финансовых обязательств, диагнозами неизлечимых болезней, психологическими противоречиями в характерах? Да чем только не наделял – и как врач изучал, исследовал, ставил диагнозы, делал выводы. «В этом мире психологических наблюдений Цвейг был дома: это была его жизнь… Он, как врач, определял их недуги и психические повреждения… Он походил на врача, может быть, на делового человека и меньше всего на писателя. Только в его умных темных глазах была глубина и та лирическая теплота, которая сразу определяет натуру художника»12.
Удивителен и другой феномен этого человека. При всей его открытости миру и заботе о юных дарованиях – «находил время быть открывателем, советчиком, помощником, меценатом для молодых поэтов многих европейских стран»13. При полном отсутствии тщеславия, гордыни, малейшего намека на звездную болезнь и хандру – «это проявлялось даже в его внешнем облике. Он любил носить простые костюмы и очень неохотно смокинги, фраки, а их приходилось надевать по торжественным случаям»14. При его бескорыстной заботе о финансовом положении коллег – «нет второго писателя, который бы с таким великодушием и щедростью помогал своим коллегам, как он» (Франц Верфель), – при всем этом Стефан Цвейг был абсолютно закрытой личностью. Если была возможность избегать визитов и встреч, он обязательно их избегал, если принимался работать и ни на что не хотел отвлекаться – то уезжал из дома, из семьи на два-три-четыре месяца, и в незнакомом городе, где его не узнают на улицах, арендовав скромную зашторенную квартирку, писал очередную книгу любимыми фиолетовыми чернилами.
Вот что пишет знавший его советский писатель Владимир Лидин: «Цвейг жил на маленькой улочке где-то возле Гольстенваль-Ринга. Он жил один в большом Гамбурге. Он любил писать свои книги в чужих, незнакомых городах: слишком много людей знали его в Вене и Зальцбурге. Здесь в квартирке какой-то вдовы, сдавшей ему на месяц жилище со всей обстановкой, его не знал никто»15. А это из письма самого Цвейга Максиму Горькому 10 марта 1927 года: «Я уединился в маленькую деревушку около Канн и поселился в скромном отеле, чтобы спокойно работать и любоваться сверкающим лазурным морем».
Поразительно, но «его не знал никто» не только во время работы над новыми новеллами и жизнеописаниями. По утверждению Фридерики, первой супруги писателя, его совершенно не знали, не понимали самые близкие ему люди. В письме от 18 июля 1930 года она ему скажет: «Думая вчера о твоих друзьях, меня беспокоила мысль, что никто, кроме меня, действительно тебя не знает и что однажды о тебе будут написаны невероятно глупые вещи. Но когда ты позволяешь очень немногим людям приблизиться к тебе и когда дело доходит до тебя настоящего, ты – закрытая книга – и это понятно. В конце концов, твои произведения – лишь треть того, кем ты являешься, и никому не удалось извлечь из них даже самое необходимое, чтобы понять остальные две трети».
Что ж, «закрытая книга» под условным названием «жизнь Стефана Цвейга» впервые открывается русскому читателю в полной и подробной биографии великого австрийского новеллиста. Несмотря на то что сам писатель в своих мемуарах «Вчерашний мир» ни словом не обмолвился о женщине, с которой прожил почти тридцать лет. Ни разу не упомянул и свою вторую супругу Шарлотту, а ведь именно с ней он отправился в Бразилию и с ней же в итоге покончил счеты с жизнью двойным самоубийством… Биографы, получив доступ к источникам, в том числе новейшим, предоставляют поклонникам любимого писателя в разных странах право узнать о малоизвестных перипетиях жизни Цвейга. О его триумфальном «карьерном» взлете, к которому он, собственно, сам никогда не стремился. О его бескрайнем (точнее подходит определение «кругосветном») литературном наследии, ибо произведения Цвейга давно перевели во всех странах от «А» до «Я» – от Аргентины до Японии.
Постараемся шаг за шагом пройти по его припорошенной временем дороге, ведь что ни говори, а более чем вековой рубеж с двумя мировыми войнами, утратой документов, мемуаров, ценных первоисточников в любом случае отделяет нас от героя. Тем не менее в процессе погружения в книгу мы станем внимательно оглядываться по сторонам, исследуя сохранившиеся крупицы информации. Надеемся, нам повезет и среди блеклых страниц чьих-то воспоминаний на поверхность проступят неизвестные эпизоды из жизни великого человека, имя которому Стефан Цвейг. Книга раскроет и истинные мотивы добровольного ухода гения из жизни, из его уютного мира, так стремительно очерствевшего и почерневшего после 1933 года. Мира, ставшего не только для него одного, но и для миллионов его современников миром чужим, «вчерашним»…
Первые переживания
- О детство, ты, о тесная темница,
- Как часто за решеткой я в окне
- В слезах следил Неведомого птицу,
- Златившуюся в синей вышине!16
«Эдгар был, судя по всему, очень умен, не по возрасту развит, как почти все болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, чем с товарищами в школе, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. Ни к чему у него не было спокойного отношения; о каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с таким отвращением, что лицо его перекашивалось и становилось злым и некрасивым.<…> Это был застенчивый, физически плохо развитой, нервный мальчуган лет двенадцати, с порывистыми движениями и темными, беспокойными глазами. Как многие дети в этом возрасте, он казался чем-то напуганным, словно его только что разбудили и привели в чужое место. Он был миловиден, но черты его еще не определились, борьба между детством и зрелостью, по-видимому, только начиналась; все было лишь намечено, ни одна линия не завершена в его болезненно бледном, нервном лице»17.
Les fails parlent![1] В новелле «Жгучая тайна» подробно описана внешность болезненного Эдгара – «бледный мальчуган в черном бархатном костюме», «рукава и брюки болтались на слишком худых руках и ногах», «комнатный, с этой книгой под мышкой». Не менее подробно описываются душевные волнения мальчика – «чувство неполноценности, бессилие проявить свою любовь приводили его в отчаяние», его «с трудом подавляемый страх перед собственной страстностью», да и к тому же «в горячности, с какой он говорил, было что-то необузданное, порывистое…».
За очевидным проявлением страха мальчика перед строгой, упрямой, волевой матерью – «мама была необыкновенно строга», нежеланием взрослых вступать с ним в какую-либо беседу – «до сих пор его никто знать не хотел» – скрываются физическое состояние, характер, психологический портрет самого автора. Первые детские переживания Стефана Цвейга, многократно испытанные (и благополучно подавленные на десятилетия) дома и во время поездок на курорты с родителями, тетушками, гувернантками.
Этого мнения придерживались не только Фридерика Цвейг («Печально, что Стефан не написал свои детские воспоминания, хотя частично отразил их в ранних рассказах и стихах»), но и самый первый биограф писателя, австрийский журналист и переводчик Эрвин Ригер18. Ригер был ближайшим его другом со времен Первой мировой, его самоубийство в ноябре 1940 года в Тунисе Цвейг переживал особенно болезненно и трагично. Так вот, Эрвин Ригер еще в 1928 году по просьбе Фридерики написал и издал в берлинском «J. M. Spaeth-Verlag» первую биографию Цвейга, рассказав в ней как раз о детстве, гимназическом периоде, неуемной страсти к путешествиям и коллекционированию рукописей, феноменальном литературном успехе и культурной атмосфере, эпохе, в которой расцветал талант этого художника.
Ригер подтверждает (к сожалению, сам писатель об этом нигде не говорит), что Эдгар на самом деле «двойник»19 Стефана. И если это так, то и отношения мальчика со своей матерью на курорте Земмеринга, подробно описанные уже на первых страницах новеллы, стоит рассматривать как истинные отношения Цвейга с его матерью. Внимательно еще раз обратимся к тексту: «Несомненно, это была женщина, пресыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах. Тихим голосом она заказывала обед и делала замечания мальчику, бренчавшему вилкой. <…> Вдруг он [барон] услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший укоризненно и жеманно: – “Mais tais-toi done, Edgar”[2].<…> Она никогда не упоминала в разговоре о своем муже и, в сущности, чрезвычайно мало была посвящена во внутреннюю жизнь своего ребенка. Выражение скуки, завуалированное меланхолией, туманило ее миндалевидные глаза и лишь слегка приглушало таившийся в них огонь…»
«Сказала почти сердито: “Sois sage, Edgar. Assieds toi!”[3] (Она всегда говорила с ним по-французски, хотя владела этим языком далеко не в совершенстве и при более длительных разъяснениях частенько садилась на мель). <…> И вдруг – точно нож, сверкнув, упал перед ним – его мама сказала, взглянув на часы: “Neuf heures! Au lit!”[4].<…>Эдгар побледнел. Для всех детей слова “иди спать” ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое явное клеймо неполноценности, самое наглядное различие между взрослыми и ребенком. <…> Все сильнее терзался он сознанием своей незрелости, сознанием, что он еще только полчеловека, только двенадцатилетний ребенок; никогда еще не проклинал он так бурно свой детский возраст, никогда не испытывал такой жажды проснуться иным, таким, каким видел себя во сне: большим и сильным, мужчиной, таким, как все взрослые»20.
До рассказа о большом и сильном мужчине, каким будущий писатель «видел себя во сне» и, разумеется, стал им в реальности, мы с вами дойдем позже. Сейчас, раз уже столько было сказано о матери Эдгара – пусть и вымышленной, все-таки речь идет о художественном произведении, – подробнее остановимся на настоящей биографии матери Цвейга. После чего попытаемся найти сходство с ее прототипом не только в «Жгучей тайне», но и в других новеллах и рассказах писателя.
Ее звали Ида Бреттауэр. Родилась она 5 мая 1854 года в портовом городе Анкона, административном центре итальянской области Марке, сплошь покрытой мягкими зелеными холмами, романскими церквями и цитаделями. Анкона граничит с известной на весь мир провинцией Урбино, «приютом муз», где родился художник Рафаэль Санти, и городком Мачерата, в котором в 1290 году при участии папы римского Николая IV основали университет, считающийся одним из самых старых в Европе.
За свою долгую историю земли региона Марке – Анкона, Пезаро, Урбино, Мачерата, Фермо и Асколи-Пичено, удачно расположенные на адриатическом побережье и называемые «ворота на восток», переходили от древних греков к римлянам, от вторгшихся на их территорию готов – к германским императорам, при которых и получили свое название21.
Мать будущего писателя была второй, младшей дочерью еврейского банкира и финансиста Самуэля Бреттауэра (Samuel Ludwig Brettauer, 1813–1881), одно время состоящего на службе у римского папы в Ватикане. О могуществе предков своей матери, их высокомерии и гордости за собственный влиятельный род Стефан напишет в мемуарах: «Бреттауэры, которые испокон веку занимались банковским делом, разбрелись (по примеру крупных еврейских банкирских семейств, но, естественно, в масштабах гораздо более скромных) из Высокого Эмса, небольшого местечка на швейцарской границе, по всему свету. Одни отправились в Санкт-Галлен, другие – в Вену и Париж, мой дедушка – в Италию, дядя – в Нью-Йорк, и международные связи дали им больше блеска, больший кругозор и к тому же некое семейное высокомерие. В этой семье уже не было мелких торговцев или маклеров, но сплошь банкиры, директора, профессора, адвокаты и врачи, каждый говорил на нескольких языках, и я вспоминаю, с какой непринужденностью за столом у моей тетушки в Париже переходили с одного языка на другой. Это была семья, которая серьезно “заботилась о себе”, и когда девушка из числа менее состоятельных родственников оказывалась на выданье, то всей семьей собирали ей приличное приданое, лишь бы предотвратить “мезальянс”. Моего отца, правда, уважали как крупного промышленника, но моя мать, хотя и связанная с ним счастливым браком, никогда не потерпела бы, чтобы его родню ставили на одну ступень с ее. Эта гордость выходцев из “приличной” семьи у всех Бреттауэров была неискоренима, и когда в дальнейшем кто-нибудь из них желал выказать мне особое расположение, он снисходительно произносил: “Ты выбрал правильный путь”»22.
Выходец из старинной еврейской общины, Самуэль Бреттауэр был родом из австрийского городка Хоэнемса, входящего в федеральную землю Форарльберг, самую западную альпийскую глубинку Австрии. Он был на несколько лет старше своего предприимчивого земляка Августа Брентано (August Brentano,1828–1886), ловкого разносчика газет, эмигрировавшего в Нью-Йорк и построившего там книжную империю магазинов «Brentano’s». До переезда в Италию, куда Самуэль отправился по приглашению старшего брата Германа (Hermann Ludwig Brettauer, 1804–1883), владевшего в Анконе торговым домом «HL Brettauer», специализируясь на оптовом сбыте текстиля, отец Иды занимал разные административные должности. Среди прочих стоит отметить и важный пост учредителя Государственной музейной ассоциации (Landesmuseumsverein) Форарльберга, ассоциации провинциальных музеев искусства и культуры, существующей по настоящее время.
Седьмого октября 1850 года в возрасте тридцати семи лет Самуэль Людвиг женился на баварской пышногрудой красотке Жозефине Ландауэр (Josefine Landauer, 1830–1894) и вскоре переехал с ней в Анкону, где спустя одиннадцать месяцев (15 сентября 1851 года) у счастливой пары родилась первая девочка Фанни, единственная родная тетка Цвейга по линии матери. Пройдет два с половиной года, и 5 мая 1854 года на свет появится вторая дочь, будущая мама писателя.
Жозефина Ландауэр происходила из древней еврейской семьи выходцев из немецкой деревни Хюрбена, присоединенной к соседнему городку Крумбах только в начале ХХ века. Дедушка Жозефины, Рафаэль Лёб Ландауэр (Raphael Löb Landauer, 1775–1843), приходившийся Стефану прапрадедушкой, занимался в Хюрбене торговлей лошадьми, а разбогатев, осуществил давнюю мечту и открыл в городе антикварную лавку на Хюрбенерштрассе, 15. Из вышесказанного следует, что Фанни и Ида, получая в Анконе домашнее образование, чаще слышали от гувернанток, родителей и родственников, приезжавших к ним в гости или присылавших открытки к празднику, все-таки немецкую речь. Хотя связи Бреттауэров, как мы обнаружили, простирались на все четыре стороны и точно не ограничивались ни Германией, ни Италией, ни Австро-Венгерской империей.
Первые шестнадцать лет жизни Ида провела на берегу Адриатического моря, наслаждаясь красотой ночных праздников в красиво освещенных гондолах, долгими одинокими прогулками по берегу, чтением итальянских романистов и поэтов. Ее страстная любовь ко всему итальянскому (ландшафту, солнцу, живописи, музыке, кухне, языку) передалась с молоком матери младшему сыну Альфреду, пронесшему через всю свою жизнь любовь к этому солнечному краю и повторявшему: «Когда я позднее приезжал в Италию, то с первой минуты чувствовал себя там как дома».
Стефан безупречно говорил на итальянском языке, отлично знал и понимал итальянскую культуру – даже пытался подражать стилю Данте и писать терцинами. Разбирался в гастрономии, в особенностях архитектуры, чтил и понимал традиции, имел в разных регионах Италии много надежных друзей, литературных, любовных, родственных связей. До и после Первой мировой войны он приезжал в Милан в гости к редактору и литературоведу Джузеппе Антонио Боргезе. Гостил у Максима Горького в Сорренто и у Бенедетто Кроче в Неаполе. Близко дружил с веронским художником Альберто Стринга (Alberto Stringa, 1881–1931), с гениальным венским скульптором итальянского происхождения Альфонсо Канчиани (Alfonso Canciani, 1863–1955). Когда в 1897 году в Берлине шестнадцатилетний Стефан попал на художественную выставку и увидел скульптуру группы Данте, по возвращении домой в Вену он написал самый восторженный отзыв23.
В тот же зачаточный для всего прекрасного и волшебного в искусстве период юности, впервые открыв для себя «Божественную комедию», Стефан попал под энергетику и обаяние терцин любимого поэта на десятилетия. «О нем не скажешь: его время прошло или пришло; его время было всегда, но никогда удары, возвещавшие его час, не совпадали с боем часов человечества. <…> В искусстве нет ничего более прочного, чем четырнадцать тысяч стихов, составляющих его творение. Памятники, которые выросли – камень в камень – в ту же пору на той же земле, где выросла – стих в стих – его поэма: белокаменный собор во Флоренции и Палаццо Веккио, – рухнут, картины Джотто и Чимабуэ, его друзей, потускнеют раньше, чем его собор разрушится, раньше, чем его музыка отзвучит. Чем глубже врастает его поэма в ландшафт эпох, тем больше кажется она созданной самою природой и нерушимой, как утес, который неколебимо вздымается к вечному небу над преходящей землей. И все величественнее представляется Данте глазам поколений, чьи замыслы становятся все мельче»24.
А в скольких своих произведениях малой и крупной формы, включая поэзию, Цвейг описывает пейзажи Италии, красоту городов, природу, наблюдаемую им за полвека путешествий по обе стороны береговой «окантовки» сапожка! Я пока намеренно умалчиваю о блистательной галерее таких его портретов, как эссе о Тосканини, жизнеописание Казановы, не переведенный на русский язык очерк «Легенда и правда Беатриче Ченчи». Несмотря на то, что отношения между героями новеллы «Письмо незнакомки» происходят в Вене, поток воспоминаний несчастной женщины относит ее на берег Адриатического моря к курорту Градо, где она была счастлива, гуляя по пляжу со своим сыном, мальчиком, которого больше нет…
Или вспомним «Летнюю новеллу», ее героя, ежегодно проводившего отпуск в Каденаббии, «одном из тех местечек на берегу озера Комо, что так укромно притаились между белых вилл и темных деревьев». Чудесным вечерним августом Стефан Цвейг приглашает читателей прогуляться вместе с ним по цветущему благодатному берегу. Попробуем представить себе эту райскую красоту вокруг и почувствовать аромат невидимых в темноте приозерных растений: «Мы пошли по чудесной дорожке вдоль берега. Вековые кипарисы и развесистые каштаны осеняли ее, а в просветах между ветвями беспокойно поблескивало озеро. Вдалеке, словно облако, белело Белладжио, мягко оттененное неуловимыми красками уже скрывшегося солнца, а высоко-высоко над темным холмом в последних лучах заката алмазным блеском сверкала кровля виллы Сербелони. Чуть душноватая теплота не тяготила нас; будто ласковая женская рука, она нежно обнимала тень, наполняя воздух ароматом невидимых цветов»25.
В новелле «Закат одного сердца» старик, подавляя свой гнев, направленный на родную дочь, избегает откровенного с ней разговора и, дабы ненадолго отвлечься от мрачных мыслей, отправляется к озеру Гарда. Только там глазами, полными набежавших слез, несчастный старик сможет забыть о предательстве, насладиться прелестью мирного ландшафта, обнаружив, что, оказывается, природа-матушка улыбается человечеству, призывая всех «быть добрым и счастливым», улыбается всем и всегда. «За серебристой дымкой лежали мягкие зеленые волны холмов, словно заштрихованные тонкими черными линиями кипарисов, а за ними круто поднимались горы, строго, но без высокомерия, взирая на красоту озера, как суровые люди наблюдают игры горячо любимых детей. Так ласково и радушно цветущая природа раскрывала объятия, призывая каждого быть добрым и счастливым, так божественно сияла вечная улыбка благословенного юга!»26
Лавируя, как парусник по волнам Адриатического моря, стремительно меняя направление вслед за ветром, то уносящим меня к просторным берегам биографии писателя, то вновь проникающим в беспредельные глубины его творчества, я упрямо продолжаю держать курс в заданном направлении. Раз уж я пообещал читателям в полной мере раскрыть характер матери писателя (а он был, мягко говоря, деспотическим), то вот вам ее истинное поведение не на курорте в окружении лишних глаз и ушей, а дома, при полном контроле и всевластии; поведение, описанное в новелле «Гувернантка»:
«После обеда мать, как бы между прочим обращается к фройлейн:
– Зайдите, пожалуйста, ко мне в комнату. Мне нужно с вами поговорить.
Фройлейн молча наклоняет голову. Девочки дрожат, они чувствуют: сейчас что-то должно случиться. И как только фройлейн входит в комнату матери, они бегут вслед за ней. Приникать к замочной скважине, подслушивать и выслеживать стало для них обычным делом. Они уже не чувствуют ни неприличия, ни дерзости своего поведения; у них только одна мысль – раскрыть все тайны, которыми взрослые заслоняют от них жизнь.
Они подслушивают. Но до их слуха доносится только невнятный шепот. Их бросает в дрожь. Они боятся, что все ускользнет от них.
Но вот за дверью раздается громкий голос. Это голос их матери. Он звучит сердито и злобно.
– Что же вы думали? Что все люди слепы и никто этого не заметит? Могу себе представить, как вы исполняли свои обязанности с такими мыслями и с такими нравственными правилами. И вам я доверила воспитание своих дочерей, своих девочек! Ведь вы их совсем забросили!..
Фройлейн, видимо, что-то возражает. Но она говорит слишком тихо, и дети ничего не могут разобрать.
– Отговорки, отговорки! У легкомысленной женщины всегда наготове отговорки. Отдается первому встречному, ни о чем не думая. А там – что бог даст. И такая хочет быть воспитательницей, берется воспитывать девочек! Просто наглость! Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вас и дальше буду держать в своем доме?
Дети подслушивают у двери. Они дрожат от страха; они ничего не понимают, но их приводит в ужас негодующий голос матери; а теперь они слышат в ответ тихие, безудержные рыдания фройлейн. По щекам у них текут слезы, но голос матери становится еще более грозным.
– Это все, что вы умеете, – проливать слезы. Меня вы этим не возьмете. К таким женщинам у меня нет жалости. Что с вами теперь будет, меня совершенно не касается. Вы сами знаете, к кому вам нужно обратиться, я вас даже не спрашиваю об этом. Я знаю только одно: после того как вы так низко пренебрегли своим долгом, вы и дня не останетесь в моем доме»27.
Под грустными, испуганными, заплаканными лицами двух девочек, родных сестер, у которых «будто молния ударила в двух шагах от них», забрали любимую фройлейн, Стефан, безусловно, скрывает себя и своего старшего брата. Не по этой ли причине, а быть может, даже причинам в раннем детстве у Стефана и Альфреда будет несколько разных гувернанток – в том числе словацкая няня Маргарет, с которой Стефан запечатлен в возрасте девяти месяцев на самой первой своей фотографии. Заметьте, не с матерью, а именно с няней. Общего детского снимка с Идой Бреттауэр в горячих радостных объятиях в семейных альбомах писателя что-то не наблюдается… Или швейцарская гувернантка Гермина Кнехт (Hermine Knecht), сопровождавшая мальчиков утром в школу, или Жозефина Ландауэр, их бабушка, овдовевшая в 1881 году (за месяц до появления на свет Стефана) и жившая в Вене в соседней с внуками квартире на Ратхаузштрассе, 17. Альфред вспоминал их бабушку Жозефину как «очень способную баварскую хаусфрау старой школы, [которая] знала все, что нужно было знать о том, как ухаживать за детьми, особенно когда они болели».
Кстати, о болезни в «Жгучей тайне» есть важные подтверждения: «В горячности, с какой он говорил, было что-то необузданное, порывистое, быть может, в этом сказывались последствия недавно перенесенной болезни…» Эдгар (он же Стефан) действительно в детстве часто болел, но его матери никогда не приходило в голову с печальной миной на лице сидеть у детской кроватки. Не случайно самый ранний рассказ Цвейга называется «Скарлатина» (он никогда не публиковался) и повествует об одиноком больном ребенке, которого выходил добропорядочный сосед, а вовсе не мама…
Из этой же обиды на свою мать родился эпизод описания нечеловеческой воли в бессонной борьбе героини «Письма незнакомки» за «хрупкую жизнь» своего больного ребенка. Писатель помнил и, видимо, так и не простил, что с его болезнями и дурным самочувствием боролись в детские годы кто угодно, только не мать. Тут становится предельно ясной и любовь к Оноре де Бальзаку, пронесенная Цвейгом через всю творческую биографию. Изначально Стефан относился с глубоким сочувствием и пониманием к конфликтным отношениям юного Оноре со своей жестокой матерью и только потом уже преклонялся перед его терпением, волей и творческой мощью.
Вот и получается, что воспитанием и даже лечением юных Альфреда и Стефана занимались в основном гувернантки, тетушки и бабушки, а мама (нередко даже без мужа) блистала на светских раутах и приемах, демонстрируя венскому обществу роскошный образ жизни, фамильные драгоценности, нарядные кружева на платьях последней моды, изысканный итальянский парфюм, прически. Кем же был супруг этой обаятельной, богатой, но гордой модницы, о котором, как мы уже поняли из «Жгучей тайны», она «никогда не упоминала в разговоре» или, как еще сказано, «начинает раскаиваться, что всю жизнь была верна мужу, которого, в сущности, никогда не любила»?
В первую очередь обратимся к мемуарам писателя, считая их объективным и достоверным источником, исходя из той логики, что сын может по-разному относиться к отцу и матери, но память о них для потомков постарается оставить в одинаково приглядном свете. «Семья моего отца происходила из Моравии. Еврейские общины жили там, в небольших деревушках, в добром согласии с крестьянами и мелкой буржуазией; здесь не знали ни забитости, ни льстивой изворотливости галицийских, восточных евреев. Сильные и суровые благодаря жизни в деревне, они уверенно и достойно шли своим путем, как тамошние крестьяне – по полю».
Моравия – это та самая удивительно плодородная земля, древняя территория первого славянского государства Великая Моравия, где просветители Кирилл и Мефодий при лучине создавали свою знаменитую азбуку. В 1526 году вместе с Богемией или Чехией Моравия присоединилась к империи Габсбургов, а спустя еще 250 лет (1782) была объединена и с австрийской Силезией. К 1849 году, когда отцу будущего писателя исполнилось всего четыре года, Моравия была выделена в особую коронную землю Австро-Венгерской империи.
Родословная Стефана Цвейга по линии отца берет начало в 1787 году, когда, следуя наставительному указу императора, обращенному к евреям Моравии, местных жителей заставили взять себе немецкие фамилии. После чего некий Мозес (Моисей) Йозеф Лёви Петровиц (Petrowitz), предприимчивый торговец из городка Просниц, зарегистрировал под фамилией «Цвейг» сначала себя, а затем и свою супругу Сару Шпитцер (Elka Katti Chaja Sara Spitzer).
К этой важной для родословной писателя дате у семейной четы Цвейг уже подрастало двое мальчишек (всего детей будет двенадцать). Следовательно, первенец Михаэль, прадед писателя, рожденный 20 октября 1784 года, успел появиться на свет еще под фамилией Петровиц. Как и второй сын Маркус, о котором стоит сказать дополнительно. Мало того что Маркус (Marcus Mordachaj, 1785–1889) проживет сто три года в полном здравии и ясности ума, так еще и за три недели до семидесятилетия у него родится последний, седьмой сын Густав. Густав Цвейг (Gustav Josef Zweig, 1855–1925), несмотря на то что по профессии был юристом, смог основать в городе Просниц книжный магазин, которым успешно управлял вместе со своей супругой Хелен.
Сохранилась фотография, сделанная на улице Брехергассе города Просниц, на которой просматривается вывеска над входом в книжный магазин Густава Цвейга. Благодаря снимку мы имеем возможность наглядно представить, как к этому двухэтажному каменному домику подъезжали на лошадях богатые буржуа, образованные и интеллигентные прародители Цвейга и приобретали бумагу, чернила, краски, тома классиков, словари и, конечно, Библию.
Двоюродный брат Стефана, Макс Цвейг (Max Zweig, 1892–1992), один из сыновей юриста Густава Цвейга, как и его дедушка Маркус, проживет очень долго, не дойдя шести месяцев до вершины столетнего «пьедестала». Макс Цвейг был успешным драматургом до 1933 года, а после оккупации Австрии вынужден был эмигрировать через Польшу в Тель-Авив, где и прожил большую часть своей жизни.
Еще раз вернемся к судьбе Михаэля Лёб Мозеса, первенца, родившегося до императорского указа о смене фамилий, то есть под фамилией Петровиц. Его супруга Катти Хорн родит Михаэлю восьмерых детей. Первым окажется Герман (Hermann Zweig, 1807–1883), дедушка Стефана, успевший подержать на руках младшего внучка до его двухлетнего возраста. Напомним, Самуэль Бреттауэр умер, когда Ида была на восьмом месяце беременности вторым сыном.
Дед, прадед и прапрадед писателя по отцовской линии поколениями оседло проживали на северо-западе Моравии (Оломоуцкий край, город Просниц), а поскольку их край, да и вся Моравия веками считались центром высококачественной текстильной и швейной промышленности, то его предки профессионально занимались тем, что было им по плечу, – производством и сбытом мануфактурных изделий.
В 1855 году дальновидный и талантливый фабрикант Герман Цвейг принял решение переехать в Вену. Его супруга Нанетта (Nannette Wolf, 1815–1882) поддержала предложение, и уже вскоре вся их большая семья (детей осталось шестеро, четверо из десяти скончались в раннем возрасте) с гувернантками и помощницами по хозяйству переберется в бурно расширявшийся город с твердым намерением дать детям и всем будущим внукам несравнимо другие возможности. Стремительное развитие технического прогресса в области промышленного производства Герман Цвейг, разумеется, хорошо понимал. Не случайно в мемуарах его прославленный внук с чувством гордости писал: «Благодаря различным усовершенствованиям ткацкие и прядильные станки, завозимые из Англии, невероятно удешевили производство тканей, прежде вырабатывавшихся вручную, и еврейские коммерсанты с их деловой сметкой, с их международной осведомленностью были первыми в Австрии, кто понял необходимость и прибыльность перехода на промышленное производство».
К моменту переезда из провинциального Просница в деловитую Вену, население которой в пятидесятые годы XIX века уже составляло полмиллиона человек, пионеры градостроительства Отто Вагнер и Камилло Зитте предлагали свои урбанистические идеи относительно благоустройства города. Широкий, полноводный, могучий Дунай, столетиями досаждавший городу устрашающими наводнениями, наконец-то был укрощен сооружением сети каналов. Тогда же запустили в эксплуатацию систему городского водоснабжения и канализации, что постепенно помогло снизить количество заболеваний туберкулезом и всплесков эпидемий.
Первое либеральное правительство Вены, сформированное в шестидесятые годы, произвело ряд положительных перемен относительно культурных ценностей для среднего класса. По обе стороны от кольцевой Рингштрассе архитекторы, словно наперегонки, проектировали и предлагали возведение новых зданий – банков, театров, музеев, ратуши. За тридцать лет (1840–1870) число экономических предприятий увеличилось вдвое. Всему этому бурному градостроительному всплеску Карл Эмиль Шорске подводит справедливое и точное сравнение: «Благодаря однородности стиля и масштабу застройки “Вена Рингштрассе” сделалась для австрийцев термином, символизирующим эпоху, наподобие “викторианства” для англичан, “грюндерства” для немцев или “Второй империи” для французов». Светлана Бушуева в своей книге «Моисси» пишет об архитектуре венской кольцевой, знаменитых зданий, друг за другом появлявшихся к концу восьмидесятых годов при всем торжественном параде своих нарядных фасадов:
«Здания Рингштрассе – Опера, новый Бургтеатр, Торговая академия, Дом художников, Дом союза музыкантов, ратуша, парламент, Академия художеств, Музей истории искусств – внутри функциональные и комфортабельные, снаружи осанистые и бесстильные, воплотили в себе новую эстетику – эстетику богатства и пустой парадности. Гранит, мрамор, лепнина, позолота, тяжелые пропорции, вот это и был стиль Рингштрассе, и все его попытки подделаться под прочие стили были тщетны, так как “исторический” декор (античность, готика, ренессанс – все равно что!), пущенный поверх объемных форм так, как поверх торта “запускают” кремовые розы, – оставался не более чем отпиской, формальным знаком, свидетельствовавшим об эрудиции его создателей»28.
Морицу Цвейгу, отцу Стефана, на момент переезда семьи было всего десять лет. Получать образование он будет в Вене, но сразу по окончании гимназии, отдавая дань уважения ремеслу своих предков, решит посвятить свою жизнь проторенному направлению и ни много ни мало стать лучшим текстильным фабрикантом города. Уже к тридцати трем годам (1878 год), используя долю семейного состояния и первые деньги, которые Мориц самостоятельно заработал, он приобретает небольшую ткацкую фабрику в богемском городке Райхенберг (современный Либерец), одновременно открыв управленческий офис фабрики и магазин тканей в торговом районе Вены на Эслинггассе, 15. «Мой отец уже без колебаний шагнул в новое время, основав на тридцатом году жизни небольшую ткацкую фабрику в Северной Богемии, из которой он затем неспешно, за несколько лет, создал солидное предприятие»29.
К этому периоду чета Бреттауэр уже восемь лет благополучно проживала в Вене. Самуэль Людвиг с супругой и повзрослевшими дочерями переехал в город в 1870 году. Он приобрел просторную квартиру на Фюрихгассе, 6, как и мечтали девочки, недалеко от Музея истории искусств и просторных зеленых парков. В Вене Ида Бреттауэр двадцати двух лет от роду познакомится с Морицем, с согласия строгих родителей будет с ним помолвлена и в сентябре 1878 года, обручившись, переедет с ним в отдельную квартиру на Шоттенринг, 14, – в тот же район, где Мориц намеревался открывать офис и магазин своей богемской фабрики.
Морица Цвейга, не боясь ошибиться в определениях, можно смело назвать мечтой любой женщины. Во-первых, он никогда не выходил из себя, а в быту был абсолютно непритязателен. Старался во всем и со всеми придерживаться порядка, честности, достоинства, благородства. К любым почетным титулам, званиям, членствам в советах не стремился, был лишен тщеславия и чувства зависти – «за всю свою жизнь не принял ни одного звания, ни единого поста, хотя ему, как крупному промышленнику, их предлагали не раз». Вместо шумных застолий предпочитал весь вечер провести в одиночестве за роялем, допоздна читать книгу или раскладывать в понятном ему одному порядке любимые игральные кости и карты. Не имел привычки брать долговых обязательств в банках, при этом, приумножая капитал, одевался скромно и недорого, лишь бы было комфортно. Однажды отсутствием каких-либо эмоций и душевных волнений Мориц сильно удивил своих домашних, когда в декабре 1881 года в окне своего кабинета безучастно наблюдал за чудовищной трагедией театрального мира Вены…
Гром среди ясного детства
Если говорить честно, все мои школьные годы – это сплошная, безысходная, всё возрастающая тоска и нестерпимое желание избавиться от каждодневного ярма30.
«И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени» (Быт. 17:9—12).
Этот важнейший религиозный ритуал в жизни каждого еврейского мальчика, день, когда сыновьям, следуя тысячелетнему закону и традиции, дают имя, не обошел стороной и ассимилированную семью фабриканта Морица Цвейга. 28 ноября 1881 года в понедельник вечером в первом районе Вены в доме на Шоттенринг, 14, Ида Цвейг (Бреттауэр) родила второго ребенка. Миловидного, очаровательного, круглолицего мальчика с широко открытыми большими темными глазами («умные, мягкие, вопрошающие глаза») и каштановыми мягкими волосами.
Как и положено, спустя восемь дней31 в присутствии отца новорожденного и согласно правилам ритуала в присутствии еще двух свидетелей32, будущий гений австрийской литературы прошел процедуру обрезания у той же акушерки и мохеля, что двумя годами ранее, 20 октября 1879 года33, совершили аналогичную операцию с Альфредом, старшим братом Стефана. Тогда в качестве свидетелей на ритуале присутствовали муж родной сестры Морица Цвейга Паулины, германский купец Отто Фрейденберг34 и один из двоюродных братьев Морица Эдуард35, старший брат Густава Цвейга, того самого, кто в Проснице стоял у истоков открытия книжного магазина.
Самуэль Бреттауэр не дожил до рождения второго внука всего семь недель – скончался в Вене 2 октября 1881 года. Именно в честь покойного отца матери мальчик получил еврейское отчество Самуэль и нееврейское имя Стефан, не случайно начинающееся с той же буквы. Несомненно, это имело большое значение для матери, все еще пребывающей в трауре по отцу. Двумя годами ранее Альфред получил еврейское отчество Йозеф, данное ему в честь его прадеда Йозефа Ландауэра36, отца Жозефины, любимой их со Стефаном бабушки. Рядом с ней мальчики были по-настоящему счастливы, веселы и с замиранием сердца слушали, как она читала им сказки Гофмана, Гауфа, братьев Гримм.
Мориц Цвейг в обоих случаях, пока мохель совершал ритуал обрезания его сыновьям, произносил благословения, выражавшие надежду, что мальчики вырастут серьезными мужчинами, обязательно женятся на еврейках, станут следовать этическим принципам и заветам иудаизма, смогут познать скрытые смыслы и тайны Священного Писания. То, что дома родители никогда не отмечали ни Суккот, ни Йомкипур, ни Хануку, ни Рош ха-Шана, хотя демонстративно посещали синагогу во время еврейских праздников, не помешало Стефану самому пристраститься к чтению Библии, обращаться к ее смыслам, пророчествам и наставлениям. Не случайно в разные годы жизни он будет писать легенды и притчи на библейскую тему. Например, в годы Первой мировой войны выразит призыв к солидарности разобщенных европейских народов в эссе «Вавилонская башня» («Der Turm zu Babel»). Впервые его опубликуют на французском языке в Женеве в пацифистском журнале «Le Carmel»37, но на русском языке так до сих пор и не внесут ни в одно собрание сочинений. По мнению американского ученого, музыковеда и доктора философии Леона Ботштейна, громкий призыв, прогремевший с высоты «Вавилонской башни» писателя Цвейга, явился первоначальным выражением его идеи о возможности объединения людей во имя всеобщей борьбы за мир.
В свое время мы поговорим и о легенде «Рахиль ропщет на Бога», «Легенде о третьем голубе» и не так давно впервые изданной в России («Книжники», 2010) еврейской притче «Погребенный светильник». Проанализируем драму «Иеремия», также не вошедшую ни в одно русское собрание его сочинений (не считая перевода Э. С. Войтинской, выполненного в 1924 году специально для Максима Горького). Вечные библейские сюжеты занимали писателя всю жизнь: судьба золотой меноры, голубь из ковчега Ноя, имя ветхозаветного пророка Иеремии, с которым Стефан отождествлял себя, иронично используя псевдоним «Jeremias» в письмах друзьям в годы кровопролитной войны 1914–1918 годов.
«Он почерпнул свое вдохновение в Библии, – писал Ромен Роллан в ноябре 1917 года. – “Иеремия – это наш пророк, – сказал мне Стефан Цвейг, – он говорил для нас, для нашей Европы. Другие пророки пришли каждый в свое время: Моисей говорил и действовал, Христос умер – и в том была его сила. Слова Иеремии были напрасны. Его народ не понял их. Его время еще не созрело. Он мог лишь возвещать разрушение и оплакивать его. Он ничего не смог предотвратить. То же и с нами”»38.
Ну и фантазером был Цвейг, подумает читатель, осмелился сравнивать себя с Иеремией! Но давайте посмотрим на это по-другому. Что, если Господу понадобился новый «пророк» в лице этого красноречивого, образованного, обаятельного, энергичного человека, и он сам, Стефан Цвейг, услышав этот призыв, рано понял свой путь и предназначение? Что, если ужасная трагедия, развернувшаяся в столице Австро-Венгерской империи спустя десять дней после его рождения, благодаря Божественному провидению не коснулась его семьи (подчеркиваю – никого из членов семьи ни Цвейгов, ни Бреттауэров), а ведь беда случилась на той же самой улице, в буквальном смысле под окнами их дома на Шоттенринг.
Стефан мог умереть младенцем от угара, дыма, паники, и мир никогда бы не узнал его имени, его восхитительных произведений. Теоретически в театре вполне могли находиться его родители, мама и папа, и десяти дней от роду мальчик остался бы сиротой. К счастью, Господь уберег, оградил от первого и от второго совсем не «театрального» сценария развития драматических событий. Но обо всем по порядку.
Всю первую неделю декабря 1881 года жители Вены приобретали билеты на новое театральное представление – премьеру оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Двухактная версия этого спектакля с триумфом прошла на сцене парижской Комической оперы еще в начале года39, но полноценная премьера всех четырех актов состоялась 7 декабря в зале венского Рингтеатра.
Спектакль в тот вечер прошел грандиозно. Меркантильный директор Франц фон Яунер (Franz von Jauner, 1831–1900) безошибочно рассчитал, что повторный показ представления, заявленный на 8 декабря, то есть на следующий день, будет иметь стопроцентный аншлаг. Так и произошло: 1760 билетов раскупили до обеда, а за десять часов до начала спектакля в вестибюле театра по воле зловещего рока состоялось представление в пользу «Общества поддержки сотрудников полиции Вены для вдов и сирот». Если бы можно было знать наперед, что тем же зимним вечером количество вдов и сирот увеличится в городе многократно! Справа от театра в угловом доме на пересечении Шоттенринг и Хессгассе проживал композитор Антон Брукнер – он тоже приобрел билет на премьеру, но неважно себя почувствовал, а может, что-то предчувствовал; в итоге, ссылаясь на головную боль, решил пораньше лечь спать и никуда не пошел.
К 19.00 зрители заполнили все пространство. Занавес был еще опущен, когда один из рабочих заметил, что четвертый ряд газовых светильников не горит, и попытался зажечь его дополнительно. Произошел взрыв, и огненный газовый шар, сметающий все на своем пути, сквозь декорации и занавес обрушился на людей, сидящих в партере. Загорелись деревянные кресла, вся сцена, реквизит, напольные ковры, платья и костюмы на зрителях.
От взрыва газовый регулятор (счетчик) вышел из строя, погасло освещение. На узких винтовых лестницах, ведущих к балкончикам, началась безумная паника. В коридорах и на всех этажах нарастало столпотворение. «Всякое сочувствие и сострадание к ближнему исчезло, – вспоминал один из артистов театра. – Я пробиваюсь через груды стонущих тел, теряю последние силы, падаю и не могу встать. Но ужас близкой смерти придает мне новые силы, расталкивая людские тела, рвусь к выходу…»
В считаные минуты все помещения заполнились гарью и дымом, от удушья люди стали терять сознание, падая друг на друга. Но и те, кто по трупам доползал до дверей, никак не могли их распахнуть на улицу. Дело в том, что все двери (центральные, выходившие на Шоттенринг, служебные на Хессгассе и отдельный вход для членов императорской семьи на Мария-Терезиенштрассе) открывались только вовнутрь, а следовательно, были заблокированы теми, кто до них добежал и, навалившись своим весом, лишил возможности открыться.
Пожарная команда приехала поздно, и все же с помощью натяжного полотна удалось спасти 130 человек, в панике прыгавших с крыши театра. Еще 70 чудом спустились по выдвижной лестнице и были доставлены с ожогами разной степени тяжести в главную городскую больницу. В 21.45 с грохотом обрушился купол Рингтеатра; к этому часу обезображенные, обугленные, изрезанные битыми оконными стеклами несчастные люди, дети и взрослые, грудами лежали на снегу посреди перекрытой улицы.
Все это «представление» наблюдали с окон своей квартиры на Шоттенринг, 14, из дома, стоящего напротив объятого пламенем театра, родители новорожденного Стефана. Более того, Альфреда, которому было два годика, мама поставила ножками на подоконник, и мальчик, так и не понявший, почему взрослые плачут, плакал вместе с ними, но по какому-то своему поводу. Жуткая сцена хорошо отложилась в его сознании. Спустя много лет Альфред скажет, что образы горящего здания стали его самыми ранними воспоминаниями.
Ведущие европейские и американские издания, включая «The New York Times», отдавали центральные полосы под венскую трагедию. Спустя четыре дня, 12 декабря 1881 года, в Санкт-Петербурге в журнале «Всемирная иллюстрация» вышла самая первая публикация на русском языке об этом богами проклятом представлении. Сохраняя дореформенную орфографию, согласно оригиналу текста, процитирую только один абзац: «Вѣнскiй Рингъ-театръ сгорѣлъ до основанiя, вспыхнувъ во время самаго представленiя, и подъ горящими развалинами погибла масса несчастныхъ, число которыхъ простирается до 1,000 человѣкъ! До сихъ поръ Вѣна не можетъ еще придти въ себя отъ этого ужасного несчастiя, и пройдутъ многiе годы, прежде нежели оно изгладится изъ памяти населенiя…»
Австрийский врач Эдуард фон Гофман (Eduard von Hofmann, 1837–1897) смог идентифицировать останки многих зрителей только по стоматологическому признаку – столь сильно, до неузнаваемости обгорели их лица. Среди жертв оказался восемнадцатилетний юноша, родной брат будущего австрийского социолога Рудольфа Гольдшайда Альфред (Alfred Goldscheid, 1863–1881). К всеобщему ужасу, в списках были и совсем маленькие дети, а 126 детей-сирот, чьи родители сгорели в театре, распределили по приютам. Пособия, выделенные императором Францем Иосифом, составили 6 тысяч гульденов на человека.
Директор превращенного в пепелище театра Франц фон Яунер, отсутствовавший на представлении, в ходе судебного разбирательства был обвинен «в халатности и небрежности». Он застрелится в своей квартире 23 февраля – по странному совпадению в этот же самый день спустя много лет покончит жизнь самоубийством и Стефан Цвейг…
Интересно, что Цвейг ни разу не говорит о роковом пожаре ни в дневниках, ни в мемуарах. Он не посвящает этой теме ни одного психоаналитического исследования, ни одного сюжета новеллы или романа, как, например, его современник Артур Шницлер в рассказе «Фритци». Очень жаль, ибо из-под пера Цвейга могла выйти поистине будоражащая душу история. Печально и то, что он не воплотил идею, которую точно планировал реализовать и даже имел набросок. Он собирал материал для составления жизнеописания австрийского архитектора Эдуарда ван дер Нюлля (Eduard van der Nüll, 1812–1868), создателя знаменитого на весь мир здания Венской оперы. Писателя особенно волновала психологическая драма этого несчастного архитектора, который за свою работу, выдающееся творение в камне, был осмеян властью и в итоге, не выдержав публичной унизительной травли, повесился.
Жизнь венских буржуа после пожара постепенно возвращалась в привычное и спокойное русло. Архитектор Фридрих фон Шмидт (Friedrich von Schmidt, 1825–1891), построивший в готическом стиле ратушу (мэрию), получил за нее звание почетного гражданина Вены и в 1884 году приступил к проектированию на месте сгоревшего театра нового здания. Этот Зюнхаус, или «Дом искупления», состоял из двенадцати квартир, доход от аренды которых по указу императора предназначался для выплат пострадавшим. 29-летний приват-доцент Венского университета Зигмунд Фрейд, на тот момент пока еще не сделавший своих революционных открытий в области психиатрии, арендовал в этом доме одну из квартир на первом этаже для проведения первых практических сеансов. В этом же доме поселились и сам архитектор, и журналист Виктор Зильберер (Viktor Silberer, 1846–1924), и граф Бинерт-Шмерлинг (Richard Bienerth-Schmerling, 1863–1918).
В то время по улицам и переулкам, составлявшим первый район города, неторопливо ходил важный и серьезный доктор Фрейд, недавно вернувшийся из Парижа после стажировки у психиатра Шарко. И рядом в этот же полуденный час, возможно даже под окнами квартиры Фрейда на Шоттенринг или со стороны Мария-Терезиенштрассе, бегал, пуская по лужам бумажные кораблики, капризный, романтичный, сентиментальный мальчик Стефан. Пройдет три десятилетия, и увлечение психологией, гипнозом, психиатрией станет страстью мальчика и сделает из двух неординарных «соседей по духу и дому» идеальных собеседников. Разница в четверть века не помешает им стать самыми близкими друзьями, и Цвейг писал Фрейду: «Для меня психология (вы понимаете это, как никто другой) ныне является, собственно, единственной страстью моей жизни. И я бы хотел тогда, если я достаточно далеко продвинусь, проверить ее на труднейшем объекте – на мне самом»40.
Ненадолго отправимся с вами в беззаботное и безоблачное с точки зрения внешних факторов детство Стефана, когда в теплые солнечные дни весны и лета он прогуливался с отцом по аллеям главного парка города, играя в мяч и напевая любимые мелодии Рихарда Вагнера. Поясним, что Вагнер являлся музыкальным культом отца будущего писателя. Однажды Мориц Цвейг в Вене побывал на живом исполнении гением его оперы «Лоэнгрин» и потом вспоминал об этом незабываемом вечере десятилетиями. И вот они вдвоем, отец и сын, гуляют по зеленеющим аллеям Пратера. Мориц в компании с Вагнером, «самым серьезным и самым замечательным художником эпохи», а сладкоежка Стефан – с мягким, растаявшим в кармане шортиков шоколадом.
Приближаясь к Рингштрассе, мальчик без всякой на то причины закатывает отцу истерику, да так громогласно, что проезжающий мимо экипаж членов императорской семьи велит кучеру немедленно остановить фиакр, дабы лично успокоить заплаканную взъерошенную кроху. Памятный день общения Стефана с представителями императорской династии долго потом вспоминали в доме Цвейгов, а красотам Пратера писатель впоследствии посвятит стихотворение «Предчувствие» и опишет любимый парк в «Фантастической ночи»:
- Свершает солнце круг небесный.
- По парку мы идем с тобой
- Под звук мелодии чудесной,
- Что наполняет лес окрестный,
- Нас увлекая за собой.
- Как будто все должно свершиться,
- Что в нас еще не расцвело,
- По чьей-то воле воплотиться,
- Любовь в опущенных ресницах
- Дрожит молитвенно, светло41.
«Все люди казались веселыми и словно влюбленными в праздничную пестроту улицы, многое радовало глаз, и прежде всего пышный зеленый наряд деревьев, росших прямо посреди асфальта. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эта воскресная сутолока вдруг восхитила меня, мне захотелось зелени, ярких, сочных красок. Я невольно вспомнил о Пратере, где в эту пору, когда весна переходит в лето, густолиственные деревья как исполинские слуги в зеленых ливреях стоят по обе стороны главной аллеи, по которой тянется вереница экипажей, и протягивают свои белые цветы нарядной, праздничной толпе»42.
Из предыдущей главы читатель узнал, в каких новеллах («Гувернантка» и «Жгучая тайна») писатель предпочел сохранить память о своей деспотичной матери. Но говорит ли он в каком-нибудь произведении о своем отце, тихом, медлительном, не выставляющем напоказ эмоции и чувства; преданном больше детям, Альфреду и Стефану, нежели материальным благам? Однозначно, Мориц Цвейг был запечатлен сыном в образе Фрица Вагнера в новелле «Страх». Во-первых, обратите внимание на схожесть имен Мориц – Фриц и на фамилию героя Вагнер – главная любовь Морица в мире музыки. Во-вторых, внимательно присмотритесь к фотографии отца писателя и лишь после этого и всего того, что вы уже прочитали о характере и поведении Морица Цвейга выше, войдите в дом Цвейгов-Вагнеров через входную дверь под названием «Страх».
«Так как словами он не выдавал своих затаенных помыслов, то теперь, когда он с книгой сидел в кресле, ярко освещенный электрической лампой, она пытливо вглядывалась в него. Как в чужое лицо, старалась она проникнуть взглядом в лицо мужа и по этим знакомым чертам, ставшим вдруг чужими, узнать его характер, который не раскрылся перед ее равнодушием за восемь лет совместной жизни. Лоб был ясный и благородный, как будто вылепленный мощным и деятельным умом, зато рот выражал строгую непреклонность. Все в его мужественных чертах дышало энергией и силой. Неожиданно для нее самой ей вдруг открылась красота этого волевого лица, с удивлением созерцала она его вдумчивую сосредоточенность и ясно выраженную твердость. Но глаза, в которых таилась главная разгадка, были опущены в книгу и недоступны ее наблюдению. Ей оставалось только испытующе смотреть на профиль мужа, как будто в его смелых очертаниях было запечатлено слово прощения или проклятия…»43
Традиционно каждый июнь и начало июля родители проводили в отпуске на лечебных горных курортах Мариенбада в Богемии (Чехии), куда брали с собой не только сыновей, но и гувернанток, а при хорошем самочувствии приглашали и вдовствующую бабушку Жозефину, которая с удовольствием соглашалась отправиться на свежий воздух вместе с любимыми внуками.
В Мариенбаде Цвейги обычно снимали номера в роскошном отеле «Гютт» или в отеле «Фюрстенхоф», где Ида ежегодно должна была проходить обязательный курс терапевтических процедур. Дело в том, что после вторых родов в ее организме диагностировали гормональный дисбаланс, давший осложнение на среднее ухо. Воспаление барабанной полости постепенно нарушило работу хрупкого механизма ушных косточек и привело к ослаблению слуха, а затем и к окончательной глухоте. Достижения медицины конца XIX века еще не могли похвастаться эффективными методами терапевтического лечения или операций, чтобы вернуть слух молодой женщине с подобным диагнозом. Поэтому Ида могла найти спасение и частично вернуть себе потерянный слух только при помощи специальной слуховой трубки.
Рискну предположить, что одной из причин, по которой Стефан изначально попробует себя на поприще литературы, станет подавленное им глубокое чувство вины перед матерью. Без сомнения, его терзало и беспокоило то, что именно из-за него, из-за тяжелой беременности им мать утратила слух, кардинально поменявший ее привычный образ жизни. Очевидно, пытаясь доставить матери радость, Стефан оставляет идею отца научиться играть на рояле и спешно начинает сочинять стихотворения и рассказы. Мама ведь не могла слышать музыку, а видеть публикации сына в газетах было в ее силах. Как выясняется, она даже собирала и приклеивала на большой картон вырезки его ранних произведений из всех венских изданий. Не случайно любовником Ирены Вагнер (супруги Фрица Вагнера из новеллы «Страх») станет талантливый пианист, для которого она «как целительница и советчица» столь много значила, а он ей одной, для нее согласился сыграть свою новую вещь у себя дома…
Июньскими процедурами на лечебно-оздоровительных курортах Мариенбада семейство Цвейг не ограничивалось. По мере взросления сыновей родители посещали бельгийские курорты Бланкенберга, путешествовали по Рейну, посещали древний религиозный комплекс Инникен в Южном Тироле и живописный швейцарский Зелисберг на берегу Люцернского озера.
Примерно за год до поступления Стефана в начальную школу, в 1886 году, родители пригласили в дом венского художника Эдуарда Кройтнера (Eduard Kräutner) и заказали ему портрет младшего сына. Стефана нарядили в новую модную матроску с вышитыми якорями на груди и на рукавах, велели запастись терпением и в течение нескольких часов постараться неподвижно сидеть на стуле. Нечего и говорить, что тот вечер показался ему вечностью, ведь за пять часов работы художника мальчишка успел поворчать, поплакать, утомиться и невообразимо заскучать от ничегонеделания. Но вот что любопытно – с портрета смотрит улыбающийся, счастливый ребенок, на лице которого нет ни усталости, ни раздражения. Складывается ощущение (добрый взгляд и улыбка этому способствуют), будто малышу дали кусочек любимого торта, а не велели позировать и сидеть смирно длительный период времени. Все дело в том, что опытный мастер Кройтнер во время работы не обращал внимания на переменчивое настроение юнца и решил «дорисовать» ему улыбку и позитивный настрой во взгляде. Так семейный альбом Цвейгов пополнился жизнерадостным портретом Стефана.
«Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные во всем классе, и как он был хорош в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке!»44 Что-то от Цвейга есть в образе умершего сына героини новеллы «Письмо незнакомки», кроме болезненного состояния, о котором мы говорили, есть и во внешности (матроска) и в любви к французскому языку и к ведению порядка в школьных тетрадках.
Наступила осень 1887 года, и в неполные шесть лет мальчик был определен в Общую народную школу на Вердерторгассе, 6, где уже два года учился его брат и куда через пять лет после Стефана поступит учиться будущий знаменитый писатель Герман Брох. В год поступления младшего сына в школу родители решили переехать в более просторную квартиру, в дом 1 на Конкордиаплац, светлой прямоугольной площади, названной так в честь независимой ассоциации австрийских писателей и журналистов45, со штаб-квартирой на той же Вердерторгассе, параллельном площади переулке.
В школьные годы круг общения Стефана в основном состоял из его кузенов, детей и внуков многочисленных родственников. Им, «чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции», он любезно демонстрировал марки, которые к этому времени уже охотно собирал и раскладывал по альбомам.
Школа, куда он с каждым годом и даже месяцем все неохотнее волочился – «я с нетерпением учился в школе», – смогла дать будущему писателю лишь один ценный навык: мальчика научили читать и, главное, любить чтение. Отныне приключенческие романы Фенимора Купера и Даниеля Дефо, составлявшие скромную школьную библиотеку, с первых страниц уносили Стефана в далекие чужеземные страны, заокеанские земли и острова, куда он грезил и мечтал обязательно когда-нибудь отправиться. «Неведомая страна, Калифорния, о ней никто ничего точно не знает, а о сказочных богатствах ее рассказывают чудеса; там реки млека и меда к твоим услугам, только пожелай, – но до нее далеко, очень далеко, и добраться туда можно, лишь рискуя жизнью»46.
Несмотря на то что по дисциплине «общее поведение» у него всегда была твердая «четверка», своим однокашникам будущий писатель ничем особенным не запомнился. Не продемонстрировал ни каких-то спортивных результатов на физкультуре, ни на уроках рисования, ни тем более в музыке и с видимым недовольством участвовал в любых обязательных капустниках и концертах. «Смутно помнится, как лет семи нам пришлось разучить и петь хором какую-то песенку о “веселом и счастливом” детстве. Я и сейчас слышу мелодию этой примитивно-односложной песенки, но слова ее и тогда уже с трудом сходили с моих губ и уж менее всего проникали в мое сердце»47.
А все потому, что мальчик в своих окрыляющих мыслях следовал от романа к роману за первыми кумирами от литературы, а не скучными учителями и ленивыми сверстниками. До глубокой ночи его невозможно было оторвать от рассказов немецкого романиста Фридриха Герштеккера, чье полное собрание сочинений он прочитал с карандашом в руках. Стефана возбуждали истории о золотоискателях в Калифорнии (свидетельством чему станет миниатюра «Открытие Эльдорадо»), легенды о необитаемых островах Южного океана, пиратах и разбойниках на Миссисипи, превратностях кругосветных плаваний. Закрыв последнюю страницу последнего романа Герштеккера, он открыл для себя еще одну «необитаемую» планету – исторические романы Чарлза Силсфилда, а затем и мир приключенческих сюжетов Карла Мая.
Стефан достаточно легко построил в своем воображении целую Вселенную, следуя в ней по пятам за благородным индейцем Виннету, преодолевая моря и пустыни, устремляясь на поиски «сокровища Серебряного озера», чудес затерянных тропических лесов и пустынь. Однако жесткий авторитарный стиль преподавания в школе ежедневно разрушал его хрупкий, красивый, увлекательный мир, которым он дорожил и который ночами строил с помощью своей неуемной фантазии и картинок со страниц любимых романов. «Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь был “весел и счастлив” в этом размеренном, бессердечном и бездуховном школьном распорядке, который основательно отравлял нам прекраснейшую, самую беспечную пору жизни, и, признаюсь, по сей день не могу побороть зависти, когда вижу, насколько счастливее, свободнее, самостоятельнее протекает детство в новом столетии»48.
К сожалению, для мальчишек поколения Цвейга (пусть кто-то скажет, что это не относится и к каждому из нас) школа являлась «воплощением насилия, мучений, скуки, местом, в котором необходимо поглощать точно отмеренными порциями “знания, которые знать не стоит”, схоластические или поданные схолатически сведения, которые мы воспринимали как что-то не имеющее ни малейшего отношения ни к реальной действительности, ни к нашим личным интересам»49. Мало кто из нас не согласится и с другим определением, которое в мемуарах он с грустью вспоминал в отношении школьных будней: «Это было тупое, унылое учение не для жизни, а ради самого учения, которое нам навязывала старая педагогика. И единственным по-настоящему волнующим, счастливым моментом, за который я должен благодарить школу, стал тот день, когда я навсегда захлопнул за собой ее двери»50.
К окончанию школы его главными друзьями становятся приключенческие романы первоклассных немецких писателей того времени. Промчится жизнь, и Стефан Цвейг подарит подрастающему поколению книги, теперь уже написанные им самим.
Братство гимназистов
К лежащим передо мною листам я присоединю еще одну, скрытую страницу – исповедь чувства к ученой книге: я расскажу себе самому правду о моей юности51.
Осенью 1871 года в девятом районе Вены распахнула свои дубовые двери новая государственная школа, спустя пять лет преобразованная в гимназию52 для сыновей состоятельной еврейской буржуазии. Это престижное учебное заведение и по настоящее время53 остается для Вены и Венского университета настоящей «кузницей кадров». Коридоры гимназии помнят шаги будущих директоров Венской оперы54, шахматистов, лауреатов Нобелевской премии55, писателей, театральных драматургов, поэтов, психоаналитиков, музыкантов, номинированных на статуэтки «Грэмми» и «Оскар»56. А ведь когда-то все начиналось с первого звонка на первый урок…
Четырехэтажное здание из сырцового кирпича, спроектированное Генрихом фон Ферстелем (Heinrich von Ferstel, 1828–1883) в районе Альзергрунд, первоначально представляло собой четыре учебных класса. Выше первого этажа дети и учителя никогда не поднимались; там находились жилые квартиры. Несмотря на то что архитектор украсил вестибюль первого этажа бюстами бессмертных греков и римлян, а гимназия на момент поступления в нее Стефана в 1892 году пребывала в относительно новом состоянии, тем не менее «запах натопленных, переполненных, никогда как следует не проветриваемых помещений, который пропитал сначала одежду, а затем и душу»57, раздражал безусого франта на протяжении восьми лет обучения. «Эта “учебная казарма” с холодными, плохо побеленными стенами, низкими потолками в классах (ни единой картинки, ничего, что радовало бы глаз), с уборными, от которых разило на все здание, чем-то походила на старую дешевую гостиницу, которой уже пользовалось множество людей и которой такое же множество так же безропотно и безучастно еще воспользуется».
Что касается сравнения с дешевой гостиницей, ее типичной австрийской казенщиной, спертым запахом в аудиториях «угрюмого здания» и столбами пыли на дощатом полу в спортзале, писатель Цвейг, видимо, нисколько не преувеличивал. Как уже говорилось, дом и вправду был проходным, жилым, «типичной постройкой целевого назначения». Но разве это имело отношение к налаженному учебному процессу, к талантливым учителям, многие из которых блестяще выполняли свой профессиональный долг, были заслуженными академиками, писали научные книги, совершали открытия и самое главное – имели призвание учить, воспитывать юное поколение?
В мемуарах Стефан беспощадно обрушивается молотом слова на все составляющие своего гимназического периода обучения. В первую очередь на систему в целом – «сухой и бездушный метод воспитания», когда измученные дети «подтрунивали над учителями, но с холодной любознательностью учили уроки». Он утверждает, что профессора на кафедре к ним «не питали ни любви, ни ненависти – да и с какой стати, ведь они о нас ровным счетом ничего не знали, лишь очень немногих называя по имени». Критикуя, но прекрасно понимая положение педагогов в австрийской монархии того времени, он говорит: «Государство использовало школу как орудие для поддержания своего авторитета». Он окрестил их «бедолагами, рабски привязанными к схеме, к предписанной свыше учебной программе», но в то же время с пониманием отнесся к условиям их работы. Не предъявляя претензий, подытожил: «Они должны были выполнять свое “задание”, как мы свое – это мы явственно ощущали, – и как мы были счастливы, когда после полудня раздавался звонок, который дарил свободу, как нам, так и им».
В своих мемуарах Цвейг откровенно пройдется и по тем невыносимым условиям, в каких провел вместе со сверстниками годы интенсивной зубрежки. Выяснится, что их занятия проходили в холодных классах, «сидели по двое, как невольники на галерах, за низкими деревянными партами, которые искривляли позвоночник, и сидели до тех пор, пока не затекали ноги». Двенадцатилетний гимназист помнил, как в зимние месяцы «над учебниками трепетал голубоватый свет открытой газовой горелки, а с наступлением лета окна тотчас же занавешивались, дабы мечтательный взгляд не смог восхититься маленьким квадратом голубого неба». Испытав вдоволь унижений, он не забыл, как ребят заставляли прочувствовать границу «между учителем и учеником, между кафедрой и партой, зримым верхом и зримым низом», где всегда «находился невидимый барьер “авторитета”, исключавший любой контакт».
Даже спустя сорок лет после гимназии, на закате жизни, писатель мог зримо представить «небольшую красную записную книжку, в которую заносились предварительные замечания, и короткий черный карандаш, проставлявший цифры». Сам себя честно уверял, что разбуди его хоть ночью, расскажет, как выглядели те «тетради и учительские поправки в них, сделанные красными чернилами». Но вот главный парадокс – он признает, что вспомнить об этих временах «бездушной обучающей машины», которая «никогда не настраивалась на личность», он способен все детали, кроме одной. Удивительно, но Цвейг, посвятивший жизнь изображению психологических портретов великих людей прошлого, обладавший фотографической резкостью и памятью на лица, подкупавший собеседников «какой-то глубокой, светившейся в нем задушевностью» (Владимир Лидин), хоть убей, не мог вспомнить лиц своих преподавателей, сам себе объясняя это тем, что «перед учителем мы всегда стояли с опущенными или невидящими глазами».
С грустью представляю, как, «едва переступив порог ненавистного здания», мальчик с невероятно богатой от природы фантазией, чутким сердцем и душой поэта вынужден был, надев форму с твердым воротничком, ходить с повинной головой по коридорам и сидеть в классах, дабы «не стукнуться лбом о незримое иго» грозных хранителей покойницкой духа. Вот откуда в зрелые годы его любовь к простой и мягкой одежде. Не строгие брюки, а кожаные ледерхозе, за которые он получил прозвище «альпийский турист», не накрахмаленные рубашки с бабочкой, а свободные пиджаки, в которых можно работать в купе поезда, отдыхать в санатории, путешествовать с лекционным туром.
Тут мы вправе отложить в сторону воспоминания главного героя и задаться вопросом: справедливую ли характеристику дает Стефан Цвейг относительно условий и процесса обучения в их гимназии? На самом ли деле все было так, как он утверждает, и правда ли, что «педантичная заданность и черствый схематизм делали наши школьные уроки ужасающе унылыми и неживыми»?
Остановить хотя бы на время кипящую лаву его красноречия в адрес ненавистного учебного заведения вправе, пожалуй, те выпускники, кто вместе с ним там учился и в буквальном смысле сидел за одной неудобной партой. Такие люди есть – например, австрийский историк и драматург Феликс Браун58, с которым Стефан, правда, подружится уже после гимназии, но будет поддерживать отношения все последующие десятилетия59. Начиная с 1895 года Браун учился в этой же гимназии и у тех же учителей спустя три года после поступления в нее старшего товарища. В своих мемуарах «Свет мира» («Das Licht der Welt», 1949) он высказывает противоположную точку зрения, рисует не черно-белыми, а благородными тонами густых цветных красок картину гимназических воспоминаний.
Феликс искренне благодарит профессора Лихтенфельда, их со Стефаном учителя немецкого языка и литературы, который познакомил его с основами классической и современной литературы, привил любовь к Гёте и, самое важное, указал направление будущей карьеры. В какой-то степени Феликс Браун пойдет по стопам профессора – станет преподавать историю искусств и немецкую литературу в колледжах при университетах Дарема, Ливерпуля и Лондона. После Второй мировой войны будет читать курс на семинаре Макса Рейнхардта, напишет многочисленные романы и драмы. Получит членство в Немецкой академии языка и поэзии, будет удостоен правительственных наград и премий, его имя заслуженно впишут золотыми буквами в историю австрийской литературы и культуры, один из переулков Вены переименуют в его честь – Феликс-Браунгассе. Многого добьется Браун, и случится это отнюдь не без влияния чуткого профессора, научившего его любить литературу и процесс познания.
Но Цвейг этому же человеку, заслуженному профессору Лихтенфельду дает в мемуарах определение «бравый старикан», язвительно подчеркивая, что тот никогда не слышал фамилий Стриндберга и Ницше, а на занятиях «невероятно нудно» рассказывал нам о «наивной и сентиментальной» поэзии Шиллера. Обратим внимание, что в новелле «Смятение чувств», посвященной, между прочим, именно Феликсу Брауну, Цвейг описывает историю студента и пожилого профессора (ради приличия имя профессора-филолога скрыто и обозначено как «NN»), у которого Роланд перенимает знания, домашнее пространство, а потом и… тело супруги.
«Случалось, что, входя в его комнату, всегда с робостью ребенка, приближающегося к дому, в котором обитают духи, я заставал его в глубокой задумчивости, мешавшей ему услышать мой стук; и когда я, не зная, что мне делать, стоял перед погруженным в свои мысли учителем, мне казалось, что здесь сидит только Вагнер – телесная оболочка в плаще Фауста, – в то время как дух витает в загадочных ущельях, среди ужасов Вальпургиевых ночей. В такие мгновения он не замечал ничего вокруг. Он не слышал ни приближающихся шагов, ни робкого приветствия. Придя в себя, он пытался торопливыми словами прикрыть смущение: он ходил взад и вперед, старался вопросами отвлечь внимательно устремленный на него взгляд. Но долго еще витала тень над его челом, и только вспыхнувшая беседа разгоняла надвинувшиеся тучи»60.
О «надвинувшихся тучах» в сюжете произведения мы поговорим дальше; все-таки новелла раскрывает перед читателями не трагедии Шекспира и Гёте, а гомосексуальную страсть пожилого профессора к студенту. Сейчас, пока возраст наших героев (и Стефана, и Феликса) невинен и еще долго будет девственно-чист, обратимся в «Смятении чувств» к тем описаниям, где автор воскрешает с новой силой свои старые воспоминания об учебе: «При первом же беглом посещении аудитории затхлый воздух и проповеднически-монотонная, поучительно-широковещательная речь вызвали во мне такую усталость, что мне пришлось сделать усилие, чтобы не опустить сонную голову на скамейку: ведь это была опять та же школа, из которой я был так счастлив вырваться, тот же класс с высокой кафедрой и с пустым крохоборством. Мне невольно почудилось, что из тонких губ тайного советника сыплется песок так мелко, так равномерно текли в душный воздух слова из потертой тетрадки»61.
Непосредственно одноклассник Цвейга Эрнст Бенедикт (Ernst Benedikt), чей отец Мориц Бенедикт возглавит в 1908 году редакцию ведущей либеральной газеты Европы «Neue Freie Presse»62, в своих воспоминаниях пишет о том, как Стефан незлобно «подтрунивал над комичностью нашего учителя латыни», над его ляпами и перлами, над «коренастым, похожим на сатира телосложением». Речь идет о филологе и антропологе Карле Пенке (Karl Penka, 1847–1912). Из воспоминаний Бенедикта следует, что хотя бы на лекциях этого чудного педагога мальчикам было забавно и интересно. Кто-то из ребят копировал его походку, пародировал тембр голоса и характерные привычки. Вряд ли несовершеннолетних юношей можно было заставить осилить заумные книги Пенки, хотя время от времени он подкладывал им на стол свой труд «Древние народы Северной и Восточной Европы и начало европейской металлургии», рекомендовал «Лингвистико-этнологические исследования древнейшей истории арийских народов и языков». Что-то подсказывает, что неглупый профессор понимал: подобное чтение не в состоянии занять умы четырнадцатилетних подростков. За исключением (во всех правилах они есть) Альфреда Каппельмайера, еще одного выпускника этой гимназии, защитившего в Венском университете докторскую диссертацию о римском поэте-сатирике Ювенале. Каппельмайер серьезно изучал римскую литературу и писал на эту тему научные исследования.
Но что же хотели читать они, «подростки, мальчишки, робкие, пытливые новички», если им до рвоты, до отвращения не нравились истории древнего арийского народа и языков, скучные математические расчеты и формулы? Ответом на этот вопрос служит «послесловие» Стефана Цвейга, написанное в 1925 году к очередному немецкому переизданию самого знаменитого романа датского писателя Йенса Петера Якобсена. Вот на страницах какой книги проходили счастливые часы досуга и отдыха измученных гимназистов: «“Нильс Люне”! Как пламенно, как страстно любили мы эту книгу на пороге юности; она была “Вертером” нашего поколения. Несчетное число раз перечитывали мы эту горестную биографию, помнили наизусть целые страницы; тонкий истрепанный томик издания “Реклам” сопровождал нас утром в школу, вечером – в постель, да и теперь еще, когда я наугад раскрываю его, я могу слово в слово продолжить дальше с любого места: так часто и так пылко вживались мы в созданные им картины. Наши чувства формировались этой книгой и наши вкусы; она наполняла образами наши мечты, она подарила нам первое лирическое предчувствие истинного мира; наша жизнь и наша юность немыслимы без нее, без этой удивительной книги, нежной, чуть болезненной и почти забытой в шуме наших дней. Но именно за эту кротость, за эту затаенную лирическую нежность мы и любили тогда Йенса Петера Якобсена, как никого другого».
В 1896 году, в год выхода в Вене брошюры «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса», вблизи гимназии, на Вазагассе, 15, поселится автор этой книги Теодор Герцль, на тот момент фельетонный редактор, юрист и парижский корреспондент «Neue Freie Presse», которую вскоре как раз и возглавит отец Эрнста Бенедикта. Мориц Бенедикт, будучи единственным журналистом, назначенным указом императора Франца Иосифа депутатом в верхнюю палату рейхсрата63, по воспоминаниям Цвейга, был человеком «необыкновенного организаторского таланта», вложившим «всю свою прямо-таки фантастическую энергию в то, чтобы превзойти все немецкие газеты в области литературы и искусства».
Своевременный переезд Теодора Герцля в Вену и судьбоносное для Цвейга знакомство с ним в редакции «Neue Freie Presse», дружба с семьей Бенедикт и последующие многолетние публикации на страницах престижной газеты, где каждая статья «становилась предметом бесед в просвещенных кругах», покажут Цвейгу, что скрипучее колесо фортуны, «звездные часы» обстоятельств (это будет происходить на протяжении всей жизни писателя) притягивают к нему знаковых личностей, важных людей, от которых зависели те или иные, но всегда ключевые решения в его пользу.
«Все, что сформировало меня, было даровано мне провидением и судьбой помимо моих усилий и воли», – скажет он в 1917 году при работе над книгой об Эмиле Верхарне. Главное, и в этом первый секрет его феноменального успеха, Цвейг никогда не стеснялся и не робел предлагать свои поэтические опусы окружающим, вполне логично рассуждая: «В конце концов, ничего более страшного, чем отказ, произойти не могло». Однажды, размышляя о способах достижения мечты и поставленной цели, метафизике претворения в жизнь любых творческих замыслов, он напишет короткое стихотворение, которое и в XXI веке могло бы претендовать на то, чтобы стать «гимном» современных тренингов успеха:
- Отдайся во власть твоих смелых мечтаний,
- Однажды постигнешь их смысл потаенный.
- Как звезды, сияют они в мирозданье
- И тают, в небесной тиши растворенные.
- А если тебя по ночам одаряют
- Страданьем, волнением или слезами,
- Как листья, сплетаясь, твой лоб увенчают,
- Прими сей венец с дорогими цветами.
- Отдайся во власть их игры, наваждений,
- Великая истина в этом таится —
- Прекрасные цели твоих устремлений
- Сумеют однажды в дела воплотиться64.
Весной 1902 года Теодор Герцль, «первый человек всемирно-исторического масштаба, с которым я столкнулся в жизни», согласился опубликовать на первой странице фельетона апрельского номера «Neue Freie Presse» его рассказ «Странствие»65, вошедший потом в сборник «Любовь Эрики Эвальд». Тираж номера «печатного органа высокого ранга» составлял в тот год 55 тысяч экземпляров – в один день малоизвестное имя Цвейга приобрело в Вене нестираемый «оттиск в мраморе». Стефан с благодарностью (и это еще одно правило его успеха – умение быть благодарным) писал: «Я всегда воспринимал как особую честь, что Теодор Герцль, человек столь исключительной значимости, первым публично отметил меня с высоты своей заметной, а потому ответственной должности».
Мы еще увидим, что привычку благодарить своих учителей Цвейг не утратит и в зрелые годы. Более того, в письме Максиму Горькому от 22 марта 1928 года он будет утверждать: «Я признаю лишь один долг – долг благодарности по отношению к учителям. Нельзя прожить жизнь, не сказав слов признательности тому, кого чтит ваше сердце. Не обязательно говорить много, но хоть раз в жизни такие слова надо найти».
Пока на календаре истории мирно «тикали» девяностые годы XIX века, музыкальная столица Европы Вена сосредотачивала в своих границах великого, имперского города «все очарование, весь блеск уходящего мира»66. Ностальгируя в мемуарах о Вене довоенного кризиса 1914 года, писатель бережно воссоздает культурную атмосферу, в которой легко, беззаботно и благодатно дышалось ее лишенным всяческой суеты и тревоги жителям. «Сказывалась особая счастливая атмосфера, обусловленная художественным “гумусом” города, время политического затишья – то стечение обстоятельств, когда на рубеже веков возникает новая духовная и литературная ориентация, которая органически соединилась в нас с внутренней потребностью творить, что, собственно говоря, почти обязательно на этом жизненном этапе»67.
Вопреки монотонному процессу обучения и бессмысленному протиранию брюк на уроках их сплоченное гимназическое братство стремилось после уроков и даже прямо на них восполнять неутоленную жажду литературных новинок. Ребята под партами переписывали стихи Рильке и Рембо, Уолта Уитмена и Поля Верлена. Читали рассказы и пьесы Максима Горького, главный роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Поочередно, чтобы не вызывать лишних подозрений, мальчишки внезапно «заболевали» и не приходили на занятия, дабы побежать пораньше в театральную кассу и успеть приобрести для себя и друзей билеты на премьеру постановок Рихарда Штрауса и Герхарта Гауптмана. Вспоминая это, Цвейг в очередной раз кольнул учителей: «Будь они повнимательней, то могли бы обнаружить еще, что под обложками наших латинских грамматик лежат стихи Рильке, а в тетради по математике переписываются замечательные стихи из одолженных книг».
Цвейгу веришь, читая, что «в десятке соседних венских школ того времени можно было наблюдать тот же феномен не меньшей одержимости и ранних дарований». Веришь и в то, что мальчишки были счастливы, когда «копались в книгах у букинистов, ежедневно отыскивали новинки в витринах книжных магазинов». Но понимаешь, что писатель изрядно преувеличивает, когда нескромно расчищает пьедестал для себя: «Я единственный, в ком творческая страсть не иссякла и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни». А что, если не преувеличивает, памятуя восточную мудрость «Учитель приходит тогда, когда готов ученик»? Именно после эпизодической встречи с композитором Брамсом произойдет окончательная трансформация его личности, внутреннего мира, мировоззрения, закладывание нерушимых свай в основание будущих литературных и художественных устремлений.
«Мы вертелись рядом с актерами и статистами, чтобы первыми – раньше всех остальных! – узнать сюжет пьесы и состав исполнителей; мы стриглись (не боюсь говорить и о наших глупостях) у парикмахера из “Бургтеатра”, чтобы разведать что-нибудь о наших любимых актерах, а одного ученика из младшего класса особенно обхаживали только потому, что его дядя служил осветителем в оперном театре и благодаря ему иногда контрабандой проникали на репетиции, где, оказавшись за кулисами, испытывали страх почище того, что чувствовал Данте, вступая в священные круги Рая»68.
Однажды благодаря такой «контрабанде» в кулуарах Королевской оперы двенадцатилетний Стефан уличил момент и подошел к пианисту и дирижеру Иоганнесу Брамсу, заслуженно пребывающему в те времена в ореоле славы первого симфониста Германии и Австрии: «В свои двенадцать лет я, правда, не совсем точно представлял, что именно создал Брамс, но сама его слава, флюиды творчества оказывали потрясающее воздействие». На просьбу Стефана подписать ему и его друзьям открытки с автографом гений, пребывая в благоприятном расположении духа, с улыбкой похлопал смущенного юношу по плечу и, вручая заветные карточки, гордо произнес, что сам много лет коллекционирует автографы и нотные рукописи гениальных музыкантов от Глюка и Моцарта до Вагнера и Оффенбаха.
«Несколько дней голова у меня шла кругом», – с волнением вспоминал Цвейг. Совершенно случайное событие, беседа в шумном и многолюдном коридоре оперного театра посеяла в его голове (не зря она кружилась несколько дней) семя новой идеи, нового увлечения, расцветшего пламенной «неопалимой» страстью – начать собирать собственную коллекцию автографов знаменитостей.
Мало того что все деньги, сэкономленные на обедах и танцах, Стефан уже давно откладывал на книги, а время, которое удавалось изыскать, регулярно пропуская секции тенниса и плавания, посвящал театру, именно встреча с Брамсом явилась наивысшим «аккордом» его юности. Отныне и навсегда его жизнь, неведомо ему самому, превратилась в классическую симфонию, звуки которой – тексты будущих новелл – этот дирижер человеческих душ всякий раз будет «исполнять» безупречно и органично, управляя словом, как хорошо отрепетированным оркестром.
«Увидеть на улице Густава Малера было событием, которое на следующее утро гордо преподносилось друзьям как личный триумф». Гонка с целью получения заветных автографов продолжалась чуть ли не ежедневно. Цвейг преследовал актеров, режиссеров, певцов у театральных дверей городских и оперных театров. Кто-то посоветовал увеличить шансы (во все двери самому все равно не успеть), отправляя письма известным поэтам, писателям, художникам Вены и Берлина, обращаясь к великим людям с простой, необременительной для них просьбой. Невинно, жалостливо, слезно молить и просить прикладывать к ответному посланию не только автограф, но еще и фрагмент (ненужный, залежавшийся, неоконченный, брошенный не в камин, а под стол) рукописи, любой черновой набросок.
Рассылая «письма счастья» во все концы Вены и за пределы родного города, по истечении трех месяцев стало понятно, что почтовый ящик практически пуст – знаменитости ничего не присылали неизвестному мальчику по имени Стефан Цвейг. Нисколько не отчаиваясь, юноша пошел на психологический эксперимент и придумал подписывать конверты от лица женщины Stefanie Zweig, к тому же пропахшие дорогими духами матери, надеясь, что столь хитрый трюк растрогает суровых мужчин и позволит быстренько пополнить коллекцию «сокровищ».
Как ни странно, даже эти конверты, пропитанные любовью и нежностью, не помогли ему приблизиться к цели. И вдруг, казалось бы, неразрешимую задачу одним-единственным советом решил берлинский балагур и весельчак Юлиус Штетенгейм69. Прославленный автор комедий и фарсов, основавший юмористический журнал «Berliner Wespen», посоветовал прилагать к каждому следующему отправленному письму чек с указанием оплаченных почтовых расходов – то есть, обращаясь к властителям дум, ценить не только их время, но и деньги.
Совет оказался верным на сто процентов. На новый адрес родителей Цвейга, Ратхаузштрассе, 17, куда их семья переехала в 1895 году, стали приходить пухлые, приятные на ощупь конверты с открытками, автографами, стихами, черновиками прозы, рисунками от всевозможных знаменитостей. Занятие стало увлекать Стефана все больше и больше. По мере увеличения коллекции он пробует копировать добытые почерки, на потеху упражняется в их подделке, но быстро оставляет эти глупости и сосредоточенно погружается в изучение иллюстрированных энциклопедий по истории литературы. В Вене у местных букинистов ему удается раздобыть поэтический сборник Райнера Марии Рильке – «невероятный стимул для нашей еще не перебродившей энергии» – постепенно станет фанатичным приверженцем огромного дарования поэта, вступит с ним в дружбу и будет неразлучен долгих четверть века, до смерти Рильке.
«Однажды в Вене мне довелось побывать в обществе Лилиенкрона, <…>, мне удалось как-то пожать в толпе руку Демеля; бывало, меня удостаивал приветствия тот или иной поэт». Но встретить Иоганнеса Брамса еще раз ему, к сожалению, не удастся – композитор скончается в Вене в апреле 1897 года. Пройдет ровно 30 лет со дня его кончины, и так получится, что в апреле 1927 года у австрийского скульптора Ильзы фон Твардовски-Конрат (Ilse Beatrix Amalia von Twardowski-Conrat, 1880–1942) Цвейг приобретет в Берлине для своей несметной коллекции рукописей одиннадцать «Цыганских песен»70 Брамса, собственноручно им написанных на двадцати страницах.
Мы еще не сказали, что все гимназические и университетские годы Цвейг испытывал безудержное, мистическое преклонение перед поэтическим гением великого австрийца Гуго фон Гофмансталя: «Мы знали: он – неподражаемое чудо ранней зрелости, которое не может повториться, и когда мы, шестнадцатилетние, сравнивали наши стихи со стихами нашего кумира, написанными в том же возрасте, нас передергивало от стыда: мы чувствовали ничтожность наших знаний рядом с этим гимназистом, на орлиных крыльях воспарившим в духовный космос».
С тринадцати-четырнадцати лет Стефан многократно пробует писать стихи, признавая, что на свет они пробивались «в детски неосознанной форме». Он критично сравнивал свои меланхоличные творения с «духовным космосом» Гофмансталя, который был старше всего на семь лет. «Не обязательно, значит, быть таким, как Гофмансталь, сложившийся уже в гимназии, можно, подобно Рильке, искать, пробовать, расти, совершенствоваться. Не следует сразу отступать только потому, что написанное тобой недостаточно хорошо, незрело, негармонично, можно попытаться повторить в себе вместо чуда Гофмансталя более скромный, более естественный взлет Рильке».
Однажды он соберется с духом и обратится в редакцию берлинского двухнедельника «Deutsche Dichtung» с письмом на имя главного редактора Карла Эмиля Францоза (Karl Emil Franzos, 1848–1904). С этим выдающимся австрийским журналистом и романистом у Цвейга завязываются крепкие деловые и дружеские отношения. Именно Карл Францоз первым вдохновит Стефана на изучение русской литературы и славянской культуры, ведь родом он был из Подольской губернии и при встречах много рассказывал юноше о своих путешествиях по царской России. Будучи свободомыслящим гражданином, Францоз с уважением относился к культурным особенностям и традициям любых этнических групп, стремился к примирению разных национальностей, сохранению и развитию культурных ценностей каждого народа. Эту непопулярную для многих концепцию мировоззрения, стремление к духовному и культурному объединению Европы, постепенно перенял Цвейг, и произошло это в том числе и под влиянием гуманиста Карла Эмиля Францоза.
Общие взгляды на жизнь и то, что Францоз тоже был давним коллекционером автографов, помогли им быстро понять друг друга и легко выстроить план дальнейшего сотрудничества. Стефан регулярно отправлял в редакцию «Deutsche Dichtung» свои стихи, эссе, короткие новеллы, всякий раз подчеркивая, что на гонорар вовсе не претендует, а может себе позволить писать ради удовольствия и на радость читателям журнала.
В 18–19 лет, когда Цвейг много времени занимался переводами с французского языка стихотворений Эмиля Верхарна, «переводы давали мне возможность упражняться как в языке, так и в моих первых беспомощных поэтических опытах». Одновременно «в стол» он писал историческую драму о шведском короле Густаве Адольфе. И вот рукопись почти готова, но после очередного самокритичного прочтения или чем-то испорченного настроения он не желает продолжать работу и в гневе бросает бумаги в огонь. А первой его «несгоревшей» публикацией как раз в «Deutsche Dichtung» станет восьмистишие «Бутон розы» («Rosenknospen»), напечатанное в последнем декабрьском номере 1898 года71.
«Оглядываясь сегодня назад, со всей объективностью должен отметить, что объем наших знаний, совершенство литературной техники, художественный уровень были для семнадцатилетних поистине поразительны и возможны лишь благодаря вдохновляющему примеру фантастически ранней зрелости Гофмансталя, который побуждал нас, желавших хоть в чем-нибудь преуспеть перед другими, к крайнему напряжению всех сил»72.
Юность, крепкое братство, подражание кумирам вскоре останутся позади, как и навсегда захлопнутые за собой двери ненавистной гимназии. Наступала новая эпоха, и девятнадцатилетний поэт шагнул в новый двадцатый век без оглядки на прошлое. Он давно хотел почувствовать себя взрослым, и новое, отрезвляющее для всех европейцев время предоставляло такие возможности.
Струны души студента
Для меня высказывание Эмерсона о том, что хорошие книги заменяют лучший университет, остается непреложным, и я и сейчас убежден, что можно стать блестящим философом, историком, филологом, юристом и еще неизвестно кем, вовсе не посещая университет и даже гимназию73.
Багаж знаний, полученных за годы монотонной зубрежки – «что знали мы по математике, физике и всем этим отвлеченным материям?», – вылетел из его светлой головы буквально на следующий день после того незабываемого дня 12 июля 1900 года, когда выпускной экзамен наконец-то остался позади и «нас, одетых по этому случаю в черные парадные сюртуки, напутствовал проникновенной речью директор гимназии».
Сплоченное духовным порывом гимназическое братство с последним звонком тоже кануло в Лету: «Мало кого из моих “согалерников” довелось мне встречать с той поры». Писатель больше никогда не посетит «застенок нашей юности» в качестве выпускника на ежегодном вечере встреч, не придет он и когда в 1921 году получит приглашение выступить с речью на юбилее гимназии. Вежливо отказавшись, продолжая держать на душе обиду, он и через двадцать лет со всей определенностью подчеркнет в мемуарах: «Мне не за что было благодарить эту школу, и любое слово в этом духе обернулось бы ложью». А прямо в дни юбилея от имени недовольных выпускников напишет желчный гимн «Wir sagten “Schule”»74, где перечислит ассоциации, возникающие в памяти при произнесении слов «школа» и «обучение»:
- Мы говорили «Школа», и мы имели в виду «обучение»,
- Страх, жестокость, мучения, принуждение и тюремное заключение…
Вторую половину лета 1900 года он планировал провести в Берлине, а из Германии доехать до Франции, на что заранее попросил у отца необходимую сумму денег и даже составил предварительный маршрут поездки. Но вместо путешествия туда, куда так искренне хотелось, вновь вынужден был покорно сопровождать родителей в Мариенбад, а в августе составил им компанию и на лечебном курорте Бад-Ишль в австрийском горном районе Зальцкаммергут. Стоит сказать, что любые поездки с родителями на отдых делали Стефана несчастным. На курорте мать не уделяла ему никакого внимания и не прислушивалась к желаниям и просьбам сына. Длительное совместное времяпровождение с ней на одной территории неизбежно приводило к скандалам. Кроме этого, каждый вечер родители ужинали в ресторанах, тогда как дети, оставаясь под присмотром гувернантки, довольствовались едой в дешевых столовых. Будущая первая супруга писателя Фридерика проливает свет на грустные воспоминания из детства своего великого мужа: «Его неизменно привлекали места, которые он посетил в детстве. Это было тем более удивительно, потому что, как он обычно сообщал мне, когда мы куда-нибудь приезжали, там он вовсе не был счастлив. Возможно, он хотел заменить прежние воспоминания новыми впечатлениями…»
Удалось ли ему это? Во всяком случае, к восемнадцати годам безрадостному детству дома и на отдыхе, унижениям в школе и гимназии определенно наступил конец. С начала нового века Стефан обрел возможность самостоятельно принимать решения.
«То, что мне предстоит учиться в университете, давно уже было решено на семейном совете. Но на каком факультете?» Посоветовавшись с коллегами и друзьями, родители предложили сделать выбор в пользу юриспруденции или поступить на медицинский факультет, но ни на одном из вариантов особо не настаивали и дали возможность сыну самому взвесить все «за» и «против». «В конце концов, речь шла лишь о том, чтобы поддержать семейную репутацию титулом доктора, безразлично каких наук».
Философия, филология, история литературы, изобразительное искусство, французская поэзия, увлечение автографами – вот основные направления, которые составляли сферу его интересов в отрочестве. Поглощали свободное время целиком, возбуждали и волновали его страстную творческую натуру. До поступления в высшее учебное заведение, в 1896–1897 годах Стефан успел «засветиться» под псевдонимами «Ewald Berger», «Lizzie», «Lisa Braunfeld» и «Stefanie Zweig» в литературно-научном модернистском журнале Мюнхена «Die Gesellschaft». Он вступил в переписку и обменивался литературными идеями с Максимилианом Гарденом и Карлом Эмилем Францозом. Как публицист, поэт, начинающий рецензент нашел на рубеже веков надежный приют сразу в трех изданиях: «Das Literarische Echo», «Deutsche Dichtung» и «Die Zukunft».
Цвейг писал, что, следуя совету Рихарда Демеля, «использовал свое время для переводов, что и теперь считаю лучшей возможностью для молодого поэта глубже и более творчески осознать дух родного языка». В последние два года обучения в гимназии и весь университетский период он будет повышать профессионализм в этой сфере и упражняться в поэтических переводах с французского на немецкий язык произведений Шарля Бодлера, Поля Армана Сильвестра, Поля Верлена, Эмиля Верхарна. Откроет для себя вселенную русских гениев – Тургенева, Аксакова, Гончарова, Максима Горького. На выставках венского Сецессиона заинтересуется работами современных бельгийских художников и скульпторов. Из писателей его увлек Шарль Де Костер, после чего он «целых десять лет напрасно предлагал его “Уленшпигеля” всем немецким издательствам». В эти же годы он зачитывается новеллами шведской сказочницы Сельмы Лагерлеф, высоко ценит статьи критика Вильгельма Бёльше, читает романы Якоба Вассермана.
Пройдет десять лет, и о книгах противника сионизма Вассермана молодой критик Цвейг напишет («Neue Rundschau», август 1912 года): «Углубившись в книги Вассермана, можно даже по первым его работам понять, как болезненно страдал он из-за врожденной двойственности, можно почувствовать его страстное желание найти непосредственного человека. В его книгах мы увидим высший образец жизни чистого, прямодушного человека (подобного князю Мышкину у Достоевского), просто, без комплексов думающего, не подавленного чувственностью, не угнетенного логическими построениями. Во всех образах Вассермана прослеживается эта исполненная страстного ожидания идея освобождения, противопоставления себя миру без оружия, постижение мира без какого-либо посредничества»75.
Своевременный совет Демеля о пользе и важности переводов приведет Цвейга к мысли – «ибо в этом скромном содействии высокому искусству я впервые ощутил уверенность, что делаю нечто действительно нужное», – переводить на немецкий язык не только франкоязычных поэтов, но и шедевры английской классики: что-то из Джона Китса, стихотворения и поэмы Уильяма Морриса.
В последние два года обучения в гимназии он активно следил за рецензиями на художественные выставки, афишами театральных премьер, программой филармонических и оперных концертов. Едва получив аттестат зрелости в 1900 году, с волнением открывал июльский номер «Berliner Illustrierte Zeitung», где на пропахших типографской краской страницах – «слаще масел ширазской розы казался в ту пору запах типографской краски» – обнаружил свою самую первую новеллу «Vergessene Träume» («Забытые сны»).
Начавшееся писательство и многочисленные увлечения (учитывая еще обмен письмами со знаменитостями) лишат его свойственной отроческому возрасту беззаботности. Лишат (и слава богу) свободного времени на глупые размышления и дурные поступки. Свой выбор в пользу факультета философии и истории литературы он сделает исключительно по тому критерию, что в Венском университете в тот период это был, пожалуй, единственный факультет, где студенты имели право свободного посещения лекций. Так ему на вполне законных условиях удастся закрыть один глаз на учебный план и «замечательно и насыщенно» распахнуть душу навстречу – «в сутках было двадцать четыре часа, и все они принадлежали мне» – чтению, новым переводам, знакомствам, путешествиям, написанию рецензий на спектакли, разработке новых сюжетов для рассказов и новелл. «Оглядываясь назад, – писал он, – я могу вспомнить лишь немного таких счастливых моментов, как начало этой университетской жизни без университета. Я с самого начала наметил, как распределить время: три года вообще не думать об учебе в университете! Затем, в оставшийся последний год, с полным напряжением сил одолеть всю эту схоластику и быстро накропать диссертацию».
